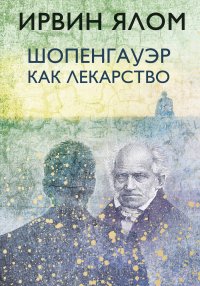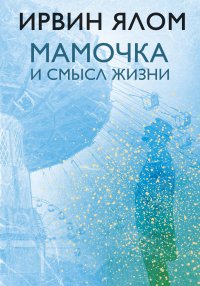Читать онлайн Когда Ницше плакал бесплатно
- Все книги автора: Ирвин Дэвид Ялом
Irvin D. Yalom
WHEN NIETZSCHE WEPT
Перевод с английского М. Будыниной
Оформление переплета П. Петрова
© 1992 by Irvin D. Yalom. All rights reserved
© Будынина М. В., перевод, 2010
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2010
Книги Ирвина Ялома
«Когда Ницше плакал»
Незаурядный пациент… Талантливый лекарь, терзаемый мучениями… Тайный договор. Соединение этих элементов порождает незабываемую сагу будто бы имевших место взаимоотношений величайшего философа Европы (Ф. Ницше) и одного из отцов-основателей психоанализа (Й. Брейера).
«Лжец на кушетке»
Ялом показывает изнанку терапевтического процесса, позволяет читателю вкусить запретный плод и узнать, о чем же на самом деле думают психотерапевты во время сеансов. Книга Ялома – прекрасная смотровая площадка, с которой ясно видно, какие страсти владеют участниками психотерапевтического процесса.
«Мама и смысл жизни»
Беря в руки эту книгу, ты остаешься один на один с автором и становишься не читателем, а скорее слушателем. Ну и, разумеется, учеником, потому что этот рассказчик учит. И когда он говорит: «Слушайте своих пациентов. Позвольте им учить вас», на какой-то миг вы меняетесь местами: ты становишься врачом, а Ялом – твоим пациентом, который учит своего терапевта. Ты только позволь ему это делать.
«Проблема Спинозы»
Жизнеописания гения и злодея – Бенедикта Спинозы и Альфреда Розенберга, интригующий сюжет, глубокое проникновение во внутренний мир героев, искусно выписанный антураж ХVII и ХХ веков, безупречный слог автора делают «Проблему Спинозы» прекрасным подарком и тем, кто с нетерпением ждет каждую книгу Ялома, и тем, кому впервые предстоит насладиться его творчеством.
Глава 1
Некоторые не могут ослабить свои оковы – как не могут и спасти друзей своих.
Ты должен быть готов сжечь сам себя: как ты сможешь обновиться, не став сначала пеплом?
«Так говорил Заратустра»
Перезвон колоколов на Сан-Сальваторе ворвался в раздумья Йозефа Брейера. Он вытащил из жилетного кармана массивные золотые часы. Девять утра. Он снова перечитал маленькую открытку с серебряной каймой, которую получил днем ранее.
21 октября 1882 года
Доктор Брейер,
Мне нужно встретиться с вами по неотложному делу. Будущее немецкой философии под угрозой. Давайте встретимся завтра в девять утра в кафе Сорренто.
ЛУ САЛОМЕ
Какая наглая записка! Уже давно он не помнит такого нахального обращения. Он не знает никакой Лу Саломе. На конверте нет адреса. Невозможно сообщить этому человеку, что ему неудобно встречаться с ним в девять часов, что фрау Брейер не понравится завтракать в одиночестве, что доктор Брейер в отпуске и что его совсем не интересуют «неотложные дела»; ведь в самом деле – доктор Брейер приехал в Венецию именно для того, чтобы спрятаться от всех неотложных дел.
Но он был там, в кафе Сорренто, в девять утра и всматривался в лица посетителей, размышляя, кто из них эта дерзкая Лу Саломе[1].
– Еще кофе, сэр?
Брейер кивнул официанту, парнишке лет тринадцати-четырнадцати с влажными, гладко зачесанными назад черными волосами. Сколько же времени он провел в раздумьях? Он опять посмотрел на часы. Потрачено еще десять минут жизни. И на что потрачено? Он, как обычно, мечтал о Берте, красавице Берте, которая была его пациенткой последние два года. Он вспоминал ее дразнящий голос: «Доктор Брейер, почему вы так боитесь меня?» Он вспоминал, как сказал ей, что больше не будет лечить ее, а она тогда ответила: «Я подожду. Вы навсегда останетесь моим единственным мужчиной».
Он оборвал себя: «Прекрати, ради бога! Прекрати думать об этом! Открой глаза! Оглянись вокруг! Вернись в реальность!»
Брейер поднес к губам чашку, наслаждаясь ароматом крепкого кофе и вдыхая полной грудью морозный октябрьский воздух Венеции. Он поднял голову и оглянулся. За остальными столиками кафе завтракали мужчины и женщины, в основном туристы и в основном пожилые. Некоторые в одной руке держали газету, а в другой – чашку кофе. Там, где кончались столики кафе, синевато-стальные голубиные стаи парили в воздухе и пикировали на землю. Неподвижную гладь Большого канала, в мерцании которого отражались прекрасные дворцы, стоящие по обеим его сторонам, нарушала лишь гондола, плывущая у берега. Остальные гондолы еще спали, привязанные к покосившимся столбам, криво торчащим из вод канала, словно копья, небрежно брошенные чьей-то гигантской рукой.
«Да, вот именно, оглянись вокруг, дурачина ты эдакий! – говорил себе Брейер. – Люди приезжают в Венецию со всего мира – люди не хотят умирать, не будучи осененными этой божественной красотой. Сколько я упустил в своей жизни, – думал он, – из-за того, что просто не смотрел? Или смотрел, но не видел?»
Вчера он прогуливался в одиночестве по острову Мурано. Прошел целый час, но он так ничего и не увидел, ничего не заметил. Ни один образ не перешел с его сетчатки в зрительный центр мозга. Все его внимание поглощали мысли о Берте: ее обманчивая улыбка, обожание, светящееся в ее глазах, тепло ее доверчивого тела, ее учащенное дыхание, которое он слышал, когда осматривал ее или делал ей массаж. Эти образы обладали силой и жили своей собственной жизнью: стоило ему потерять бдительность, как они заполоняли его мозг и узурпировали власть над воображением. «Неужели таков мой вечный удел? – думал он. – Неужели мне суждено быть лишь сценой, на которой разыгрывается нескончаемая драма воспоминаний о Берте?»
Кто-то поднялся из-за соседнего столика. Резкий скрежет металлических ножек стула по кирпичу заставил его поднять голову, и он еще раз огляделся в поисках Лу Саломе.
А вот и она! Женщина, идущая по Рива дель Карбон и входящая в кафе. Только она могла написать эту записку, эта красивая женщина, высокая и стройная, закутанная в меха, властно шагающая прямо к нему, минуя стоящие вплотную столики. Когда она подошла ближе, Брейер увидел, что она была очень молода, кажется, еще моложе Берты, может быть, школьница. Но этот властный облик – это что-то невероятное! Она далеко пойдет!
Лу Саломе направлялась прямо к нему без тени сомнения. Как она могла быть настолько уверена, что ей нужен именно он? Он поднял руку и поспешно отряхнул свою рыжеватую бороду, в которой могли запутаться крошки булочки, которую он ел на завтрак. Его правая рука одернула полу черного пиджака, чтобы он не топорщился вокруг шеи. Когда между ними осталось несколько шагов, она на мгновение остановилась и смело посмотрела в его глаза.
В этот момент Брейер перестал думать обо всем. Теперь для того, чтобы смотреть, ему не нужно было сосредоточиваться. Теперь сетчатка и зрительный центр функционировали просто замечательно, не мешая образу Лу Саломе свободно проникать в его мозг. Она была женщиной необычайной красоты: высокий лоб, сильный, хорошо очерченный подбородок, яркие синие глаза, полные чувственные губы и небрежно расчесанные, отливающие серебром светлые волосы, собранные в сентиментальный высокий пучок, открывающий уши и длинную изящную шею. Особенно ему понравилось то, что некоторые пряди выбились из прически и беспорядочно торчали в разные стороны.
Еще три шага, и она стояла у его стола. «Доктор Брейер, я Лу Саломе. Можно?» – Она показала на стул и села так быстро, что Брейер даже не успел оказать ей должный прием: встать, поклониться, поцеловать руку или предложить стул.
«Официант! Официант! – Брейер щелкнул пальцами. – Кофе для леди. Cafe latte?» Он взглянул на фройлен Саломе.
Она кивнула и, несмотря на утренний морозец, сняла свои меха: «Да, cafe latte».
Брейер и его гостья мгновение сидели молча. Затем Лу Саломе посмотрела ему прямо в глаза и произнесла: «Мой друг в отчаянии. Боюсь, он может убить себя в самое ближайшее время. Для меня это будет не только огромной потерей, но и сильнейшей личной трагедией, так как я в некоторой степени несу за это ответственность. Я могу вынести это, справиться с этим. Но, – она наклонилась к нему, и ее голос стал мягче, – эта потеря станет потерей не только для меня: смерть этого человека будет иметь самые серьезные последствия – это отразится на вас, на европейской культуре, на всех нас. Поверьте мне».
«Фройлен, вы, конечно же, преувеличиваете, – начал было говорить Брейер, но не смог произнести ни слова. Если бы перед ним сидела другая женщина, все это казалось бы подростковым максимализмом, но сейчас все было иначе, и слова эти стоило принять в расчет. Перед ее искренностью, перед исходящей от нее убежденностью нельзя было устоять. – Кто этот человек, ваш друг? Я знаю его?»
«Пока нет! Но в свое время мы все узнаем его. Его зовут Фридрих Ницше. Может быть, письмо Рихарда Вагнера, адресованное профессору Ницше, сможет послужить рекомендацией для него. – Она достала письмо из сумочки, развернула его и протянула Брейеру: – Должна вам сказать, что Ницше не знает ни о том, что я здесь, ни о том, что это письмо у меня».
Последняя фраза фройлен Саломе заставила Брейера задуматься. «Следует ли мне читать это письмо? Этот профессор Ницше не знает, что она показывает его мне – он даже не знает, что это письмо у нее!»
Брейер гордился многими своими качествами. Он был лоялен и благороден. Его диагностический талант стал легендой: в Вене он был личным терапевтом таких великих ученых, художников и философов, как Брамс, Брюкке и Брентано. Ему было всего лишь сорок, а его имя гремело по всей Европе, и именитые люди Запада преодолевали долгий путь для того, чтобы получить его консультацию. Но более всего он гордился своей честностью: ни разу в жизни он не совершил ни одного нелицеприятного поступка. Он достоин порицания лишь за плотские мысли о Берте, которые должны были достаться его жене, Матильде.
Так что он сомневался, стоит ли брать письмо из протянутой руки Лу Саломе. Но лишь мгновение. Еще один взгляд в ее чистейшие синие глаза – и он взял письмо. Оно было датировано 10 января 1872 и начиналось со слов «Мой друг Фридрих». Некоторые параграфы были обведены.
Вы подарили миру несравненную книгу. В ней звучит та абсолютная убежденность, которая говорит об истинной оригинальности. Как бы еще мы с женой смогли осознать, что же было самой горячей мечтой всей нашей жизни. А заключалась эта мечта в том, что в один прекрасный день придет кто-то извне и получит полную власть над нашими сердцами и душами! Каждый из нас прочитал эту книгу дважды: один раз днем, в одиночестве, а потом вслух вечером. Мы просто дрались за обладание единственным экземпляром и очень жалеем, что так и не получили обещанную вторую копию.
Но ты болен! И ты сломлен? Если это так, с какой радостью я сделал бы что-нибудь, что смогло бы разрушить чары безнадежности! С чего мне начать? Мне ничего не остается, кроме как расточать признания в своем безоговорочном восхищении тобой.
Прими, по крайней мере, мое послание с дружеским расположением, хотя это и не принесет тебе удовлетворения.
С наилучшими пожеланиями твой
РИХАРД ВАГНЕР
Рихард Вагнер! При всей своей венской светскости, будучи хорошим знакомым этого величайшего человека своего времени, Брейер был ошеломлен. Письмо – и какое письмо! – написанное рукой гения! Но он быстро взял себя в руки.
«Очень интересно, моя милая фройлен, но теперь, будьте так добры, скажите мне, что именно я могу для Вас сделать?»
Снова наклонившись вперед, Лу Саломе легонько накрыла своей затянутой в перчатку рукой руку Брейера: «Ницше болен. Очень болен. Ему нужна ваша помощь».
«Но что у него за болезнь? Каковы ее симптомы?» Брейер, разгоряченный прикосновением ее руки, был рад получить возможность сесть на своего любимого конька.
«Головные боли. Самое главное – мучительные головные боли. Длительные приступы тошноты. Угроза слепоты – его зрение постепенно ухудшается. И проблемы с желудком – иногда он не может есть несколько дней. И бессонница – ни одно лекарство не может подарить ему сон, поэтому он принимает опасные дозы морфия. И головокружения – иногда у него начиналась морская болезнь на твердой почве, и это продолжается несколько дней».
Брейер не первый раз слышал длинные списки симптомов, и это не представляло для него особого интереса, ведь каждый день через его руки проходило от двадцати пяти до тридцати пациентов, и в Венецию он приехал именно для того, чтобы отдохнуть от всего этого. Но Лу Саломе была так настойчива, что он чувствовал себя обязанным отнестись к этому случаю более внимательно.
«На ваш вопрос я могу дать лишь один ответ: да, конечно, я осмотрю вашего друга. Это само собой разумеется. Я же, в конце концов, терапевт. Но, пожалуйста, позвольте теперь мне задать вопрос. Почему ваш друг не связался со мной напрямую? Почему он просто не отправил запрос о консультации в мой офис в Вене?» – сказав это, Брейер оглянулся по сторонам в поисках официанта, чтобы попросить его принести счет, думая о том, как рада будет Матильда его скорому возвращению в отель.
Но отделаться от этой дерзкой женщины было не так-то просто. «Доктор Брейер, будьте добры, уделите мне еще несколько минут. Я не могу преувеличивать серьезность состояния Ницше, глубину его отчаяния».
«В этом я не сомневаюсь. Но я повторяю свой вопрос, фройлен Саломе: почему ваш друг не пришел на консультацию в мой венский офис? Или не посетил терапевта в Италии? Откуда он родом? Хотите, я дам ему направление к терапевту в его родном городе? И почему именно я? Кстати, как вы узнали, что я в Венеции? И что я покровительствую опере и восхищаюсь Вагнером?»
Лу Саломе невозмутимо улыбалась, пока Брейер забрасывал ее вопросами. Эта улыбка становилась все более озорной, пока Брейер вел свой обстрел.
«Фройлен, вы улыбаетесь так, словно что-то скрываете от меня. Полагаю, такая юная леди, как вы, должна любить тайны!»
«Как много вопросов, доктор Брейер. Удивительно: мы разговариваем всего несколько минут, а возникло столько сложных вопросов. Это – верный повод для дальнейшего дискутирования. Давайте я расскажу вам поподробнее о нашем пациенте».
О нашем пациенте! Пока Брейер продолжал восхищаться ее смелостью, Лу Саломе продолжала: «Ницше исчерпал медицинские возможности Германии, Швейцарии и Италии. Ни один терапевт не смог понять, что с ним, или облегчить страдания. Он говорит, что за последние двадцать четыре месяца он встретился с двадцатью четырьмя лучшими терапевтами Европы. Он покинул свой дом, покинул своих друзей, отказался от профессорского звания в институте. Он стал странником в поисках климата, который он мог бы вынести, в поисках одного или двух дней без боли».
Молодая женщина замолчала, чтобы отхлебнуть кофе, продолжая пристально смотреть на Брейера.
«Фройлен, я практикующий консультант и в своей практике я часто встречался с пациентами, чье состояние было нетипичным или непонятным. Но давайте говорить начистоту: я не умею творить чудеса. В ситуации, подобной описанной вами, – слепота, головные боли, бессонница, головокружение, гастрит, слабость, – когда пациент уже консультировался с множеством великолепных терапевтов и этого оказалось недостаточно, маловероятно, что я смогу стать больше, чем очередным высокопоставленным терапевтом».
Брейер откинулся на стуле, достал сигару и закурил ее. Он выпустил тонкую голубую струйку дыма, подождал, пока он рассеется, и продолжил: «Однако, как бы то ни было, я предлагаю даже обследовать герра профессора Ницше в моем офисе. Но вполне может оказаться, что причина его болезни, которая кажется столь трудноизлечимой, и лекарство для ее лечения могут выходить за пределы возможностей медицины как науки образца 1882 года. Возможно, ваш друг родился на несколько поколений раньше, чем следовало бы».
«Родился на несколько поколений раньше! – засмеялась она. – Какое точное замечание, доктор Брейер. Как часто я слышала, как Ницше бурчит под нос именно эту фразу. Теперь я уверена, что именно вы должны стать его терапевтом».
Доктор Брейер собирался уходить, а перед его глазами стоял образ Матильды, полностью одетой и нетерпеливо меряющей шагами гостиничный номер, но эта фраза вызвала его интерес: «Почему?»
«Он часто называет себя «посмертным философом» – философом, которого мир еще не готов принять. И новая книга, которую он сейчас вынашивает, начинается именно с этой темы: философ, Заратустра, преисполненный мудростью, решает просветить людей. Но никто не понимает его слов. Они не готовы к его появлению, и пророк, понимая, что пришел слишком рано, возвращается в свое уединение».
«Фройлен, вы меня заинтриговали – я страстный поклонник философии. Но сегодня я располагаю лишь ограниченным количеством времени, которого как раз хватит мне на то, чтобы услышать от вас прямой ответ на вопрос, почему ваш друг не может записаться ко мне на консультацию в Вене».
«Доктор Брейер, – Лу Саломе взглянула прямо в его глаза, – простите меня за неконкретность. Наверное, я слишком часто говорю обиняками. Мне всегда нравилось наслаждаться обществом великих умов мира сего, может, мне просто нравится коллекционировать их. Но я точно знаю, что я обладаю привилегией на общение с человеком вашего уровня, таким глубоким, как вы».
Брейер почувствовал, как его заливает краска гордости. Он больше не мог выдерживать ее взгляд и отвел глаза, как только она продолжила говорить:
«Я хочу сказать, моя вина в том, что я постоянно хожу вокруг да около только для того, чтобы провести с вами больше времени».
«Еще кофе, фройлен? – Брейер подал знак официанту: – И еще этих забавных круглых булочек. Вы когда-нибудь замечали разницу между немецкой и итальянской выпечкой? Позвольте мне изложить вам мою теорию о взаимосвязи хлеба и национального характера».
Итак, Брейер не спешил возвращаться к Матильде. Неспешно завтракая с Лу Саломе, он размышлял над иронией ситуации, в которой ему довелось оказаться. Удивительно: он приехал в Венецию, чтобы залечить раны, нанесенные прекрасной женщиной, а сейчас он сидит tete-a-tete с другой женщиной, еще более прекрасной. Он также отметил, что впервые за много месяцев одержимость Бертой покинула его разум.
«Похоже, – думал он, – я еще могу надеяться. Возможно, я могу воспользоваться этой женщиной для того, чтобы вытеснить из своей головы мысли о Берте. Не открыл ли я психологический эквивалент фармакологической терапии замещения? Легкое, неопасное лекарство вроде валерианы может заменить более опасное, например морфий. Точно так же, может, замена Берты на Лу Саломе окажет благотворное воздействие! В конце концов, эта женщина более утонченная, более разумная. Берта – как бы это сказать? – предсексуальна, это несостоявшаяся женщина, ребенок, неуклюже ворочающийся в женском теле».
При этом Брейер понимал, что именно предсексуальная невинность Берты влекла его к ней. Обе женщины восхищали его: мысли о них согревали его чресла. И обе женщины пугали его: каждая несла в себе опасность, каждая по-своему. Лу Саломе пугала его своей силой, тем, что она могла сделать с ним. Берта пугала его своим подчинением, тем, что он мог сделать с ней. Он трепетал при мысли о том, как рисковал с Бертой, как близко он подошел к тому, чтобы попрать основополагающее правило врачебной этики, разрушить себя, свою семью, всю свою жизнь.
Тем временем он был полностью поглощен разговором и совершенно очарован этой молодой особой, которая составляла ему компанию во время завтрака, так что в конце концов именно она, а не он, вернулась к теме болезни ее друга, а именно – к замечанию Брейера о чудесах медицины.
«Мне двадцать один год, доктор Брейер, и я больше не верю в чудеса. Я прекрасно понимаю, что безуспешность усилий двадцати четырех прекрасных терапевтов может свидетельствовать только о том, что этим современное медицинское знание ограничивается. Но не поймите меня неправильно! Я не тешу себя иллюзиями о том, что вы можете улучшить состояние здоровья Ницше. Не это заставило меня обратиться к вам за помощью».
Брейер поставил чашку с кофе на стол и промокнул усы и бороду салфеткой. «Простите, фройлен, но теперь я совсем ничего не понимаю. Вы начали – разве не так? – с того, что сообщили мне о том, что моя помощь нужна вам для друга, который очень болен».
«Нет, доктор Брейер, я сказала, что мой друг в отчаянии, что существует серьезная опасность того, что он может наложить на себя руки. И именно отчаяние профессора Ницше, а не его тело, я прошу вас вылечить».
«Но, фройлен, если физическое здоровье вашего друга приводит его в отчаяние, а у меня нет для него никаких медицинских средств, что мы можем сделать? Я не могу помочь душой больному».
Брейер заметил, что Лу Саломе кивнула, показывая, что узнала слова врача Макбета, и продолжил: «Фройлен Саломе, не существует лекарства от отчаяния, нет докторов для души. Я могу лишь порекомендовать один или несколько прекрасных лечебных курортов с минеральными источниками в Австрии или Италии. Или, может быть, обратиться к священнику или кому-либо еще, связанному с религией, к родственнику или, скажем, хорошему другу».
«Доктор Брейер, я знаю, вы можете больше. У меня есть шпион. Это мой брат Женя, он изучает медицину, и он посещал вашу клинику в начале этого года в Вене».
Женя Саломе! Брейер силился вспомнить это имя. Студентов было слишком много.
«От него я узнала, что вы любите Вагнера, что эту неделю вы будете в отпуске и проведете его в Венеции, в отеле «Амали», и как вы выглядите. Но, что самое важное, от него я узнала, что вы самый настоящий лекарь отчаяния. Прошлым летом он посетил неофициальную конференцию, во время которой вы рассказывали о том, как лечили молодую женщину, по имени Анна О., – женщину, которая была в отчаянии и которую вы вылечили при помощи новой техники, «лечения словом», – терапии, основанной на разуме, на распутывании сложных психических связей. Женя говорит, что вы единственный терапевт в Европе, который может предложить самое настоящее психологическое лечение».
Анна О.! Услышав это имя, Брейер вздрогнул и пролил кофе из чашки, которую он подносил к губам. Он вытер руки салфеткой, надеясь, что фройлен Саломе ничего не заметила. Анна О., Анна О.! Это невероятно! Куда ни глянь, везде он натыкался на Анну О. – тайное кодовое имя для Берты Паппенгейм. Преувеличенно осторожный, Брейер никогда не называл имена своих пациентов, обсуждая их со студентами. Вместо настоящего имени он использовал псевдоним, который состоял из букв, предшествующих в алфавите инициалам пациента. Так, Б.П. (Берта Паппенгейм) превратилась в А. О., или Анну О.
«Вы произвели на Женю неотразимое впечатление, доктор Брейер. Говоря о вашей учебной конференции и лечении Анны О., он заметил, что ему досталась великая честь – находиться в свете сияния гения. Знаете, Женя не такой уж впечатлительный парень. Я никогда раньше не слышала, чтобы он говорил так. Тогда я поняла, что однажды я должна встретиться с вами, познакомиться с вами, может быть, учиться у вас. Но мое «однажды» приобрело более четкие очертания, когда за последние два месяца состояние Ницше ухудшилось».
Брейер оглянулся. Большинство посетителей уже поели и ушли, но он сидел здесь, далеко-далеко от Берты, общаясь с ошеломляющей женщиной, которая появилась в его жизни благодаря Берте. Дрожь, ледяной озноб пронизал его. Неужели ему негде спрятаться от Берты?
«Фройлен, – Брейер прочистил горло и заставил себя продолжать разговор, – случай, о котором говорил ваш брат, был всего лишь единичной попыткой использования пока только экспериментальной методики. Нет никаких причин полагать, что именно эта методика принесет пользу вашему другу. Но нет никаких причин утверждать и обратное».
«Почему вы так думаете, доктор Брейер?»
«Боюсь, время не позволяет мне дать вам пространный ответ. Так что сейчас я только скажу, что болезни Анны О. и вашего друга не имеют ничего общего. Она страдала истерией, и ее мучили конкретные симптомы, как, наверное, брат вам уже говорил. Мой подход заключался в систематическом устранении симптомов посредством того, что я помогал пациенту под гипнозом вспомнить забытую психическую травму, которая знаменует собой появление симптома. Если обнаружен конкретный источник, симптом исчезает».
«Предположим, доктор Брейер, что отчаяние – это симптом. Разве вы не можете вылечить его таким же образом?»
«Отчаяние – это не медицинский симптом, фройлен; это неконкретное понятие, абстракция. Все симптомы Анны О. относились к той или иной конкретной части тела; каждый из них являлся результатом нарушения процессов интрацеребрального возбуждения и торможения, возникшего на нервной почве. Насколько я понял, отчаяние вашего друга относится исключительно к сфере мышления. Для лечения этого состояния лекарство еще не изобретено».
Впервые Лу Саломе засомневалась. «Но, доктор Брейер, – она снова накрыла его руку своей, – до того, как вы начали работать с Анной О., истерию нельзя было лечить психологическими средствами. Насколько я знаю, терапевты использовали только ванны и это ужасное лечение электрическими разрядами. Я уверена, что вы и только вы сможете создать новый вид терапии для Ницше».
Брейер вдруг заметил, сколько времени. Он должен был возвращаться к Матильде. «Фройлен, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вашему другу. Позвольте вручить вам мою визитную карточку. Я встречусь с вашим другом в Вене».
Она бросила быстрый взгляд на карточку, прежде чем убрать ее в кошелек.
«Доктор, боюсь, это будет не так-то просто. Ницше, скажем так, не будет склонным к сотрудничеству пациентом. На самом деле он даже не знает, что я говорю с вами. Это очень замкнутый и очень гордый человек. Он никогда не сможет признать, что ему требуется помощь».
«Но вы говорите, что он открыто заявляет о суициде».
«В каждом разговоре, в каждом письме. Но он не просит помощи. Если он узнает о нашем разговоре, он никогда мне этого не простит, и я уверена, что он откажется консультироваться с вами. Даже если мне каким-то образом удастся убедить его обратиться к вам за консультацией, он ограничится своим физическим нездоровьем. Никогда, ни за что на свете, он не позволит себе просить вас облегчить его отчаяние. У него сложились четкие представления о силе и слабости».
Разочарованный, Брейер начал ощущать нетерпение. «Итак, фройлен, драма становится все более запутанной. Вы хотите, чтобы я встретился с неким профессором Ницше, которого вы считаете одним из величайших философов нашего века, и убедил его в том, что жизнь – или, по крайней мере, его жизнь – стоит того, чтобы жить. И более того – все это я должен устроить таким образом, чтобы наш философ ни о чем не догадался».
Лу Саломе кивнула головой, глубоко вздохнула и откинулась на спинку стула.
«Но как это можно сделать? – продолжал он. – Даже достичь первой цели – вылечить отчаяние, медицинскими средствами не представляется возможным. Но это второе условие, чтобы я лечил пациента тайком, переводит наше предприятие в область фантастики. Может, есть и другие препятствия, которые вы не успели назвать? Может, профессор Ницше говорит только на санскрите? Или отказывается покидать свою келью в Тибете?»
Брейера забавляла нелепость ситуации, но он заметил задумчивый вид Лу Саломе и быстро взял себя в руки. «Серьезно, фройлен, как я могу сделать это?»
«Теперь вы видите, доктор Брейер! Теперь вы видите, почему я выбрала вас, а не кого-нибудь менее известного!»
Колокола Сан-Сальваторе отзвонили новый час. Десять утра. Матильда будет волноваться. Ах, если бы не она… Брейер снова подозвал официанта. Пока они ждали счет, Лу Саломе выдвинула необычное предложение.
«Доктор Брейер, позвольте пригласить вас завтра на обед. Как я уже говорила, я несу определенную личную ответственность за отчаяние профессора Ницше. Мне еще столько нужно вам рассказать!»
«Я сожалею, но завтра это будет невозможно. Не каждый день прекрасная женщина приглашает меня на обед, фройлен, но я не могу принять ваше приглашение. Я здесь с женой, так что было бы нежелательно оставлять ее одну снова».
«Давайте я предложу другой план. Я пообещала брату, что приеду навестить его в этом месяце. На самом деле, до последнего времени я планировала отправиться туда с Ницше. Позвольте мне сообщить вам дополнительную информацию, когда я буду в Вене. Помимо этого, я постараюсь убедить Ницше обратиться к вам по поводу ухудшения его физического здоровья».
Они вместе вышли из кафе. Официанты убирали со столов, в кафе появилось всего несколько посетителей. Только Брейер собрался удалиться, как Лу Саломе взяла его за руку и пошла с ним рядом.
«Доктор Брейер, этот час прошел слишком быстро. Я жадная, и я хочу провести с вами больше времени. Можно мне дойти с вами до вашего отеля?»
Эта смелая фраза, мужская, поразила Брейера; но в устах этой женщины все казалось верным, искренним – именно так люди должны говорить и жить. Если женщине нравится общество мужчины, то почему бы ей не взять его за руку и не предложить прогуляться с ней? Но какая бы женщина из тех, кого он знал, смогла бы произнести эти слова? Это была женщина совершенно другого сорта. Эта женщина была свободна!
«Никогда не было мне настолько жаль отклонять приглашение, – сказал Брейер, чуть сильнее прижимая ее руку. – Но мне пора возвращаться, и вернуться мне лучше одному. Моя любящая, но обеспокоенная жена будет ждать меня у окна, и мой долг – уважать ее чувства».
«Разумеется, но, – она освободила свою руку, чтобы встать с ним лицом к лицу – замкнувшаяся в себе, по-мужски сильная, – но мне слово «должен» кажется тяжелым и тягостным. Из всех своих обязанностей я оставила только одну – всегда оставаться свободной. Брак и весь этот антураж обладания и ревности порабощают дух. Я никогда не попаду под эту власть. Я надеюсь, доктор Брейер, что наступит время, когда мужчины и женщины не будут тиранизировать друг друга своими слабостями». Она развернулась с полной уверенностью в своем скором возвращении. «Auf Wiedersehen. До следующей встречи – в Вене».
Глава 2
Четыре недели спустя Брейер сидел за своим столом в офисе на Бекерштрассе, 7. Было четыре часа дня, и он с нетерпением ждал встречи с фройлен Лу Саломе.
Ему редко случалось сидеть без дела в течение рабочего дня, но ему так хотелось увидеть ее, что он очень быстро разобрался с тремя последними пациентами. Их болезни не представляли особой сложности и не требовали значительных усилий с его стороны.
Первые двое – мужчины после шестидесяти – обратились к нему с совершенно одинаковыми жалобами: сильно затрудненное дыхание, сухой резкий бронхиальный кашель. Брейер уже несколько лет боролся с их хронической эмфиземой, которая в холодном и влажном воздухе осложнялась острым бронхитом, приводя в результате к угрозе для легких. Обоим пациентам он выписал морфин от кашля (доверов порошок, пять гранул три раза в день), небольшие дозы отхаркивающего (ипекакуаны, рвотного корня), паровые ингаляции и горчичники на грудь. Хотя некоторые терапевты презрительно относились к горчичникам, Брейер считал их эффективными и часто назначал своим пациентам – особенно в этом году, когда чуть ли не половина населения Вены слегла с заболеваниями дыхательных путей. Солнце уже три недели не заглядывало в город, где хозяйничала безжалостная ледяная изморось.
Третий пациент, слуга кронпринца Рудольфа, был возбужденным рябым молодым человеком с больным горлом, причем настолько стеснительным, что Брейеру пришлось в приказном тоне предложить ему раздеться для осмотра. Диагноз – фолликулярная ангина. Брейер прекрасно расправлялся с миндалинами при помощи ножниц и щипцов, но этот случай, по его мнению, не требовал немедленного удаления миндалин. Вместо этого он прописал молодому человеку холодные компрессы на горло, полоскание бертолетовой солью и аэрозольные ингаляции карбонированной воды. Так как горло у пациента воспалялось уже третий раз, Брейер также посоветовал ему укреплять свою кожу и повышать сопротивляемость организма при помощи ежедневных холодных ванн.
Теперь же, в ожидании фройлен Саломе, он снова взял в руки ее письмо, полученное им три дня назад. Не менее дерзко, чем в первом письме, она сообщала ему, что сегодня в четыре приедет к нему в офис за консультацией. Ноздри Брейера затрепетали: «И это она сообщает мне, во сколько она приедет ко мне в офис. Она издает указ. Она оказывает мне честь…»
Но он немедленно оборвал себя: «Не принимай себя слишком серьезно, Йозеф. Какая разница? Даже если учесть, что фройлен Саломе не могла этого знать, вечер четверга оказался самым удобным временем для нашей встречи. Как бы то ни было, какая разница?»
«Она сообщает мне…» Брейер с осуждением вспоминал тон своего голоса: в нем звучало то гипертрофированное самомнение, которое так раздражало его в его коллегах-медиках вроде Бильрота и старшего Шницлера и во многих его знаменитых пациентах вроде Брамса и Витгенштейна. Что его больше всего привлекало в его хороших знакомых, большинство которых были и его пациентами, так это их скромность. Вот почему его тянуло к Антону Брукнеру. Может, Антону никогда не стать композитором такого же уровня, как Брамс, но он по крайней мере не превозносил себя до небес.
Больше всего Брейера привлекали непочтительные молодые сыновья некоторых его знакомых – молодые Хьюго Вульф, Густав Малер, Тедди Херцл и совершенно невероятный студент-медик Артур Шницлер. Он вливался в их компанию и, когда другие взрослые не слышали, развлекал их язвительными остротами о правящем классе. Например, на прошлой неделе, на балу в поликлинике он развеселил группу молодых людей, обступивших его, словами: «Да, да, истинная правда, Вену населяют религиозные люди, а бог их – этикет».
Брейер, ни на миг не перестававший быть ученым, вспомнил, с какой легкостью он буквально за несколько минут перешел из одного состояния в другое – от высокомерия к интерпретациям. Какое интересное явление! Сможет ли он это повторить?
Он сразу же провел эксперимент. Для начала он вошел в образ венца со всей его помпезностью, которую он так сильно возненавидел. Накручивая себя и беззвучно повторяя: «Как она могла!», прищуривая глаза и скрипя передними долями головного мозга, он вновь пережил раздражение и негодование, под которыми обычно скрывается человек, который слишком серьезно к себе относится. Потом он выдохнул, расслабился, позволил всему этому исчезнуть и вернулся в себя, в разум, который мог смеяться над самим собой, над собственным нелепым позерством.
Он отметил, что каждое состояние имело специфическую эмоциональную окраску: у напыщенности были острые углы – недоброжелательность и раздражение, а также надменность и одиночество. В другом состоянии, наоборот, он чувствовал себя искренним, мягким и принимающим.
Это были конкретные, вполне различимые эмоции, думал Брейер, но это были и честные эмоции. А что насчет сильных эмоций и состояний сознания, которые вызывают их? Должен же быть способ контролировать сильные переживания! Разве не будет это шагом к эффективной психологической терапии?
Он анализировал собственный опыт. Его наиболее неустойчивое состояние психики вызывали женщины. Иногда, например сегодня, под защитой, в крепости собственного кабинета, когда он казался себе сильным и чувствовал себя в безопасности. В такие моменты он видел женщин такими, как они есть на самом деле: честолюбивые борцы, пытающиеся справиться с бесконечными угнетающими проблемами повседневной жизни; и он видел их груди такими, как они есть: группы клеток молочной железы, плавающих в озерах жира. Он знал об их выделениях, дисменореях, радикулитах и разнообразных эпизодических неприятностях вроде опущения мочевого пузыря или выпадения матки, вздувшихся голубых геморроях и варикозных венах.
Но было и иначе – было очарование, он становился пленником женщин, которые были больше, чем сама жизнь, их груди становились для него могущественными волшебными шарами – и тогда его охватывало непреодолимое желание слиться с этим телом, дать ему поглотить себя, питаться молоком, текущим из этих сосков, скользнуть в это влажное тепло. Это состояние может быть всепоглощающим, может перевернуть всю жизнь – и могло, как в случае с Бертой, лишить его всего, что было ему дорого.
Все зависело от перспективы, от смены образа мышления. Если бы он мог учить пациентов делать это сознательно, он и в самом деле стал бы тем, кто нужен фройлен Саломе, – специалистом по отчаянию.
Его размышления были прерваны звуком открывающейся и закрывающейся двери в приемной. Брейер подождал пару мгновений, чтобы не показаться слишком взволнованным, после чего отправился в приемную поприветствовать Лу Саломе. Она намокла – венская изморось превратилась в ливень, но не успел Брейер помочь ей снять мокрое пальто, как она уже скинула его с себя и вручила фрау Бекер, которая выполняла в офисе функции медсестры и регистратора.
Проводив фройлен Саломе в офис и предложив ей массивное кресло, обитое черной кожей, Брейер сел на стул рядом с ней. Он не мог удержаться от замечания: «Как я вижу, вы предпочитаете делать все сами. Не кажется ли вам, что вы лишаете мужчин удовольствия поухаживать за вами?»
«Мы оба знаем, что некоторые услуги мужчин не самым лучшим образом сказываются на здоровье женщины!»
«Вашему будущему мужу потребуется курс интенсивного перевоспитания. От приобретенных за всю жизнь привычек не так-то уж легко избавиться».
«Брак? О нет, не для меня. Я вам уже говорила. Может быть, «частичный» брак, но ничего более обязывающего».
Наблюдая за этой дерзкой красавицей – своей посетительницей, Брейер подумал, что идея частичного брака не так уж плоха. Он все время забывал, что она в два раза моложе его самого. Она была в скромном длинном черном платье, застегнутом на все пуговицы до самой шеи, плечи были покрыты меховым боа с крошечной лисьей мордочкой и лапками. «Странно, – подумал Брейер, – в холодной Венеции она снимает меха, однако в моем жарком офисе остается в них». Как бы то ни было, пора было переходить к делу.
«Итак, фройлен, – начал он, – давайте займемся болезнью вашего друга».
«Отчаяние – это не болезнь. У меня есть кое-какие рекомендации. Можно, я расскажу вам?»
«Где предел ее самонадеянности? – с негодованием подумал он. – Она говорит так, словно она мой коллега – директор клиники, терапевт с тридцатилетним стажем – а не неопытная школьница!.. Успокойся, Йозеф! – приказал он себе. – Она еще очень молода, она не поклоняется венскому божеству, Этикету. Она явно умна, так что может сказать что-то дельное. Видит бог: я вообще не представляю, как лечить отчаяние: я и со своим-то не могу справиться».
«Разумеется, фройлен, – спокойно ответил он. – Будьте добры, продолжайте».
«Мой брат Женя, с которым я встречалась сегодня утром, говорил, что вы использовали гипноз для того, чтобы помочь Анне О. вспомнить первоначальную психологическую причину каждого ее симптома. Я помню, как в Венеции вы говорили мне, что это определение источника каждого симптома каким-то образом устраняло его. Именно «каким» из «каким-то» меня и интересует больше всего. Когда-нибудь, когда у нас будет больше времени, я бы хотела, чтобы вы разъяснили мне, как именно это происходит: как получение информации о причине устраняет симптом».
Брейер замотал головой и замахал руками, открыв ладони Лу Саломе: «Это пока только эмпирическое наблюдение. Даже если бы мы с вами могли проговорить вечно, и тогда, боюсь, я не смог бы объяснить вам все в подробностях. Но вернемся к нашим рекомендациям, фройлен».
«Во-первых, я хочу посоветовать вам не использовать гипноз с Ницше. Вам просто не удастся. Его разум, его интеллект – это чудо, одно из чудес света, как вы сами убедитесь. Но он, как часто говорит он сам, всего лишь человек, даже слишком человек, и у него есть свои «белые пятна».
Лу Саломе сняла свои меха, медленно поднялась и дошла до кушетки, чтобы положить их туда. Она на секунду задержала взгляд на дипломах, висящих в рамках на стене, поправила один из них, висящий немного неровно, затем села и, скрестив ноги, продолжила:
«Ницше исключительно чувствителен к проблемам власти. Он откажется участвовать в том, что он воспринимает как подчинение своей силы чужой. Его кумиры в философии – греки досократического периода, особенно он любит концепцию Адониса – веру в то, что человек может развить свои врожденные способности только в соревновании, и с полным недоверием относится к мотивам каждого, кто забывает про соревнование и утверждает, что он альтруист. В этом смысле его наставником был Шопенгауэр. Он уверен, что никто не собирается помогать другим, как раз наоборот, люди хотят только доминировать и усиливать собственную мощь. В те редкие моменты, когда он подчинял свою волю другому, он начинал чувствовать себя полностью опустошенным и приходил в бешенство. Так произошло с Рихардом Вагнером. Я полагаю, так происходит сейчас со мной».
«Что вы имеете в виду: так происходит сейчас с вами? Это правда, что вы несете определенную личную ответственность за великое отчаяние профессора Ницше?»
«Он уверен, что это так. Это моя вторая рекомендация: не становитесь на мою сторону. Судя по всему, вы не поняли меня… Чтобы было понятнее, я должна рассказать вам все о наших отношениях с Ницше. Я ничего не буду скрывать и отвечу на любой ваш вопрос. Это будет непросто. Я полностью доверяюсь вам, но все, что я вам скажу, должно остаться между нами».
«Вне всякого сомнения, фройлен, вы можете рассчитывать на это», – ответил он, восхищаясь ее прямотой и тем, насколько приятно говорить с таким открытым человеком.
«Ну, тогда… Впервые я встретила Ницше около восьми месяцев назад, в апреле».
Фрау Бекер постучалась и внесла кофе. Если она и была удивлена, увидев Брейера рядом с Лу Саломе, а не на его привычном месте за столом, она ничем своего удивления не выдала. Не говоря ни слова, она поставила поднос с фарфором, ложечками и блестящей серебряной банкой с кофе и ушла. Лу Саломе продолжила рассказ, Брейер налил им кофе.
«Я уехала из России в прошлом году из-за проблем с дыхательной системой – теперь мое состояние значительно улучшилось. Сначала я жила в Цюрихе, изучала теологию у Бидермана и работала с поэтом Готтфридом Кинкелем, – кажется, я не говорила, что я начинающая поэтесса. Когда мы с матерью переехали в Рим в начале этого года, Кинкель написал мне рекомендательное письмо для Мальвиды фон Мейзенбуг. Вы слышали о ней – она написала «Воспоминания идеалистки».
Брейер кивнул. Он был знаком с работой Мальвиды фон Мейзенбуг, особенно ему запомнились ее крестовые походы в защиту прав женщин, требования радикальных политических реформ и внесения разнообразных изменений в образовательный процесс. Ему меньше понравились ее последние антиматериалистические трактаты, которые, по его мнению, были основаны на псевдонаучных утверждениях.
Лу Саломе продолжала: «Итак, я пришла в литературный салон к Мальвиде и там встретила очаровательного и потрясающего философа, Поля Рэ, с которым мы стали довольно хорошими друзьями. Герр Рэ посещал занятия Ницше в Базеле несколько лет назад, после чего они крепко подружились. Я видела, как герр Рэ восхищается Ницше, ставит его выше остальных. Вскоре он решил, что если я была его другом, то и мы с Ницше должны подружиться. Поль – герр Рэ – но, доктор, – она вспыхнула на долю секунды, но и это не укрылось от Брейера, а она поняла, что он это заметил, – можно, я буду называть его Полем, ведь я его называю именно так, а у нас с вами сегодня нет времени на все эти общественные условности. Мы с Полем очень близки, хотя я никогда не принесу себя в жертву на алтарь брака – ни с ним, ни с кем бы то ни было! Но, – нетерпеливо продолжила она, – кажется, я достаточно времени потратила на то, чтобы объяснить, почему на моем лице на мгновение появилась непроизвольная краска. Но разве мы не просто животные, которые краснеют?»
Брейер, потеряв дар речи, смог лишь изобразить кивок. На какое-то время среди медицинской атрибутики он почувствовал себя более уверенно, чем во время их последнего разговора. Но теперь, попавший под ее обаяние, он чувствовал, как уходят его силы. Насколько удивителен был ее комментарий по поводу вспышки краски: никогда за всю свою жизнь он не слышал, чтобы женщина или кто бы то ни было настолько откровенно говорил о сексуальных отношениях. И ей был всего лишь двадцать один год!
«Поль был уверен, что мы с Ницше легко подружимся, – продолжила Лу Саломе, – что мы прекрасно подходим друг другу. Он хотел, чтобы я стала для Ницше ученицей, протеже и противником в спорах. Он хотел, чтобы Ницше стал моим учителем, моим мирским священником».
Их прервал негромкий стук в дверь. Брейер открыл, и фрау Бекер громким шепотом сообщила ему, что пришел еще один пациент. Брейер вернулся на свое место и пообещал Лу, что у них еще много времени, так как пациенты, которые приходят не по записи, знают, что им наверняка придется довольно долго подождать, и попросил ее продолжать.
«Итак, Поль организовал встречу в Базилике Святого Петра – трудно найти более неподходящее место для встреч нашей дьявольской троицы – так мы стали потом именовать себя, хотя Ницше часто называл наши отношения «пифагорейскими».
Брейер поймал себя на том, что смотрит не на лицо девушки, а на ее грудь. «Интересно, как долго я смотрю туда, – подумал он. – Заметила ли она? Замечали ли это за мной другие женщины?» Он взял в руки воображаемую метлу и вымел все мысли о сексе. Он сильнее сконцентрировался на ее глазах и ее словах.
«Ницше понравился мне с первого взгляда. Внешне он не представляет собой ничего особенного: среднего роста с мягким голосом и немигающими глазами, которые скорее заглядывали внутрь него, нежели вовне; казалось, он оберегал бесценное внутреннее сокровище. Тогда я еще не знала, что он на три четверти слеп. В нем было что-то невыразимо привлекательное. Первое, что я от него услышала, были слова: «С каких звезд мы упали сюда, чтобы быть вместе?»
Потом мы втроем начали разговаривать. И что это был за разговор! Тогда оказалось, что надежды Поля на то, что Ницше станет моим другом и наставником, оправдаются. Мы прекрасно подходили друг другу в интеллектуальном плане. Наши мысли совпадали: он говорил, что наш мозг – это мозг близнецов, сестры и брата. О, он декламировал жемчужины из своей последней книги, он клал мои стихи на музыку, он рассказал мне, что собирается предложить миру в течение последующих десяти лет, – он думал, что с его здоровьем вряд ли проживет больше, чем десять лет.
Вскоре Поль, Ницше и я решили, что будем жить вместе в menage a trois, жилище на троих. Мы начали строить планы, как мы проведем зиму в Вене или, например, в Париже».
Жилище на троих! Брейер прочистил горло и смущенно поерзал на стуле. Он заметил, как она улыбнулась, увидев его расстроенное лицо. «Ничто не укрывается от нее! Каким бы диагностом могла стать эта женщина! Интересно, она задумывалась о медицинской карьере? Могла бы она стать моей ученицей? Моей протеже? Моей коллегой, работающей со мной в кабинете, в лаборатории?» Эта фантазия захватила его, действительно захватила, но ее голос вернул Брейера к реальности.
«Да, я прекрасно понимаю, что этот мир не будет с благосклонностью взирать на целомудренное сожительство двух мужчин и женщины, – слово «целомудренное» она выделила особо – достаточно жестко для того, чтобы внести полную ясность, однако достаточно мягко, чтобы это не выглядело как упрек. – Мы верили в то, что сможем создать свою собственную мораль».
Брейер не ответил, и его посетительница впервые не знала, что говорить дальше.
«Мне продолжать? У нас есть еще время? Я вас обидела?»
«Пожалуйста, продолжайте, дорогая фройлен. Во-первых, я специально выделил время для вас. – Он перегнулся через стол, взял свой ежедневник и показал на две большие буквы Л. С., нацарапанные в разделе «Среда, 22 ноября 1882 года. – Видите, я никого не жду сегодня днем. И во-вторых, я не обижаюсь на вас. Наоборот, я восхищаюсь вашей прямотой и откровенностью. Если бы все наши друзья были настолько честны! Жизнь стала бы богаче, она стала бы настоящей».
Выслушав эту фразу без комментариев, фройлен Саломе налила себе еще кофе и продолжила свой рассказ: «Для начала должна сказать о том, что мое общение с Ницше, хотя и очень тесное, было недолгим. Мы встречались всего четыре раза и почти всегда с нами был кто-то еще – моя мать, Поль, сестра Ницше. На самом деле, нам с Ницше редко удавалось поговорить или погулять наедине.
Это был интеллектуальный медовый месяц нашей дьявольской троицы, но он тоже оказался быстротечным. Начался раскол. Затем романтические чувства и страсть. Возможно, они возникли с самого начала. Возможно, это я виновата в том, что не смогла это заметить». Она вздрогнула, словно хотела сбросить с себя эту ответственность, и продолжила описывать цепь критических событий.
«К концу нашей первой встречи моя идея целомудренного сожительства троих стала вызывать сомнения у Ницше, так как он думал, что мир к этому еще не готов, и попросил меня держать наш план в секрете. Особенно его волновало мнение его семьи: ни его сестра, ни его мать ни в коем случае не должны были знать об этом. Какие условности! Я была удивлена и разочарована. Как его смелые речи и вольнодумные прокламации могли ввести меня в заблуждение, удивлялась я.
Вскоре после этого Ницше занял еще более уверенную позицию: он решил, что такой образ жизни будет социально опасен для меня, это могло даже разрушить мою жизнь. И для того, чтобы защитить меня, он решил, по его словам, предложить мне выйти за него замуж и попросил Поля сообщить мне это. Только представьте себе, в какое положение он ставил Поля! Но Поль, безгранично преданный своему другу, сообщил мне о предложении Ницше, пусть и несколько флегматично».
«Это удивило вас?» – спросил Брейер.
«Очень – особенно потому, что оно поступило вскоре после нашей первой встречи. Ницше – великий человек, в нем есть нежность, в нем чувствуется сила, он настолько необычно выглядит; я не отрицаю, доктор Брейер, что меня очень влекло к нему, но не как к любовнику. Может, он чувствовал мою симпатию и не поверил моим словам о том, что я не думаю ни о браке, ни о романтических отношениях».
Внезапный порыв ветра заставил задребезжать стекла, и это на мгновение отвлекло внимание Брейера. Он тотчас почувствовал, что его шея и плечи как деревянные. Он некоторое время так напряженно слушал, что не мог даже пошевелиться. Иногда пациенты рассказывали ему о своих личных проблемах, но такого на его памяти не было. Никогда не случалось такого, чтобы с глазу на глаз, без тени смущения Берта рассказала многое, только когда она была «не в себе». Лу Саломе была «в себе»; даже когда она описывала события давно минувших дней, это было настолько интимно, что Брейеру казалось, что они разговаривают, словно два любовника. Он прекрасно понимал Ницше, который сделал ей предложение руки и сердца, встретившись с ней лишь однажды.
«А что было потом, фройлен?»
«Потом я решила быть честнее, когда мы встретимся снова. Но это было необязательно. Ницше быстро понял, что перспектива заключения брака пугает его не меньше, чем меня. Когда мы увиделись в следующий раз, две недели спустя на озере Орт, первое, что я услышала от него, так это что я не должна принимать всерьез его предложение. Вместо этого он уговаривал меня присоединиться к нему в поиске идеальных взаимоотношений – страстных, целомудренных, интеллектуальных и не предполагающих брак.
Наша троица воссоединилась. Ницше так увлекся идеей сожительства троих, что одним утром в Люцерне он настоял, чтобы мы позировали для этой фотографии – единственного изображения нашей дьявольской троицы».
На фотоснимке, протянутом ею Брейеру, двое мужчин стояли перед повозкой, Лу Саломе преклонила колени в ней, помахивая небольшим кнутиком. «Мужчина с усами, который стоит впереди и смотрит куда-то ввысь, это Ницше, – тепло сказала она, – а это Поль».
Брейер тщательно рассмотрел фотографию. Ему становилось не по себе, когда он видел этих мужчин – трогательных плененных гигантов, запряженных в повозку этой красавицей с ее крошечным кнутиком.
«Как вам моя конюшня, доктор Брейер?»
Впервые один из ее веселых комментариев показался неостроумным, и Брейер внезапно вспомнил о том, что рядом с ним сидит всего лишь девушка двадцати одного года от роду. Ему было неприятно видеть недостатки в этом совершенном создании. Его сердце всецело завоевали эти двое мужчин в заточении – его братья. У него был прекрасный шанс стать одним из них.
Его посетительница не могла не почувствовать свою оплошность, подумалось Брейеру, когда та поспешно продолжила свой рассказ:
«Мы встретились еще два раза, в Таутенциге, около трех месяцев назад, в компании сестры Ницше, а потом в Лейпциге с мамой Поля. Но Ницше не переставал мне писать. Вот письмо, ответ на мои восхищенные рецензии на его книгу «Утренняя заря».
Брейер пробежал глазами поданное ему письмо.
Моя дорогая Лу,
У меня тоже бывают восходы, но бесцветные! Я уже разуверился найти себе друга, который разделил бы со мной без остатка горе и радости, но, кажется, это возможно, и на горизонте моего будущего появилась прекрасная возможность. Ничто так не трогает меня, как мысли о смелой и богатой душе моей милой Лу.
Ф. Н.
Брейер не произнес ни слова. Теперь он чувствовал, что эмпатийная связь между ним и Ницше становится все крепче. Всем, хотя бы раз в жизни, думал он, нужно встречать восходы и искать прекрасные возможности, любить смелость и богатство души – нужно каждому хотя бы раз в жизни.
«Тем временем, – продолжала Лу, – Поль начал писать мне столь же пылкие послания. Я изо всех сил старалась исполнять функции посредника, но напряжение внутри нашей дьявольской троицы постепенно нарастало. Дружеские отношения между Полем и Ницше быстро сходили на нет. В конце концов в своих письмах мне они оба начали поливать друг друга грязью».
«Но, – вмешался Брейер, – вас же это не удивляет? Двое страстных мужчин в интимных отношениях с одной женщиной».
«Возможно, я была слишком наивной. Я верила в то, что мы втроем могли бы жить в единстве разума, что мы сможем провести серьезную философскую работу вместе».
Явно расстроенная вопросом Брейера, она встала, слегка потянулась и подошла к окну, остановившись, чтобы рассмотреть стоящие на столе безделушки: бронзовые ступку и пестик времен Ренессанса, небольшую погребальную статуэтку из Египта, замысловатую деревянную модель полукружных каналов внутреннего уха.
«Может, я упряма, – сказала она, выглядывая в окно, – но я до сих пор не верю в то, что наше сожительство троих было невозможно! Это сработало бы, если бы не вмешалась эта гнусная сестричка Ницше. Ницше пригласил меня провести с ним и Элизабет лето в Таутенберге, небольшой деревеньке в Терингене. Мы подхватили ее в Бейруте, где встретили Вагнера и посмотрели «Персифаля». Затем все вместе мы отправились в Таутенберг».
«Почему вы назвали ее гнусной, фройлен?»
«Элизабет – это вздорная, подлая, бесчестная гусыня-антисемитка. Однажды я допустила оплошность, сказав ей, что Поль еврей, так она из кожи вон лезла, чтобы друзья Вагнера узнали об этом, только для того, чтобы Бейрут был закрыт для Поля».
Брейер поставил свою чашку с кофе на стол. Поначалу Лу Саломе убаюкала его сладкими сказками о любви, искусстве и философии, но теперь ее слова вернули его с небес на землю, в гнусную реальность мира антисемитов. Этим утром он читал в Neue Freie Presse статью о том, как группировки молодчиков слонялись по университету, врывались в аудитории с криками «Juden hinaus!»[2] и силой выгоняли евреев из лекционных залов, причем если кто-то сопротивлялся, его попросту выволакивали наружу.
«Фройлен, я тоже еврей, так что должен поинтересоваться, разделяет ли профессор Ницше антисемитские взгляды своей сестры».
«Я знаю, что вы еврей. Женя сказал мне. Вы должны знать, что для Ницше значение имеет одна лишь истина. Он ненавидит ложь и предрассудки – какими бы они ни были. Антисемитизм сестры вызывает у него ненависть. Он содрогается от отвращения, когда Бернард Фостер, самый откровенный и злобный антисемит во всей Германии, заходит к его сестре. Элизабет, его сестра…»
Слова лились быстрее, голос стал на октаву выше. Брейер видел, что она отклоняется от заготовленного плана рассказа, но ничего не может с собой поделать.
«Элизабет, доктор Брейер, – это воплощение зла. Она называла меня проституткой. Она лгала Ницше, она говорила ему, что я всем показываю эту фотографию и похваляюсь тем, как он любит попробовать мой хлыст. Она постоянно лжет! Эта женщина опасна. Запомните мои слова: придет день, когда она принесет Ницше огромное зло!»
Все это время она стояла, вцепившись в спинку стула. Садясь, она добавила более спокойно: «Как вы можете себе представить, три недели, проведенные мной в Таутенберге с Ницше и его сестрой, были очень сложными. Когда нам удавалось остаться наедине, это было божественно. Прекрасные прогулки и глубокие беседы обо всем на свете: иногда его здоровье позволяло ему разговаривать по шесть часов в день! Вряд ли когда-нибудь между двумя людьми существовала столь же полная философская откровенность. Мы обсуждали относительность добра и зла, необходимость освободиться от общественной морали с тем, чтобы жить по законам нравственности, говорили о религии вольнодумцев. Слова Ницше казались абсолютной правдой: мы действительно были интеллектуальными близнецами – мы практически все понимали с полуслова, нам не нужно было договаривать предложения до конца, мы могли общаться одними лишь жестами. Но в этой бочке меда была своя ложка дегтя, ведь постоянно нас преследовало недремлющее око его коварной сестры – я знала, что она подслушивает нас, перевирает наши слова, плетет интриги».
«Скажите, зачем Элизабет было возводить на вас поклеп?»
«Затем, что она сражалась за свою жизнь. Это ведь ограниченная, духовно бедная женщина. Она не может позволить себе уступить своего брата другой женщине. Она отдает себе отчет в том, что Ницше был и всегда останется единственным, за что ее можно ценить».
Она бросила взгляд на часы, а затем на закрытую дверь.
«Меня беспокоит, что я занимаю ваше время, так что окончание истории будет кратким. Всего месяц назад, невзирая на возражения Элизабет, Ницше, Поль и я провели три недели в Лейпциге с матерью Поля, где мы опять посвящали свое время серьезным философским беседам, по большей части – о развитии религиозных верований. Мы расстались лишь две недели назад. Ницше был еще уверен, что мы проведем весну все вместе в Париже. Но этого никогда не случится, теперь я знаю точно. Его сестрице все же удалось настроить его против меня, и недавно Поль и я начали получать от него полные ненависти и отчаяния письма».
«А как обстоят дела сейчас, на данный момент, фройлен Саломе?»
«Все разрушено. Поль и Ницше стали врагами. Поль впадает в бешенство всякий раз, когда читает письма, которые Ницше пишет мне, когда слышит о том, что я испытываю к Ницше нежные чувства».
«Поль читает вашу переписку?»
«Да, почему нет? Наша дружба стала более тесной. Мне кажется, мы всегда останемся близкими друзьями. У нас нет секретов друг от друга: я даже разрешаю ему читать мой дневник, а он мне – свой. Поль умолял меня порвать отношения с Ницше. В конце концов я не выдержала и написала Ницше письмо, в котором говорилось, что я всегда буду дорожить нашей дружбой, но сожительство троих больше продолжаться не может. Я написала, что это было слишком мучительно, что пришлось испытывать слишком сильное разрушительное влияние – со стороны его сестры, его матери, его с Полем ссор».
«И какова была его реакция?»
«Дикая! Пугающая! Он засыпал меня безумными письмами, в которых оскорбления и угрозы уступали место глубокому отчаянию. Вот, посмотрите, что я получила на прошлой неделе!»
Она протянула ему два письма, одного взгляда на которые хватило для того, чтобы понять, в каком смятении находился человек, писавший их: неровный почерк, многие слова сокращены или подчеркнуты несколько раз. Брейер попытался вчитаться в обведенные Лу Саломе абзацы, но не смог разобрать и пары слов и вернул ей письма.
«Я забыла, – сказала она, – насколько трудно разбирать его почерк. Давайте, я расшифрую вам одно, адресованное нам с Полем: «Пусть мои приступы мании величия или оскорбленного тщеславия вас не особенно беспокоят, и если я однажды в состоянии аффекта наложу на себя руки, переживать будет не о чем. Что для вас мои фантазии!.. Я смог трезво взглянуть на вещи, приняв – в отчаянии – огромную дозу опиума…»
Она замолчала. «Этого достаточно, чтобы понять, в каком отчаянии он пребывает. Я уже несколько недель живу в имении Поля в Баварии, так что вся моя корреспонденция приходит туда. Поль уничтожает самые жестокие письма, стараясь огородить меня от боли, так что я смогла получить только это: «Я отлучаю вас от себя, я выношу обвинительный приговор самому вашему существованию… Вы причинили вред, вы принесли зло – и не только мне, но и всем, кто любил меня: этот меч висит над вами».
Она посмотрела на Брейера: «Теперь, доктор, вы понимаете, почему я так настойчиво советую вам не становиться на мою сторону?»
Брейер глубоко вдохнул дым своей сигары. Лу Саломе заинтриговала его, он был увлечен трагической историей, рассказанной ею, но сомнения не отступали. Разумно ли было с его стороны ввязываться в это? В эти джунгли? Какие примитивные и мощные взаимоотношения: дьявольская троица, разрушенная дружба Ницше и Поля, тесная связь Ницше с сестрой. И злоба, царящая между ней и Лу Саломе. «Я должен приложить все усилия, – сказал он себе, – чтобы не оказаться на линии огня». Самую разрушительную силу, несомненно, несла в себе отчаянная любовь Ницше к Лу Саломе, теперь превратившаяся в ненависть. Но пути назад не было. Он связал себя обязательствами своим беспечным заявлением в Венеции: «Я никогда не отказываю больному в помощи».
Он повернулся к Лу Саломе: «Эти письма помогли мне понять вашу тревогу, фройлен Саломе. Я разделяю вашу обеспокоенность состоянием вашего друга: его непоколебимость внушает опасения, нельзя исключать вероятность самоубийства. Но ведь теперь вы вряд ли обладаете влиянием на профессора Ницше – как же вы сможете убедить его обратиться ко мне?»
«Вы правы, проблема именно в этом – я уже долго бьюсь над этим. Одно мое имя для него теперь – нож по сердцу, и мне придется действовать через посредников. Это, разумеется, значит, что он никогда, никогда не должен узнать о том, что я с вами встречалась. Вы ни в коем случае не должны рассказывать ему об этом! Но теперь я знаю, что вы хотите с ним встретиться…»
Она поставила чашку на стол и так пристально посмотрела на Брейера, что он был вынужден быстро ответить: «Разумеется, фройлен. Как я уже говорил вам в Венеции, я никогда не отказываю больному в помощи».
Эти слова заставили Лу Саломе расплыться в широкой улыбке. О, ей пришлось пережить больше, чем он думал.
«С этого заявления, доктор Брейер, я начинаю нашу кампанию, цель которой доставить Ницше в ваш кабинет так, чтобы он не мог заподозрить мое участие в этом. Он находится сейчас в таком бедственном положении, что, я уверена, все его друзья встревожены и будут только рады оказать содействие любому разумному плану оказания помощи. Завтра я возвращаюсь в Берлин и задержусь в Базеле, чтобы посвятить в наш план Франца Овербека, давнишнего друга Ницше. Ваша репутация прекрасного диагноста должна сыграть нам на руку. Я уверена, что профессор Овербек сможет убедить Ницше проконсультироваться с вами по поводу состояния своего здоровья. Если у меня все получится, я дам вам знать письмом».
Она торопливо убрала письма Ницше обратно в ридикюль, вскочила, подхватила свою длинную плиссированную юбку, лисий палантин с кушетки и протянула доктору Брейеру руку. «А теперь, мой дорогой доктор Брейер…»
Когда она накрыла его руку своей, сердце Брейера заколотилось. «Не будь старым идиотом», – сказал он себе, но позволил себе раствориться в тепле ее рук. Он хотел рассказать ей, какое удовольствие доставляли ему ее прикосновения. Возможно, она знала об этом, так как она не отпускала его руку, пока говорила: «Я надеюсь, мы будем поддерживать тесный контакт. Не только из-за моих глубоких чувств к Ницше и моего страха, что я стала невольной виновницей его страданий. Здесь есть кое-что еще. Я также надеюсь, что мы с вами станем друзьями. Как вы заметили, у меня множество недостатков: я импульсивна, я вас шокирую, мне чужды условности. Но у меня есть и сильные стороны: я обладаю безошибочным чутьем на людей с благородством духа. И когда мне доводится встретить такого человека, я стараюсь его не терять. Так что, мы будем переписываться?»
Она отпустила его руку, направилась к двери, но внезапно остановилась. Она достала из сумки два небольших томика.
«Ой, доктор Брейер, совсем забыла. Думаю, вам стоит иметь две последние книги Ницше. Они помогут вам понять его. Но он не должен знать, что вы их видели. Это наведет его на подозрения, ведь таких книг было продано слишком мало».
Она снова коснулась руки Брейера. «И еще кое-что. Хотя сейчас у Ницше так мало читателей, он уверен, что к нему придет слава. Он сказал мне, что послезавтрашний день принадлежит ему. Так что не говорите никому о том, что помогаете ему. Не называйте никому его имя. Если вы это сделаете, а он узнает, он будет рассматривать это как великое предательство. Ваша пациентка, Анна О., – это ведь не настоящее ее имя? Вы используете псевдоним?»
Брейер кивнул.
«Я советую вам поступать так и с Ницше. Auf Wiedersehen, доктор Брейер», – и она протянула руку.
«Auf Wiedersehen, фройлен», – сказал Брейер, кланяясь и прижимая ее руку к губам.
Закрывая за ней дверь, он бросил взгляд на две тоненькие книги в мягком переплете, отметив их странные названия: «Die Frohliche Wissenschaft» («Веселая наука»), «Menschliches, Allzumenschliches» («Человеческое, слишком человеческое»), прежде чем положить их на стол. Он подошел к окну, чтобы еще раз напоследок посмотреть на Лу Саломе. Она раскрыла зонтик, сбежала по ступенькам и, не оглядываясь, села в ожидающий фиакр.
Глава 3
Отвернувшись от окна, Брейер потряс головой, отгоняя образ Лу Саломе. Затем он дернул висящий над его столом шнурок, давая фрау Бекер сигнал приглашать пациента, ожидающего в приемной. Герр Перлрот, сутулый человек с длинной бородой еврея-ортодокса, неуверенно вошел в кабинет.
Как вскоре узнал Брейер, пять лет назад герр Перлрот перенес травму – тонзиллэктомию, ему удалили миндалины. Память об этой операции была столь ужасной, что он до сих пор не хотел обращаться к врачам. Даже в сложившейся ситуации он откладывал визит до тех пор, пока «безнадежное состояние», как он выразился, не оставило ему иного выхода. Брейер немедленно отбросил все свои врачебные замашки, вышел из-за стола и сел на стул рядом, как только что с Лу Саломе, чтобы просто поболтать со своим новым пациентом. Они поговорили о погоде, о новой волне еврейских иммигрантов из Галиции, о подстрекательстве антисемитских настроений Австрийским Союзом Реформаторов, об их общих корнях. Герр Перлрот, как и почти все члены еврейской общины, знал и уважал Леопольда Брейера, отца Йозефа, и через несколько минут доверие к отцу перешло и на сына.
«Итак, герр Перлрот, – начал Брейер, – чем я могу вам помочь?»
«Я не могу мочиться, доктор. Весь день и всю ночь. Мне нужно в туалет. Я бегу туда, но ничего не получается. Я стою, стою, в конце концов падает несколько капель. Через двадцать минут – опять. Мне опять хочется в туалет, но…»
Задав еще несколько вопросов, Брейер уже точно знал, в чем причина мучений герра Перлорта. Судя по всему, предстательная железа пациента перекрыла уретру. Оставалось выяснить только одно: было ли это доброкачественное увеличение простаты или же это был рак. При ректальном пальпировании Брейер не обнаружил твердых раковых узелков, вместо этого он нащупал рыхлое доброкачественное увеличение.
Услышав, что признаков рака нет, герр Перлрот расплылся в ликующей улыбке, схватил руку Брейера и впился в нее поцелуем. Но его настроение вновь омрачилось, когда Брейер объяснил, какой курс лечения ему придется проходить, стараясь, насколько это возможно, обнадежить своего пациента: мочеиспускательный канал следовало расширить посредством введения в пенис калиброванных металлических стержней, «зондов». Сам Брейер не занимался такими процедурами, поэтому он направил герра Перлрота к своему шурину Максу, урологу.
Когда герр Перлрот ушел, было шесть с небольшим. В это время Брейер выезжал к пациентам на дом. Он собрал свой вместительный черный кожаный докторский саквояж, надел отороченное мехом пальто и цилиндр и вышел на улицу, где его ждал кучер в запряженном двумя лошадьми экипаже. (Пока он обследовал герра Перлрота, фрау Бекер подозвала с ближайшего перекрестка Dienstman’a – красноглазого, красноносого посыльного, который носил огромную форменную бляху, остроконечную шляпу и армейское пальто цвета хаки с эполетами, которое было ему явно велико, – и дала ему крейцер, чтобы он сбегал за Фишманом. Брейер, который был богаче большинства венских терапевтов, предпочитал арендовать экипаж на год, нежели нанимать его каждый раз по необходимости.)
Как обычно, он дал Фишману список пациентов, которых надо было объехать. Брейер обслуживал пациентов на дому два раза в день: сначала рано утром, после легкого завтрака, состоящего из кофе и хрустящих треугольничков Kaisersemmel[3], а потом в конце рабочего дня, после приема пациентов в кабинете, как было и сегодня. Как и большинство венских терапевтов, Брейер направлял пациентов в больницу только в самых экстренных случаях. Не только потому, что дома больные получали лучший уход, но и потому, что так они не рисковали подхватить инфекционные заболевания, которые так часто свирепствовали в общественных больницах.
Как следствие, запряженный двумя лошадьми экипаж Брейера редко простаивал без дела; на самом деле это был передвижной кабинет, набитый специализированными журналами и справочниками. Несколько недель назад он пригласил своего знакомого молодого терапевта Зигмунда Фрейда провести с ним весь свой рабочий день. Возможно, это было ошибкой! Молодой человек пытался определиться с выбором специализации, и этот день мог отпугнуть его от общетерапевтической практики. По той простой причине, что, по подсчетам Фрейда, Брейер провел в своем экипаже шесть часов!
Итак, посетив семь пациентов, три из которых были неизлечимо больны, Брейер завершил свой трудовой день. Фишман повернул к кафе Гринстейдл, где Брейер обычно пил кофе с компанией терапевтов и ученых, которые на протяжении пятнадцати лет каждый вечер встречались в одном и том же заведении, где для них был зарезервирован столик в самом уютном уголке кафе.
Но сегодня Брейер изменил своей привычке: «Отвези меня домой, Фишман. Я слишком устал, да и промок, чтобы сидеть в кафе».
Откинувшись на черную кожу спинки сиденья, он закрыл глаза. Этот изматывающий день начался плохо: разбуженный кошмаром, он не мог уснуть до четырех часов утра. Утреннее расписание было насыщенным: десять вызовов и девять пациентов на прием. Еще несколько пациентов днем, а потом увлекательная, но потребовавшая много сил беседа с Лу Саломе.
Даже сейчас он не был властен над своим разумом. Его вероломно захватили мечты о Берте: завладеть ее рукой, прогуливаться с ней по теплому солнцу, далеко от ледяной серой венской слякоти. Однако вскоре и в них ворвался нестройный поток образов: его брак разрушен, дети становятся недостижимыми, а сам он навсегда покидает эти берега, уплывая с Бертой навстречу новой жизни в Америке. Эти мысли преследовали его. Он ненавидел их: они крали его мирное существование, они были чужды ему – сколь неосуществимы, столь и нежеланны. Однако он впускал их: единственная альтернатива – изгнание Берты из его разума – казалась немыслимой.
Экипаж с грохотом пересекал дощатый мост над рекой Веной. Брейер наблюдал за пешеходами, спешившими домой с работы. В большинстве своем это были мужчины, каждый из которых держал черный зонт и был одет почти так же, как и он сам: черное пальто, отороченное мехом, белые перчатки и черный цилиндр. Вдруг он заметил знакомую фигуру. Невысокий мужчина с непокрытой головой и аккуратной бородкой обгонял идущих, словно пытаясь выиграть гонку. Эта энергичная походка – ее ни с чем не спутаешь! Сколько раз в венских лесах он старался не отставать от этих стремительных ног, которые замедляли шаг лишь в поиске Herrenpilze – крупных грибов с треугольной шляпкой, растущих среди корней черных елей.