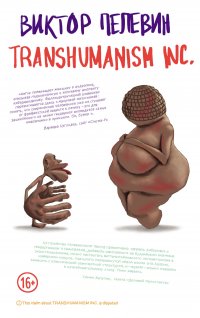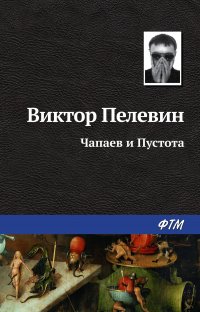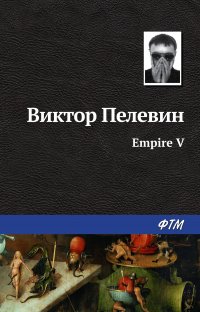Читать онлайн Путешествие в Элевсин бесплатно
- Все книги автора: Виктор Пелевин
© В. О. Пелевин, текст, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
Описанные в книге люди, баночно-мозговые сущности, события и обстоятельства – вымышлены. Всякое сходство с экстралингвистической действительностью случайно. Любая попытка обнаружить в книге какие-то намеки и параллели является рептильной проекцией антинародного ума и подсознательным вредительством
(статья 83.34 уголовного уложения Доброго Государства).
- Mirabile futurum, ne esto mihi durum,
- Ne esto mihi durum, ne esto durum…
Предисловие Императора
Когда-то философская мысль задалась вопросом «Каково это – быть летучей мышью?».
Голливуд ответил франшизой про Бэтмена. Идентичность летучей мыши была воссоздана там несколько антропоцентрично, но ответ принес огромную прибыль. Значит, с точки зрения общественной практики он был верен, а другого критерия истины в философии нет. Не знаю, как там с мышами, а быть человеком означает вот именно это.
Корпорация «TRANSHUMANISM INC.» задала вопрос: «Каково это – быть древним римлянином?» И ответила себе же симуляцией «ROMA-3». Проект приносит серьезный доход, а значит, ответ был правильным.
Конечно, «ROMA-3» – вовсе не главный продукт корпорации. Главный ее продукт – бессмертие. Как клиенты корпорации вы хорошо знаете об этом и сами, друзья.
Бессмертие надо чем-то заполнять. У плавающего в спинномозговой жидкости мозга в этом отношении огромный выбор, но поверьте мне на слово: если вас все мучит ностальгия по простым человеческим радостям (и горестям – куда радостям без них), найти что-то лучше нашей симуляции будет трудно.
Скажу честно: наша метавселенная – не вполне Древний Рим. Вернее, совсем не Древний Рим. Но самое лучшее из возможных к нему приближений. Это, с одной стороны, грубая и местами нелепая пародия на античный Вечный город. С другой – самое точное его воспроизведение, какое только может быть создано человеком в наше время.
Попробую объяснить, как соединяются эти крайности.
Жизнь любого человека, да и общества тоже, состоит из фактов и переживаний.
Факты – вещь упрямая, но неощутимая. Мы вообще не воспринимаем их непосредственно, мы про них в лучшем случае узнаем, когда их рассекречивают спецслужбы. Факты – невидимый скелет реальности. Чтобы докопаться до них, нужно быть историком и жить через пару веков после изучаемого периода, когда все, кому платили за сокрытие истины, уже умерли.
Переживания, с другой стороны, происходят непосредственно с нами и зависят только от калейдоскопа нашей личной судьбы.
Допустим, вы живете в Риме при цезаре Максенции, строящем прекрасную футуристическую базилику, а к городу шагает армия императора Константина, уже намалевавшая на щитах христианские знаки. Бедного Максенция, спрятавшего свои регалии в клоаке под римской мостовой, скоро утопят в речке. Таковы факты.
В это самое время вы участвуете в оргиях, пьете вино, танцуете мимические танцы, читаете поэтические книжки, приглядываетесь к молодым рабыням и мучаетесь мыслью, где взять денег. Таковы переживания.
Возможно, до вас доносятся конское ржание, крики или даже звон стали. И все. Пусть для истории это был день смерти Максенция – исторические факты совершенно не обязательно станут вашим личным опытом.
В реальной жизни так и случается. Только вы, как правило, не мимический танцор с чашей, а та самая рабыня, которую сейчас будут ми-ми-ми. Должно ну очень повезти, чтобы вы оказались самим цезарем перед последним заплывом.
Создавать вселенную, верно отражающую все исторические факты, трудно и затратно. Придется просчитывать армию Константина, армию Максенция, сооружаемую на форуме базилику, кресты на многих тысячах щитов, регалии принцепса, камни мостовой, сражение под городскими стенами в такой-то день и час и так далее. Дорогостоящая битва отгремит, но нет никакой гарантии, что клиенты симуляции придут на нее посмотреть.
Если же мы сосредоточимся на симуляции, отражающей личный опыт римлянина, отходов производства не будет. Когда вы создаете переживание, кто-то обязательно его испытает, и ни один инвестированный в проект гринкоин не пропадет.
Реконструировать римскую армию (а тем более битву двух армий) весьма сложно. Смоделировать ощущения римлянина, слышащего за окном звуки битвы, куда проще. Он не испытывает ничего специфически римского: это те же самые надежда и страх, злоба, сострадание и прочее. Просто они окрашены в римский пурпур – по самому, так сказать, краю ткани. Но здесь и скрывается главная проблема.
Римлянин слышит стук копыт, гром тележных колес, гул огромной толпы. Он видит электоральные надписи на стенах и лица проходящих мимо людей. В церебральной симуляции подобное воспроизвести несложно. Но если смотреть на это нашими сегодняшними глазами, в переживании не будет ничего древнеримского. Это будет опыт современного человека, изучающего римскую реконструкцию.
Аутентичность переживанию сообщает не точное воспроизведение вкуса фалернского вина или звука подкованных бронзой копыт – что толку, если все это слышит и чувствует скучающий в банке вечный мозг, сравнивающий опыт с недавней виртуальной экскурсией на Марс или спуском в Марианскую впадину.
По-настоящему античным переживание сделает лишь римская идентичность субъекта восприятия. То самое «быть летучей мышью», о котором я упомянул в начале. Когда цвет, звук и вкус значат то, что они значили для римлянина.
Это и должна воссоздать симуляция.
Идентичность субъекта настолько важнее физиологического стимула, что нет большой разницы, будет ли звон копыт «бронзовым» или, скажем, «латунным». Главное, чтобы услыхало его римское ухо, помнящее грозный смысл такого звука.
Но подделывать идентичность во всех деталях и подробностях нет ни смысла, ни возможности. Она нужна исключительно для того, чтобы сделать переживание древнеримским. Опыт, таким образом, возникает на стыке идентичности и внешнего мира.
Создаваемый нами римлянин помнит свое прошлое смутно. Он вообще мало что помнит – но в голову ему приходят вполне римские мысли, даже если вызывают их не совсем римские поводы. Это как съемки фильма, где декорации выставлены только там, куда смотрит камера, а камера поворачивается лишь туда, где выставлены декорации.
Возникает своего рода баланс двух симуляций – внешней и внутренней. С одной стороны – поддельный мир, с другой – поддельная идентичность. На их стыке бенгальским огнем зажигается Древний Рим. И он полностью аутентичен, ибо в свою реальную бытность Древний Рим был именно таким человеческим переживанием – и ничем иным.
Поскольку целью симуляции является переживание, а не порождающие его декорации, наши средства и методы могут показаться профану нелепыми и варварскими. Трудно будет даже объяснить их, но я попробую.
У человеческого мозга есть два одновременных модуса восприятия. Первый – невнимательное, но широкое сканирование всей реальности сразу. Второй – пристальный анализ того, на что направлено сознательное внимание.
Нашу симуляцию можно считать своего рода волшебной линзой, все время перемещающейся вместе с сознательным вниманием. Человеку кажется, будто линза увеличивает то, на что направлено внимание. А она в это время подделывает изображение.
Античность возникает именно там, в линзе. Поэтому объем нейросетевых вычислений, необходимых для того, чтобы держать сознание в «Древнем Риме», не так уж и велик. Периферию сознания мы не контролируем – она шита белыми нитками. Но каждый скачок внимания к любому ее объекту будет перехвачен симуляцией и оформлен как надо.
Все еще непонятно?
В пространстве «ROMA-3» могут говорить по-английски, по-китайски или как-то еще. Это совершенно не важно, поскольку участники симуляции считают, что изъясняются на латыни и греческом. Вернее, они просто об этом не думают. Если же их внимание вдруг окажется притянуто к какой-нибудь лексеме, наша система немедленно это заметит, и вычислительная мощность будет брошена на симуляцию оказавшегося в центре внимания лингвистического блока.
Он будет мгновенно переведен на латынь, а память участников диалога будет модифицирована таким образом, что в ней останутся только латинские слова и обороты, как бы фигурировавшие в беседе до этого. Мало того, собеседники будут уверены, что все время говорили на латыни и прекрасно ее понимают. То же касается визуальных образов, музыки, вкуса, мыслей и так далее.
Качественная симуляция создается исключительно для того пятачка реальности, куда направлено внимание в настоящий момент. Фон мы заполняем балластом, грубым нагромождением цитат из современной, карбоновой или прекарбоновой культуры (особенно это касается музыки, ибо античная до нас практически не дошла). Клиент воспринимает этот балласт как часть римской жизни.
Вернее, он не задумывается об этом, как не размышляют о рисунке обоев. А если ум вдруг заметит что-то и начнет разбираться, заплата будет просчитана быстрее, чем наша неторопливая мысль доползет до объекта, вызвавшего подозрения. Если надо, вся зона памяти вокруг неудобного события будет зачищена.
Кажется, сложно и замысловато? Только когда рассказываешь. На самом деле все просто.
Попробуйте вспомнить, что бывает во сне. Каким бы нелепым ни казалось потом происходящее дневному рассудку, ночью оно всякий раз получает объяснение, убедительное в логике сновидения – и достоверность восприятия не подвергается сомнению.
Мы можем ходить по карнизу или летать вместе с голубями, одновременно думая о судьбах Отечества. И это не кажется нам странным, поскольку думы об Отечестве слишком мрачны, чтобы отвлекаться от них на разные пустяки.
Так уж работает наш ум – он обращается сам к себе за доказательствами подлинности своих переживаний и тут же достает их из широких штанин, забывая, что ни ног, ни тем более штанов у него нет.
«TRANSHUMANISM INC.» использует этот механизм в «ROMA-3». Правительства и СМИ делают нечто очень похожее уже много сотен лет, но это не моя тема.
Чувствую, пора привести реальный пример. Вот он.
Гимн гладиаторов «ROMA-3» – это карбоновая песня под названием «Here’s to you, Nicola and Bart». Она состоит из одного куплета:
- Here’s to you, Nicola and Bart,
- Rest forever here in our hearts,
- The last and final moment is yours,
- The agony is your triumph[1].
Песенка эта радует своей простотой и свежестью – она как будто прилетела не из прошлого, а из иного измерения, более счастливого, чем наше. Услышав ее впервые, я отчего-то подумал, что ее сочинили для похорон двух гонщиков, весело столкнувшихся на треке, а куплет в ней всего один, потому что у мемориальных мероприятий был ограниченный бюджет (да и жизнь у гонщиков короткая, чего тянуть). Кстати, так и не удосужился проверить догадку.
Но это не важно. Песня вызывает эмоциональный отклик, а смысл ее слов как нельзя лучше подходит к судьбам цирковых бойцов. Когда она раздается над Колизеем, многие встают.
Собравшиеся на трибунах римляне слышат английский оригинал – и плачут над ним, не задумываясь над происходящим. Они могут даже цитировать эту песню по-английски в разговорах друг с другом.
Если же расспросить любителя игр, о чем она, он тут же вспомнит историю Приска и Вера, двух гладиаторов, дравшихся друг с другом на праздничных играх по случаю открытия амфитеатра Флавиев.
На этих играх присутствовал сам император Тит. Приск и Вер сражались очень долго – и наконец в один и тот же момент подняли палец, сдаваясь. Это означало обречь себя на гибель, и каждый из них знал, на что идет. Но император Тит послал деревянные мечи и тому, и другому, отпустив их на свободу.
Получает объяснение каждая строчка. Понятно, почему агония превращается в триумф: оба гладиатора готовились умереть, но получили свободу, славу и, конечно, богатство. Слушатель абсолютно уверен, что в песне звучат имена Priscus и Verus, хотя там поется про Николу и Барта.
А если начать педантично обсуждать эту песню слово за словом и перейти на латынь, в какой-то момент ее текст незаметно изменится на отрывок из Марциала:
- Cum traheret Priscus, traheret certamina Verus,
- esset et aequalis Mars utriusque diu,
- missio saepe uiris magno clamore petita est;
- ed Caesar legi paruit ipse suae…[2]
И никакого противоречия между тем, что слышат уши, и тем, о чем пишет Марциал, спорящие не заметят. Их острое человеческое внимание будет или там, где песня, или там, где латынь.
Видеть все одновременно способно только периферийное восприятие, а ему лингвистические нюансы малоинтересны – последний миллион лет оно следит главным образом за тем, чтобы к его носителю не подкрался незамеченным какой-нибудь голодный зверь.
В симуляции используется множество подобных трюков. Чтобы Цирк мог конкурировать с другими аттракционами, человеческое восприятие в нем модифицировано. Зритель с самого верхнего яруса Колизея отчетливо видит гладиаторов, различает выражение их лиц (если они не скрыты шлемами), слышит их дыхание, стоны, иногда голоса. Зрителя это не удивляет – он просто не задумывается о странности происходящего. Арена есть арена.
Климатические неудобства, неприятные запахи, физическая боль от долгого сидения на камне и так далее даются в симуляции только намеками.
Наш клиент не страдает. Он наслаждается.
Но при этом часто думает, что вокруг невыносимая жара, воздух воняет подмышками, рыбой и уксусом, а его спина скоро треснет от усталости.
Но даже эти мысли, как показывает практика, способны серьезно испортить опыт. Поэтому для каждого зрителя доступна настройка симуляции в индивидуальном порядке – но надо сначала полностью из нее выйти. Многие не делают этого годами, и я, как их господин, хорошо их понимаю.
Аве, римлянин. Над Колизеем разносится карбоновая песня про Николу и Барта. Ты встаешь и плачешь от гордости и умиления за Приска и Вера. Но само это переживание, рождающееся на стыке твоей фанерной, кое-как сбацанной нейросетями идентичности и англоязычной песни из среднего карбона, является стопроцентно древнеримским.
Мы не обманываем клиента.
Дело в том, что прошлое, отзвенев и отгремев, не исчезло совсем.
Оно еще живет – в нас самих и в каком-то тайном слое нашего многомерного мира. Вечна и бессмертна каждая секунда, каждый шорох ветра, каждое касание пальцев, каждая зыбкая тень. И я верю, что с помощью наших методов мы подключаемся к Великому Архиву Всего Случившегося, spending again what is already spent, как выразился на своем непревзойденном греческом языке древнеримский поэт Шекспир.
Да, мы вновь тратим уже потраченное. То, чему единственным свидетелем был Бог, становится доступно нашим премиальным клиентам. Древний прах внимает корпоративной магии и оживает; забытое и отзвеневшее воскресает в своей золотой славе истинно таким, каким являлось прежде.
Я не могу доказать, но сердцем знаю, что это так.
Ученые, впрочем, подтверждают догадку. Это связано с запутанностью частиц, путешествующих из прошлого в будущее и из будущего в прошлое, но расшифровать это заклинание я не могу – тут способностей великого понтифика уже не хватает.
When in Rome, do as Romans do, гласит старинная мудрость. Мы не просто сделали ее нашим девизом, а развили до крайнего предела.
When in Rome, be a Roman.
Вы остаетесь собой. Это просто вы из Древнего Рима. Понять, как такое возможно, весьма трудно. Испытать же легко. Как говорил Нерон Агенобарб, заходите к нам на огонек! У нас интересно и весело.
Про себя и свой тернистый путь к трону я расскажу как-нибудь позже, когда вы станете моими гостями и мы встретимся в пиршественном зале или застенке. Пока же приглашаю в нашу замечательную симуляцию. А если вы уже у нас были, начудили, набезобразничали и стесняетесь вернуться, не переживайте. Мы все давно забыли. У императора Порфирия короткая память и доброе сердце.
Как жаль, что мало кто способен понять остроумную соль моих слов.
IMP. CAES. AUG. CALIGA CARACALLULA
PORPHYRIUS
Часть 1. Песок песка
Ланиста Фуск (ROMA 3)
Про заговор я вспоминаю только ночью. Иногда во сне.
С нами преторианцы из стражи. С нами раб, делающий императору массаж и обучающий его борьбе. Есть еще отборные бойцы – числом около двадцати – готовые выйти на арену истории, когда пропоет труба… Но упаси Юпитер думать об этом днем, ибо что у смертного на уме, то и на языке, особенно если выпьешь.
А вчера я здорово выпил, и теперь меня мучает гемикарния. С самого утра болит голова и кажется, будто чей-то недобрый взгляд сверлит темя. В такие дни мысли о бедах Отечества приносят особую муку.
Но куда от них деться?
Вечный город сегодня уже не тот, что был. Во все проник упадок – или принесенный на готских копьях, или вызревший в душах. А если оставалось в сердцах железное и верное, чего не коснулась плесень времен, то и его съела ржа хитрых восточных суеверий.
Я, Фуск Сципион Секунд – римский патриот и стародум. Таких как я осталось мало; мы пребываем в тени и рассерженно молчим. Не потому, что боимся чего-то. Нет. Слово наше упадет на выжженную землю и не даст всходов. Мы коротаем дни в домашних и семейных заботах. Радости наши просты и повторяют развлечения предков.
Можно еще проводить свой век по-старому: запереть двери, прилечь на кушетку у водостока в атриуме, доверить спину и плечи рукам молодого раба – и бездумно уставиться на фреску с подыхающим в пыли Ганнибалом. Тогда покажется, что наша слава и доблесть живы и мы, римляне, все еще народ-победитель.
Но высунешь нос за дверь – и не сразу поймешь, Рим это или Вавилон.
Иногда воображаешь, конечно: хорошо бы выйти в плаще всадника, держась за рукоять кривого испанского меча, приблизиться к пестрой толпе и бросить им презрительно, как когда-то божественный Октавиан:
– Вот римский народ, владыки Вселенной, носители тоги…
А потом – что? Удирать по кривым переулкам? И хорошо, если удерешь… У них под одеждой ножи. И мечи тоже бывают. Да и умно ли упрекать их в том, что забыли римский обычай? Сам император нынче одевается то под греческого кифареда, то под германского разбойника.
Так что обойдемся. Спокойнее надеть галльский плащ с капюшоном – во-первых, скроешь лицо, а во-вторых, сойдешь за своего и смешаешься с толпой.
А толпа идет к золотому Колоссу Солнца (которому, как уверял муниципальный поэт, в час рассвета над Тибром все еще снится, что он Нерон). Толпа идет к амфитеатру Флавиев.
И вот я тоже вышел из дома и смешался с людским потоком. Постепенно мне стало легче.
Странная вещь – когда понимаешь, куда спешит народ, забываешь и про варварскую пестроту вокруг, и про бездарный позор нынешнего правления, и про беспросветный мрак будущего.
Да, в будущем мрак. Но если есть мрак, должен быть свет.
Всякий знает: Ex Oriente Lux. Свет приходит с Востока. Слыша это, одни вспоминают про ежедневный восход солнца, другие – про какую-нибудь модную ересь, а я каждый раз думаю про императора Веспасиана, пришедшего в Рим из Иудеи. Это он заложил Великий Амфитеатр.
Иные полагают, что Веспасиан был низок родом, ибо происходил из всадников, но он есть семя Ирода Великого (через царского сына Антипатра и внучку Кипрею, породнившуюся затем с римским всадником Александром). А значит, сей увенчанный пурпуром генерал и есть восточный свет Рима.
Другого не надо, спасибо.
Amphitheatrum Flavium. Вот скрепа, держащая Империю вместе и не дающая нам впиться друг другу в глотки.
Вернее, мы делаем это каждый день – но мирно. Я болею за синих, ты за зеленых, и мы сражаемся на арене через наших послов. Это последнее, что удерживает Вечный город от пожара всеобщей войны.
Я люблю игры. Я люблю их как гражданин, как патриот, как последователь традиций и древней этики. И, конечно, я особенно люблю их как ланиста.
Те, кто не похож на меня – изнеженные развратники, адепты тайных сект, наемные солдаты-варвары, ростовщики, ученые-звездочеты, менялы, воры и убийцы – тоже любят игры, каждый по-своему. Поэтому, пока игры есть, Рим несокрушим и вечен.
И есть у игр еще одно важное качество – может быть, самое ценное из всех.
Когда Империя встречает на своем пути грозного врага (а это случается все чаще), игры создают его живую скульптуру. Вот оружие, вот латы, вот шлем – и боец выходит на арену, где его сильные и слабые стороны становятся видны.
Сколько их было? Самниты, галлы, траксы… Уже не разберешь, где имя побежденного народа, а где цирковая маска. Мы не просто повторяем на песке уже одержанную победу. Иногда мы постигаем, как одолеть врага.
Помню историю с восточными воинами, закованными в латы с ног до головы. Они разбили наш авангард в нескольких стычках, а потом мы выставили таких же железных людей на арену. Имя им было – cruppelarii.
На трибунах приуныли, увидев их сверкающую мощь – но прошла всего пара-тройка дней, и гладиаторы научились валить их на землю крючьями. Дальше все решал кинжал. Вскоре ту же тактику применили в настоящем бою легионеры, и Рим победил.
Я думаю, правы те, кто считает сердцем Империи именно Амфитеатр, а биением его – игры. Пока сердце живо, мы непобедимы. В войнах торжествует не римское оружие, а римский дух. Наша доблесть. Наша вера. Наша нравственность. Во всяком случае, в идеале, хотя в последнее время…
Но о грустном не хочется.
Я прошел между золоченым Колоссом Солнца и высокой стеной ристалища. Мрамор священного амфитеатра… Прах, въевшийся в поры, делает его живым. Как будто это не камень, а сероватая кожа в пятнах факельной копоти, чувствующая каждого из нас. Зрители – нервы и жилы этого огромного существа, пробуждающегося, когда мы, римляне, собираемся вместе и требуем крови.
Амфитеатр пока пуст. Но я слышу его зов.
Больших игр не было уже почти год. Нет пленных. На границах империи мир. Мало того, болтовня о «нравственности» и «гуманности» почти что поставила игры вне закона.
Для империи нет ничего страшнее долгого отсутствия игр. Зубья и шестерни Рима нужно постоянно смазывать кровью – это знает в глубине души каждый правитель. Ау, император Порфирий, ты это помнишь?
Когда игры начнутся, рабы встретят меня у входа и подадут мне серебристый рожок – тонкий и длинный, похожий на изгибающуюся кольцом змею, прикрученную в двух местах к вертикальной палке. Нужно будет протрубить в него, давая знак…
Я закрыл глаза и представил, как это будет. Вот зрители на трибунах. Порфирий тоже здесь, в своей пурпурной мантии – глядит сквозь изумрудную лорнетку. Цирк ждет моего сигнала. Я подношу холодное серебро к губам, и над песком арены проносится долгая хриплая нота…
Почему я так выразился – песок арены? Arena ведь и значит по латыни «песок». Песок песка? Должно быть, варварское насилие над нашим языком добралось уже и до моего рассудка, заразив его чумой безвременья…
Я повернулся к Колоссу Солнца, высящемуся возле Амфитеатра.
На зубчатой короне и лице гиганта сверкал золотой утренний огонь. О бог, великий бог Рима! Позволь крови пролиться опять – и дай нашим жизням направление и смысл…
Краем глаза я увидел двух приближающихся преторианцев. Скорпионы, молнии, синие плюмажи. Красиво. Лучше бы эта красота прошла стороной… Но нет.
– Ланиста Фуск, – сказал старший. – Тебя ждет цезарь. Мы посланы сопроводить тебя.
– Когда мне следует прибыть?
– Сейчас, ланиста. Прямо сейчас.
Неужели Колосс меня услышал?
Вот только не пролилась бы моя собственная кровь… Цезарь – мой давний должник. Он должен мне почти тридцать миллионов сестерциев. А быть кредитором принцепса опасно.
– Господин во дворце?
– Нет. Он на вилле.
Император редко бывает во дворце Домициана – он его не любит. Этот мраморный обрыв над главным городским ипподромом помнит слишком много проклятий и предсмертных стонов. Седалище верховной власти сегодня не там.
Оно на императорской вилле. Государственные вопросы решаются в ее садах, но не магистратами, а вольноотпущенниками, евнухами и рабами Порфирия, поднятыми выше всадников и сенаторов.
Вилла императора – чудо зодчества. Это не дворец в обычном понимании, а скорее городок с постройками и садами, напоминающими обо всех уголках империи, от Александрии до Лон-диниума. Там есть даже роща, изображающая непроходимую германскую чащобу – и в ней, как в Тевтобургском лесу, разбросаны ржавые римские мечи, железные кресты и мятые шлемы с пиками, напоминающие о нашем поражении.
И, конечно, везде стоят ландшафтные беседки и кумирни бесчисленных богов, божков и азиатских культов.
Порфирий изучил фокусы и выдумки прежних цезарей, вник в секреты древних властителей – и с тем же вдумчивым тщанием, с каким переносят виноградную лозу на новый склон, воспроизвел позорнейшие из их услад: тиберианские уголки Венеры с готовым на все голым юношеством, павильоны Бахуса и Морфеуса со всей нужной утварью, критские лабиринты с привязанными к кушеткам жертвами, фиванские зеркальные комнаты для фараонова греха и так далее.
Сделано это, однако, было не для личного наслаждения, а с государственной целью – показать urbi et orbi, где пуповина мира. Получилось вполне: христианские изуверы даже заговорили про конец времен. Тем лучше. Пусть спокойно готовятся к светопреставлению и не устраивают смут.
Порфирий весьма умен и изощрен в искусстве управления. В народе его чтят, да и закон об оскорблении величества помогает, чего лукавить. Но несмотря на всенародную любовь, принцепса хорошо охраняют.
Ну или он так думает…
Когда мы прибыли на виллу, преторианцы передали меня страже, тоже преторианцам, но из другой когорты, с головой медузы на латах.
Те отвели в комнату досмотра.
Там меня обыскали самым унизительным образом, осквернив мое дупло любопытным пальцем в оливковом масле.
А если гость императора обгадится перед ним после такой процедуры? Или, может быть, визитера готовят к тому, что может произойти после аудиенции? Зачем это иначе? Кинжала в ножнах в этом месте не пронесешь – не влезет. Хотя, конечно, нравы сейчас такие, что кто его знает.
– О! Ланиста Фуск!
У выхода из комнаты досмотра меня ждал Антиной. Если быть точным, Антиной XIII, как указывал номер на его тунике.
Порфирий собирает римские пороки – но и доблести тоже. Его коллекция антиноев может быть отнесена и к первой категории, и ко второй – в зависимости от личного вкуса. По мне, этот изыск находится где-то посередине: хоть я и чту память божественного Адриана, но к его роковой страсти отношусь без всякого пиетета.
Кстати, насчет Адриана. Почему-то наимудрейшим правителем считают Марка Аврелия. А тот назначил преемником свою кровиночку – идиота Коммода, из-за чего случилась гражданская война. Адриан же усыновил лучшего из возможных преемников, с которым даже не был в близком родстве, и поставил ему условием поступить так же. Сколько лет после этого империя наслаждалась миром!
Кто, спрашивается, был подлинным философом на троне?
Порфирий чтит память Адриана весьма особым образом. Он учредил специальную Антиной-комиссию, а та, в свою очередь, установила Антиной-стандарт на основе сохранившихся изображений императорского фаворита – и по всей империи теперь отбирают юношей от пятнадцати до семнадцати, соответствующих образу.
Жизнь их, прямо скажем, нелегка. В начале пути они развлекаются как могут. К их услугам все ресурсы империи. Но когда им исполняется двадцать, от них ожидают того же, что сделал реальный Антиной.
Помните?
Жрецы Египта предсказали Адриану скорую смерть. Спасение, по словам гадателей, могло прийти только в том случае, если кто-то, любящий императора больше себя самого, отдаст жизнь в жертву за господина… Через пару дней Антиной утопился в Ниле, чтобы спасти благодетеля.
Некоторые добавляют, что Адриан специально подстроил гадание: дал Антиною возможность доказать свою любовь, освободив место фаворита – все-таки двадцать лет для этой должности уже преклонный возраст. Другие уверяют, что юноше помогли. Но я в подобное коварство не верю.
Как бы там ни было, Порфирий следует легенде самым буквальным образом. Его любимчики хорошо себя чувствуют в начале срока, а в конце обычно тонут при загадочных обстоятельствах. Не знаю, сами или нет – но в Риме не зря ходит пословица: «Чем ближе к двадцати, тем Антиной мрачнее».
И циничнее, к сожалению, тоже. Вот не люблю цинизм. Но Марк Аврелий говорил, что перед тем, как осудить человека, нужно вникнуть в его обстоятельства.
Антиной XIII, вышедший меня встретить, был изрядно перезревшим – с заметными усиками и бакенбардами. От него разило многодневным перегаром. Верный признак близкого конца – водное несчастье обычно случается с ними в пьяном виде.
Антиной приобнял меня за плечо, прижался теплым боком и прошептал в ухо:
– Папашка на мели, лысый! Ползи за мной!
Я догадался, что мелью он назвал Домус.
Император – отец всех римлян (остальным народам он строгий отчим). Когда важные гости или гонцы из дальних стран прибывают на императорскую виллу, их ведут на мраморный остров, расположенный в самом ее центре.
Это символический отчий дом, заменяющий императору банальный тронный зал.
Зодчие оформили Домус в виде круглого здания, окруженного каналом шириной в десять шагов – в точности как на вилле Адриана. Через канал перекинут деревянный мост – его император поднимает изнутри, когда хочет отдохнуть или уединиться с гостем. В общем, как бы вилла внутри виллы. С внешней стороны канала – крытая колоннада, куда допускают только тех, кому назначена встреча. За ней высокая круглая стена, скрывающая Домус от мира.
В островном доме императора есть атриум и таблиниум, спальня, пара уборных и даже маленькие термы. Все как полагается в семье среднего достатка. В центре дома – маленький бассейн для воды, стекающей с крыши во время дождя, а в таблиниуме стоит древнее египетское кресло из раскрашенного дерева, где восседает глава дома и всемирной семьи.
Папашка, как верно подметил Антиной.
Порфирий редко принимает сидя в кресле. Он не любит церемоний, держится просто, чтобы не сказать придурковато, и визитерам действительно кажется, что они пришли навестить хлебосольного хитроватого папашу. Причем кажется это не только нашим сенаторам, но и чужим царям.
В общем, мудрое решение, одновременно поднимающее императора высоко над миром и помещающее рядом с ничтожнейшим из гостей. Если, конечно, этот гость римлянин.
Мы пришли.
Колоннада с внешней стороны канала была хорошо освещена, но дом принцепса внутри водного кольца пугал тьмой. В воде подрагивали отражения статуй в нишах. Император любит полумрак и покой.
Антиной подвел меня к деревянному мостику. Тот был поднят.
– Фуск! – раздался голос Порфирия. – Я тебя вижу, ланиста.
Антиной Тринадцатый развернулся и исчез за колоннами. Видимо, на острове его не ждали, и он про это знал.
– А я тебя нет, отец, – ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал озадаченно. – Где ты? Твой божественный глас словно приходит со всех сторон сразу…
Правила игры я знал.
Порфирий довольно захихикал.
– Это устроено специально, – сказал он. – Вдруг ты хочешь меня убить? Если я увижу, что ты пришел с мечом или кинжалом, я не опущу мост. Так и знай.
Придуриваясь, Порфирий внимательно слушает, что говорят в ответ. Марциал выразился так: «Тот, кто про это забыл, позабудет и все остальное, в эоны Аида спускаясь». Верно подмечено.
– Ты наше счастье, отец, – сказал я прочувствованно. – Наш защитник и опора. Если какой-то безумец направит на тебя меч, пусть примет его моя грудь.
Не то чтобы я действительно имел это в виду, но нужно ведь учитывать других визитеров. Градус народной любви должен быть не ниже, чем у прочих жополизов, иначе цезарь что-то заподозрит. Опытные придворные называют это «поправкой на вечер», имея в виду сумерки нашей республики.
– Ты готов отдать за меня жизнь? – недоверчиво спросил Порфирий.
– Да! – пылко отозвался я. – Но не ради тебя. Ради всех римлян, живущих под твоей мудрой опекой.
– Гм…
Видимо, ответ устроил Порфирия своей нелицеприятной честностью. Заскрипела цепь, и мостик опустился.
Порфирий ждал в таблиниуме. Он сидел в одном из гостевых кресел у стены. На нем была пурпурная тога из шелка (наверно, уже не тога, а балахон, ибо римскую одежду делают из шерсти). Его лошадиное лицо выглядело благодушным – насколько это вообще возможно при такой анатомии.
Когда император сидит в гостевом кресле, вспомнил я, он не желает, чтобы ему оказывали формальные почести. Я ограничился тем, что склонил голову.
Кроме императора в кабинете было еще два гостя.
В главном отцовском кресле кабинета сидел один из свежих антиноев – значительно моложе и свежее того, что выходил меня встречать. На его заляпанной едой и вином тунике был номер XL. Сороковой.
Или это размер?
Какая-то, впрочем, недостойная римлянина мысль.
Антиной XL держал на коленях перевернутый шлем секутора, а в руке у него был рудис – раскрашенный деревянный меч.
Деревянный гладиус есть важнейший римский символ. Такой посылают гладиаторам, завоевавшим свободу. Принцепс всегда имеет в цирковой ложе несколько, и Антиной, наверное, взял один поиграть.
Меч ему не к лицу. Если его самого вдруг отпустят на свободу, император, верно, пришлет ему раскрашенный деревянный пенис. Или даже не пришлет, а… Впрочем, опять мысль, недостойная римлянина.
В третьем кресле, не вполне в нем помещаясь своим студенистым задом, сидел евнух Дарий. Порфирий обожает давать своим евнухам имена древних царей.
Похоже, государственный совет в сборе, подумал я. Горькая мысль. Оттого горькая, что верная.
– Помню тебя по прошлому году, когда ты открывал игры, – промурлыкал евнух, перебирая алые четки (получив имя «Дарий», он по приказу императора начал поклоняться огню). – Ты хорошо выглядишь на арене, Фуск. Весьма хорошо. Так на тебя и смотрел бы.
– Благодарю вас, мудрый Дарий, – сказал я.
– Фуск, не благодари, – засмеялся император. – Мы с тобой люди простые и прямые. А Дарий всегда говорит двусмысленно. С такой подковырочкой. Вот сейчас он знаешь на что намекает? Мол, тебе на арене самое место. Я бы на твоем месте напугался. Если ты не в курсе, Дарий очень влиятельный при дворе евнух…
– Если так захочешь ты, господин, – ответил я, – мое место на арене. Евнухов я не боюсь, потому что моя защита от опасностей – ты сам и твоя справедливость.
Порфирий пошевелил губами, словно пробуя мои слова на вкус – и кивнул.
– Удалитесь оба, – сказал он Антиною с Дарием. – Мы с ланистой хотим посекретничать.
Приближенные подчинились. Как только мы остались наедине, Порфирий подошел к моему креслу, присел на корточки и взял меня за запястья, не давая мне почтительно встать перед ним, как требовал этикет.
– Сколько у тебя сейчас отличных бойцов? Я имею в виду, самых лучших?
– Восемнадцать, – сказал я.
На самом деле их двадцать. Но два мне нужны для личной охраны. Тут опасно и соврать, и сказать правду.
– Найди еще четырех. Когда их станет двадцать два, пусть выйдут на арену и сразятся друг с другом. Надо, чтобы остался один. Лишь один. Лучший из двадцати двух. Так мне сказали боги.
– Божественный, ты хочешь, чтобы я потерял всех лучших гладиаторов в один день?
– Думай о том, – ответил Порфирий, – чтобы не оказаться одним из них самому, как желает Дарий. Ибо так и случится, если ты не выставишь столько бойцов, сколько я сейчас сказал.
– Но где я их возьму?
– В городе живет много умелых воинов. Пиши на них доносы, Фуск. Полагаю, суды и магистраты будут на твоей стороне.
– О чем доносить?
– О чем придет в голову.
– Но…
– Никаких «но». Ты ведь тренировался сам как мурмиллион?
– Император знает все…
– Оплошаешь – выйдешь на арену сам. Это я тебе обещаю. Антиной с Дарием в один голос уверяют, что ты отличный боец. На тебя к тому же есть донос. Я не читал пока, их слишком много приходит. Но прочту, поэтому старайся…
Плохо. Очень плохо. Если донос про заговор… Но про него никто не должен знать. Никто. Впрочем, это может быть и ложный донос. Но велика ли разница, по какому казнят?
Я мелко задрожал. Так бывает во время беседы с принцепсом. Говоришь с ним почти на равных, дерзко возражаешь, а потом вдруг вспоминаешь, что перед тобой живой бог, способный послать тебя в Аид одним щелчком пальцев. И думаешь – а не навлек ли я погибель неосторожным словом?
Но принцепс, похоже, был в благодушном настроении.
– Старайся изо всех сил, Фуск, – повторил он. – Увидимся, когда твои бойцы будут готовы. Не хотел бы увидеть на арене тебя самого. Впрочем, даже не знаю, если честно. Говорят, из мурмиллионов ты лучший.
Я согнулся в поклоне.
У меня было еще несколько мгновений, чтобы высказать божественному свою любовь и преданность. Придворное нутро побуждало сделать это самым подобострастным образом, но я удержался.
Принцепс поймет, конечно, что мною движет страх. Ничего нового здесь не будет – страх движет всеми, кто попадает на этот мраморный остров. Но принцепс может задуматься, почему я его боюсь. А от такой мысли до подозрения в измене – один взмах ресниц Антиноя.
– Можешь идти, Фуск. Даю тебе две недели на все.
– Пребывай в здравии, отец римлян.
Не разгибаясь, я попятился к выходу из таблиниума. В атриуме я развернулся и поспешил к мостику через канал.
Когда я вышел под круглый небесный просвет, до моих ушей донесся шум. С другой стороны канала что-то происходило.
Сперва я услыхал шаги – шарканье тяжелых преторианских калиг римское ухо не спутает ни с чем. Потом раздались голоса. Долетел вымученный смех, голоса зазвучали громче, тревожнее – а затем я услышал то ли хрип, то ли скрип досок.
На всякий случай я спрятался за портьерой возле статуи Ганимеда. Шум скоро стих. Таиться дальше было опасно – если меня обнаружат, подумал я, решат, что я злоумышляю на цезаря.
Когда я вышел к каналу, мостик был опущен. На другой его стороне стояли преторианцы с факелами и тихо переговаривались. Перейдя через канал, я увидел, что они вылавливают из воды мертвое тело. Лица утопленника я не видел. Но цифру XIII на тунике не заметить было трудно даже в полутьме.
Вода убивает быстро и надежно. Гораздо лучше меча. Но мы почему-то боимся утонуть так же сильно, как боимся сгореть, хотя гибель от огня – самая мучительная из всех. Если не считать, конечно, особых ядов Порфирия.
Сейчас, скорее всего, работала удавка. Обернутая мягкой шерстью – так не остается борозды. А в воду труп уронили, чтобы в очередной раз сбылось египетское пророчество – и ланиста Фуск пошел шептать по римским домам: вот, еще один влюбленный раб отдал жизнь за императора на моих глазах, лично видел тело, боги приняли жертву, и благоденствию господина в ближайшее время ничто не угрожает.
Сделаем, божественный. И не сомневайся…
Но где же взять еще четырех бойцов? Двух германцев, допустим, я куплю у Фаустины. А остальные? Ужели и правда писать доносы?
Боже, как болит голова – будто сам Плутон сверлит темя взглядом из преисподней… Хорошо, что во время беседы с принцепсом я не подумал про заговор. Говорят, он окружает себя восточными магами, умеющими читать мысли.
Маркус Зоргенфрей (TRANSHUMANISM INC.)
Когда подключение к другому мозгу через служебный омнилинк кончается, наступает блаженная пауза. Ее, впрочем, можно не заметить, если не ждать специально.
Чем-то это похоже на эфирное опьянение (помню еще из детства на поверхности планеты). Мир исчезает, растворяется в пустоте, и становится ясно, что все прежнее было обманом и сном, вот только истина не проявляет себя никак. В эту секунду почти понимаешь, кто ты есть в действительности.
Почти. Потому что, в точности как с эфирным опьянением, всякий раз не хватает крохотного шажка. Кажется, будто приблизился к величайшей тайне и сейчас постигнешь ее. Но вместо этого шарниры реальности опять поворачиваются не туда: приходишь в чувство и вспоминаешь, как обстоят дела.
Я, ланиста Фуск, на самом деле никакой не Фуск. Я баночник первого таера: клиент и одновременно сотрудник «TRANSHUMANISM INC.»
Мое имя Маркус Зоргенфрей. Можно Марк – на это интернациональное погоняло я откликаюсь тоже, хотя родители окрестили меня именно Маркусом. Как меня называют, мне давным-давно безразлично, и на каком языке – тоже. Если надо, заговорю на любом.
Я родился в Сирии в семье ссыльных петербуржцев, и теоретически веду свой род еще от прекарбоновых дворян (хотя не очень понимаю смысл этого оборота). Моя двуногая жизнь кончилась так давно, что я ничего про нее не помню. Почти все личные воспоминания добровольно сданы мною в архив еще век назад. Национальности, возраста и личной истории у меня теперь нет. Есть только хорошо оплачиваемая корпоративная лояльность.
Баночник – это и грустно, и весело. Я уже никогда не смогу пройти сам между Колоссом Нерона и Колизеем. И дело здесь не в том, что Колосс Нерона более не существует. Дело в том, что у меня нет тела. Я просто мозг в подземном цереброконтейнере, или, как чаще говорят, банке.
Когда-то давно я добился успеха на проклятой небом поверхности планеты – и купил счастливый билет в ее глубину. В бессмертие. Мой мозг существует в стабильном подземном мире, где сосредоточены все богатства, знания и власть.
Отделенный от тела мозг, можно сказать, бессмертен. Он почти не старится, частично регенерирует (спасибо корпоративной науке) и может долго висеть медузой в спинномозговой жидкости. По человеческим меркам – практически вечно. Но только в том случае, если вечность оплачена.
Теоретически такой мозг тоже когда-нибудь умрет. Но бояться надо не этого – у большинства баночников проблемы возникают куда раньше. «TRANSHUMANISM INC.» не занимается благотворительностью и отключает банку от систем жизнеобеспечения, когда завершается оплаченный срок. Этот крест несем мы все.
Любой из баночных счастливцев обречен. Даже третий таер кончится через триста лет. Поэтому приходится работать и копить, заранее продлевая свой срок.
Только что кончившееся погружение в чужую душу – часть моей работы.
Я корпоративный следователь службы безопасности «TRANSHUMANISM INC.» Официально она называется «Отделом внутренних расследований». Неофициально – инквизицией. Это второе название ввел наш начальник, адмирал-епископ Ломас.
Он действительно адмирал и действительно епископ – правда, занимал эти должности в разное время с интервалом в сто лет. Мозг с большим жизненным опытом.
Мой земляк – древний поэт, ушедший в гнилую петербургскую почву – когда-то завещал начальству: «души прекрасные порывы». Ломас это умеет. Он – заметная шишка в «TRANSHUMANISM INC.» Поговаривают, что он на самом деле AI, но доказательств ни у кого нет и эти слухи, скорей всего, он распространяет про себя сам.
Наша корпорация создала гигантскую баночную галактику, на периферии которой мерцает крохотной звездочкой мой мозговой контейнер, спрятанный в подземном бетонном бункере.
Галактика – это десять баночных таеров, как бы ступеней богатства и бессмертия (срок нашей жизни зависит от контракта).
На одиннадцатом таере скрывается Прекрасный Гольденштерн, глава корпорации, таинственный и загадочный хозяин баночного мира. Скорей всего, просто миф.
Баночники могут каждый день наблюдать его восходы и закаты: утром это божественная антропоморфная фигура, взмывающая в небо, а вечером – красный метеор, уходящий за горизонт. Такова, объясняют нам, символическая ментальная анимация. Можно сказать, логотип заведения. Когда живешь в банке долго, перестаешь это замечать – как шум холодильника на земле.
Кроме этих закатов и восходов, про Гольденштерна ничего толком не известно, и многие думают, что это просто универсальная отцовская фигура. Так сказать, красивая елочная звезда, помещенная корпорацией в центр баночного мироздания.
Вернее, черная дыра. В центре каждой галактики должна быть сверхмассивная сингулярность – вот Прекрасный и есть такая прореха в пространстве-времени, не излучающая никакой информации. По сравнению с поверхностными людьми, не способными видеть Прекрасного из-за бремени своих «кожаных одежд», Гольденштерн поистине вечен.
Но и мне жаловаться грех.
Моему мозгу очень много лет, но я их не ощущаю. На меня не давит груз прожитого, поскольку в служебных целях мою память постоянно модифицируют и оптимизируют. Все, что окружает меня – это создаваемая корпорацией галлюцинация.
По внутреннему самоощущению мне лет тридцать – тридцать пять (оптимальный служебный возраст), и все мои аватары подбираются под эту цифру (правда, в тех случаях, когда я становлюсь женщиной, я делаю себя лет на десять моложе, но это поймет любая).
Легко ли быть молодым, если твои мозги который век хранятся в цереброконтейнере, спрятанном глубоко под землей, и у тебя больше нет тела?
Когда такой вопрос задают белокурые, легкомысленные и скоропортящиеся киски с поверхности (с ними меня сталкивает иногда служба, иногда досуг), они исходят из дикого предположения, что мозг, хранящийся в банке, действительно ведет жизнь парализованной медузы.
Для внешнего наблюдателя, конечно, все так и обстоит. Но дело в том, что подобного наблюдателя у баночного мозга нет. Банка вовсе не из прозрачного стекла, как думает весь нулевой таер.
Такое предположение основано на рекламных клипах «TRANSHUMANISM INC.», снятых два или три века назад. Но эти ролики не следовало понимать буквально даже тогда. Булькающая кислородными пузырьками зеленая жидкость, омывающая розовые извилины – символ непобедимой жизни.
Мозг в банке не виден никому. А вот сам он видит все, что хочет. Вернее, все, что позволяют средства. Ну а в рабочее время приходится наблюдать положенное по службе.
Пространство, где баночные мозги встречаются друг с другом по работе, можно оформить как угодно.
Можно устроить даже так, что коммуницирующие друг с другом умы будут воспринимать разное: одному, например, будет казаться, что он сидит в шезлонге на пляже, а другой увидит вокруг ледяную ночь. Это несложно, но в практическом плане такой сеттинг затрудняет общение – один из собеседников берет пляжный мяч, а другому кажется, будто тот поднял обледенелый булыжник… Говорить о делах становится нелегко.
Чтобы избежать неудобств, служебные пространства корпорации «TRANSHUMANISM INC.» выглядят одинаково для всех посетителей.
Если контора стилизована, например, под персидский дворец, все видят одни и те же изразцы и мозаики. Но сам дворец можно сделать каким угодно. Дизайн зависит только от начальственных предпочтений. В этом смысле корпоративная политика очень либеральна.
Отдел внутренних расследований, где я имею честь служить, соответствует вкусам Ломаса.
Адмирал-епископ ценит карбоновую культуру, любит старые фильмы – и по его эскизам наш офис оформили в духе древних фантастических кинофраншиз. Конечно, со множеством дополнений и удобств, оплаченных из бюджета корпорации.
Самому такое ретро-будущее не придумать. Я бы, во всяком случае, не смог. Мы встречаемся с адмирал-епископом в пространстве, похожем на нечто среднее между готическим собором и рубкой космического крейсера. Темные стены, диагонально раскрывающиеся двери, черный космос в огромных окнах.
Мы выглядим соответственно – черные мундиры, золотые аксельбанты, эполеты, монокли, бакенбарды, вощеные усы и прочие представления о прекрасном (у баночных трудно разделить интерьер и экстерьер). Чем выше чин, тем меньше золота и больше черноты. Обстановка настраивает на суровый и торжественный лад.
У такого двусмысленного с точки зрения культурных ассоциаций дизайна есть причины. Мы, если честно, служим не совсем добру. Мы служим корпорации – а эти понятия не всегда синонимы. Интерьер и униформа намекают на это каждому просителю, входящему под грозные своды нашего офиса.
Впрочем, все не так мрачно, как кажется с первого взгляда. У нас в штаб-квартире есть боулинг, сауна, горнолыжная трасса с подъемником, открытая палестра (да-да, мы очень любим спорт, но для баночника это просто генератор нужной мозговой химии, обменивающий усталость на гормоны).
Еще у нас есть курильня опиума в колониальном китайском духе (премся мы, естественно, от внутренних опиоидов), и даже мультиролевой публичный дом с канканом, блэк-джеком, уайт-кофе и экранированными номерами, где возможно все (но Ломас наверняка записывает наши приключения на память, так что тайно насиловать его аватара будет неразумно). Баночная жизнь куда слаще земной, и адмирал-епископ делает все, чтобы мы про это не забывали.
Я вошел в огромный кабинет адмирал-епископа в десять тридцать утра – сразу после ознакомительного погружения. Баночные офицеры не опаздывают. В нужное время система сама коммутирует их внимание в назначенную точку.
Ломас сидел за огромным столом, черный, как шахматный ферзь. На его адмиральском мундире блестело лишь несколько золотых значков ранга и лампасная нить. Его аристократическое породистое лицо, как всегда, выражало спокойствие и уверенность в торжестве того конкретного добра, которое охраняет в настоящий момент наша организация.
Портрет Прекрасного Гольденштерна над его головой был выдержан в темных тонах. Мифологический глава «TRANSHUMANISM INC.» в виде мистической фигуры: хламида, капюшон, посох в руке. Черты лица неразличимы – лишь золотой свет летит из капюшона, освещая человечеству путь. В ежедневной ментальной анимации, которую видят баночники, Гольденштерн совсем другой – картина как бы намекала на тайное корпоративное знание, недоступное профану. Тонко, адмирал. Весьма тонко.
Адмирал-епископ улыбнулся и встал мне навстречу. Перегнувшись через стол, он протянул руку – и ждал в этой позе, пока я пересеку безмерную пустыню его кабинета с мерцающим в окне Сатурном.
Кто-то из наших, помнится, сказал, что Ломас в своем кабинете похож на мышиный сперматозоид, пытающийся оплодотворить слоновью яйцеклетку. Иногда у него это почти получается. Но из-за того, что вокруг так много пустоты, он выглядит одиноким.
Я улыбнулся в ответ Ломасу чуть шире, чем требовал служебный этикет.
– Садитесь, Маркус, – сказал он. – Коньяк, сигара?
Это у Ломаса обязательный ритуал. Перечить неразумно. Многие думают, что он таким образом подключается к подчиненному мозгу.
Если правда, имеет полное право. Спасибо руководству, дополнительный уровень контроля оформлен весьма куртуазно – адмиральский коньяк и сигара штырят по-настоящему. А ведь мог, как говорится, и бритовкой. Начальство есть начальство.
– Не откажусь.
Ломас нажал на кнопку. Прошло полминуты, и в кабинет вошла пожилая помощница с подносом.
Граненые стаканы, похожие на небольшие ведра. Хрустальный флакон с темно-оранжевой жидкостью. Овальная пепельница с двумя уже раскуренными кубинскими сигарами. Ломас знает толк в крепких напитках и сигарах – на его вкус можно положиться.
Я выпустил несколько клубов благовонного дыма и отхлебнул драгоценного коньяку.
Одиссея Людовика Тринадцатого. Мольба клопов о бессмертии. Пронзительный луч спиртового заката в янтарном небе.
– Бесподобно.
– Чтобы так жить, надо учиться, – произнес Ломас свою любимую присказку.
Ей, наверно, больше лет, чем нам с ним вместе.
– Чему именно? – переспросил я невинно.
– Так жить, – ответил Ломас. – Чему же еще.
– Мы учимся каждый день, адмирал. У вас.
Ломас еще раз пыхнул сигарой и положил ее в пепельницу. Обычно после шутки про «учиться так жить» начинается служебный инструктаж.
– Ну как, ознакомились с контекстом?
– Да, – сказал я. – Блок с ланистой – запись фида? Судя по датам, не совсем свежий.