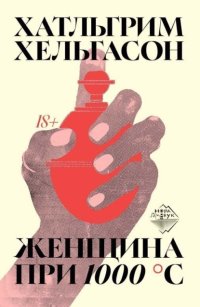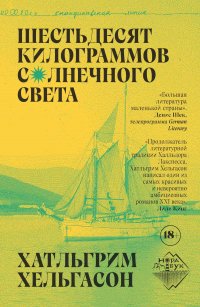Читать онлайн Автор Исландии бесплатно
- Все книги автора: Хатльгрим Хельгасон
Hallgrímur Helgason
Höfundur Íslands
© Hallgrímur Helgason, 2001
Title of the original Icelandic edition: Höfundur Íslands
© Ольга Маркелова, перевод на русский язык, 2023
© ИД «Городец», издание на русском языке, оформление, 2024
* * *
Глава 1
Так возникают горы. С такой фразой в голове я просыпаюсь. Горы возникают так и только так. Чувствую, что в уголок губ мне кто-то тычет. Что за черт! Тыкать пальцем? В меня? Открываю глаза. Это маленький мальчик… Ничего не понимаю!
– А ты спал?
– А?
– Ты спал?
Что за бред собачий! Откуда этот малец? Он снова тычет пальцем мне в щеку.
– Эй! Мальчик! Прекрати!
Он с расстроенным видом убирает свой палец, смущается. Светловолосый, в мохнатом свитере, он опускается на корточки, потупившись, теребит траву. Кажется, я был с ним слишком резок. С другой стороны, нечего тыкать в меня пальцем. Где, спрашивается, уважение к пожилому человеку? Эта современная молодежь растет как трава. И заняться ей абсолютно нечем; им ведь даже работать не приходится. Дисциплины никакой. А для родителей питание лососей в садках важнее воспитания детей. И сами они – дети, все эти взбесившиеся поколения, – вечные дети, слушающие молодежную музычку, пока их не хватит инфаркт. И до старости у них юношеский задор в крови. Немудрено, что у них случается кровоизлияние в мозг, ведь контролировать собственную кровь они не умеют. А потом, уже в доме престарелых, они окончательно впадают в детство и скачут вокруг наряженных елок точно так же, как раньше прыгали вокруг злободневных проб лем. Седовласая немощь!
А мальчонка бедняжка! Неужели он сейчас заплачет? Сколько же ему лет? «Восьмой пошел»? «Скоро будет пять»? Детство слишком далеко от меня. Я смотрю на детей из дальней дали своих прожитых лет, мне видны лишь общие черты, а не точный возраст. Старость сидит в лодке вдали от берега. Она не знает названий прибрежных гор. Между мной и мальчонкой – целый век упорного труда, копошение в словах, острые линии, которые время когда-нибудь прочертит по его лицу.
– Ты старый, – раздается из-под светлой челки. Голос у него громкий, детский – и в то же время от него веет древностью.
– А? Что?
– Ты такой старый.
– Да, – довольно раздраженным тоном отвечаю я. Ну где она… Да, а где же моя Бриндис? И почему я не в кресле?
– Но поучить меня ты сможешь, правда?
– А? Поучить?
– Да, ты же учитель?
Ну да, одну зиму я и вправду учительствовал. Кто больше не школьник – того заставляют быть учителем. На этих уроках они дали мне больше, чем я – им. А одна утверждала, что я дал ей ребенка.
– Где твой папа? – спрашиваю я.
А что же стало с тем ребенком? Ах, да, он вырос в женщину. И эта женщина работала в магазине на улице Лёйгавег[1], куда я зашел сырым и темным зимним днем. Йоунина? Йоуханна? «По всей вероятности, я – отец». А потом я взял ее за руку и заметил, что руки у нее мои. Рукопожатие – два звена одной цепи. Руки она унаследовала от меня, – а по дороге от рук до головы кое-что потеряла… Стала продавщицей. Но руки у нее были проворные, и особенно хорошо у нее получалось складывать рубашки. «Простите, но, по всей вероятности, я – ваш отец. Доброго вам вечера». А потом – за шляпу. А потом – за дверь. Что наша жизнь?
– Он скоро придет. Папа сказал, что ты меня читать научишь.
Что за бред! Кто этот мальчик? И где я, в конце концов? Я на косогоре. Лежу на высоком склоне, обложенный сухой травой; когда я приподнимаюсь на локте, она издает шелест, как пленка в телестудии, когда собеседник молчит в ответ на твой вопрос. Здесь у них осень. Хотя нет: у травы какой-то зеленоватый оттенок; а вот здесь стог на лугу, белый домик, а за ним – озеро, а на озере два лебедя… кажется мне: я без очков. А дома престарелых нигде не видать. Местность незнакомая. Перед глазами раскинулась долина – одна из тех исландских горных долин, которые мы обычно наблюдаем только вдали. Разве слова «дол» и «даль» не произошли от одного корня? Тянусь за самопишущей ручкой; она на своем месте, во внутреннем кармане. А вот другие карманы подкачали: записной книжки в них не оказалось. Не забыть: «дол» и «даль» – однокоренные.
– Я так хочу научиться читать!
– А? Что? Читать?
А я читать никогда не умел. Я писал. Книги. Небо бело, как простыня. На небе ни облачка, и в то же время пасмурно. Как говорят французы, «couvert». Какая-то несуразная местность. И на всем лежит печать какой-то уму непостижимой обескровленности. В этой мизансцене – ни движения к цели, ни событий. Как будто ее набросал начинающий писатель, сидящий в отеле за границей. Птиц не слыхать. Но что здесь делаю я?
– А где Бриндис? – спрашиваю у мальчугана.
– Бриндис?
– Ну, медсестра. И где мое кресло?
– Кресло? Какое кресло?
– Ну, мое инвалидное кресло… кресло-каталка… что за бред собачий…
– Каталка? – похоже, мальчик никогда раньше не слышал этого слова. – А что это? А оно само катается?
Трава. Эти травинки. При прикосновении они громко шелестят, как бумага, а на вид грубо сработаны, будто для декорации в каком-нибудь серьезном театре. Похожи на исписанные стержни. Здесь с каждой травинки каплет бездуховность.
Я роняю голову в бумажную траву. Куда подевалась Бриндис? Обычно она не увозит меня так далеко от дома престарелых. А вдруг меня оттуда забрали? А вдруг я в какой-нибудь поездке в деревню? Или на пикник? А где тогда все люди? И где она… она… господи, как же ее зовут?!
– А у тебя есть это самое… кресло-каталка?
Ach so[2]. Я, оказывается, забыл, как зовут мою жену! По лодыжкам пробегает холодок, а голова чудовищно мерзнет. В Исландии я всегда мерз. Хотя это и не сравнится с тем, как я мерз в ту зиму на Сицилии: у них там совсем нет печей. А когда я наконец выписал из дома примус, поработать спокойно мне уже не давали. Итальянцы – такой любопытный народ… А почему я без пальто? А шляпа моя где?
– А ты сюда на нем прикатился?
Ну что за ерунда!
– Где ты живешь? – спрашиваю я; не оттого, что мне интересно, а чтобы уши отдохнули от болтовни.
– А вот тут. С папой и бабушкой. А тебя как зовут?
– Я… ну…
Этого только не хватало! Я забыл собственное имя! Бред какой-то! А как так вышло, что я в ботинках без носков?
– Ну, и с мамой ты, наверно, тоже живешь?
– Нет. Она умерла.
– Правда? Как грустно.
– Мне не было грустно, я тогда был еще совсем глупый. А сестрица Виса загрустила. И бабушка тоже. А папа рассердился.
– Рассердился? Как так?
– Ну, он сказал, что у него похороны уже в печенках сидят.
– Да? А от чего она умерла?
– Она все время рожала мертвых детей. Ей надо было быть с ними.
Ach so.
Мудрейший мальчуган. Жуткая долина. Я провожу рукой по своему почти лысому черепу и вздыхаю… Без имени, без носков. Дряхлый старик под мировой простыней. Скоро все это пройдет. Небеса надо мной перестанут вращаться, и где-то высоко над ними кто-то перекрестится. Человек умрет – и все умрет вместе с ним. Горы станут долинами, долины – заливами, а потом заливы обмелеют. Весь мир, все звезды, семьсот солнц – будут стерты, как схема Вселенной на зеленой доске, которую рисовал для нас пастор Якоб. В конце урока все планеты превратились в белую меловую пыль на губке в его руке. Ой, кажется, я это уже рассказывал. В своем первом рассказе. Да, в первом. Правда, его читали от силы семь человек. Но все равно там хорошо получилось… Ах, сколько с тех пор минуло! Я опять приподнимаюсь на локте. Голова у меня по-странному легкая. Как будто из нее все повылетало.
– А у Герды с Болота есть велосипед, – говорит он, срывает одуванчик, дует на него. Одуванчик похож на мою голову. – Его для нее изобрел Йоуи.
И все-таки в этом мальчонке есть какое-то очарование. Это надо признать – несмотря на то что он рукосуй, а язык у него без костей. Я кладу ручку на место во внутренний карман и извлекаю оттуда очки. Ах, мои старые добрые очки! Надеваю их. Теперь его лицо лучше видно. И мои мысли вокруг него, словно трепещущие волоски. Очевидно, здесь штиль. Мальчуган светловолос; его голубые глаза искрятся, щеки у него румяные, а губы под маленьким носом постоянно извиваются как червяк – червяк на землистом лице. Деревенский мальчишка.
– Йоуи?
– Да, он изюбре… изобретатель. Он изобрел нам электричество, а теперь хочет изобрести, как найти папе новую жену. У него семнадцать машин. И он под ними спит.
– Да? Ну-ну… – произношу я и пытаюсь самостоятельно встать на ноги. Это мне не удается – как и вчера не удавалось.
– А вот и Мордочка.
Тяжелое дыхание с невероятной скоростью движется вверх по склону и обдает нас, особенно меня. Ничего себе! Слюнявый язык как швабра – по очкам. Собаки всегда чересчур буйные. И жизнерадостные. Это черная длинномордая собачка, в роду у которой, должно быть, побывали все кому не лень; хоть порода нечиста, зато радость у нее самая чистая: в долине появился новый запах! Она слишком резко вдыхает его, словно подросток – нюхательный табак, и отпрыгивает в сторону с громким чиханием, валяется по сухой траве, как в старые времена катались завшивевшие псы, в конце концов встает, чешет за ухом и лает в сторону дома: дает нам знать, что хозяин идет сюда. Отсюда он кажется черной точкой на дне долины. Голова втянута в плечи, он размашисто шагает по лугу. Мальчик оглядывается.
– Папа идет, – говорит он на удивление усталым тоном и смотрит на свой собственный палец, ковыряющий дерн.
– А как его зовут?
– Хроульв.
Собака возвращается к нам, шелестя сухой травой, ложится рядом со мной, засовывает морду под полу пиджака и дважды виляет хвостом. Дважды. Мои глаза ловят это зрелище. Дважды.
– Что?
– Хроульв. Его зовут Хроульв. Папу моего.
Хроульв… Хроульв? Мужчинам не к лицу перешагивать через изгороди. На тот миг, когда колючая проволока оказывается между его ногами, этот рослый мужик становится по-женски беззащитен, – но, переправившись через изгородь, вновь приходит в себя, снижает скорость и пробирается по кочкам, словно джип на пониженной передаче. Над домом поднимается белый дымок. А надо мной поднимается белый страх перед этим приближающимся человеком. Необъяснимый страх. Я вновь пытаюсь вскочить на ноги. Зачем я это делаю? Что вообще произошло? Меня тут забыли? Какая-то дурацкая поездка из дома престарелых на автобусе – и меня забыли на незнакомом склоне? Как некрасиво! И почему я без носков? Я подтягиваю брюки, насколько позволяют мои слабые силы. Да, что верно, то верно. Я БЕЗ НОСКОВ! Что это вообще такое?!
– Ты почти такой же старый, как бабушка. А ей нужен новый дедушка, – говорит мальчик с детской непосредственностью. – Она уже пятьдесят лет ни с кем не спала.
Ach so. Собака вскакивает и навостряет уши – эти огромные уши, обращающие любой событийный ряд в звукоряд, – и трусит вниз по склону навстречу хозяину. Он приближается. Ноги у него колесом, за ушами волосы. А между ушами – борода. Мне внезапно расхотелось, чтоб этот человек мне помогал. Нет, он меня убьет. Отчего я так боюсь его? Мой старый страх перед фермерами? В нежном возрасте настрадался от фермеров и с тех пор ничего так не боялся, как исландского хуторянина. Гестаповец в галошах. Как задиристый петух каждое утро в шесть часов: «Ну, пацан! Подымайся!» – а потом дерг за ухо! Я читал свои стихи коровам, а если с ними что-то случалось – винили меня.
Мальчик подбежал к отцу:
– Папа, папа! Я его нашел! Он совсем старый!
Хроульв. Он снимает пропитанный по́том картуз; его лысая макушка белёса, его свитер когда-то был темно-синим, а теперь просто темный; брюки лоснятся. Он – Хозяин Хутора. С большой буквы. Эта лысина. Этот нос. Эти брови. И борода. Пряди на затылке и щетина за ушами бесцветны, зато густая борода рыжая. И этот светло-серый оттенок кожи, как у многих рыжеволосых людей.
Мое сердце стучит, словно мотор. Черт побери! Не нравится мне, что я нарвался на этого человека.
– Ну дак!.. – обращается он к мальчику, а потом делает последние шаги ко мне. Гестаповец в галошах. Он останавливается, тяжело отдышавшись, и пристально смотрит мне в глаза. Его левый глаз неподвижен.
Глава 2
Ну вот… А надеть носки было бы все же неплохо. Здешнее безветрие такое холодное. А почему это я оказался без носков? Ей-богу, в толк не возьму! И как вообще это все так вышло? Куда это я попал? В руки хуторянина из долины. Ах, этот хуторянин! Он поднял меня как перышко. Я стал совсем невесомым. Стесняюсь, как школьница, своих голых щиколоток, которые торчат из его объятий, словно выкинутые морем щепки, бледные, как мертвецы, и болтаются на холодном воздухе. Ну, я им покажу, как старого человека забывать за городом! Да еще без носков! Я бы предпочел, чтоб меня забрала сама смерть, чем угодить в эти объятия! А может, это как раз смерть и есть? Вид у него вполне суровый. Он подошел ко мне, этот Хроульв, пристально и зло посмотрел на меня, словно питал отвращение именно к этому виду твидовой одежды, и сказал:
– День добрый.
– Добрый день, – поздоровался я в ответ.
– И куда же ты направлялся?
– Я… у нас поездка была, и они, наверно… наверно, меня забыли.
– Да ну? Поездка? Из Фьорда?
– Папа, а он разве не учитель? – подал голос мальчик.
– Нет, я… а где… как называется эта долина?
– Это у нас Хельская[3] долина, – ответил хуторянин тоном, не оставляющим сомнений в том, кто хозяин этой местности. Затем он откашлялся и сплюнул черной табачной слюной. Затем взгромоздился на кочку спиной ко мне – на его плечах покоились целых полвека – и окинул взором свои владения. Собака присела рядышком, навострила уши, принимая сообщение с горы по ту сторону озера: там наверняка где-нибудь среди валунов разбойничает лисица, – и протявкала это сообщение нам, а затем задрала морду и стала ждать, когда ветер донесет запах.
– Он потерял коля… Он свое кресло потерял, – подал голос мальчик с ближайшего холмика.
– Во как! – фыркнул хуторянин.
– А где… где, позвольте спросить, расположена эта ваша Хельская долина? – спросил я.
Хроульв сорвал травинку, повернулся ко мне в профиль – обрывистый утес со шлейфом табачного дыма – и заговорил, обратившись к каменистой равнине слева от него:
– Ты из богадельни?
– Эээ… да, – ответил я, не решаясь пускаться в детальные описания санатория, тем более что его название и месторасположение я не помнил.
– Да-да, – сказал он сам себе и посмотрел на небо, потом долго сидел неподвижно, в задумчивости. Хуторянин. Последний в мире человек, который все еще интересуется тем, чем занимается Бог. Облачная крышка начала опускаться за край горы с правой стороны.
– Ну, на склоне торчать смыслу нет, ху, – вздохнул он потом, поднялся, подошел ко мне. Лежа у его ног, я окончательно превратился в костлявую старуху в костюме-тройке и круглых очках – и тут из меня вышло, словно воздух из шарика:
– Не… не беспокойтесь. За мной непременно заедут.
– Ну, будем надеяться, – сказал он и склонился надо мной во всей своей сенно-табачно-свитерно-пахнущей мощи, подсунул под меня руки, без усилий поднял, а потом пошел вниз по склону. Со мной на руках. Все это было проделано весьма буднично, словно для него не было ничего привычнее, чем бродить по горным склонам в это время дня и забирать оттуда паралитиков. Я сделал вид, что так и надо, и ни о чем не стал спрашивать.
Собака побежала за нами, а также и мальчик, не перестающий болтать.
– А где он будет спа… спать, папа? Его с бабушкой положат? Бабушке… ей нужен новый дедушка. А ведь он, наверно, сможет научить меня читать, папа!
Но в его голосе не было прежней уверенности в себе; он немного побаивался отца и все же не мог скрыть радости. Радости, что нашел в своих владениях человека. В его устах это звучало так, словно в этой долине отыскали источник с горячей водой. Я не уверен, что его отец считает так же. Я вообще сомневаюсь, что ему интересна горячая вода. Он напоминает мне тех людей из моего детства, у которых в домах вечно стояла холодрыга и которых ничего не могло согреть, кроме похабного рассказа да бутылки бреннивина[4]. Он молчит и выдувает воздух из ноздри. Я затаил дыхание: больной дурачок, болтающийся у него в охапке. Мы приближаемся к туну[5] и изгороди. Очки у меня на носу съехали на сторону. Сквозь них в мое поле зрения со скрипом вползает хутор: беленый каменный дом на грязном цоколе, крыша ржаво-рыжая, с дымоходом, а из него прозрачный голубой дымок. Во дворе, насколько я вижу, никаких механизмов нет, позади какие-то развалюхи, сарай у столба, на туне неподалеку расстелены копны сена. Хутор стоит на специально устроенном возвышении довольно свежего вида. Новостройка? Да не все ли равно! Озеро за домом скрылось из виду. На нем я видел двух лебедей, а в остальном кто-то забыл поместить в эту долину птиц. А может, они, родимые, все улетели. Как я их понимаю!
Собака проходит сквозь изгородь, словно призрак, и спешит к копне сена, обегает вокруг нее один раз, разумеется, чтоб проверить, не притаился ли в ней снайпер. А затем с лаем мчится обратно.
Я стараюсь не смотреть в лицо этому человеку. Только слушаю дыхание, вырывающееся из его ноздрей, и временами украдкой поглядываю на них. У меня нарастает беспокойство по поводу табачной капли, постепенно набрякающей у него на переносице. Вот будет весело, когда она упадет мне на жилет или пиджак! Ну и влип же я! Но, черт возьми, должны же они были меня хватиться! Да. Конечно, за мной заедут. Хельская долина? Не помню, чтоб я о ней раньше слышал, разве что в каких-нибудь адских виршах. Но не означает же это, что я умер? Сражен ангелом смерти, и теперь влеком в ад посланцем сатаны? «Ты из богадельни?» – спросил он так же равнодушно, как рассыльный спрашивает о содержимом посылки, которую ему вручают. Ей-богу, у него в глазах был какой-то дьявольский блеск! Каким странным инеем подернут его глаз, обращенный ко мне! Когда хуторянин делает последние шаги до изгороди со мной на руках, я разглядываю его лицо. В этой густой рыжей бороде такое разнотравье. Свежескошенная трава, кормовые травы, силос? В его бороде кончики у волос седые, но чем ближе к коже, тем больше они набирают рыжину – и уходят в толстую, туманно-белесую кожу, где пускают корни в голубых жилках. Из холода ты вышел… В этих глазах не отражается никаких печей. Да-да… Все ясно. Я отправляюсь в Хель.
Да. На вид ему лет пятьдесят.
– Папа, я тебе подержу! Он не может идти? Не может идти, потому что такой старый. Папа, дай я подержу! Я подержу!
Мальчик просто вне себя от радости. Видимо, здесь гости бывают редко. Он придавливает вниз колючую проволоку изгороди, чтоб отцу было удобнее перелезать, а тот слегка покачивается со своей ношей, когда становится по другую сторону изгороди обеими ногами. Я не свожу глаз с табачной капли… нет, она удержалась. Собака мчится по туну к дому по неописуемо сложной траектории. С воздуха это, разумеется, выглядит как что-то весьма мудрое, символистское для наших усопших мистиков, все еще следящих за земной жизнью. Разумеется, из этого можно было бы вычитать очевидное объяснение того, как я попал сюда. Да-да. Этой малютке есть что сказать! Под сапогами хуторянина слышно, какие у травы упругие корни.
Света стало меньше.
И тут появляется запах. Аромат. Великолепный запах навоза. Он напоминает мне Париж. Да, напоминает мне Париж. Возле конюшен за больницей на Рю-де-Дье, в которых стояли уставшие за день от иноходи полицейские лошади, я вновь ощутил запах из детства. В большом заграничном городе, на улице с божественным названием, мне открылся тот роман, который я вынашивал… как же он назывался-то? Распахнулась навозная куча детства. Запах навоза – всемирный! Ох уж этот комплекс неполноценности исландцев! Мне надо было съездить в Париж, чтоб снова обрести в самом себе исландский хутор! А потом я целых шесть недель сидел и писал в трехзвездочном отеле в Барселоне, и моя голова была наполнена запахом навоза. Чем дальше уезжаешь, тем ближе становишься к себе. Чтоб писать о жухлой траве в родном краю, надо переехать через реку.
Ах да, Париж. Вот я и начал вспоминать. Барселона. Или это была Болонья? Я пишу, да, писал книги. Скоро я все вспомню. Со всего уже спадает завеса. Наверно, скоро в памяти всплывет и имя моей подруги жизни, и причина, по которой меня бросили на улице в преклонном возрасте, да еще и в «самый благополучный период в истории Исландии». Ей-богу!
– Папа, я скажу бабушке, чтоб блинов напекла? А, папа? Я пойду, скажу ей, чтоб блинов напекла!
Мы вошли во двор – а вот и она: навозная куча перед плохо выстроенным бетонным хлевом. Эти «возвышения», на которых стоят исландские хутора, – просто тысячелетние засохшие навозные кучи. Мы воздвигаем свои жилища на навозе. Как же называется этот хутор? Он несет меня к дому (карканье во́рона – ну да), и за угол: там пристройка, а у порога валяются обглоданные кости: хребет пикши, ягнячья нога, а скоро к ним, конечно, прибавится и моя щиколотка. Собака осматривает свою коллекцию костей и убеждается, что там все на месте. И все же она скулит у лоснящихся штанин хозяина и просит дать ей погрызть новых костей. Я отношу это на свой счет. Что ж, псу под хвост я еще гожусь! Хотя кто знает, может, эта собака привереда и не ест мяса паралитиков.
Хуторянин Хроульв без слов плюхает меня в какое-то деревянное сооружение – насколько я могу догадываться, самодельную тачку, – а потом подходит к сараю, наклонившемуся к единственному столбу электропередачи в дальнем конце двора, и скрывается в нем. Прибегает собака и нюхает мне ноги; я чувствую холодный мокрый нос на голых лодыжках. Нет, наверно, ей как раз мясо паралитиков нравится. Я бы сейчас все мои произведения отдал за пару носков! Как же это комично: такой почтенный пожилой человек в шерстяном английском костюме-тройке бледно-коричневого цвета лежит в тачке на дворе незнакомого хутора без носков в начищенных до блеска лондонских туфлях! К счастью, единственный свидетель этого – собака, а потом и она скрывается в сарае.
За постройками посверкивает озеро, и по левую руку невдали виднеется какая-то фантасмагория, которую с большой натяжкой можно назвать хозяйственной постройкой. Гора за озером – единственное, что в этой убогой долине полностью оправдывает свое название, а ее вершина тронута сединой. Небо по-вечернему серое. Кар-кар.
Ну да – «тронута сединой»! Вот я тут лежу, мне скоро стукнет девяносто, а я еще не отвык от пафосных эффектов. Пейзажи в романах всегда слишком переоценивали. Те, кто не умеет рассказывать людям о людях и про людей, – те заводят читателя в болото и там долго валяют его в болотной руде. Пока он по уши не испачкается в этих «описаниях природы». В исландских сагах нигде не упоминается закат, и всего четыре раза на протяжении этих тысячи шестисот телячьих кож герою становится холодно. Бездуховность стремится на пустоши, поэзия – в населенные места, ведь она – про людей. Мысль о том, что в искусстве речь может идти о чем-то, кроме человека, в истории нова: вся эта живопись, в центре внимания которой – «живописное полотно», театральные постановки «о пустоте» да музыкальные композиции, посвященные «систематическим возможностям гаммы»! Стихи, которые, похоже, сочинял печатный станок, и романы, где все действие происходит в одной комнате! То есть оно бы там происходило, если б в этой комнате кто-то был! У каждого времени свои причуды. У нашего времени это была абстракция. Ворчливая вдова фашизма. Она стала разрешать себе то, что ей когда-то запрещал этот старый черт: покупать что-либо кроме образцов фигуративного искусства, – но с фанатизмом, усвоенным от него. Абстракционизм – человеконенавистническая ортодоксия, не терпящая никаких отклонений. А я гуманист. Да что – этот мужик проклятый меня на всю ночь оставил здесь куковать?! Ну что он там в сарае копается! Во дворе полный штиль.
Ах, я все еще говорю себе то, что сам знаю.
Описания природы – это специи, используйте их экономно. Одними специями никто не ужинает. Так сказал Борхес. Или не Борхес? Да, он. На лекции в Принстонском университете. Я и двое других зрелословных ораторов в обрывистом зале среди наглой докучливой – как раз в духе тех времен – молодежи, которая твердо вознамерилась заткнуть старику рот чем-нибудь эдаким революционным. А слепой мэтр видел их насквозь: нарядившийся в десятикарманную одежду, и в каждом кармане – по целому веку, и когда он сидел за круглым столом, он был одной высоты со своей тростью с серебряным набалдашником, словно папа римский. И вот папа простирает дрожащую руку и изрекает тихим исцарапанным голосом: «Писатель должен быть тактичен. Он не должен козырять странными словечками или другими стилистическими эффектами, чтобы привлечь читателей». Я принял это к сведению. Честно признаться, я принял это к сведению. Но кто такой Борхес – просто скрюченный книжный червь, который прогрызает книги от доски до доски, а в перерывах плюется чернилами? И плевки у него крохотные. Пишет всего только стихи и рассказы. Ишь ты, стихи и рассказы! Задание для школьников! А рассуждать берется обо всех больших произведениях, о Шекспире, об исландских сагах… По отношению к собственным произведениям автор слеп.
Он покорил их умы, старый папа римский: по окончании лекции студенты столпились вокруг него, а я вместе со своей шляпой вышел на улицу. Я рано взял себе принцип ни перед кем не расшаркиваться. Вот оно – объяснение, почему в последние годы меня окружали одни лишь распускатели перьев. Лишь люди без способностей пресмыкаются перед признанными талантами. А другим гордость велит трудиться не покладая рук, пока не опустеют троны.
А сейчас мой трон – тачка на хуторе. Интересно, заберут ли меня до завтра? Отсюда никакой дороги не видно. Хотя нет: какая-то жалкая стежка тянется на тун, в ту сторону, откуда пришли мы, но ближе к озеру. Темно-серые небеса отступают за горные вершины. Скоро они склонятся в траву перед всепобеждающей темнотой. Их слезы впитает почва: дождь – это небесные похороны. Да… По-моему, в воздухе сгущается морось. Из сарая доносится какое-то «бр-р», я так и продолжаю лежать здесь: худой как щепка щеголь в парадных туфлях и с двумя соединенными моноклями: как Джеймс Джойс, которого отправили не на тот адрес.
С каждым карканьем мгла сгущается. Ворон, родимый! Моя старая добрая птичка! Только вот темноты в нем многовато… Да, а потом я вышел на улицу, точнее, на авеню. Нью-Йорк – 1967. В этом городе я всегда был немного испуганным. Почему-то я все время представлял себе: вот с каждого небоскреба прыгает по человеку, и один – прямо мне на голову. США – страна личной инициативы. Люди или сами себя убивали, или нанимали кого-нибудь для этой цели. В отличие от Старого света, где умерщвлением людей занимались власти, организованным и безупречно этичным образом – в США вмешательство властей в такие дела было сведено к минимуму. Кажется, в этих джунглях первобытных инстинктов невозможно было обезопасить себя от смерти. И в тот день тоже: сейчас я это помню. Тогда был католический праздник: праздник мертвых. Посередине Девятой авеню понесли статую Девы Марии, и за считаные минуты все заполнилось народом. Мимо прошел духовой оркестр с чудовищным шумом, маленькие дети в масках мертвецов и девушки испанского происхождения с пятнами на щеках. Были вороновые капюшоны на фламинговых платьях. Гарлемские розы. Какие же они были красавицы – и танцевали танец с кастаньетами в пышных красных платьях, и одна смотрела мне в глаза своими черными глазами-оливками, которые говорили: «Помни меня после смерти!» «Помни меня после смерти!» – с испанским акцентом. Многими годами ранее я видел ее в маленькой деревушке на юго-востоке Испании – девушку с другим именем, но теми же глазами на том же празднике: самую красивую женщину в моей жизни. У нее были волосы цвета воронова крыла, кожа цвета топленого молока и губы цвета красной смородины. Она весь день танцевала с одного конца деревни на другой. Я следовал за ней – самой красивой женщиной в моей жизни – в тот единственный день, когда мое сердце верило в слово «любовь». Кажется, я никогда не мог полностью считаться с этим великим явлением, хотя не скупился на него в моих книгах. Да попросту потому, что читатели проглатывали этот вздор. Все мои произведения, похоже, были одним сплошным враньем. Я ловко симулировал те капризы, которые, как мне казалось, были движущей силой в жизни людей. Я пробуждал огонь в тысяче сердец – а свое хранил в холодном месте.
Кажется, это была самая блаженная минута в моей жизни: когда я стоял там на тротуаре и смотрел, как самая красивая женщина в моей жизни танцует на карнавале в Куэвасе (ага, вспомнил!). Но что я мог поделать? Тридцатипятилетний уроженец Бледнолиции. Я проводил ее взглядом, когда она, танцуя, вплыла в сумерки, а затем поднял глаза и на какое-то время застыл с разинутым ртом: я увидел между домами, как песчаниковые горы медленно-медленно двигались при полной Луне, и меня посетила странная мысль, что вся наша жизнь, наше время, мировая история – не дольше той доли секунды, на которую недопеченный блин замирает в воздухе, прежде чем снова приземлиться на сковородку. Это медленное-медленное движение гор при Луне. Оно было тем медленным движением блина, переворачивающегося в воздухе. А потом я очнулся, и моя недопеченная жизнь снова шлепнулась на сковородку. Да, видимо, это и была вершина моей жизни. Женщина из Куэваса.
И вдруг передо мной на навозно-твердой земле двора – белый ягненок. Если слух меня не подводит, он желает доброго вечера: «Ве-е-е-ечер добрый!»
– Добрый вечер, – отвечаю я.
Ягненок смотрит на меня так, словно не привык к подобной вежливости, некоторое время жует свою жвачку и делает шаг ко мне. Его хвостик сигнализирует о тревожной обстановке в глубине души. Это ягненок, которого растят при доме, ему всего одно лето от роду, и он – хранитель глубокой тайны. И она касается меня. У него не получается сделать так, чтоб оба его глаза врали. Один из них говорит: «Нет, сейчас об этом лучше не заводить речь». – А потом он стремглав бежит за угол грязной пристройки. Собака легкой походкой выходит из сарая. Затем два раза «кар-кар». А потом включается динамо-машинка.
Глава 3
Это Фридтьоув. Я знаю. Это Фридтьоув, зараза такая. У него везде свои люди. Они проникли в дом престарелых после закрытия, вломились ко мне в комнату, вкатили укол снотворного, словно крокодилу какому-нибудь, засунули в мешок и увезли ночью в другую четверть Исландии, а там на полном ходу выкинули меня из машины, и я скатился вниз по обочине, по склону… и укатился в эту долину, где и очнулся десять часов назад, покалеченный, без памяти и даже парализованный до самых рук. Вот же зараза! У меня ведь в ногах еще оставалась сила, хотя я и ездил на кресле-каталке. А сейчас я ПАРАЛИЗОВАН! Возможно, на всю оставшуюся жизнь. Вот ведь злодеи! Ага! Так вот почему я без носков: они забыли их на меня надеть! Ну конечно! Им же было некогда: они спешили поскорее меня в мешок запихнуть! Однако с их стороны было весьма заботливо надеть на меня одежду. Хорош бы я был, если б меня нашли здесь в пижаме, как какого-нибудь психа! А босиком все-таки плохо.
Старушка дала мне старые прохудившиеся чулки.
Я уже пролежал здесь, наверно, с неделю. Меня пристроили на чердаке для спанья подальше от лестницы, под окошком, которое рано поутру все в узорах, порой до самого полудня. Морозные узоры. Давненько я не видел таких вышивок! По-моему, у меня уже давно должна была бы подняться температура. Именно так работает мой организм, он всегда так себя вел. И все-таки по какой-то причине я чувствую себя довольно сносно, хотя холод буквально превращает меня заживо в чучело, а разнообразия здесь еще меньше, чем в доме престарелых: совсем ничего не происходит! Похоже, это самый глухой уголок во всей стране. Телефона здесь нет, а когда я спросил про факс, на меня посмотрели как на убогого старикашку, который впал в детство и буквально только что совсем утратил связь с миром. Они о таком никогда не слышали. Телевизора здесь и то нет! Честно признаться, я думал, что таких отсталых хижин на нашем высокотехнологичном острове уже больше не осталось. Я оставил всякую надежду на то, что меня отсюда заберут. Внизу, на кухне, вроде есть какой-никакой убогий радиоприемник: по утрам и вечерам до меня доносится его бормотание, – но судя по тому, что сообщает мне мальчик, за поиски престарелого писателя никто не принимался. Спасательный отряд не вызывали, и даже в розыск не объявляли… И хотя я вновь обрел слух (неизвестно, как – и все же за это следует быть благодарным), мне по-прежнему не удается вспомнить свое имя, и это в некоторой степени препятствует расспросам обо мне. Кто будет интересоваться безымянным? Честно говоря, я в этом вообще ничего не пойму. Единственное возможное объяснение – что меня похитили. Может, это звучит и бредово – но что только не творится в нашей стране в последнее время! Однажды я читал, как пьющего американского писателя похитила критикесса, обезумевшая от любви; его насильно удерживали в хижине в горах и принуждали писать «шедевр». Он целых четырнадцать недель томился в редактурном аду, и результатом явился совершенно трезвый текст. А какой рассказ уготовано написать здесь мне? Нет, единственное мыслимое объяснение – что это Фридтьоув. Что он хочет погубить меня. Окончательно отомстить. Иногда мне даже кажется, что домочадцы на этом хуторе с ним в сговоре. Хуторянин Хроульв явно не скачет от радости из-за моего присутствия здесь, но ведь Фридтьоув наверняка навязал ему меня благодаря своему знаменитому упрямству. Рыжебородый не показывает, что у него на уме, но, заглядывая ко мне по вечерам, усмехается. «И седня его тоже не забрали», – слышу я его бормотание сквозь усмешку у входа на чердак. И: «Нет ничего грустнее, чем дряхлый старикан, который никому не нужен». Но он обещал поспрашивать, когда в следующий раз поедет в городок. А это будет бог знает когда. Сперва ему надо в горы, говорит он, овец согнать. Здесь на всем лежит печать размеренности. Никто никуда не спешит.
Этот городок называют то Фьёрд, то Коса. Разумеется, это какие-то недавно объединенные административные округа, – откуда мне знать, ведь я в последние годы был лишен слуха (который вдруг обрел только сейчас) и совершенно перестал ориентироваться по карте. А эта Хельская долина, как мне сказали, расположена в «Восточнофьордской сисле». Если подытожить все эти сведения, то я нахожусь на востоке страны, насколько можно судить, довольно высоко в горах и далеко от моря; в ту короткую часть дня, которую я провел на улице, я успел заметить, что растительность в этой долине упрямая, в основном кустарники высотой по щиколотку; филиколистная и арктическая ива, и даже карликовая береза быстро выбиваются из сил на горных склонах, которые по большей части покрыты песком. Такой здесь суровый рай.
Я попытался применить к домочадцам все мое писательское коварство в надежде выяснить что-нибудь, что могло бы пролить свет на мое пребывание здесь, но ничего не добился. Отвечали мне в основном невпопад или на каком-то нарочно придуманном даль-недолинном говоре. «Здрав буди, господин», – здоровалась старуха, словно я – сам Христос, переродившийся на горном склоне. Будь прокляты такие шутки! Мальчик, конечно, болтлив не в меру, но он, конечно же, ничего не знает. Это всего лишь мальчуган. Таких называют – постреленок. Нет-нет… Я продолжаю прозябать здесь, словно убогий, под холодным одеялом и некрашеными досками крыши.
И насколько же далеко это зайдет?!
До самого полудня я пересчитываю пальцы. В этом времяпрепровождении никакого азарта нет. Они, родимые, лежат здесь на одеяле из сена. Десятеро престарелых пловцов в шапочках-ногтях. По большей части они отдыхают. Набираются сил перед рывком. Но иногда они выпрямляются, напрягаются и ходят по берегу. Они разбились на две очень похожие команды. Самые рослые пловцы плавают на третьей дорожке. Здесь все по олимпийской системе. По соседней дорожке плывет низкорослый итальянец, крепко сбитый парень, который, кажется, воду не любит… Что за вздор! Мальчуган притащил мне снизу книги. Это были старые выпуски «Ежегодника овцевода». Прелестно! Иногда на конек крыши надо мною присаживается ворон; я слышу, как его когти цепляют рифленое железо, и пытаюсь разгадать этот черный тайный язык. Когда-то я думал, что за каждым движением мира стоит какая-нибудь причина, что у каждой вещи есть душа и даже глаза и что мироздание – как произведение, созданное одним автором или одним законом. В собственных произведениях я руководствовался тем же правилом. Там ничто не было случайностью. Даже номерные знаки транспортных средств были датами рождения или номерами библейских стихов; черные автомобили въезжали в повествование, словно целые главы из Писания. Я воображаю себе, что этот ворон – любитель вечеров живет хорошей свободной жизнью и у него есть добрый друг во Фьёрде – любитель блестящего, и он иногда летает к нему в гости. Нам удалось полететь на Луну, но мы ничего не знали о тех, кто может летать на земле.
Вот и все мое времяпрепровождение: десять пальцев на одеяле и коготки на крыше. И да, мальчик, который болтает не хуже любого радио, и динамо-машинка, запевающая свою минималистическую вечернюю песнь. Подумать только: динамо-машинка! Сюда даже линию электропередачи не провели! А этот мужичонка-свечонка пользуется ею скупо: только чуть-чуть включает обогрев вечером, в сумерках, чтоб старуха могла наколдовать варево из пикшина хвоста. Это попросту какая-то убогая лачуга! Из лачуги ты вышел и в лачугу отыдеши. Ей-богу, умнее всего с моей стороны было бы просто взять и умереть здесь. Для них это было бы в самый раз. Тогда бы они, наверно, зашевелились!
Я забыл упомянуть дочь семьи. Сестру мальчугана. Она порой поднимается на чердак. Заглядывает в горшок, кормит кашей. Да только я отказываюсь от всей еды, кроме кофе. У МЕНЯ, ЧЕРТ ВОЗЬМИ, АППЕТИТА НЕТ! Что бы это ни значило. Но ради милой девицы я ковыряю порцию ложкой. Может, ее не стоит упрекать. Это симпатичная девчоночка, которой пошел двенадцатый или тринадцатый год, у нее появилась застенчивость и вот-вот появится женское обаяние, она крадется, как дым при безветрии, – крутобедрица в юбке и толстых носках. Разговаривает редко. Только смотрит на меня этими своими красивыми глазами. Как странно обнаружить такой чудесный цветок в долине без электричества.
И вот она снова пришла, родимая. Принесла еще кофе. Я живу на кофе. Организм всасывает его, как дерево – морилку. Я деревенею? Ей-богу, она дочь хозяина. Неужели у него такие красивые брови нашлись? Под темными густыми бровями: курносый тонкокожий нос, а щеки на вид мягкие, кожа чистая и белая, но, похоже, разгарчивая. На щеках появляются ямочки, когда она растягивает этот свой маленький ротик, такого монализовского вида. В сравнении с этим красивым лицом руки удивительно крепкие и на редкость проворно управляются с ночным горшком. К сожалению, наполнить его мне нечем. С тех пор, как я попал сюда, я ничего из себя не испускал. Такова реакция организма. И это естественно! Я слышал, что, когда человека захватывают в заложники, в первые дни пищеварение и работа кишечника у него замирают. Она скашивает глаза на горшок и снова задвигает его под кровать, широко таращит глаза, удивляясь отсутствию мочи. Я бы порадовал ее желтой каплей, но не судьба.
– Прости, – осторожно говорю я.
– А? – переспрашивает она, запустив руку в волосы.
– Ты, случайно, не знаешь, где здесь можно отдать одежду в чистку?
– А? Чистку?
– Да, химчистку.
– Чистку? Это во Фьёрд надо.
Выговор у нее четкий, ясный, но нельзя не заметить, что своим голосом она пользуется редко.
– Да, как ты думаешь, тут есть такая возможность? Я себе на жилетку такое противное пятно посадил, и… вот посмотри-ка.
Затем я откидываю одеяло по возможности более приличным образом и показываю ей табачное пятно – черную гадость на шерстяно-коричневой материи напротив средней пуговицы жилета. Наверняка эта дрянь капнула на меня, когда хуторянин сажал меня в тачку или на диван в гостиной или нес меня на чердак. А я просто не заметил.
– Вот, смотри. Прости, конечно, но мне с ним немного неловко.
– Да. Я бабушку спрошу.
И она уходит своей дорогой. Подросток в кофтенке. Ну-ка, мои пловцы! Плывите-ка навстречу этой не обученной плаванью деве, которая вот-вот потонет в море!
Лучше бы я этого не делал. Теперь она наверняка подумает, что это у меня такой план: под одеялом постепенно снять с себя всю одежду. Сначала костюм, а потом я попрошу ее постирать мне трусы. И закончу тем, что попрошу ее вымыть меня. Вот зараза! Она же наверняка сочтет меня извращенцем – а я не такой. Мне придется быть осторожнее. В моем положении я не могу позволить себе так расфуфыриться. Довольно смешно лежать тут в кровати в костюме-тройке: старик, которого забыли.
– Как зовут твою сестру? – спрашиваю я юного маэстро, когда под вечер он опускается на колени у моей кровати. И слышно, как ворон скребет когтями конек крыши и выкаркивает темноту.
– Эйвис.
– А?
– Ее зовут Эйвис. У меня были и другие сестры, их звали Сиг-га и… Не помню, как другую зовут.
Он наверняка уже рассказывал мне про это. А мама потом отправилась вслед за ними. В этой постели умерли три женщины. Эта кровать «треходровая», как говорили у нас дома на Гримснесе. Конечно же. Он засунул меня сюда в надежде, что доски этой кровати сложатся в гроб и закроют меня. Но я еще посмотрю, как я буду здесь помирать! Ведь я не какой-нибудь убогий – тот, кто даже у Бога оказался лишним.
Эйвис. Странное имя. Мальчик говорит, оно из Библии. Но я такого не помню. Я спрашиваю его, как тут ходит почта.
– Ты просто отправляешь письмо, а потом его приносит Йоуи.
– Йоуи приносит?
– Да. Йоуи приносит письма.
Этот Йоуханн – просто мастер на все руки. Мальчик опирается локтями на край моей кровати, виляет задом, словно щенок, смотрит на меня во все глаза:
– А ты письмо написал?
Черта с два я написал письмо! В этой безбумажной долине! Я попросил старуху дать мне на чем писать, какие-нибудь отдельные листки, что угодно. «Здесь все листы уже исписаны», – ответила баба. Ответ прямо как из романа какого-нибудь! И, черт возьми, как же он меня раздражает – этот насмешливый всезнай-ский тон, часто встречающийся у необразованных глухоманцев. Странно все это. Конечно же, это Фридтьоув не велел им давать мне бумагу.
– Но только Йоуи нечасто приходит. Ему нужно спать под своей машиной много дней, чтоб она поехала.
Ну и почтовое сообщение, нечего сказать! А вот и старуха – редкая гостья на моем чердаке. Она не выше подросшего ребенка, сгорбленная, мутноглазая, с поварешкой в большом кармане фартука. Все морщины на ее лице начинаются от носа, а он большой, орлячий и, кажется, натягивает ее дубленую кожу совсем как мужская плоть оттягивает резинку трусов. Да… Если честно, больше всего она напоминает мне седого кенгуру. Ноги у нее на удивление большие и кажутся еще больше в этих бывших кусках овечьей кожи, которые время превратило в гипс, наслоив на них пролитую кашу, картофельные очистки и куриный помет: они громко шуршат, когда она вволакивает их сюда по половицам. Она вручает мне только что связанные шерстяные чулки. О, вот!
– Благодарю вас, – говорю я.
– Как, по-твоему, она симпатичная? – подает голос малыш. – А может, ты за него замуж пойдешь, а, бабушка?
Ну ничего себе!
– А ну перестань! – говорит старуха и пытается отпихнуть мальчика от моей кровати. На ее заскорузлом лице появляется намек на причудливую застенчивость, хотя она не краснеет. Выкинутое морем бревно цвета не меняет. Но где-то далеко-далеко внутри нее, за тремя высокогорными пустошами, еще дремлет та девчушка, которой она когда-то была.
– Оставь доброго человека в покое и пойдем. Господину надо в себя прийти.
– Но, бабушка, тебе ведь нужен новый дедушка. Ах, помолчи, маленький Амур!
– Небось, Господин к нам в хибару не свататься пришел.
Маленький сват не сдается и обращается ко мне:
– А она ужасно хорошая. Правда, согнулась немножко. Но папа говорит, это дело поправимо. Люди вот так сгибаются, если их пятьдесят лет никто не оприходовал.
– Я кому сказала, постреленок, пошли, сию секунду! – старуха пытается перекричать мальчика и выгнать его, но он вцепился в мой рукав и продолжает спрашивать:
– А ты не хочешь на ней жениться?
– Э… я… увы, боюсь, что «Господин» уже обвенчан, – говорю я, легонько покашливая.
– Да, Господин обвенчан, Господин увенчан, Господь… вечен… – бормочет старуха, без устали кивая головой с закрытыми глазами и таща в переднюю часть чердака мальчика – этого вечно болтающего духа, слишком жизнерадостного для этой хижины. Прежде чем они удаляются вниз по лестнице, я слышу, как мальчик спрашивает:
– Бабушка, а что такое «оприходовать»?
Ворон на крыше продолжает каркать, а потом включается динамо-машинка.
Глава 4
Вот я лежу здесь – мрак в темноте. Динамо-машинка молчит, а за стеной вовсю работает мотор осени, набирая ход для зимы, тихонько завывая. Где ты сейчас, ворон? Ухом, которое слышит лучше, я различаю между порывами ветра тиканье часов на нижнем этаже. Время не спит – как и я, да только ему отвели комнату получше.
Этот чердак напоминает каюту. По обеим сторонам под скатами крыши тянется вереница кроватей, в двух местах отгороженных друг от друга деревянными переборками. Здесь места хватит на шестерых. Между ними проход, как раз для тринадцатилетней девочки, стоящей во весь рост. Переборки доходят до края кровати и выкрашены светло-зеленой краской. Дверей здесь нет. Честно говоря, у них тут все устроено довольно странно. Конечно, в старину в наиболее глухих уголках страны люди могли спать вот так, по-наймитски, – но я ведать не ведал, что такое еще бывает сейчас, в эпоху расцвета! Фридтьоув, видимо, специально постарался отыскать для меня самый убогий хутор во всей Исландии, чтоб мне было где лежать без сна и маяться от хронической дрожи.
Как уже сказано, я лежу в самом дальнем углу. Напротив меня кровати нет, мальчик спит за той переборкой, которая у меня в ногах, а его сестра по имени Эйвис спит напротив него. Если повезет, я могу увидеть ее ноги. Лежбище хозяина – на передней кровати в моем ряду. Он спит ногами к фасаду, разумеется, для того, чтоб все время видеть в окне небо – своего друга и врага. Напротив его кровати дверной проем, через который мысль спускается по тесной лестнице в голубую кухню, где царствует старуха с поварешкой, а спит она, конечно же, в комнате напротив, через короткий коридор, ведущий в парадную гостиную, где меня четверть часа держали на диване на поглядение домочадцам. Там ничего примечательного нет, кроме тикающих часов на стене и библиотеки на полке, состоящей из каких-то свитков. А перед этим всем стоит пристройка. В ней живут сапоги, башмаки, галоши и собака Мордочка, а также все, что сопутствует грязи сельской жизни: мешки из-под картошки, сбруя, шкуры, овечьи челюсти и вяленая пикша – все, о чем столичные архитекторы и понятия не имели. Оттого-то эти пристройки всегда сооружаются после: такие неприметные и убогие, словно доморощенное предисловие к классическому труду, написанное для того, чтоб читатель не вваливался прямо в текст в грязной обуви.
Они все спят. И собака, и хозяин, и ребенок, и его сестра, и старуха, и три вяленые пикши. А я не сплю. Я бросил спать. И спать бросил, и есть. С тех пор, как я здесь очутился, я даже не пи́сал! Не скажу, чтоб это было так уж чудесно. Когда дом борется с самыми сильными порывами ветра, кровля потрескивает. Мальчик похрипывает, как бурлящий гейзер. На другом конце комнаты Хроульв храпит, словно морж в депрессии. Порой девочка что-то пробормочет во сне, но это язык иного мира. В основном «не-а» и «нет». Внизу тикают часы. Интересная получается музыка! Вполне современный изящный «Ноктюрн» для эоловой арфы, ударных, крыши и четырех голосов. Такой же, как ты слышал в Париже у Булеза и всяких прочих дилетантов.
Сегодня я предпринял три попытки. Не исключено, что сегодня я бы в третий раз пошевелил ногами. А сейчас я ударился в какую-то проклятую американскую философскую систему и начал бормотать эти лозунги-мозгопромывалки, которые в доме престарелых раздавались во всех коридорах. Не теряй веры. Живи сегодняшним днем. И еще вот это: сегодняшний день – первый в череде тех, что тебе еще предстоит прожить! Это вроде бы должно было подбадривать нас – белокочанные головы на подуш – ках в комнатах, но для старого человека, только и мечтающего о том, чтоб спокойно умереть, это звучало как наихудший пожизненный приговор. Но сейчас ситуация другая. Ведь несмотря ни на что у меня снова проснулась воля к жизни! Я собираюсь выяснить, как же обстоят дела. Не дам похоронить меня заживо в этой ссылке безо всяких объяснений! Сегодняшний день – первый в череде тех, что мне еще предстоит прожить. Эта фраза такая же, как и все остальное американское: донельзя раздражает, не в последнюю очередь из-за того, насколько она правдивая. Уж в последнем им не откажешь. Это все «работает». Что нас, европейцев (а я ведь в первую очередь европеец, а уж только потом исландец), раздражает в американцах, так это то, что они вечно оказываются правы. Идиоты несчастные.
А что же это был за дом престарелых? У меня две жены? Я больше ничего не знаю и не понимаю, а в этих сучка́х на скатах крыши есть что-то, что меня смущает: кажется, они мне знакомы. Мои пловцы расслабляются. Они, родимые, лежат на одеяле в темноте. И ждут сигнала к действию. У меня никогда не бывало столько лишнего времени. Я привык писать по семь часов в день за 65 лет: с тех самых пор, как смог оставить работу на прокладке шоссе, и до тех пор, пока не попал в дом престарелых. Тогда мне пришлось сбавить это до часа в день. Да… Медсестричка дольше не выдерживала, а ей было двадцать четыре года!
По ночам я смотрю на сны. Для меня это в новинку – но как бы то ни было, оказалось, что я способен видеть, что снится обитателям дома. Сны поднимаются от спящих тел, словно пар от вспотевшей лошади в холодном дворе; пар этот цветной, он превращается в картинку, потом в другую. Качество изображения, наверно, не самое лучшее: цвета неяркие, формы нечеткие, текучие, словно полярное сияние; это напоминает мне первую «радиограмму», которую я видел, – потом это стали называть рентгеновскими снимками. Сперва я не понял, что это за видения, и принял их за галлюцинации от недосыпа, являющиеся мне сквозь переборку или даже сквозь две. Мне стало очень неприятно. Мистики я никогда не любил. Но постепенно привык к этому, как привыкают пялиться в телевизор. Ведь здесь больше ровным счетом ничего не происходит! Скорее всего, это часть тех привилегий, которыми в нашей стране пользуются паралитики и инвалиды. А что им еще остается!
Я смотрю на немые картины. Немые рентгеновские снимки.
В снах маленького мальчика – движение, борьба. Часто в них черный щенок барахтается в снегу, а однажды ночью из каждого угла стали высовываться склизкие телячьи головы: невесть откуда, из коровы, из земли, из окна. А иногда я вижу, как над ним пляшут черные человечки в белых одеждах, при шляпе и трости. Не исключено, что в какую-то из ночей мальчишке снился сам Эл Джолсон. Может, в прошлой жизни он был джазменом, черным, заблудившимся в белоснежной душе. Снов фермера я видел немного, и в основном они о скотине: тринадцать овец пасутся в его рыжей бороде, а по краю кровати беззвучно рысит красивый черный жеребчик величиной с палец. Впрочем, однажды в них промелькнули две бабы, которые перетягивали между собой молодого паренька, точно простыню. Сны Эйвис обычно красочные, если так можно выразиться об этих бледных воздушных картинах. Я помню красивый сон прошлой ночи: легко одетая девушка бежит по узким, но пустынным улочкам в южном городе под вечер. Она выбегает на безлюдную площадь, больше всего напомнившую мне картину де Кирико. Девушка перебегает через площадь и вдруг обнаруживает, что та и впрямь нарисована. Ее босые ноги вязнут в краске, которая все густеет, и девушка застревает посреди шага. Картина высохла.
Впрочем, и это недурно.
Но довольно об этом. Вот из-под половиц поднимается сон старухи: шестилитровая кастрюля с кипящей… да, по-моему, это овсяная каша. Над нею плывет крошечный кораблик под парусом. В его кильватере летают морские птицы размером в булавочную головку, но все происходит ужасно медленно. Затянутый старческий сон. Я выключаю его: машу своей деревянной рукой, словно дирижер палочкой в конце симфонии. И вот «Ноктюрн» закончен! Дирижер сновидений на время выключает все сны, и смотрите: наступает полный штиль. Красочные картины еще миг висят в воздухе, а потом падают в оркестровую яму. Фермер – и тот перестает храпеть. А на большой сцене зажигается свет. Утро.
Зал гудит от аплодисментов.
Я слышу это через окошко в фасаде. Это тот тихий звук утра, который даже и не звук, а просто другой вид тишины. Когда кочки приподнимаются и травинки встают с постели. Все по ночам спит, кроме разве что меня. Природа вновь пробуждается, включает холодную воду: водопады и ручьи. Земля просыпается до рассвета. Тихое гудение утра. Аплодисменты цветочных эльфов.
Нет, что-то я совсем с ума сошел от этих поэтических описаний. Сейчас же осень! И фермер Хроульв собирается в горы, овец сгонять. Я слышал, как вчера мальчик у него канючил: хотел пойти с ним. Так что в это утро громких аплодисментов не будет. Все цветочные эльфы надели варежки. Как и те, кто отправляется в горы за овцами. Они объявляются здесь около полудня – трое волхвов. Жутко проворные мужики: речь у них кофейно-тепловатая, ноги колесом после скачки по горным пустошам, они пахнут конем – и, конечно, хотят посмотреть этого нового нахлебника в моем лице. Я чувствую себя экспонатом. «Мы просто хотели проведать Господина, если погода будет подходящая», – вот как они это назвали. Да, велика сила парализованного человека. Хроульву это не очень нравится, он нетерпеливо переминается с ноги на ногу позади них. Это мужики крепкие, но преждевременно состарившиеся, с лицами цветов исландского флага: белыми, как репа, с щеками, посиневшими от холода в доме, покрытыми узором из прожилок, – а носы красные. Они представляются: Бальдюр с Межи, Эферт с Подхолмья и Сигмюнд с Камней. Они годятся мне в сыновья. Сам я не представляюсь.
Бальдюр – высокого роста, почти без подбородка, седые волосы поднимаются прямо из высокого лба точно фонтан; он стоит под крышей, согнувшись, и не желает вынимать руки из карманов. Сигмюнд: толстоватый, самодовольный, он присаживается на край кровати и выдыхает сквозь ноздри. Эферт – самый малорослый из них и самый странный: его лицо застыло в жуткой гримасе, словно он пробирается сквозь буран в горах.
– Здрасте, – говорит он и крепко, но робко берет мою руку. Его рука – большие вилы, испещренные знаками тяжкого труда; я быстро утягиваю свою руку к себе. Пловцы под одеялом. У меня руки всегда были робкие: весьма девичьепалые по сравнению с такими вот тюленьими ластами. Я в них ничего, кроме ручки, не держал с тех пор, как отставил тачку в свой последний день в Древней Лощине. Откуда у меня такие руки? Отец был плотником, начальником дорожных работ, фермером. У мамы руки были крупнее моих. Такие фарфоровые ручки у нас в роду не встречались века с четырнадцатого, когда их задействовали при написании «Книги с Плоского острова». Да, мои прабабушки, очевидно, хранили их в Генном ручье в наших родных местах и ждали, пока в роду появится заслуживающая их голова. Такие белоснежные чистые руки. По праздникам их вынимали и демонстрировали односельчанам, которые таращили глаза. Прямо как сейчас. Для молоденького мальчишки это было мучением. Как дивно творение человека! Разум и рука. Какая любовная история сводит вместе разум и руку? Разум просит руки или сам дается в руки? Как бы то ни было, у моих головы и рук брак был счастливым: что у меня в голове, можно вычитать и из моих ладоней, и из моих книг. Никто не способен писать лучше, чем позволяют его руки. Но этим лапищам из Союза исландских писателей такое наверняка слышать нельзя.
Мужик по имени Эферт интересуется:
– Ты отсюда, с востока?
– Нет, я с юга, с Хутора на мысе Гримснес.
Язык сам знает, что ему говорить. А я просто слушаю.
– Ну, а у нас, на востоке, ты жил?
Голос у него хрипловатый, мяукающий. Он разговаривает как кот, и его дружелюбные глаза говорят, что, кажется, он меня раньше где-то видел. Мне кажется, что и я его где-то видел. Да, он напоминает мне бездомного старика, слонявшегося по рейкьявикским улицам после войны. Да, вот именно. У него было прозвище Десятка. Сайми Десятка.
– Ээ… нет-нет, – отвечаю я.
– На Хроуиной косе никогда не жил?
Фермер с хутора под названием Хроуина коса? Да кто ж его знает, может, я им и был. Я бывал разными людьми, – такое однажды Борхес сказал о Шекспире. Бывал многими – а самим собою меньше всего.
– Нет, я… в общем, писатель.
– Писатель, ну конечно, – такают и дакают они, пытаясь припомнить, какие я написал книги. Но это, конечно, занятие безнадежное, а сам я не смогу им помочь. Моя память как исландское высокогорье: между яркими приметами местности расстояния велики, а у многих гор даже имен нет: они скрыты под ледниками. Но одну из них я вдруг вспомнил: Хердюбрейд. Книжное издательство «Хердюбрейд»[6]. Мужики о нем что-то слышали: в их продутых ветром головах раздается звон каких-то старых-престарых колоколов, – в остальном эта встреча на чердаке приобретает совсем неприятный оборот, – но вот Хроульв подытоживает:
– Сдается мне, этот человек знаменит на всю страну. И пока вся страна его знает, жаловаться не на что, даже если он сам себя перестал узнавать.
Он сидел на кровати своей дочери и ухмылялся: между его передними зубами виднелось целое ущелье, – прямо посреди рыжей бороды. Я его раздражаю. Но вот он встал:
– Но корма много он не требует; этого у него не отнять. Ну, ребята, не пора ли нам пошевеливаться, пока солнце за гору не закатилось!
Они попрощались со мной, словно с младенцем Христом в яслях: «Здрав будь, Господин!» Трое волхвов. А потом они сядут на коней со звездочками, которые укажут им путь к их агнцам. Фермеры, родимые! Самые сообразительные создания в этой стране. И последние из нас, кто еще дает ей какой-никакой повод существовать.
Дары волхвов: нюхательный табак, акулятина, бреннивин.
Я не могу отрицать, что глоток хмельного согревает меня и унимает дрожь. Я попрощался с ними бодрым. И подарил им хорошую погоду. Пожалуйста, ребята, мне не сложно! Но мне было плохо. Мне было паршиво, когда я остался лежать, словно музейный экспонат, словно кость из старого кургана, у которой определили возраст, но не выяснили, какого она роду-племени. Мог я сам, в силу какого-нибудь непонятного стариковского помрачения, сбежать из дома престарелых и проехать пол-Исландии на автобусе? В поисках былого вдохновения или просто чистой свободы, как Толстой? Он сбежал из дому – длиннобородый старец, сбежал от назойливой жены, но она, зараза такая, нагнала его на железнодорожной станции, и что ему после этого оставалось – только умереть! Толстой умер на станции. Что сказать: красиво.
В этой неопределенности кофе – моя единственная надежда. Девчушка приносит мне крепкий отвар. Она больше не заглядывает в мой горшок, а сразу спешит вниз, стесняшка эдакая.
– А ты пьешь кофе? – спрашиваю я.
– Да. Но не так много, – отвечает она.
– А в школу ты не ходишь?
– Хожу.
– А уроки разве не начались?
– Я скоро туда пойду. Когда папа пригонит овец.
– А где эта школа?
– На Болоте.
– Ага. А дотуда далеко?
– Нет, всего пустошь переехать.
– Ach so… А что… а чем ты до этого будешь заниматься?
– Ну, вообще… Доить, и всякое разное.
– Ты ведь писать умеешь?
– Да.
– Ты ведь иногда письма пишешь?
– И… да. Один раз писала.
Говорит она тихо. Мне приходится напрягать слух. Ей-богу, за этими глазами, под этими красивыми изогнутыми бровями и этим юным чистым лбом скрывается слишком многое. Какая-то влага точит ее зрачки как камень. А какие у нее руки сильные! Она доит коров. И ни о чем не спрашивает, и тем более – не переспрашивает. «Ты ведь иногда письма пишешь?» – а в ответ только «да» и «однажды писала» – и больше ничего. О да. В следующий раз мне надо приложить больше старания. Она при первой же возможности радостно уползает прочь. Словно дым от огня. Она заставляет меня чувствовать себя так, словно я – пастор. Пьяный пастор.
На седьмой день (как утверждают мои пловцы) после седьмой чашки мальчик приносит мне бумагу для письма. Мужичок мой ненаглядный! Это мятый, пожелтевший и потрепанный обрывок листка, который неоднократно намокал и неоднократно высыхал. Он подобрал его на туне. В этой местности бумага прямо на улице валяется! Это старое письмо – повестка на имя Хроульва Аусмюндссона, владельца хутора Хельская долина, от некоего адвоката Йоуна Гвюдмюндссона в связи с неуплатой за вышеупомянутое земельное владение, написанная во «Фьёрде 17 мая 1952 года». Jasso[7]. Рыжебородый у нас был неплательщиком, но потом как-то выкрутился.
1952-й? Нет, наверно, тут написано «1982»! Это какие-то руны эпохи печатных машинок, неразборчивые, исхлестанные ветрами.
Честно признаться, у меня опустились руки, и я так и пролежал весь день с этой бумажкой в руке. Кому мне писать? Как бы я ни старался, я не вспомнил ни имени своей жены, ни тем более адреса. «Заблудший во мраке лежал»[8]. О, вот я вспомнил! Рождественский псалом и «Отче наш», одни сплошные воспоминания из детства, пустошь Холтавердюхейди, Фридтьоув и его руки, эти длинные нескладные предплечья, гостиничные номера в Брюсселе и Берне и моя Бриндис, отдельные лица из дома престарелых. Как же, черт побери, это называлось? Ах, этот запор в мозгу! В конце концов я сдался и решил за неимением лучшего черкануть пару строк самому себе и полез во внутренний карман за ручкой. И что вы думаете! – в кармане оказалось не что иное как конверт! С маркой, с адресом, аккуратно вскрытый, но без письма. Адрес был напечатан на компьютере классическим шрифтом «Times»:
Эйнар Й. Аусгримссон
Издательство «Хердюбрейд»
Ул. Лёйгавег 11
101 Рейкьявик
Я тотчас узнал это имя. Мой человек в издательстве! Конечно же, кто-то послал мне весточку через него. Замечательный человек этот Эйнар, он вычитывал мне корректуру моей последней книжки мемуаров, которая называлась… да какая разница, как она называлась! Напишу-ка я ему. Я пишу ему на обороте повестки восемнадцатилетней давности, по которой предварительно приходится почеркать, чтоб расписать ручку и чтоб у нее из клюва потекли чернила:
Хельская долина, осень 2000 г.
Дорогой друг!
Прости, что я пишу на такой бумаге: другой здесь нет. Но это еще не самая большая моя проблема: дело в том, что меня похитили (у меня есть догадка, кто именно) и поместили на хутор, который называется то ли Хельская хижина, то ли Хельская долина и расположен в одноименной долине на востоке страны. Я думаю, ты сам отыщешь его на карте. Жители хутора, судя по всему, все участники этого заговора и не сообщают никаких сведений. После похищения мое состояние оставляет желать лучшего: я парализован до рук, вероятно, после падения на полном ходу из автомобиля, которого я, однако, не помню. Очевидно, мне сделали укол снотворного, что вызвало у меня существенные сбои в памяти. Последнее, что я помню: как я в доме престарелых смотрел телевизор. Ты и представить себе не можешь, как все это тяжело для старого человека! Прошу тебя связаться с моими близкими и передать им, что я цел и невредим (только парализован – впрочем, нет, этого не говори) и обращаются со мной сносно. Подчеркиваю: я не испытываю страданий, и в отношении меня не применялись пытки! Надеюсь на быструю реакцию издательства и твою!
Твой Э.
Затем я перечитываю письмо, почти скорописью излившееся на одеяло, и мое настроение улучшается. Несмотря ни на что! Наконец-то какое-то занятие! И я сам пишу! И не нужно мне для этого никаких медсестричек! Вынужден признать, что, по-видимому, я никогда с такой радостью не читал других писателей, как себя самого. Мой взгляд цепляется за «Твой Э.». Что я хотел этим сказать? За время своей долгой писательской карьеры я привык с уважением относиться к своему перу: оно знает много такого, чего я не знаю. Да… Оно знает, как меня зовут! Да-да, и Эйнар это тоже знает, так что все нормально. Да, видимо, я получил какую-то дозу снотворного. Только если б я по глупости не поставил точку после первой буквы! Я несколько раз пытаюсь написать свое имя на повестке, но дальше первой буквы не продвигаюсь. Благоприятный момент ускользнул!
Ну вот. Хотя побыть безымянным какое-то время даже неплохо. Пусть тщеславие с этим повоюет, ему полезно. Скорее всего, Хроульв прав: пока вся страна помнит мое имя, жаловаться мне не на что. Но они, то есть мужики, не узнали меня в лицо. Какие же глупцы эти фермеры! Единственный писатель, кого они знали, – это Гюннар Гюннарссон[9], и то лишь потому, что он был «фермером» в Скридюклёйстюре. Хотя, наверно, в этом нет ничего удивительного. Фридтьоув вечно печатал в газете одну и ту же мою дурацкую старую фотографию. Идиотский снимок, который сделали на фуршете по поводу второго визита в Исландию У. Х. Одена. Я с поднятым бокалом! И какими разгромными бы ни были рецензии, какими ругательными бы ни были заголовки, – я всегда был под ними со все той же улыбкой до ушей, словно у какого-нибудь фуршетного недоумка. Моя Ранга вечно оказывалась в затруднении, когда ей нужно было пополнять свою коллекцию газетных вырезок. Я имел привычку в приступе ярости рвать газету в клочья. Чтоб я этим поношениям радовался? – Черта с два! Эти неуважительные заголовки: «Изящный стиль» и «Мастер традиционной формы». Все эти коварные похвалы, которые на самом деле – скрытые упреки. «…традиционной формы». Я, видимо, не соответствовал всем пунктам того монашеского устава, который Фридтьоув и его приспешники затвердили наизусть в тот год, когда обучались за границей. Я, видимо, был недостаточно авангардным для них, реакционеров несчастных. «Однако ни для кого не секрет, что автор входит в число обладателей самого бойкого пера…» Надо же, я эту бредятину до сих пор помню! Обладатель самого бойкого пера! Вот так! И это после сорока лет беспрерывного труда! Бойкое перо.
Так, стоп: Ранга?! Моя Ранга! Вот что-то проясняется. Вот тучи расходятся. Вот проглянуло солнце. Ранга и Э… Эйрик? Эрленд? Эйитль? Эггерт? Эзоп? Что? Меня Эзопом зовут?
– А как зовут твою бабушку? – спрашиваю я Постреленка, когда он приносит мне какую-то диковинную липкую ленту.
– Ну, бабушка, она… Не помню. Ее зовут просто: Душа Живая.
– Душа Живая?
– Да. Папа ее всегда так называет. А ты письмо уже написал?
– Да.
– А можно, я его почитаю, когда Йоуи его принесет?
– Когда Йоуи?.. Да-да. Если ты к тому времени научишься читать, – отвечаю я, беру липкую ленту и пытаюсь дрожащими руками заклеить с помощью нее конверт. Душа Живая! Старуха утратила имя. Однажды я написал рассказ о сельском почтальоне, который поддал, то есть попал в бурю в горах (я так обрадовался, что вспомнил имя Ранги, что эта радость опьянила меня, и слова стали хмельными, ну и, очевидно, бреннивин – дар волхвов, тоже этому способствовал) и забыл свое имя. Оно стерлось из его памяти, как бирка с адресом – с посылки; когда он спустился с гор, он был совсем не в себе и на каждом хуторе представлялся именем его хозяина, которое прочитывал на вручаемых посылках. Может, это притча обо мне самом? Я каждый год назывался новым именем. Меня затягивало в новый роман, а из него я возвращался уже совершенно другим человеком и всегда сильно удивлялся, увидев свое имя на обложке. Мне казалось более уместным имя главного героя. Ах, все эти имена, которые должны были упрочить славу моего собственного! Старушка кричит из кухни, что обед готов.
– Бабушка велела спросить тебя, будешь ли ты есть.
– А, нет, спасибо, у меня аппетита нет. И никогда особо не было.
– Ты вообще не ешь. А почему ты не ешь? Смотри, не будешь есть – умрешь. Как мама. Сестрица Виса говорит, ты даже не писаешь. А я писаю выше, чем кобель на Болоте. А сестрица Виса писает как Мордочка. У нее писалка с гулькин нос.
И он мчится к выходу с чердака, и я слышу, как вниз по лестнице несется его крик: «Нет, он говорит, у него пиетета нет!»
Глава 5
Я постепенно набираюсь сил. Да. Я набираюсь сил, насколько это возможно, когда перестал есть и спать. Всего несколько дней назад я написал письмо, а прошлой ночью впервые свесил ноги с кровати. И они свисали с ее края – две марионетки, – и косточка большого пальца касалась ледяного пола, – да только нитки этих марионеток оказались привязаны к чему угодно, только не к моей голове. Лучше б я написал письмо собственным пальцам ног, а не Эйнару! Но по моему телу почта ходит плохо. Единственные новости, доходящие до меня оттуда, с юга, – только про то, как там холодно. Ноги мерзнут как заразы. Хотя на мне эти чулки. Я делаю еще одну попытку – сейчас, когда все спят: переношу щиколотки вперед, а сам наклоняюсь к краю кровати. Все мои пловцы и… Да! Затем я медленно ползу вверх вдоль стропила, пока не ударяюсь головой в конек. Надеюсь, я не разбудил ворона. А птицы вообще спят?
Я стою! Да, черт возьми!
Нынче ночью фермер храпит необыкновенно нежно. Вернувшись с гор, он стал совсем другим человеком. Перестал считать овец во сне. Сейчас он их взвешивает. Огромные тяжелые овцематки размером с дойных коров в хлеву. Ничего себе! Даже рядовой фермер из глуши, – о котором в газете только и напишут что полнекролога, – этот человек – галерный раб светового дня, – даже он обладает своими снами и мечтами, победами и чаяниями. И вот он спит, счастливый и довольный тем, что ему принес этот день.
Каждый человек на своей подушке – король.
В те дни, пока он отсутствовал, сновидения здесь в воздухе стали более легкими. Хотя я уже этих снов обсмотрелся: смотрел их каждую ночь до пяти часов. Даже стальному волу вроде Андре Бретона было бы не под силу отсмотреть всю эту бесконечную трилогию сурового сюрреализма. А символы эти все! Боже мой! Да, чтоб это все истолковать, понадобился бы целый автобус литературоведов. Материала для книг тут целые охапки, да я уже стал слишком старый и больше не хочу сочинять. Сейчас я просто рад, что встал на ноги. Я несколько минут простоял здесь, почти прямо, а потом устал и снова ложусь. Ко мне все постепенно возвращается.
Хроульв три дня искал своих овец в горах, два дня был при них в загоне, а по возвращении – в загуле. Он, родимый, сильно поддает. В тот день он был весьма разговорчив и без конца твердил об овцематке по имени Сигрид, у которой два ягненка и которую не нашли в горах. После этого он поехал в пресловутый Фьёрд, пробыл там два дня и с тех пор молчал. В вечер загула я слушал, как он во сне разговаривает с Постреленком. Пьяные байки с гор. Эферт нашел на горной пустоши красивую, но ржавую торбу, сделанную из железа, принял ее за деталь мотора из джипа англичан и двое суток возил ее в своей седельной сумке, а когда повстречал в загоне для овец Йоуи с Болота, отдал ее ему, думая, что вручает сокровище. А Йоуи сразу понял, что это ручная граната. Вот что с этими фермерами бывает – нарочно не придумаешь! Когда сын заснул, с деланым смехом фермер потащился через весь чердак ко мне и встал надо мной, склонив голову, положив этот свой удивительный рыжеволосый подбородок на грудь, одной рукой держась за стропило, надвинул брови на глаза, сверкая ярко выраженной, круглой, как шар, лысиной; левая бровь у него блестит чуть меньше, чем правая:
– И ты до сих пор тут!
От него разило винищем. А на кончике носа у него собиралась еще одна табачная капля. Я поспешил отодвинуться подальше в угол.
– Ну, я жду, типа того…
– Да, ты тот еще тип, ху.
– Да…
– И ты все еще пишешь? Пишешь?
– Э… да, я… Я тут письмецо написал. Могу ли я попросить…
– Письмо?
– Да, короткое письмецо моему знакомому.
– А, чтобы спросить его, как тебя зовут? Ху?
– А?.. Да-да. Будь так добр, отправь его почтой в следующий раз, когда поедешь в городок.
– Да-да. Что бы мне, старому лису, этот долг не отдать. Ху.
От него несло винищем, а за окном потявкивала динамо-машинка в первом морозном безветрии этой зимы. Я протянул ему конверт с моим славным письмецом. Конечно, это было в высшей степени неразумно: пленник под домашним арестом сам отдает своему тюремщику письмо с просьбой о помощи, об освобождении. Передав ему письмо, я тотчас сам понял, как глупо поступил. Да-да. Только жалеть об этом уже поздно. Впрочем, попытка не помешает: вдруг это на самом деле я чего-то не понял. Может, этот бедный фермер из глухой долины на самом деле – сердобольный малый, который приютил под своей крышей парализованного путника, упавшего с грузовика? Я уже вот-вот собрался спросить, знает ли он Фридтьоува Йоунссона, но не решился, потому что, когда фермер стал рассматривать конверт, выражение лица у него изменилось. Он молчал, в глазах читалось удивление: он разом протрезвел. Табачная капля все-таки упала у него с носа, но, к счастью, на пол, пролетев совсем близко от края кровати.
– Эйнар Й. Аусгримссон, – безучастным тоном прочел он.
– Ээ… да, он в издательстве работает, в столице. А ты его знаешь?
Он все не мог оторвать глаз от письма, и впервые с тех пор, как я очнулся в этой долине, выражение его лица стало искренним. Он знает Эйнара? Ну да, его же наверняка Фридтьоув подослал! Он покачал головой:
– Эх. Черт, какой же у тебя почерк-то хороший! – сказал он, наконец подняв глаза. – Вообще удивительно. Прямо как на печатной машинке, хух.
– Да, я… на самом деле это… – я собрался было объяснить ему, но не стал. Не хотелось начинать с ним разговор о компьютерах.
– Я такого просто не видал с тех пор, как у нас пару лет назад на Горном пастбище Студент жил, – продолжил он, и в его глазах сверкнул какой-то намек на уважение. Но затем он спохватился, что его бог не велел ему в жизни расточать чересчур много похвал, и снова принял прежнее кислое выражение.
– Да только, кроме этого, он вообще ничего не умел, негодник такой. Целые две недели у нас кормился. А у нас запас кофе не бесконечный!
Последнее он сказал резко. Затем он повернулся с письмом в руках и побрел по комнате. Остановился у спального места дочери (пока мы разговаривали, она легла), проглотил свое «хух» и собрался что-то сказать, но передумал, склонился над ее одеялом и легонько, нерешительно погладил ее своей тяжелой ладонью, пробормотав: «Ну, спи, былиночка моя, спи давай», – а потом, согнувшись, потащился к выходу, а потом вниз по лестнице, ворча: «А кроме этого, он вообще ничего не умел, негодник такой!»
Значит, я здесь – непрошеный гость? Но не сам же я прошу весь этот кофе! Сейчас я чувствую себя как Гамсун в своем последнем приюте. В абсолютном меньшинстве. Впрочем, он-то это как раз заслужил, хотя бы за свои книги. Но так оно и есть: если постоянно умалять достоинство писателя, он возьмет и увеличится. За это отвечает какой-то непостижимый внутренний механизм. В общем, две ночи назад я смог самостоятельно встать, а еще мне пришла в голову задумка для рассказа. Он будет называться «Сон собаки». Да, рассказ – а может, роман. Потом видно будет. Написанный по мотивам снов животных, если они им вообще снятся. Воспользуюсь своей неожиданной способностью! Мне нужно спуститься вниз и посмотреть на сны собачки. Они почему-то не долетают досюда сквозь двери и половицы. Для этой цели я попросил треклятого фермера – пока он не уехал в городок – раздобыть мне бумагу и снова ради этого упал ему в ноги, правда, на этот раз я был более подготовлен.
– А может, хватит уже писанины, ведь всю бумагу, что ты изведешь, в лавке на мой счет запишут! Не стану я на тебя еще и бумагу тратить, хватит с тебя кофе, который старуха в тебя бочками закачивает. В окошко ты его, что ли, выливаешь? Наполеону дали – Наполеон вернул, а у тебя и горшок-то всегда пуст, хух!
Для такого молчальника-виртуоза это весьма длинная речь. Но при чем тут Наполеон? Наверно, он испытывал трудности с мочеиспусканием, и порой ему приходилось ждать у дерева целых пять минут, пока в мочевом пузыре не открывалась затычка, – насколько я помню, – но что знает об этом Хроульв? Он же не специалист по историческому мочеиспусканию. Но во время поездки во Фьёрд его отношение ко мне стало более мягким. Целый день пути на тракторе. Вернувшись домой, он швырнул мне целую неисписанную тетрадку:
– Вот. Чтоб тебе было на чем писать.
Я как следует поблагодарил его – а потом очень осторожно спросил:
– А ты ничего не разузнал насчет моего дела?
– Твоего дела?
– Да.
– Да, я заглянул в богадельню для стариков.
– И?
– Там всего три скотинки, и из них никто не терялся.
– Так я же в другой богадельне был.
– Ну?
– На юге, в Рейкьявике?
– Ну? Поздновато ты мне об этом сказал!
– Просто я забыл ее название, но…
– Нет-нет. Тебя же наверняка объявят в розыск.
– В розыск?
– Да, сислюманн[10] хочет послать человечка, но я его попросил пока погодить, не хочу, чтоб ко мне начальство заявлялось, тем более сейчас, когда я недосчитался своей Сигрун.
Затем он высморкался в платок и ушел. Сколько же у них тут в горах стрессов! Он разговаривает прямо как какая-нибудь деловая птица из столицы. А я остался сидеть, словно непутевое избалованное дитя с новой тетрадкой. Едва не пообещал, что перестану поглощать кофе в таких количествах.
Через три ночи напольных тренировок я считаю себя готовым. Сгорбившись, ковыляю по чердаку к выходу, мимо сонного сопения мальчика и мычащей девочки, и меня переполняет энергия и новая жизнь. Половицы легонько поскрипывают, чулки шуршат, но не сильнее, чем перо, выводящее буквы на бумаге; я вывожу буквы по полу, а они не просыпаются. Вот здесь лежит фермер. Тот, кто принес меня в этот мир. По-моему, ему снится пятнистый человек. Завтра он пойдет искать ту овцу. Через окошко в фасаде луна освещает его штаны на табуретке, на вид влажные и тяжелые, как сбруя. Жизнь здесь ужасно грубая.
А вот и лестница. Тесная и темная. Кухня. Собака – моя сновязалка – спит в пристройке. Но перед тем как приступить к поиску источников для романа, я не удержался и все-таки заглянул в парадную гостиную. В старухиной двери тоненькая полоска лунного света. Заглянув к ней, я вижу, что ей снятся танцы. Гармошка на зеленом туне, и симпатичные пареньки затевают драку. Старушечка болезная! Я прокрадываюсь в коридор. Святый Шерлок на цыпочках без обуви. А что же он ищет? Приметы? Доказательства? Письмо от Фридтьоува? А может, просто книгу – почитать.
Дверная ручка громко крякает. Холодный запах сырости и два голых окошка. Часы повышают голос, и сердце стучит им в такт. Парадная гостиная. Убого обставленная. Тринадцать квадратных метров «цивилизации» посреди тундры. Изношенный старый диван и разрозненные кресла. Комод с вязаной скатертью и дурацким блюдом. Под одним окном карликовый стол, совсем особенный – мне кажется, я его где-то видел. Над диваном простая книжная полка – и ах, на ней сплошь овцеводческие книжки. Я передвигаюсь к окну. Промерзшая земля под лунным светом – ага, а вот и трактор. Древний, словно резиновоногое, ржавое, вымершее млекопитающее, которое спит стоя. Сон трактора: сельскохозяйственная выставка в какой-нибудь стране за железным занавесом. Развевающиеся красные флаги, оптимистичная публика. Солнце. А он тащит плуг, алея на поле. Без снов и грез все мертво.
Над столом висит календарь, изданный в «КО»: «Кооператив О́круга». Он украшен фотографией горы Снайфетль, кажется, черно-белой. Я снимаю его с гвоздя и подношу к бледному лунному свету из окошка. «Фото: Вигфус Аусгейрссон», – вот что мне удается прочитать. Черт, это что же – он до сих пор снимает? Фуси Аусгейрс из «Светоснимка» по улице Лёйгавег… да, номер семь. Мы прозывали его «Фуси спешит». «А потом я попрошу вас на пять минут замереть». Вигфус был, пожалуй, самым медлительным человеком в послевоенные годы. «Фотография – это мгновенное искусство. Поймать мгновение. Вот в чем моя роль». Но ему это так и не удавалось. Он всегда опаздывал. Когда он наконец настраивал свою аппаратуру, мгновение уже уходило. Ага, значит, теперь ты на горы переключился! Тебе это лучше подходит. Попросить гору Снайфетль пять минут не двигаться – легко. Хотя я же по нему некролог писал! Ага, теперь вижу: это же старый-старый снимок. И календарь – 1952 года. Что сочетается со всем остальным на этом хуторе.
Я вешаю его на место и перемещаюсь к книжной полке. Ежегодники Союза овцеводов. Самый свежий – 1951 года. Часы на стене на вид еще более старые, зато на удивление легкомысленно тикают. Разумеется, они датские. В их тиканье – соло на ударных, отличающееся какой-то шнапсовой легкостью, какая-то наигранная зеландская радость. Датский джаз. Как же его звали – этого, который с Асмундсеном играл? Я его встретил в баре в Копенгагене и влюбился в его подругу. После войны были красивые груди. А иногда к ним прилагалась стриженная под мальчишку голова – боже ж мой! Да, похоже, я был слишком умен для изящного искусства любви – и все же влюбился, и неважно, что я так влюблялся по пять раз в год. На двадцать минут. Мое сердце было чашкой, а любовь – кофе. И надо было торопиться выпить этот напиток до капли, пока не остыл.
Да, тиканье этих часов больше всего напоминает то, как барабанщик отбивает начальные такты мелодии. Мелодии, которая все не начинается. Вечность – всего лишь начало чего-то большего и лучшего. En, to, tre… En, to, tre…[11]
Стол: на нем лежит широкоформатная книга в твердом переплете. Старая датская лоция, которую здесь, оказывается, используют для записей насчет овец хозяина Хельской долины, а вернее, его отца: книга заполнена до половины, последняя запись датируется 1952 годом. Здесь ходят корабли под именами Черноголовка, Скотинка, Искорка, Носишка, Белоножка, Растрепка, Сигрид и Харпа. В графы «ankomst», «til», «fra», «afkomst» и «hjemmehavn»[12] тщательно внесены сведения о каждой овце: вес, состояние здоровья, день окота, мать и отец. Растрепка дочь Скотинки. Здесь вволю порезвился баран Носик под Рождество[13] в середине этого века. Но на титульном листе книги тщательно выведено толстыми корявыми буквами: «Хроульв Аусмюндссон». Интересно… Может, я как раз правильно прочитал на той повестке: «Фьёрд, 17 мая 1952»? Ее вручили ему в этой самой гостиной, и бедняга от этого впал в такую депрессию, что до сих пор из нее не выкарабкался?
Я снова смотрю на календарь. 1952 год.
Нет, постойте-ка: весной 52-го Хроульву было от силы года два! И по его душу уже пришел юрист! Немудрено, что с ним сейчас общаться так сложно. Нет, что за вздор я несу! А книга с записями об овцах? А ежегодники… Сейчас я вообще перестал что-либо понимать. Теперь-то видно, что у этого комплота есть научная основа. ЦЕЛЬ: КАК СЛЕДУЕТ ЗАМОРОЧИТЬ ЧЕЛОВЕКУ ГОЛОВУ! Часы на стене добавляют к этому свою лепту: наносят четыре удара мне по голове. Да, время – четыре часа ночи, а определить по этому такту год невозможно. Этот ударник-датчанин ни о чем не проговаривается, наверняка и он с ними в сговоре. Проклятый Фридтьоув! Я стою здесь в чужой гостиной – сбитый с толку человек на девятом десятке жизни! А на улице луна льет свои лучи, чтоб морозу было с чем бороться.
Я снова крадучись выхожу в коридор. Шерлок Холмский в растерянности. И когда я крадусь мимо опочивальни королевы долин, я слышу, как старуха произносит:
– Там кто-то есть?
Я застываю на месте, не зная, что сказать. Эта фраза доносится из-за полуоткрытой двери, из комнаты, в которой почти светло от луны.
– Нет, – отвечаю я. Это такое «нет», которое означает «меня нет», «нет, все обман», «нет никакой жизни после смерти».
– Господин встал?
– Да, – говорю я. Это такое «да», которое означает «да, я существую», «да, все хорошо», «да, я жив за могилой и смертью».
– Он куда-то собрался?
Я спешу к дверному проему вслед за своими очками и говорю в комнату:
– Нет, я… Я просто решил время проведать.
– О, оно-то, болезное, все точится, течет куда-то в безвсегошность, – говорит она как бы самой себе, но ее слова настолько необычны, что заставляют меня просунуть голову в дверь. Моя голова изголодалась по диковинным словам, словно врач – по редкостным диагнозам.
– Оно вытикивает взад-вперед, взад-вперед.
В ее комнате две кровати-развалюхи по обеим сторонам от окошка с крестообразным переплетом, в котором стоит луна. Старуха сидит на кровати слева. Та поставлена настолько близко ко входу, что дверь можно открыть только наполовину. Я ковыляю в комнату и сажусь на скрипучее ложе напротив нее. Она сидит посреди скомканного одеяла – вислогрудая нимфа упорства в грубой шерстяной майке без рукавов – и смотрит в пустоту, словно слепая, но на ее лбу все же просматривается слабый знак удивления: больше всего она напоминает совсем маленькую девочку, которая проснулась среди ночи и впервые открыла для себя темноту. «Седой кенгуру» здесь – неуместное выражение. Мы с ней ровесники? Нет, черт возьми, я еще не настолько стар. Луна освещает ее редковолосую макушку, всклокоченная серебристая волосня вздымается над головой, словно солнечная вспышка.
– Правда? А по-моему, оно нас все время погоняет. Подталкивает к обрыву. Время-то, – говорю я просто для того, чтоб что-то сказать, и мое высказывание напоминает фразу глупого бумагомараки на праздновании столетнего юбилея. – Но, надеюсь, я не разбудил почтенную фру? – добавляю я, чтобы омолодить ее.
– Не надо меня называть почтенной фрой, в этом толку нет. А сон один на всех.
– Ээ… но ты не спишь?
– У меня все сны закончились.
– А это точно?
– Ах, у меня это уже не сон, а месежка сплошная. А ты часом не голодный? Если голодный, я тебе кашу сварю, а то что же это я, в самом деле… – говорит она, готовясь встать.
– Нет-нет, спасибо. Я не голодный, – перебиваю я ее и тут замечаю, что на коленях у нее книга.
– А точно нет? Господину не стоит выказывать передо мной какие-то там манеры. Если человек хочет есть, а сам это скрывает – докучнее такой манеры ничего нет.
– Нет-нет, вовсе нет. Спасибо. А ты читаешь?
– Можно подумать, я читать могу! Но хорошо, если есть хорошая книга. Книга жизни. Сейчас он в нее про бурю напишет. И здесь все будет записано, все здесь будет по осени, – ласково говорит она и хлопает своей большой рукой, этой очажной метелкой, по открытой книге. Это наверняка какой-то фолиант о сельской жизни в старину.
Молчание. Она смотрит в пустоту, прямо перед собой, не встречаясь со мной взглядом, но так, словно видит насквозь всего меня и всю мою жизнь. Старые женщины ближе всего к Богу. Они и рожали жизнь, и видели ее смерть. Они стоят за скобками жизни. Позади и впереди двух дат в скобках, которые отведены каждому из нас. Они стояли там до того, как жизнь началась, и будут там, когда она завершится. Вечность – незрячая старуха, которая по ночам не спит, а читает при луне. Я стряхиваю с себя оцепенение и выглядываю в окно, точно бывалый сельский житель: снежно-бледная высокогорная пустошь, морозно-белый тун и полная луна, – и говорю:
– А ты ждешь бури?
– Да. Это все только обманчивость проклятая. А за светлыми ночами, в которые можно читать, пойдут другие главы: длинные, черные. Потому что ему так угодно.
Вдруг мне вспоминается другая женщина с такими же всевидящими по-ночному слепыми глазами, таким же всеведущим голосом и такой же манерой придавать словам какие угодно значения, кроме того, что они означают на самом деле, говорить все и ничего, – но это такое «ничего», в котором таится все. Я эту женщину знаю. Это моя бабушка. Да, она сильно напоминает мне бабушку с материнской стороны, Сигрид Йоуспесдоттир. Она тридцать лет считалась бодрой и полной сил и прославилась в четырех сислах своими ответами, стишками на случай, особенно хулительными стихами о пасторах. Сто лет упрямства. Да, такая она была! Язычница – и языкаста притом, до самой смерти; на всю страну славилась тем, как мессы срывала. Разносила на все корки моего дедушку, которого я уже не застал. Тридцать лет спустя после его кончины. Разумеется, она его и убила – одним лишь своим скверным характером, как такие женщины часто и поступают с добрыми мужьями. «Христос-то на кресте всего один вечер провисел, а я там полвека проболталась!» – таким было самое знаменитое ее изречение. Они с ним жили на хуторе под названием Крест в Эль-вусе. На юбилее Альтинга в 1930 году[14] она попросила утопить ее в Утопительном омуте[15] «в память о моей прабабушке». Пасторы боялись ее как черт ладана – эту перебивальщицу проповедей. «Да-да, вот именно!» – раздавался ее голос после каждого абзаца. «У тебя это от нее», – часто говаривала мама. «Поперечная натура или поэтический дар?» – «И то и другое!»
Некоторое время мы молчали вместе. Я сделал себе привычку доверять тем, с кем можно вместе помолчать. Может, эта старуха вновь даст мне точку опоры во времени? Я снова выглядываю в окно на белый свет и непринужденно говорю:
– Как странно, что людям взбрело в голову слетать прогуляться по луне.
Вот зараза! Это прозвучало так, словно я решил попритворяться ребенком.
– Да, это уж точно, – отвечает старуха, и, честно говоря, когда я это слышу, у меня гора с плеч сваливается. Но потом она продолжает:
– Правда, сейчас в горах много свету от луны не будет, и вообще, это глупость несусветная – рвануть в горы за одной-единственной овцой, когда с севера вот-вот буран нагрянет. И вообще, не надо овец женскими именами называть! Это люди так выпендриваются и в конце концов отрываются от других. За такое их ждет кара. Это ведь плотская любовь, будь она неладна, это она у людей покой отнимает, а потом они все переносят на бессловесную скотину…
– Ээ… То есть, Сигрид…
– Потаскушка она была, и я больше всех обрадовалась, когда она нас покинула. А сам господин обвенчан?
– Обвенчан? Да… да-да. Верно.
– Ага. И она тебе надоела? Она, болезная, с тобой плохо обращалась?
– А? Она… Моя Ранга? Вовсе нет. А почему ты так решила?
– Не каждый день джентльмен по белу свету скитается, тем более в это время года. Но естество рано или поздно всегда наружу вылезет. Теленка нельзя слишком рано на привязь сажать. Если им не дать перебеситься, они потом тебя так выбесят! Насколько мне известно.
Я молчу. Она разговаривает как героиня какого-нибудь романа.
– А когда вы поженились, ты был молодым?
– Насколько я помню, мне было пятьдесят два года.
– Ну да. Старый конь борозды не пропашет.
– Что?
– Но каждому человеку положена жена, иначе в нем, болезном, душа прокиснет – и тогда уж быть беде, быть беде, – повторяет старуха, затем замолкает, давая луне посветить на свои мысли, некоторое время жует свой язык редкозубым ртом, а потом тихонько произносит: – А потом эта жена умирает.
– Жена умирает, и что?
– Жена умирает, дети умирают, и душа умирает вместе с ними. А мертвые души даже хуже, чем прокисшие, потому что кислота сидит себе в желудке и не нападает на живое. Нет. Так в этой книге написано.
Она проводит рукой по раскрытой книге на коленях с ясным и точным звуком, с каким старая кожа трется о пожелтевшую бумагу, – звуком между поэтическим вымыслом и реальностью.
– А что это за книга?
Тут она, наверно, впервые смотрит на меня и проводит по странице пальцами. Словно читает шрифт для слепых:
– О, это та самая книга. Книга жизни.
Она читает Библию. Я эту книгу так и не дочитал. Может, я при случае возьму у нее почитать. Мне почему-то всегда казалось, что, пока не умрешь, надо успеть дочитать Библию. Я больше не собираюсь ее отвлекать, но мой внутренний Шерлок недоволен, ему хочется какого-то результата этой разведывательной операции на нижнем этаже, и перед тем, как встать с кровати, я прямым текстом спрашиваю ее, как бы нелепо это ни звучало:
– А какой сейчас год?
– Год? Ну, одна тыща девятьсот пятьдесят второй, разве нет?
За стеной часы бьют пять.
Глава 6
Пришла зима. Зима 1952 года. А я родился в 1912-м. Мне восемьдесят восемь лет. Все это становится чрезвычайно любопытным. Согласно моим расчетам, зимой 1952 года я жил в Испании. В Барселоне. И писал. Так что нет ничего такого особенного в том, чтоб пережить эту зиму вторично на родине, раз уж в тот раз я ее здесь пропустил. А что же я писал? Ах, да, я воевал с Бёдваром Стейнгримссоном, дамским угодником, обогатившимся на войне. Сиглюфьёрдским[16] цирюльником. Селедочная опера на семнадцать детей. Уж не помню, как эта книга называлась, да и сам сюжет помню не особо. На самом деле из этого романа я живо помню только один эпизод: комар-долгоножка, который напугал Криструн, мать Бёдвара, в конторе «фактора» в Сиглюфьёрде. Комара фактор убил, а взамен зачал вместе с батрачкой Криструн Бёдвара. Этот комар породил Бёдвара – одного из моих лучших персонажей. И роман на триста страниц. Я помню это потому, что с этим мотивом был связан большой риск. Я колебался: то считал его гениальным, то банальным. А вот Фридтьоув ни минуты не колебался и гениальным образом размазал этого комара по стенке. Мне было сорок. Я произвел на свет шесть книг. Уроженец Гримснеса, который и учебу-то толком не закончил, жил наполовину за границей, наполовину в сельской местности, а в столице разве что останавливался ненадолго в отдельные годы. Я – долгоножка, я перешагивал через столичную чернь и с покрытого навозом бугорка шагал прямо в забугорье, с подворья оказывался при дворе – с точки зрения рейкьявикской элиты непростительный грех! Ведь без нее никто ни за что не добьется славы! Так что я прямо-таки напрашивался на удар.
Прямо как комар. Долгоножка. В одном крошечном комарике из романа жизни больше, чем в целой нации без литературы. Так или не так? В трехграммовом тельце жил трехсотстраничный роман. Эта маленькая жизнь, зародившаяся у меня в голове, которая прожила ту часть дня и умерла, – она до сих пор живет. У кого-то на полке. Фридтьоуву этого комара убить не удалось, хотя для этого у него в распоряжении была целая газета. «Он не любит, чтоб в поэзии всякие комары летали», – сказал мне наш общий друг, пытаясь меня развеселить. Сам Фридтьоув писал стихи о камнях и о травинках. Самой живой его книгой были «Мхи» – цикл стихов обо всех видах мха, которые растут в Исландии.
Вот он лежит здесь на одеяле кверху брюхом. Последний комар этого лета. Комар-долгоножка; он пытается ухватить своими длинными ножками воздух. Настал его смертный час. Я убиваю его. Стираю его жизнь со своих пальцев – а как же его душа? У комаров бывает душа? Да, наверно. Только душа способна наносить уколы совести.
Бог наделяет душой всех, но порой ошибается и посылает человеческую душу щенку, а комариную – человеку. И такой человек становится критиком и всю жизнь жужжит вокруг тех лампочек, которые ярче всего горят. Писатель – это человек, который ни с того ни с сего получил целых семьдесят душ и всю жизнь изо всех сил старается от них избавиться. У актера душа маленькая, и ему надо брать взаймы другие. У политика душа потаскухи, которая всегда продается. А у потаскухи душа хитрая: она продает только свою плоть. У инвалидов душа такая прекрасная, что за это им пришлось поступиться чем-то другим. А у убийц души нет вовсе, поэтому они так и жаждут отнять ее у других. Фермер кормит семьдесят душ и отправляется в горы в поисках заблудших: пастырь душ. Мы боимся его, словно бога.
Хроульв встал ни свет ни заря и собрался в горы. Я столкнулся с ним на лестнице.
– Ну? Хух.
Он все так же бодр. Но сначала я заглянул в пристройку, чтоб посмотреть, что снится собаке. Мерцающая, зеленая, как листва, картинка над спящим черным мехом: словно кто-то быстро бежит с кинокамерой по густому лесу. Порой она останавливалась и нюхала деревья. Из этого много не выжмешь. И, по правде говоря, эта идея для новой книги вовсе улетучилась у меня из головы после того, что я узнал сегодня ночью.
Эйвис встает. Девчоночка родная. По вечерам она читает «Отче наш». В этом «отче» сквозит какое-то отчаяние. Она одевается без предрассудков, не боясь чужих глаз. Стеснительность у нее уже появилась, а достоинства еще нет. Бесцветные нанковые штаны для хлева, шерстяная майка, кофта, водолазка, синий свитер. Мода 1952 года.
Здесь случилась какая-то страшная трагедия. У меня есть догадка, что старый фермер, муж Души Живой, летом 1952 года умер во сне в парадной гостиной, и ее сознание так и застыло в том лете, а других дат там с тех пор не расцветало. И в гостиной ничего не меняли, и календарь оставили тот же. Лучше по этому поводу особенно не переживать.
А зима пришла. Дом дрожит. Уже три дня при ветре в тринадцать баллов. Музыка небес. Она началась очень медленно, в то утро, когда ушел Хроульв, с карканья ворона и ворчания старухи, а затем разразилась снегом с дождем, который стал просто мокрым снегом, который стал градом, который стал ливнем, который стал дождем со снегом, который стал метелью, которая стала снежной крупой, которая стала поземкой, которая стала белым чертом.
Ох уж эта страна разнесчастная! Когда сталкиваются ветра, дующие по двум разным направлениям, и какое-то время борются, пока один не победит, – в Исландии это считается штилем. И мы пользуемся моментом и пускаем ветры. Я никогда не слышал этих звуков в Италии, и это показалось мне достойным внимания. Хотя, наверно, это из-за питания. Все эти бесконечные добавочные порции кофе надо куда-то девать. Народы ветра – тихие и смирные, они учатся молчать, когда ветер дует. Народы штиля – бурные, вспыльчивые. Ураган внутри. Действительно, где-то же ему надо быть! Поэтому молодые поколения исландцев молчать не умеют, ведь они выросли в тепличных условиях, как цветы. Цветы слушают хиты. А если им не с кем поговорить, они берут и выступают по радио. Вот это болтливость! Даже телефонные разговоры по радио передают! И никто не слушает! Все эти вечно болтающие приборы на каждом углу в нашем обществе. Это бесконечное веяние болтовни. Словесный сквозняк. В моей юности было принято молчать, когда слушали радио.
Я спустился вниз. Я спустился, чтобы отметить третий день дуновения в кругу семьи – моей новой семьи. Мы сидим на кухне и слушаем бурю. Бурю за окном и какую-то пургу по радио весьма древнего вида, стоящему на буфете. Диктор совсем заблудился. Он кричит сквозь ветер: «У южного побережья… Правительство… траулер “Отто Ватне”…» – а потом его сдуло. Да, правительство сбегает из этой непутевой страны. Сейчас оно у южного побережья на траулере «Отто Ватне». После такой бури в стране явно станет чище. Честно признаться, я слушал новости с некоторым ожиданием: рано или поздно там должны сказать, что крупнейшего писателя страны похитили и держат в заложниках к северу от всяческого здравого смысла! Или про меня совсем забыли? Но вот диктор нашелся; он забрался в сугроб и оттуда кричит: «Выборы президента США!» и «Кандидат от Республиканской партии!» У меня начинает кружиться голова, когда он произносит его имя: «Дуайт Э. Эйзенхауэр».
Что за чертовщина!
Это уже не смешно. И мне больше не все равно. Вот ведь зараза! Я встаю из-за кухонного стола и с легким головокружением подхожу к буфету, где стоит радиоприемник в своей деревянной обшивке: подходящей одежке для передачи новостей 1952 года. Я склоняюсь к нему и долго смотрю на него. Нет-нет, это самый обычный радиоприемник, а не кассетный магнитофон, чтоб морочить старику голову. Я опираюсь рукой на буфет и пытаюсь перевести мой изможденный дух.
– Что? Что, господин? – спрашивает малец, подходя к буфету. – Погромче сделать? Хочешь новости получше слышать?
– А? Что? Нет-нет, все нормально.
– А я могу сделать погромче, – говорит он и поворачивает черную пластмассовую шишечку на приемнике.
«…которые пройдут седьмого ноября сего года…»
– Откуда у вас это радио? – спрашиваю я.
– Бабушка, где мы брали это радио?
– Приемник-то? Твоя мама его вроде у англичан брала.
– Да, его мама принесла. Он старый-престарый.
– Да. Во всяком случае, новости не совсем новые.
– Что? Новости старые? – как красив этот голосок, где во все, что она говорит, примешаны удивление и радость.
– В каком году ты родился? – спрашивает старик мальчика.
– В каком году? Бабушка, в каком году я родился?
– Одна тыща девятьсот сорок седьмом, – хмуро говорит его сестра, сидящая у кухонного стола позади меня с вязанием. Я разворачиваюсь и плетусь от стола к ней.
– А зачем это тебе? – спрашивает Постреленок.
– Значит, тебе пять лет? – отвечаю я.
– Да! Пять лет. И скоро мне надо будет выучиться читать.
«Отто Ватне». Его же давным-давно продали за рубеж. Сейчас он, небось, плавает по каким-нибудь портомойным озерам Южной Америки с останками правительства Исландии в кубрике. Значит, я перенесся во времени? Даже и не верится! Наверняка я когда-то о таком читал в завиральных книгах, которые накропали всякие грезобородые фаллисты из американских академий наук, – но чтобы… да что тут и думать! Радио-то не врет. Я сдаюсь. И сажусь.
– Давай почитаем! – не унимается он.
Старуха стоит у раковины и постоянно выглядывает в окно, словно капитан, который смотрит с мостика: прилагает усилия, чтоб дом плыл в надежную гавань.
А в доме качка. Мы попали в снегопад. Мне хочется вон.
Где-то в этом белом мире она отыскала уголь и задала его камбузу – плите в углу: черной шведскоязычной зверюге с трубой и четырьмя львиными ножками, – которая дает нам единственное в этой долине тепло, а сама при этом рада, что вернулась к своим обязанностям. Электричество в Хельскую долину не проведено. До сарая с динамо-машинкой тридцать метров, а видимость – всего на шестнадцать сантиметров. Девочка решает рискнуть, но бабушка и слышать об этом не хочет.
– А как же коровы, бабушка? Доить-то надо, – сквозь волосы произносит юная Эйвис.
– Да это, наверно, само собой устаканится, – отвечает бабушка и рассказывает нам о пасторе Гвюдмюнде из Верхней долины: он давным-давно потерял жену и детей, а паства от него отвернулась – и тут он затеял помирать. В последние дни он занимался тем, что – дабы избавить других от хлопот – копал сам для себя могилу на кладбище, и как раз примерял ее на себя, когда его призвал Господь. Когда его нашли, он так и лежал в ней, заледеневший и улыбающийся, и более того: «ширинка расстегнута и весь струмент снаружи: смерзся в ледышку и стоит торчком». (Я как будто слышу свою бабушку Сигрид: она была та еще похабница.) А финал рассказа был таков, что коровы так и простояли в хлеву целые три недели до тех пор, пока на кладбище не пришли люди, и заботилась о них собака. «Собака коров доила».
– А как, бабушка? Как собака может доить корову? – спрашивает мальчик.
– Ну, в сосках-то разница есть? Какая разница, один или четыре? – отвечает она, холодно смеется и всматривается в пургу на улице, словно заметила в кутерьме волн прямо по курсу пассажирский пароход. Затем она подносит к носу кончик фартука и утирает каплю.
– Бабушка, а «струмент» – это что?
– Это то, что у парня есть, а у девки нет, им ребятенка производят на свет.
Так проходит этот день: невероятные истории, бесконечные расспросы мальчика – но вот мы наконец принимаемся за учебу. Я учу его читать. Все получается неплохо, если принять во внимание наш учебный материал: «Надгробные проповеди пастора Бьяртни Хельгасона», изданные в Рейкьявике в 1917 году. В свете последних новостей весьма новый учебный материал, хотя он и отсылает к прошлому. Преподобрый Бьяртни жил в середине девятнадцатого века, а сейчас Постреленок читает нам одну его весьма живенькую надгробную речь по некой Каритас Магнусдоттир, дочери пробста, рожденной в Ватнсфьёрде в Исафьярдарсисле в 1777 году.
– «П-р-о-ш-л-о б-е-з м-а-л-о-г-о д-е-в-я-н-о-с-т-о л-е-т с т-е-х п-о-р к-а-к п-о-к-о-й-н-и-ц-а…» А что такое «покойница»?
– Женщина, которая умерла.
– Как мама? Мама однажды призрака видела. У нас в озере призрак есть. Он там погиб.
Это озеро, кажется, называется Хель. В нем лежат два брата. Уже триста лет лежат. Так мне старуха сказала. И среди их костей плавает форель – рыба, которую здесь никто не хочет видеть на столе. Здесь шестнадцать поколений прожило в голоде и семь тысяч поколений форелей умерло в глубокой и тучной старости. Голод – призрак, взрощенный суеверием, вскормленным глупостью, которая сожительствует с верой. Кто первым порыбачит в этом озере, тот слопает форель со вкусом эпохи заселения Исландии. Мальчик продолжает:
– «П-р-о-ш-л-о б-е-з м-а-л-о-г-о д-е-в-я-н-о-с-т-о л-е-т с т-е-х п-о-р к-а-к п-о-к-о-й-н-и-ц-а л-е-ж-а-щ-а-я з-д-е-с-ь в г-р-о-б-у в-п-е-р-в-ы-е л-е-г-л-а в к-о-л-ы-б-е-л-ь…» Сперва легла в колыбель, а потом в гроб? А вставать ей было вообще нельзя? – спрашивает он, сделавшись кладбищенски-серьезным из-за жестокого жребия этой Каритас Магнусдоттир.
Я в ответ предлагаю найти более удачную книгу для чтения, но он и слышать не хочет. По этой книге училась читать мама, а потом сестрица Виса. Впрочем, надгробные проповеди хорошо подходят к атмосфере в этой маленькой холодной кухне на востоке страны. Непогода все не унимается, вцепляется в крышу, колотится в окна. Сгущаются сумерки – с двумя свечками и старой керосиновой лампой, которую старуха приносит из своей комнаты. Девочка продолжает вязать этот свой лоскут, сидит, опустив голову, спрятав лицо под волосами. Старуха стоит на страде у раковины и плиты, вылавливает из кастрюли кровяную колбасу. Я уже настолько освоился здесь, что соглашаюсь на одну порцию. Внезапно проснувшийся у Господина аппетит, кажется, радует этих грустных людей, но за едой мы молчим: все сыты большими вопросами. Бабушка продолжает стоять у буфета и ест как охотник – держа в руке горячую колбасу, от которой отрезает ножом кусочки, и не спуская глаз с высоких волн темноты за окном. Я воюю со своей порцией. От нее красиво поднимается пар при холодном свете свечей. Ужинать, когда у тебя нет аппетита, – все равно что читать книгу, когда тебя посетило вдохновение. Кровяная колбаса. Давно знакомый приятный вкус: с первым кусочком мне вспоминается целый дом. Выкрашенный в белую краску дом на улице Лёйвар… Лёйг… Лёйваусвег. И Гюннвёр, моя старая кухарка. Я некоторое время гостил у Гюннвёр, я тогда книгу писал. Я всегда писал книгу… И вкус такой же специфический… да, это изюм. Она кладет в кровяную колбасу изюм, совсем как Гюннвёр.
– Наверно, папа сейчас голодный?
– О, он с собой еды взял и акулятину. Ничто не сравнится со стухленной акулятиной во время бурана, – произносит старуха.
– А когда он вернется?
Бедняжечка. Папин сынок. И вдруг мне хочется его подбодрить, тем более я это вполне могу. В голове у меня возникает картинка, на которой Хроульв идет к дому и ведет с собой овцу и собаку. Эта картинка сопровождается какой-то пророческой уверенностью, к которой мне нельзя привыкать. Ну конечно, я сейчас не только умею смотреть чужие сны – я еще и стал видеть будущее! Хотя в свете новейших сведений это понятно. Здесь же один сплошной повторный показ. Мне выпало вновь переживать собственную жизнь. Разумеется, я мертв.
– Он вернется, – говорю я скучно-мудрым тоном и впихиваю в себя кусок номер четыре.
– А когда вернется? Откуда ты знаешь?
– Вернется, как только стихнет буран.
– Да, это знает всезнающий, – произносит капитан, отправляя в рот очищенную картофелину.
Осилив один тоненький кусочек кровяной колбасы, я немного повеселел и считаю себя вправе немедленно выпить одну чашку кофе. Меня даже посещает мысль, что в этот час в кухне в Хельской долине весьма уютно. Несмотря ни на что. Такое кухонное единство перед лицом бурана. Эдакое печурочное прибежище посреди войны. Во мне вспыхивает желание побыть одному – я должен зафиксировать эту картинку – и я не буду описывать облегчение, озаряющее эти лица, когда я со светской вежливостью спрашиваю насчет… э-э, удобств.
В скверном зеркале над раковиной в туалете я вижу человека. Лицо. Так и есть: это я. Я на всякий случай спросил у него имя, но ответа не получил. Но этот печальный образ все же оказался гораздо бодрее, чем я опасался. Даже на щеках проступал бледный румянец – или это обман зрения из-за света свечи? Раньше я об этом не задумывался – а теперь заметил, что я без галстука. Я расстегнул верхнюю пуговицу и стал осмыслять свое положение в этом новом мире. А вдруг я – участник какого-нибудь новомодного «проекта», в котором старикам «дают возможность вновь пережить былые времена»? Специалисты по человеческому «я» воздвигли этот хутор, как воздвигают декорации, с новостями по радио, календарями и актерами-любителями, и запустили туда меня в надежде перезапустить мой мозг, освежить память. Наверняка они где-то тут, за фальшивой стеной. Только они забыли надеть на меня носки и повязать галстук. Нет, что за черт… Я перестал думать всякую ерунду и вышел. В туалете я ничего не сделал, но все же позволил им пребывать в блаженной мечте о результатах писательского труда.
Этой ночью мальчику приснился подводный сон. Он парил в голубом море вместе с овцами. Те гребли ушами. Затянутый сон, холодный, меня он не увлек. Я склонился набок и стал смотреть просветительский фильм о дамской моде начала века в – судя по всему – Бостоне или каком-то другом новоанглийском городе. Очень даже неплохой фильм. Все ясно. Девочке хочется городской жизни.
– Значит, нам так и суждено тут загнуться? В этой проклятой темноте? – говорит она на следующий день своей бабушке с неожиданной горячностью. – И есть какую-то заледенелую тухлую мороженую треску?! – кричит она на свою бабушку. Старуха удивленно смотрит на нее. Раньше никто не видел, чтоб этот ребенок злился. Горячая злость в студеной кухне. От лица Эйвис поднимаются струи пара, а из ноздрей Души Живой – хилые облачка. Я сижу за кухонным столом, закутанный в покрывало. Мальчик большими глазами смотрит на них из-под шапки. Девочка и бабушка. В сыром воздухе между ними – умершая женщина. И старуха пытается перетянуться через эту замерзшую могилу:
– Успокойся, ягненочек мой, а то ты так себя ведешь, как будто сейчас прямо конец света будет!
– А вот возьму и выйду!
– Да не выйдешь ты никуда! Ни на шажочек!
Но она уходит. Девчонку-подростка доконали холод и отсутствие света. Уголь вот-вот закончится, а буран все не думает кончаться – я такого не припомню. Она направляется в сарай. Видимость – руки своей не видать. Буран бушует словно война, шпарит как из немецкого пулемета. А она все равно собирается выйти. Наверно, от угла дома до сарая с динамо-машинкой протянута веревочка как раз на такой случай. Но девчонка? Двенадцатилетка? Она справится? Пристройка – словно преддверие ада, и мы лишь беспомощно наблюдаем, как ее ярость мощным рывком открывает дверь, а за дверью – неистовство. На пол внутрь дома валится часть сугроба, воздух наполняется мелким снежком. Она перешагивает через него и исчезает за порогом.
Старуха бормочет под нос:
- Убежал малец в буран
- и боится.
- Ах, не приживется он
- у лисицы.
Затем она снова бредет в дом, шаркая домашними тапочками – этими шерстянками с мозолистой подошвой. Мальчик бежит за ней с расспросами. Я задерживаюсь. Здесь стоит пузатая усталая на вид бочка с клеймом «СИГЛО», словно колодец из старой селедочной сказки[17]. Она напоминает мне Бёдди Стейнгримса. Здесь стоит крепкий запах животных на разных стадиях бытия. Вяленые пикши, копченые бараньи окорока, седло, бараний рог, изгрызенные кости на полу. Галоши фермера – в таком виде, в каком с ними расстался писатель. В маленькой аптеке Ибсена в Гримстаде его ботинки лежали в стеклянной витрине. Я бы не смог влезть в его обувь. Она мне на два размера мала. У великого писателя ноги-невелички. В Акюрейри в «Доме Давида» до сих пор хранят рубашки Давида Стефаунссона[18], отутюженные, сложенные, белоснежные. На буфете стоит ополовиненный пакет кофе 1965 года. Норвежцы, видимо, Ибсена обратно не ждали. Та витрина была заперта. А для исландцев поэты не умирают. Они всегда могут вернуться, подогреть себе кофе и надеть чистую рубашку. А где же теперь мои рубашки и обувь? Моя Ранга следит за тем, чтоб складывать мои рубашки и чистить ботинки. Галоши фермера мне не подходят: велики на два размера. Ботинки Ибсена запросто уместились бы в них. Жизнь – больше, чем литература. А это самовозвеличивание у нас, писателей, – просто раздражает! Мы пытаемся казаться значительными и делаем вид, будто останемся в веках из-за того, что вяло копошимся у кромки жизни, этой гигантской высокогорной пустоши, которую каждый день надо завоевывать, атаковать целым полком мужества, подзуживать ее пулеметными очередями нынешнего дня. Наполеон. Хроульв. Вот это были люди! Хроульв был автором собственной жизни. И он пошел гораздо дальше меня. На целый день пути при зимнем буране с севера, чтоб спасти одну лохматую душу с двумя ягнятами. А я едва мог заставить себя сходить в библиотеку за историческим источником. Хроульв был более великим писателем, чем я. Галоши сорок четвертого размера.
Проходят долгие холодные минуты, – но вот мальчик кричит: «Смотри! Свет! Бабушка! Она смогла!» – и нам становится легче дышать. В снежной слепоте тускло зажигаются две лампочки, хотя самой динамо-машинки сквозь бушевание вьюги не слышно.
Я задерживаюсь, чтоб подождать девочку. Сначала в пристройке, затем в кухне. Минуты идут. Полчаса. Вот уже начало смеркаться. Нет, сейчас мне не все равно. Откуда у меня такая ответственность? Я выхожу из кухни и вновь возвращаюсь в сапогах, которые мне велики, и затрапезном пальто, которое нахожу на вешалке, и ищу шапку и варежки. Старуха бормочет:
– Да вернется она, раз у нее в крови злость кипит. Вот увидишь. Ах, она там что-то насчет машинки разнюхивает.
Мальчик дает мне свою шапку – мой маленький соратник, – а Душа Живая продолжает ворчать, экая упрямица, и вот – я просто выхожу без варежек!
Я соображаю – когда мне с трех попыток удается оторвать от косяка примерзшую входную дверь, – что я не выходил из дому с тех самых пор, как прибыл сюда. Сейчас явно не самая подходящая погода для того, чтоб девяностолетнему отправляться на прогулку – но вперед же! Я окунаюсь в пургу, с голыми руками против дьявола. Пробираюсь сквозь сугроб у пристройки, а затем направо, вдоль стены дома, навстречу граду стрел, точнее, стрелам града, до угла, где горит фонарь. В очках и хорошо, и плохо. Я ни черта не вижу – но хотя бы глаза целы. Я отправляю свои пальцы – пловцов, чтоб они нырнули за канатом, и тотчас отдергиваю их к себе, скованный, как наручниками, стужей, но собираю все силы и, немного пошарив руками, нахожу этот канат. Я пробираюсь вперед, а фонарь светит мне в спину, иду, держась за канат, более-менее держа курс на замерзший, как каток, двор (хотя мне явно далеко до той скорости в сто километров в секунду, которую выдает подсвеченное фонарем неистовство), но мне приходится постоянно напрягать все силы, чтобы вырвать канат из замерзшей травы. Вскоре свет исчезает и канат становится моей единственной путеводной нитью. Белоснежка, мяукни мне![19] По-моему, я уже слышу тявканье динамо-машинки – но тут канат без предупреждения вдруг исчезает в пурге. Скрывается, как лисица – в нору. Но я все же удерживаю лису за хвост. Дергаю – а оно застряло. Наверно, там сугроб. Подбредаю ближе. Точно, сугроб. Вдруг передо мной встает гостиничный номер в Болонье. Зима 52-го года. Стены там были красными, печка теплая, хорошая. Да. У меня целых два дня ушло на то, чтоб найти гостиницу, где бы топили целый день. Я сидел там и писал, а в голове у меня был буран… Да, правильно, Болонья. Я начинаю щупать, шарить, сметать, копать, разгребать руками… применяю все эти слова, способные помочь старику, но в конце концов сдаюсь. Мне нужно найти другие слова. Надо подойти к материалу с другой стороны. Мне нужно спасти девчонку, так? Но кто она мне? Чуть важнее, чем эпизодический персонаж романа? Но писатель не дает своим персонажам погибнуть во время бурана. Он вообще не дает им погибнуть. Нет. Он их сам убивает. Да, а сейчас нить повествования скрылась в сугробе, и я должен довериться интуиции: я иду на звук. Динамо-машинка. Да, «иду» – пожалуй, слишком сильно сказано. Это, пожалуй, чересчур. НО ЗДЕСЬ И ТАК ЧЕРЕСЧУР! Слишком много слов! У этих стариков на небесах какой-то словесный понос. Слова без устали щелкают по моим очкам, я пытаюсь протереть стекла, а потом начинаю прорываться в сторону сарая, падаю, вот зараза, буран пробирается под одежду, я чувствую, как у меня по спине шарят холодные лапы, и больше не разбираю, где верх, а где низ. Девяностолетний человек барахтается в снегу. Наверно, выглядит потешно. Вот буран задул мне в ноздри. Это означает, что я лежу на спине. Какого черта. Мне кое-как удается подняться, и я ползу на четвереньках (передние лапы босы) на звук, и через долгое время я стою – правда, на коленях – нет, лежу – перед дверями этого шумного святилища. Да, сарай. Это он, почтенный! Хорошо бы сейчас нашарить рукой какую-нибудь дверную ручку. My kingdom for a knob![20] Хотя – что они понимают, местные боги, эти деревенщины! Можно подумать, они в Шекспире начитаны! Я посылаю своих пловцов на поиски дверной ручки. Они уже достигли стадии всетерпения русских «моржей» и плывут на спине. Ну что, ребята, вам это что-то принесет? Ну, дело ваше. Они съежились в костяшках и отчаянно плавают вверх-вниз по стенке сарая. Надеюсь, я не с задней стороны зашел? Неистовая снеговерть толкает меня в спину, и я чувствую, как холод просачивается в сапоги и жалит мои коленные чашечки сквозь английскую шерсть, но Хроульвово пальто выдерживает. А сам-то он, болезный, почему не стал его надевать? Наверняка ведь он сейчас голый по пояс, чтобы вьюга сделала ему массаж спины, – а потом он нырнет в сугроб перед обедом. Я на ощупь иду вдоль стены сарая, уклоняясь от бури, по ляжки в сугробах – и натыкаюсь на старого знакомого – канат. Автор снова нашел нить повествования. И сейчас для него что-то прояснится. Сейчас ему что-то станет видно в этом тексте, во всей этой гуще автоматического письма, низвергающейся с небес. Я держусь за эту нить, перешагиваю через нее и попадаю за угол – в то, что мы, исландцы, зовем убежищем от бури, а цивилизованные народы – «черти расперделись»: здесь ветер дует вертикально. «Ниже 7» – вот как назвали бы это в Метеоцентре. В общем, здесь все одно к одному. В этом царстве духа дует и сверху, и снизу, и с небес, и из преисподней. Без Бога не до порога… Нет, порог-то как раз тут, то есть дверь. Дверной ручки я не нахожу, а нахожу дырку. А в дырке веревка. Я стал лучше видеть. Очки больше не заслоняют мне взор. Очки? Да, а где же очки? Сейчас вой мотора заглушает вой бурана. Я отгребаю снег от порога ногами. Это занимает много времени. А еще больше времени уходит на то, чтоб согнуть пальцы. А вдруг ее нет в сарае? Пацанка двенадцати лет. Кто знает, на что способно такое существо? А может, ей было наплевать, что она не вернется? И в ее глазах читалось желание покончить с собой? Подростковый бунт? Когда вообще точно можно сказать, о чем думает другой человек? Наверно, никогда. И тем не менее это полвека было моей работой: догадываться и выдумывать, о чем думают другие. Двенадцатилетняя девчонка, мужчина в летах, старуха… «Однако лучше всего этому автору удается создание персонажей…» Да, так писали критики. Но сейчас от них проку мало, они кудахчут по своим клеткам на мозгогнездилищах в столице. Я отгребаю эти мысли вместе с последними комьями снега прочь от порога, и, хотя рука у меня сейчас слишком задубела, чтоб держать перо, ей все же удается подцепить пальцами веревочку и рвануть дверь сарая… Темно. Темнота с крепким нефтяным запахом и адским шумом. Сам сарай величиной с небольшой туалет, и машинка грохочет посреди него, словно черная блестящая зверюга неизвестного вида, привинченная к полу. От нее исходит нечеловеческое тепло, и я приближаюсь, даю глазам время разглядеть что-нибудь в этой темноте с помощью бледной снеговой белизны сзади. Я по-пенсионерски выкрикиваю: «Ау!» – но ответа нет. Я лучше всматриваюсь в глубину сарая и еще раз кричу «ау!». Машинка хохочет надо мной, и мне кажется, что сейчас я дошел в своей жизни до конца этой страницы. Что дальше?
Мне удается проковылять круг вокруг сарая, а потом я нахожу канат, и он ведет меня тем же путем обратно, к фонарю на углу пристройки. Сугробы подросли. Зараза, черт, дьявол, Фридтьоув адский! Не с пустыми руками же мне возвращаться из этой вылазки? Куда же она запропастилась? Я ее потерял? Белоснежка, мяукни мне! Уши у меня настолько онемели, что я больше не слышу бури. Град хлещет мне по спине, словно «дождь» на пленке в немом фильме. Да, прямо как в «Иване Грозном» Эйзенштейна. Я ощупью иду вдоль пристройки, но сейчас сугробы стали такими высокими, что стену потрогать нельзя – а где входная дверь? Входная дверь-то где? Это не пристройка? Тут буря изо всех сил чихает и уносит меня за угол дома, далеко от фонаря и… я успеваю лечь плашмя, пока она не унесла легкого как перышко старика на пустошь. С трудом встаю на четвереньки и на костяшках пальцев – холодных культях – заползаю в укрытие у стены, в безветрие и тень, там темный холодный сугроб, в котором можно сидеть. Вот в нем-то она и сидит: маленькая съежившаяся птичка, вся заснеженная в белом мраке, и глаза – как два камушка в сугробе. Я протягиваю руку. Приятно нащупать рукой варежку – ведь своей-то нет. Приятно нащупать рукой пальцы – ведь своих-то нет.
Глава 7
– А ну, выставь его в прихожую, пока мы едим! – выпалил Хроульв (неразборчиво, потому что губы у него потрескались от холода) мальчику, который захотел дать Барашку какао-суп. Барашек – новый член семьи, ягненок мужского пола, родившийся весной; он совсем без мозгов и замучил нас тем, что вечно твердит одно и то же. «Ча-аю!» – целый день блеет он из прихожей. Разумеется, он – британский аристократ, душа которого отбывает наказание, с ног до головы одевшись в исландскую шерсть.
– Ча-а-аю! Ча-аю хо-о-чу!
– Папа, но он же голодный! Можно ему какао-супа налить? – спрашивает мальчик. Он целый день твердит о какао-супе. Здесь это самая что ни на есть праздничная еда: уже почти Рождество. Здесь отмечают благополучное возвращение из снегов и с гор. Какао-суп – это их шампанское.
– Какао-суп, хух! А может, ему еще и стол в гостиной накрыть, и бабушку попросить ему блинов напечь, баранешке твоему?
– Но ему нужно чего-нибудь горячего, папа, он до сих пор мерзнет. У него от холода драже.
– Наверно, лучше дать ему чаю, – лаконично заявляю я.
Хроульв вперяет в меня взгляд, выковыривает из широкой щербины между зубами ягнячью коленную чашечку трехмесячного возраста, цокает языком и собирается что-то сказать, но у него выходит только:
– Ху!
Он даже более сердит, чем раньше. Да и я немного сердит. А как же иначе? Ведь у меня пальцы обморожены – едва могу держать ложку для супа – и легкие отшиблены. Хотя, учитывая мой возраст и предыдущие занятия, я еще не сильно замучился.
– Ах, надо было мне это сказать, – сочувствует мне старушка, наливает воду в кастрюлю, а потом ворчит, что Хроульв в горах совсем с ума сошел, «а это и раньше так бывало». Отрицать это нельзя. Хозяина «непогода переменила», как выражались во времена сельских почтальонов[21]. Я вспоминаю рассказ об одном бродяге, который на целую неделю угодил в буран на Хетлисхейди и потом заговорил фальцетом. С женщинами у него после этого не ладилось. «В него баба вселилась», – говорила моя бабушка Сигрид. Я не хочу уличать Хроульва в гомосексуализме, но в глазах у него проблескивает что-то новое – что-то он видел. Он как будто на несколько лет постарел. Он уже не тот – как Барашек, который блеет в прихожей и просит чаю.
– Все скулишь, как сучка в сугробе, – говорит он своей теще. – Мне оленьи рога слушать не надо…[22] А девка-то где?
– Пусть отоспится, она, болезная, мочевой пузырь застудила и уши отморозила.
– Хух. Но коров-то она не ушами доит!
– А еще она, кажется, руку себе свихнула, когда машинку эту поганую запускала. У нее плечо вон как распухло!
– Она растет. А это все одни сплошные оленьи рога, – произносит он и уходит на чердак. Бедный мужик! Оленьи рога? У него галлюцинации начались. Он съел глаза того ягненка и стал видеть все, что видел тот?
Это было героическое зрелище – почти во всем похожее на картинку, возникшую у меня в голове, – когда хозяин возвращался домой вниз по склону горы, вдоль замерзшего озера в сопровождении троих четвероногих: собаки и двух овец. И чем больше он приближался, тем яснее становилось видно, что на плечах у него туша: ягненок, которого съели сегодня же вечером перед какао-супом, сестра Барашка. От всех четверых веяло неким непостижимым спокойствием, некой сплоченностью, словно они были единой душой и единой материей: никакой разницы между человеком, собакой и ягненком. Непогода всех подружит. Человек шел первым, а овца бежала по кромке воды за собакой, словно они были сестрами из одного стада. Замыкал шествие Барашек. За собакой двигалась луна. Я видел, как над животным реет полумесяц на красном поле: турецкий флаг. Странное видение, просто слов нет!
Мальчик приветствовал своего отца тысячью вопросов, а ответ получил на один. Хроульв скоротал время тем, что перерезал ягненку глотку, а потом по кусочку стал отправлять в рот себе и собаке. Скорбящую мать он утешил стихами, хотя Сигрид вообще-то рифмы не любит. Затем он сам обратился в холодную дрожь, предоставив мальчику греть уши над рассказом о студеных свечко-днях в лачуге и чтить память, которая для него – не более чем помет на леднике. К ночи лицо хозяина оттаяло, что сопровождалось весьма гологрудыми снами. Там на замерзшем озере были миниатюрные ледяные девушки, безрукие и с большими грудями; согнувшись под тяжестью бюстов, они буквально ползли по льду. Это было что-то вроде балета, изображенного Сальвадором Дали, что бы это ни значило.
Девочке Эйвис, пока отец не вернулся с гор, дали поспать целые сутки – это был самый настоящий кинофестиваль! Из-за своего проклятого тщеславия я смотрел ее сны почти всю ночь, мне было любопытно: не появлюсь ли там я, хотя бы в маленьком эпизоде. Спасатель. Который так и не пришел.
Такого количества кинофильмов я не осиливал с тех самых пор, как несколько лет назад сидел в жюри в Салерно. Четырнадцать фильмов за четыре дня. Впрочем, работа эта была интересная и мне по душе. Но позвали меня туда по чистой случайности. Я наткнулся на интересного американца в гостинице в Амальфи – гостинице, в которой мне писалось плохо: из ее номеров все уже выкачали такие непохожие друг на друга люди, как Ибсен и Паунд, и с тех пор я старался не спать в кроватях тех, кто более знаменит, чем я. Этот американец искал кого-нибудь для жюри, в которое не выпустили поехать какого-то поляка. Итальянцы закатывали нам обильные пиры, надеясь, что их фильму дадут первый приз. В нем главную роль играла Софи Лорен, тогда еще молодая, и ее слава гремела повсюду, так же, как и ее бюст. Она присутствовала на показе и сидела в ряду перед нами – самая незабываемая шейка, что мне довелось видеть, – и в итоге жюри отвлеклось от фильма. Также я встретил там самого Феллини: он все время ходил в пальто в летнюю жару, носил шляпу и шарф, и закричал «Freddo! Freddo!»[23], когда узнал, откуда я. Гении вечно мерзнут.
Мне постепенно становится теплее. В этом мне помогает какао-суп. А сейчас этот чертов мужик гонит девчонку доить. Она сходит впереди него вниз по лестнице, словно последняя овца, которую пригоняют с гор. Сгорбившаяся, с вывихнутой рукой – и ни словечка не простонавшая с тех пор, как мне с большим трудом удалось вывести ее из сугроба. Мы целую четверть часа пробирались за угол и вдоль пристройки, а затем еще четверть часа ломились в двери. «Меня ветром сдуло», – только и смогла она сказать бабушке, которая тотчас примчалась к ней с тремя чашками отвара из исландского мха. Он выгоняет ее за порог со своим «хух!». Старуха бранит тирана, пока смешивает молоко напополам с чаем, а потом она выливает смесь в бутылочку и протягивает мальчику:
– Ну, постреленок, посмотри-ка: он это будет?
И карапуз выбегает в пристройку и успевает на время заткнуть рот сэру Уильяму Барашу. Под звук мощного сосания слышится, как хозяин, обувающийся в сапоги, ругается, что, мол, он только и знает что молоко хлестать почем зря. На заднем плане воет собака, которая после всех мытарств находится в худшем состоянии, чем Хроульв. Она с тех пор так и лежит в пристройке с сильным насморком, словно курица, высиживающая воображаемое яйцо, и позволяет даже Барашку, с присущим ему выражением чисто британского мирового господства, переступать через себя. Мужик потом хлопает дверью: он пошел в коровник – выкручивать вывихнутую руку.
Исландский фермер. И вся связанная с ним твердость и суровость. Он – моряк, застрявший на суше, моряк, которому в каждый рейс нужно тащить с собой еще и всю семью, а в придачу к ней еще и слабых иждивенцев вроде меня. Сейчас мы все видим, как это получается. И как вообще этот человек еще остался в живых после того, как на него обрушилась вся мощь небес? Хроульв – это такой человек: он не может умереть. И даже если смерть придет за ним с шестьюдесятью прокурорами, четырнадцатью коллекторами, главным в аду распорядителем принудительных торгов и судебным приговором от самого дьявола – он все равно никогда ничего не подпишет. Такой человек не может умереть, он может лишь отзвучать как величайшая симфония всех времен, когда дирижер свалился с подиума без сознания, а скрипачи больше не могут держать смычки, потому что у них все руки покрыты волдырями и стерты в кровь, – такой человек умрет лишь тогда, когда у Господа Бога не останется в запасе новых дней, когда его сердце пробьет больше раз, чем все в мире часы, когда вся-вся ночь закончится и на небесах исчерпается запас типографской краски.
Отец и дочь долго пробыли в коровнике, и она вернулась оттуда еще более пристыженная, пряча лицо глубоко под волосами. Я услышал всхлип. Всхлип, скрывшийся в сон, который у меня, честно признаться, не хватило духу посмотреть. Я бы предложил свою помощь. Если бы все мои пловцы не были поморожены – и да, если б я умел доить коров. Но мне с ранних лет были уготованы другие подойники. И другие вымена. Да-да. Меня уберегли. Меня и мои белые руки. Которые и мешка-то с мукой поднять не могли.
- Слабышок ростком с вершок,
- мало Эйнси[24] может.
- Не поднять ему мешок,
- да и торбу тоже.
Эта виса полетела мне вслед, когда меня послали к чужим людям. На восток, в округ Скафтафетльссисла. На восток, под ледники. Чтоб я там сам за себя отвечал. Там мне довелось бороться с моим первым критиком. Я сочинял для коров стихи каждое утро, когда пригонял их с пастбища. А фермер с Пустошей считал, что они из-за этого вздора стали хуже доиться. А мне казалось, они каждое слово проглатывали, а потом отрыгивали, чтоб из него получилась жвачка. Та часть года, которую я провел там, была прискорбной. Но от него я научился упрямству, упорству и трудолюбию. Каждое утро вставать в шесть утра и каждое воскресенье отмечать чисткой стойл. Да, наверно, мой отец был прав со своим «Пусть мальчик закалится», а вот мама наверняка ночей не спала из-за того, что мои «молочно-белые руки» оказались перепачканы всем этим навозом. Может, она хотела дочь? Сохранилась фотография, на которой мне три года и я в платьице. Двое моих старших братьев стали мощными столпами общества: один полицейский, другой фермер. А над столбами можно возвести арку. И она иногда бывает триумфальная.
Местность Эрайвасвейт, что означает Пустынная, в ту пору была отрезанной от мира, по обе стороны – большие реки без мостов. Желающему обзавестись супругой предлагались на выбор три фермерские дочки: дочь сестры, дочь брата и еще какая-нибудь близкая родственница. Мой фермер выбрал первый вариант – женился на дочери собственной сестры. Скорее всего, тем самым он призвал на свой хутор какое-то проклятие. Одной из ярких примет этого хутора было то, что на нем вечно шли проливные дожди. У хозяев было шестеро детей. Я с трудом различал их. Этими генами пользовались уже так часто, что у них у всех в лице читалась усталость – разумеется, та же, какая была на лицах у родителей в час зачатия. Эти люди, очевидно, все изнемогали от скуки. И даже ржанка, прилетающая по весне[25], не в силах была прогнать эту скуку. «Нечего тебе на птиц пялиться. Работать надо!» – сказала хозяйка, когда я наконец решился пропищать из-за тарелки скира с молоком[26], что прилетела ржанка. А у нас в Гримснесе ее первый щебет всегда отмечали оладьями.
На том хуторе были еще работники, старше меня, похожие на тех, кто сложил обо мне тот стишок. Это были парни с востока, с Лагуны, и фермер все хлопотал, чтоб свести их со своими скучающими дочерьми, – но, кажется, безрезультатно. По последним сведениям, все эти братья и сестры так и живут там, никто не завел своей семьи. Но тех парней я все же «победил» позже тем летом, с помощью своих первых непристойных стихов. Мальчишку-импотента, сочиняющего похабные стишки, можно уподобить поэту-латынщику из гимназии: сам пиит не разумеет собственных стихов, а учителя надрывают животы от смеха. Но каждый раз, когда те парни с востока смеялись, я вспоминал, как смеялись работники нашего хутора, когда я пытался совладать с мешком. «Мало Эйнси может…» Ага, вспомнил! Я вспомнил, как меня зовут! Вот же зараза!
Глава 8
Через несколько дней во дворе хутора Хельская долина стоит джип. Это заставляет меня подняться. Как приятно увидеть автомобиль! Он вызывает у меня тоску – мне хочется домой. Домой в Грим-снес. Домой в настоящее. По-моему, этот рыдван «Виллис» такой же, как и все остальное здесь: послевоенного образца. Все мои машины! Где они теперь! От них остались только слова в стишке:
- «Русский джип»[27] и «Ягуар»,
- развалюха «Скаути»,
- «Симка», «Лада Самовар»,
- «Форд Зефир» и «Ауди».
- «Лендровер», «Фиат», «Лапландер»
- и «Линкольн Континенталь»,
- «Вольво Амазон», «Вагонер»,
- «Виллис», «Опель» и «Вуксаль».
Ага, это я помню. Я начал вспоминать это все. Имя и адрес – да, и Рагнхильд! Рагнхильд – вот как ее зовут, родимую – мою жену! Моя Ранга – и мальчики. Мальчики – Гюннар и Хельги. А тот стишок у меня получился какой-то расхлябанный. Хотя поэтическая вольность в нем только одна: «Самовар». А «Вуксаль» я купил сдуру у своего старшего сына Гюннара исключительно ради рифмы. Больше всех мне нравился блаженной памяти «Ягуар», который был единственным представителем своего вида в нашей стране и умер в одиночестве. Зверь из джунглей на мерзлоте. Его купило за бесценок Кинообщество. Но как же удобно было в нем сидеть и насколько легче переносить городскую суету! У людей сразу пропадало всякое желание лезть к человеку, выходящему из такого автомобиля. Это была пугливость мелких душонок – близкая родственница зависти; а с обеими этими кузинами мне в свое время долго пришлось мучиться. Итак, кухня:
– Здравствуйте, меня зовут Гейрлёйг Лофтсдоттир, – говорит женщина лет пятидесяти, пожалуй, чересчур бодрая, и протягивает мне руку.
– Здравствуйте. Эйнар Йоуханн Аусгримссон, писатель, – отвечаю я.
– Ну? – отзывается Хроульв. Он смотрит на меня с удивлением.
– Да, я только сегодня утром вспомнил, – объясняю я.
– Эйнар Йоуханн Аусгримссон? – спрашивает рыжебородый.
– Да.
– Да, здравствуйте. А это Йоуханн Магнусон, мой муж, фермер с Болота, председатель сельской общины, – говорит бодрячка, пока я здороваюсь с ее малоросликом мужем.
Изобретатель Йоуи с Болота. Он здоровается как настоящий работяга: смотрит не на меня, а на то, что он делает: на рукопожатие. Йоуи – немолодой мужик, стоит согнувшись, спина сутулая, голова набекрень; больше всего он похож на гнутый гвоздь, который Господь собирался забить в свое великое творение, да попал по шляпке криво, но исправлять ему было неохота, и он оставил все так. Поэтому создается впечатление, что Йоуханн не весь здесь, а наполовину – в творении господнем. Всклокоченные седые волосы – словно атмосфера с небольшой облачностью вокруг шара-головы, лысина белым-бела, а лицо красное. Он молчит, утягивает свою руку обратно – на пальцах почти нет ногтей, они толстые и продолговатые словно инструменты, которыми без конца пользовались, – в другой руке он держит шапку и, безмерно радостный, садится обратно за стол и начинает вкручивать кофейную чашку в столешницу. Изображает на лице гримасу-улыбку и вперяет взгляд в чашку сквозь толстые очки в черной роговой оправе, какие носили… то есть носят в эту эпоху, в которой я, судя по всему, непостижимым образом очутился.
Он напоминает мне Сигюрлауса с Холма, Лауси Электрюка, который смастерил для брата Торви сеноворошилку. Он сварил ее из арматурин. Он был целой цивилизацией, состоящей из одного человека. Отшельник, живущий на отшибе, который никуда не ездил, а все изобретал у себя дома. Изобрел морозильник, смастерил бензиновую зажигалку, собрал электрочайник. И с гордым видом показал все это мне. К тому времени электрочайники уже несколько лет как продавались в кооперативе в Сельфоссе. У меня просто слов не было. Он был типичным исландским гением: всегда опережал свою эпоху – да только сама эта эпоха всегда плелась в хвосте. Лауси Электрюк. Мал да башковит. Иногда его еще звали «Элемент». Его любимым присловьем было: «Тут же элементы есть». Его главным шедевром был самодельный пневмотранспортер для сена. Едва закончив его, он пришел домой к брату Торви – и застал его сгребающим сено в свой транспортер, новехонький, фирмы «Глобус». Судя по всему, после этого Лауси Электрюк на наш хутор уже не заходил. Вечная ему память.
– А ты ведь здесь уже больше трех недель? Хорошо тебе у Души Живой, а?
Гейрлёйг – это громкоговоритель. Ее лицо – явление костлявости народу: в нем все стремится вон: вздернутый нос и высокие скулы натягивают кожу серо-стального цвета, и даже передние зубы тянутся ко мне, и лишь очки не дают глазам вылезти из орбит и покинуть эту голову, поросшую осенне-жухлым, но крепеньким кустарником. Эти бутылочные донышки превращают ее глаза в глядящую на меня в упор старую сказку. Как будто она Андерсена обчиталась. Она – маленький, старенький и гаденький утенок в очках. Честно признаться, я уже начал беспокоиться, что у нее веки не смогут по-нормальному закрыть глаза, потому что им слишком тесно за этими стеклами. Супруги-очкарики. С их появлением в этой хельской хибарке как будто стало культурнее. Фру одета в красную клетчатую рабочую рубашку, движения у нее – когда она уступает мне место – бодрые и быстрые, она худощава, а бюст у нее едва виден, словно заросшие руины хутора – давненько там никого не доили. Она носит брюки. Светлые толстые бархатные брюки, и подпоясывает их туго и высоко – от гордости. Она слегка по-комичному довольна собой в этих брюках. И из-за этих брюк ничего другого в кухне уже не видно. Хроульв раньше никогда не встречал взрослую женщину в брюках. Гейрлёйг:
– Женщина не будет свободна, пока не начнет носить брюки!
– Свободна? – переспрашивает Хроульв.
– Да. Например, я в брюках управляюсь с дойкой на пятнадцать минут быстрее, чем в юбке. Это все равно что заново родиться.
– А что на это скажет председатель общины? Женщина – и вдруг в брюках.
– Э-э, я… ну, это… – отвечает изобретатель, корчит еще большую гримасу и по-прежнему не отрывает глаз от чашки, которую вертит на столе.
– Ну, например, я уверена, что Тоурунн показала бы гораздо лучший результат на соревнованиях, если бы не решила выступать в национальном костюме, – продолжает фру.
Это вызывает у меня интерес, и меня вкратце просвещают о Тоурунн Сигтриггсдоттир с хутора Передний Гребень, теперешней рекордсменке Исландии по метанию молота. А в остальном меня мало интересует этот разговор 1952 года выпуска.
– Ах, вот как! – встревает старуха и отряхивает свой передник; она восемьдесят лет простояла у печки и раковины, у нее в curriculum vitae четырнадцать домов из дерна и один каменный. Десять юбок и, я полагаю, столько же детей.
– Ну нет, Алла, ты же из местности, что ушла под воду, и время у тебя другое. А для современной женщины юбка – это оковы. Будущее за штанами.
Рыжебородый при словах «современная женщина» дергается, шарахается как конь от тавра, фыркает.
– Нет, так и воспаление схлопочешь, и детей рожать не сможешь. А где тогда их из-под себя выпускать? – спрашивает Душа Живая.
– Ха-ха-ха! – хохочет фру с Болота. – Из-под себя! Аллочка, брюки вообще-то снять можно.
– Не поверю, что женщина станет при мужиках брюки снимать! Они ждать-то согласятся?
Хроульв, видимо, хочет пресечь дальнейшие подробности об интимной жизни старухи, которую, как вдруг оказалось, зовут Алла, и он говорит, обращаясь к скатерти:
– Я всегда предпочитал, чтоб мои женщины были прикрыты занавеской. В моей юности считалось, что если у женщины все насквозь просматривается между ног, то это к неудаче. Предвещает мокреть. И кровавый дождь.
Тут вмешиваюсь я:
– Э-э… кровавый дождь? А что это?
– Ну? Писатель – а не знает, что такое «кровавый дождь»?
– Нет. Не помню, чтоб раньше слышал такое слово.
– О-о, это такой гадкий дождь, который не к добру.
– Ну что, Эйнар, ты много книг написал? – спрашивает большеглазая.
– А? Да… да-да. Только я большинство из них позабыл.
Хроульв явно по горло сыт той ерундой, которая творится вокруг меня. Он медленно поднимается и выходит в коридор. По-мое му, он держит путь в парадную гостиную.
– Да. Вроде я твое имя где-то встречала. Я уверена, что читала какую-то из твоих книг. А с книгами часто так бывает, что они остаются с человеком на всю жизнь, только он сам этого не знает. Эйнар Йоуханн Аусгримссон. Да, ей-богу, мне это имя знакомо.
Вот зачем она пытается сделать вид, будто мое имя мне знакомо! Ведь в 1952 году я, конечно же, еще не был знаменит на всю страну. Это случилось только потом. Как вот прикажешь все это понимать? В глубине души я надеялся, что эти автомобильные супруги несут с собой другую эпоху, какую-то разгадку всей этой путаницы со временем. А это оказались всего лишь светлые бархатные брюки.
– На самом деле мой творческий псевдоним – Эйнар Й. Гримссон, – говорю я, просто чтобы не молчать, и чувствую на своей ноге какую-то возню: малыш-светлоголовик лежит под столом и играет со своей лошадкой – тонкой овечьей берцовой косточкой, дает ей «проскакать» мне по подъему ноги.
– Ну? Я вижу, дела все лучше и лучше. – Хроульв встал в дверном проеме с бумагами в руках.
– Папа, а сестрица Виса в брюках! – раздается голос мальчугана из-под стола. – Значит, она не женщина?
– Угомонись, – говорит Хроульв, и я вижу, как он бросает взгляд на Эйвис – которая молча стоит одна в другом конце кухни, опираясь на буфет, словно будущая манекенщица – а потом снова ретируется на свое место.
– Да, наша Эйвис станет современной женщиной, ведь она развита, и учение ей легко дается, и, я надеюсь, ей удастся познакомиться со всем тем, что предлагает современность, и воспользоваться им, – если от меня тут что-то будет зависеть. Я уверена, что ее мама согласилась бы со мной. Ей нужно только самой заботиться о себе и не спешить вступать в брак до тех пор, пока не найдется достойный кандидат. Ведь она наделена многими талантами и далеко пойдет по пути просвещения – наша Эйвис, – говорит фру с Болота, желтозубо улыбаясь.
– Вот не надо из нее неумеху городскую делать, хух!
Ach so. Он сказал «неумеха городская». Интересно. Я порой называл так Фридтьоува в письмах. И сейчас этот распроклятый фермер пользуется случаем и состраивает на лице одну из этих своих несносных ухмылок, кладет на стол письмо и подталкивает его к Йоуи, словно козырную карту при игре в вист.
– А вот и кое-что для почтмейстера, – говорит Хроульв, обнажая щербинку между своими торчащими передними зубами; морщины у него на лбу глубже всего над глазами, а дальше к лысине мельчают.
– Э-э… да? – поскрипывает Йоуи. Голос у него такой, словно в горле вертится ржавый винт. Он прекращает ввинчивать чашку в стол, берет письмо и подносит к очкам.
– …Ну вот… – говорит он, убирая письмо от очков, но продолжая разглядывать его.
Я сижу рядом с ним, и, хотя свои очки я потерял при давешней вылазке во двор, я вижу, что имя и адрес на конверте аккуратно напечатаны на компьютере. Ничего себе! Это же письмо, которое написал я! Он, зараза такая, его в город не отвез!
– Это я принес? – недоумевает Йоуханн.
– Нет-нет, это он, писатель, хочет его в столицу отправить. Небось мы скорее его самого туда отправим.
– 101 Рейкьявик… – в устах почтальона это звучит странно.
– Да, это… короче, это абонентский ящик, мой ящик в издательстве, – пытаюсь выкрутиться я.
– Да, хорошо, что нашему писателю пока есть кому писать письма, – говорит Рыжебородый. Черт бы его побрал!
О да! Значит, я написал письмо самому себе! «Дорогой друг – Твой Э.». Как же по-дурацки это звучит! Значит, я разделил участь всех тех писателей-самокопателей, которых встречал на своем веку. «Я пишу прежде всего для самого себя» – так это называлось во всех их совершенно безнадежных интервью в газетах. И они еще надеялись, что читатели тотчас побегут в магазин за этими письмами от руки к мозгу! И еще обижались, что у них книги не распродаются! Один сплошной онанизм – вот что это такое! «Прежде всего для самого себя». Обман в чистом виде. Я для самого себя никогда не писал. Я писал для всех других, кроме самого себя. Это присутствует уже в самих словах. Книги издаются. Писатель дарит читателям рассказ. А книги тех писателей просто выносили вон. К ним же домой. Как какие-нибудь письма. Хотя Тоурберг свое письмо Лауре адресовал[28]. Хотя это, конечно же, не творчество, а длинная нудятина, которую несчастная женщина, разумеется, и читать-то не захотела. И как только этого Тобби-Безумца[29] стали считать «маэстро»? «Маэстро Тоурберг». Хух! Этот человек и выдумать-то ничего толком не мог! Только возводил напраслину на других и записывал собственные причуды и наиглупейшие странности достойными слез буквами! В этом поэтического вымысла не больше, чем в «Дневнике погоды», который он вел целых пятьдесят лет, словно какой-нибудь деревенский дурачок, и который, тем не менее, показался достойным целой телепередачи! «Здесь маэстро записывает температуру воздуха…» За что сотрудникам Метеоцентра такое наказание?! Нет, сейчас сия тетрадка лежит в каком-нибудь «пе́рловом» отделе центральной государственной библиотеки, никчемная и никем не читаемая, как и все книги Тоурберга Тоурдарсона. Сумасброд, которого чересчур переоценили. Абсолютно голый на взморье, делает гимнастику по системе Мюллера. А разве тогда не было запрещено ходить голышом в общественных местах? Как вообще вышло, что его так и не арестовали?
Да, конечно, они писали только для самих себя, эти маэстро-самокопатели. Модернизм считал читателей низменными. И ничего никому не хотел отдавать. Мол, публика глупа. Они называли ее «пубой». «Это, конечно, не для пубы». «Пуба нас не поймет». Да, видимо, они не хотели, чтоб их вообще кто-то читал! Если книга расходилась в более 200 экземплярах, это считалось не – удачей. На того, у кого книги хорошо продавались, смотрели косо. Если книга популярная – значит, плохая. Элитаризм несчастный! А ведь в душе-то они все наверняка были коммунистами. Коммунисты вне Праги и Венгрии. Принимали печали народные близко к сердцу. Только этот народ был, очевидно, слишком глупым и не хотел их избирать. Ах, мне выпало жить в эпоху чудачеств!
Лишь однажды за весь мой длиннописьменный век я не хотел, чтоб меня прочитали. Мне было девять лет. Мой первый рассказ напечатали в газете «Тьоудольв», которая издавалась в городе Эйрарбакки, и папа сидел в бадстове[30] и читал ее, когда я вошел. Как же сильно я желал, чтоб папа никогда не отложил ту газету, чтоб он сидел с ней до самой смерти. Да, мне казалось, что эта короткая ребячья заметка в пасхальном выпуске «Тьоудольва» его убьет. Я об этом не подумал, когда мама посоветовала мне послать этот рассказ в Эйрарбакки. «Надгробное слово по теленку, рассказ Эйнара Й. Аусгримссона с Хутора на Гримснесе, мальчика девяти лет». Довольно красивое воспоминание, на двести слов, посвященных тем двум неделям, что были отпущены на этом свете теленку Мауни. Папа зарезал его. А сейчас и меня зарежет. «Сын, ты пишешь как барышня-эльфийка», – только и сказал он, отложив газету, а мои братья захохотали. Появился «Эйнси – девчонка эльфийская». «Рассказ мальчика девяти лет, ха-ха!» Вот зачем им надо было это так подчеркивать? Неужели у меня и впрямь все вышло так по-девчачьи? Я положил перо на полку. Там оно лежало тринадцать лет. Но чернила на нем не высохли. И вот я все еще сижу здесь, в том же положении, и хочу, чтоб мужики прекратили обсуждать мою писанину в конверте, это «Надгробное слово по мне самому, рассказ мальчика восьмидесяти восьми лет».
– У тебя песчаная машинка есть? – спрашивает Йоуи.
– А… что?
– Так аккуратно написано.
– А? Печатная машинка? Ach so. Нет-нет. Я… у меня всегда почерк красивый был.
– Я как раз восхищаюсь, какие у тебя руки красивые, – раздается голос Гейрлёйг, и она таращит на меня свои блюдца.
– Да, он явно белоручка, – говорит хозяин Хельской долины.
Ну все, довольно! Мне никогда не нравилось отвечать на вопросы обо мне самом, особенно от незнакомых. Я расспрашивал сам. Люди полезны, пока к тебе не полезут. Единственные люди, которые имели для меня в жизни какое ни есть значение, – это мои герои. Бёдди Стейнгримс был мне даже роднее моего отца. Я по меньшей мере неделю потратил на его похороны, а попрощаться с отцом мне выбраться не удалось. Я тогда за границей был. К счастью, тут вдруг вступает лорд Бараш и спасает положение короткой вежливой репликой о том, что сейчас настало время пить чай. «Ча-я-я-ю!»
– Ну, малец, посмотри, не найдется ли у твоей бабушки чего-нибудь для ягнешки! – говорит Хроульв, и мальчик удаляется в прихожую, пока старуха наполняет бутылочку.
После долгого молчания Йоуи наконец подает голос.
– А что, собака-то плоха стала?
– Ах, она, болезная, стала сдавать. И помощи от нее все меньше. Какой прок брать с собой в горы собаку, которую приходится полпути тащить на себе? А самое худшее – что она есть почти не хотела, свежую убоину, ягненка, которого я, по великой щедрости, для нее зарезал.
– Да, нынешним собакам сырое редко нравится.
– Ах!
– А ярка? Говоришь, она хорошо дошла?
– Да. Чего у овцы не отнять – так это того, что она может очень далеко пойти, живя лишь одним днем. Эта скотинка – просто гениальное творение.
– Да-да, это у нее все от глупости. Я долго считал, что чем животное глупее, тем выносливее, да, а еще, так сказать, счастливее.
– Ху. По-моему, хозяин Болота больше смыслит в своих машинах, чем в овцах, – говорит Хроульв, вставая. Он подпоясывается. Я замечаю, что из-под пояса брюк выглядывают желто-белые кальсоны, и меня пронзает причудливая мысль, что я сам же одел его в них. – Вернете мне девчонку на второе воскресенье адвента. Я в этом году буду рано случать овец и заеду в Долину за бараном, – выпаливает Хроульв – и вот его уже след простыл. Как получается такой человек? Молчание. Потом Йоуханн берет мое письмо, собирается встать и говорит:
– Ну, Лёйга, мне нужно залезть под машину.
– А ты с нами поедешь, да? – спрашивает меня фру.
– А? Я? А что мне там делать?
– Разве он тебе не сказал? По-моему, для тебя так будет лучше. Мы обязательно постараемся разобраться в твоей ситуации.
Она говорит со мной как с ребенком.
– Да, наверно, так лучше. А как там у вас на Болоте – телефон есть?
– Да-да. Ты знаешь, по какому номеру звонить?
– Э… на самом деле нет.
– Ничего, разберемся. Все будет хорошо.
Глава 9
Я радуюсь предстоящей поездке как ребенок. Болото звучит как Болонья, Бомбей, Берлин. Я сижу на переднем сиденье джипа, с громким грохотом несущегося по промерзшей сугробистой дороге через хейди[31], хотя сомневаюсь, что скорость у него больше 30 км/ч. Я начал было нашаривать ремень безопасности – но спохватился и притворился, будто я восхищаюсь хорошим изделием, и провел пальцами по оконной раме: «Отлично сработано!» Да, у меня уже настолько прибавилось сил. Гейрлёйг рассказала мне историю этого джипа. Этот британский вояка обжился в исландском доме, построенном из выкинутой морем древесины, приплывшей с Кольского полуострова. Джип был своеобразным памятником совместной победе союзников. Боковые окошки в него добавили исландцы; они затянуты непрозрачными мешками из-под удобрений. На них написано: «Государственный завод по производству удобрений». Так что холод здесь такой же, как на этой хейди. Хейди Хельской долины – Хельярдальсхейди. Здешняя топонимика скупа. Впереди солнце меркнет за приземистыми и довольно неубедительными горными хребтами. А за ними можно разглядеть еще более отдаленные горы. Водитель низко сидит за рулем в своем серо-зеленом пальто. И судя по всему, контакт с машиной у него хороший, он разговаривает с мотором как с конем и произносит «Ну, давай!» каждый раз, когда переключает передачу. А на заднем сиденье – фру и девочка Эйвис со всеми своими пожитками в котомочке; при всем своем молчании она явно так же, как и я, рада вырваться из этой адской долины.
– Ну, сейчас тебе откроется вид на Восточноречную долину. Правда, красиво? А вот, смотри: там Болотная хижина! Сейчас ее забросили. Оттуда родом Йоуфрид, мать нашей Эйвис. Они там жили – старый Тоурд и Душа Живая. Десятеро детей у них было! – кричит Гейрлёйг. Да-да, вот именно.
Она школьная директриса и со мной все время разговаривает как с учеником. Меня это раздражает – просто сил нет! Я в жизни много чем занимался, но вот периода ученичества у меня никогда не было. «Абсолютный гений с рождения, – сказал про меня индийский мудрец на углу тупиковой улицы в Каире, – тебе и в школе учиться не надо было». И этим он раз навсегда избавил меня от комплекса недоучки. Я ничего не учил с тех пор, как бабушка Сигрид объяснила мне, семилетнему, правила аллитерации в стихосложении.
У подножия хейди на снежной глади возвышаются два сугроба в память о праотцах и праматерях. 7000 летних дней погребены под снегом. Корни этой девчушки – в сугробе. Но в ее глазах искрятся горячие снежинки. «Она – прибитый к земле цветок» – вот такая фраза сама собой пишется у меня между висками. Супруга велит своему Йоуи остановиться, даром что я не прошу, чтоб я мог открыть дверь и рассмотреть Болотную хижину. Он дважды произносит «Ну, давай!» и тормозит. Перед сугробами стоят два полуобрушившихся деревянных фасада, показывающих, что это было человечье жилье, мир десяти детей, а перед ними стоят два коня, словно лохматые мамонты, и смотрят на нашу машину. Я на миг задерживаюсь, надеясь, что эти приятели сообщат мне нечто важное.
Но они говорят только: «Здравствуйте!»
Восточноречная долина более безлика, чем Хельская, но выглядит более пригодной для житья. Над низкой заснеженной горой навстречу нам: четыре темные тучи медленно плывут в сторону моря. Они вполне могли быть родом из девятнадцатого века, и они говорят мне, что даты неважны. На востоке золотое сияние. Солнце зашло. И время – наверняка четыре или пять часов. Когда-то я сказал бы, что это – небо на все случаи жизни. Шесть видов облаков. Два ворона. По дну долины змеится небольшая речушка с горной водой, и водитель застывает на броде. На пол машины просачивается вода, а я осознаю это не сразу: ноги у меня промокают. Еще не легче! Уж мог бы и предупредить! Это не джип, а развалюха какая-то!
Йоуи уговаривает машину подняться на склон. Не разбираю, что он сказал.
Вся радость ожидания у меня улетучилась. Не могу представить себе ничего хуже, чем промочить ноги. И моим дорогим лондонским ботинкам от этого тоже несладко. Это все – ерунда полнейшая! Хутор Болото стоит на конце косы, пересекающей долину поперек, да-да, это весьма справный двухэтажный каменный дом, в котором на каждую боковую стену приходится по шесть окошек, на фасад, белый с красной крышей, – по два, а сбоку хозяйственная постройка того же цвета. И такой хутор назвали Болото? Скорее уж Возвышенность. Вокруг хутора автомобилей – как на празднестве по случаю конфирмации, да только при ближайшем рассмотрении заметно, что этот праздник давным-давно кончился: это все развалюхи без моторов, со ржавыми корпусами. Разумеется, их водителей уже похоронили на кладбище, которое я замечаю за домом. Из-за каменной ограды выглядывает черный как сажа фасад церкви высотой со сгорбленного пастора. Неудивительно, что наш народ так неохотно верил в того, кто живет в эдакой постройке. Сии дома божии правильнее назвать землянками, и они скорее напоминают филиалы нижнего душехранилища. А с тех пор, как архитекторам позволили протянуть свои руки ко всему этому бетону, стало не легче: одни сплошные пожарные каланчи да вертолетные площадки для святого духа. Да-да, пожарные каланчи! На случай, если чья-нибудь вера окажется чересчур пламенной. У нас на Гримснесе нам несколько лет пришлось жить бок о бок с самым причудливым кошмаром за всю историю христианства: по виду эта церковь напоминала гигантский топорный комод, который плотник Иосиф сколачивал аж две тысячи лет, а потом нечаянно уронил из своей небесной мастерской к нам на горку, так что он весь покривился и покосился, а выдвижные ящики высовывались на парковку для машин полностью или наполовину. Однако эта церковь больше, чем что-либо другое, поддерживала во мне жизнь в последние годы. Ведь какой поэт жаждет, чтоб его положили в ящик? Лучше уж я помру в этой местности. И сейчас я близок к этому как никогда. Да, меня явно доконает воспаление мочевого пузыря. Если не воспаление легких.
Морозу не удается выжечь запах хлева, впрочем, как и раньше, а здесь он приятнее, чем в хижине в той долине, он говорит о крепком хозяйстве, о том, что у коров в хлеву пищеварение в полном порядке. А вот о чистоте на этом хуторе такого не скажешь – хотя снег изо всех сил старается прикрыть все это кладбище автомобилей своими белыми простынями. Йоуи молча проходит в сарай – большую гнутую постройку из рифленого железа, – стоящий чуть поодаль от других построек. Наверняка он там занялся изобретением гидравлического руля. Директриса тотчас начинает лекцию о населении двух хуторов, видных в отдалении. Эта лекция могла бы быть озаглавлена «Подагра и туберкулез». Я так больше не могу! Мне нужно войти в дом и снять обувь. И все же меня радует вид телефонных столбов, шагающих от реки на хутор. Они словно старые знакомые!
Не буду же я на чужом хуторе снимать носки? И входить в здешнюю гостиную, словно босоногий Ганди в английском твиде? Нет. И я решаю потерпеть это неудобство. Дом просторен и больше напоминает школу домоводства, чем сельское жилище. Там множество дверей и порогов, таких толстых и добротных, что настроение у меня становится сносным. Длинный коридор с темно-зеленым линолеумом военных лет с головой выдает меня: я оставляю мокрые следы. Хозяйка морщит свой вздернутый нос от такого конфуза, сажает нашу Вису на кухне – пахнущей выпечкой кухне, – а потом снова выходит и кричит с лестницы: «Хильд! Хильд!» Кухарка подает нам оладьи; лицо у нее весьма домашней выпечки, со всех сторон она мягка, груди хорошо поднялись. Кажется, раньше такие большие груди называли «большевистскими». Она молчит, но ласково ухмыляется, а потом ныряет в печку – да-да, и зад у нее такой же. Выныривает она оттуда с рождественским кексом. Jasso! Календарь на стене сообщает, что сейчас 1952 год, и девочка, постоянно молчащая, сперва быстро стреляет глазами на меня, затем на оладью, которую я беру. Я начал привыкать есть, не чувствуя голода. Но вот приходит Гейрлёйг и пригоняет ко мне своих учеников:
– Дети, подойдите и поздоровайтесь с писателем, о котором я вам рассказывала. А с маленькой Висой из Хельской долины вы уже знакомы. Она недавно угодила в буран и смогла приехать к нам только сейчас.
Передо мной ватага из пятерых ребятишек и двоих подростков с нескладно сочиненными лицами, написанными нечеткими штрихами. Но здороваться они умеют; это очень робкие души, тихие и воспитанные. Не то что те маньяки-детобойцы с юга, которые тебе даже поесть спокойно не дадут, не говоря уже о чем-нибудь другом! Они и голосят на все комнаты, и пальцами в тебя тычут, и все это на глазах у родителей, которые настолько увлечены выращиванием рыб, что забыли и ту малую толику воспитания, которую имели сами. Полное детовластие! Вот как надо назвать общественный строй, при котором мы живем. У людей есть такая извращенная потребность, чтоб ими кто-то управлял, а раз политики не хотят, они предоставляют это детям. А все эти вопросы! «Чего тебе хочется?», «Тебе пиццу или мороженое?» Я имею опасения, что в моем детстве было бы крайне странным, если б отец спросил нас – детей: «Вам хочется шерсть валять или коров доить?» Нет, по-моему, лучше по-старому: чтоб эти спиногрызы до самого ужина были на лугах или выгребали навоз. Тогда бы у них не хватало сил под столом расшнуровывать твои ботинки или фехтовать на вилках и ножах. Но нет. Сейчас это называется «эксплуатация детского труда». И родители предпочитают, чтоб их самих эксплуатировали дети. Все перевернуто с ног на голову в этой стране, этой республике детей!
Одна из двух девчушек, щеголяющая прыщами, в маленьких, но очень сильных очках, говорит Эйвис: «Здравствуй!» – и у той от этого как будто и впрямь прибавляется здравия.
– Ты в буран заблудилась?
– Да.
– И руку вывихнула?
Судя по всему, это хозяйская дочка: разговаривает она так же громко, как и Гейрлёйг.
– Да. Меня машинка ударила.
Детишки смотрят на меня, как статисты в немом кино. Они явно раньше живого писателя не видали, болезные. А потом появляется и вышепоименованная Хильд. Хильд в чулках. Не женщина, а мечта! Волосы черные, глаза мечтательные. Щеки мягкие, нос острый. Груди прямо польские, а бедра такие, что человек помоложе меня ради таких через три хейди пешком пройдет! И разговаривает она с северным выговором, как и всякая уважающая себя женщина-мечта.
– Здравствуй!
Аббалаббалау![32] В ее глазах мне видятся танцы, я слышу поп-музыку.
– Добро пожаловать к нам на Болото!
– Э… ну… и… тут приключения ждут кого-то.
Что за бред я несу? У меня это само вырвалось.
– А? Ха-ха-ха, ну и как ты: все пишешь?
– Хильд… – перебивает Гейрлёйг.
– Мне твоя книжка понравилась, – говорит тогда Хильд.
– Ээ… а? Что за книжка?
– Вот не помню, как называется, но очень интересная. Это я помню! Ха-ха-ха!
Ach so. Не женщина, а восхищение! Хильд хохотушка. По-моему, я тебя знаю.
– А тебе носки нужны? Ты, наверно, на переправе промок? Ха-ха. Ноги промочить – это нехорошо, особенно в это время года, – говорит экономка, нагибается к моим ногам и стаскивает промокшие носки. Ей-богу! Дети придвигаются и смотрят во все глаза. Они, болезные, никогда босого писателя не видели. Но ведь он – такой же человек, как все, и смотрите-ка: у него на ногах десять пальцев, как и у вас.
– Да ты же холодный как ледышка! – удивляется и возмущается экономка и начинает растирать мне ступни и подошвы. Я соображаю, что ко мне никто не прикасался с тех самых пор, как много недель назад малыш потыкал меня пальчиком на склоне. В доме престарелых я привык, что меня по много раз на дню трогают руками. Вот преимущество старости: самому не потребуется даже пальцем шевельнуть. Да. А может, чем черт не шутит, эта поездка – такая программа реабилитации? Вот я уже снова выучил, как меня зовут, могу ходить, сам делать большинство вещей, и все-таки мне интересно, что будет с теми оладьями, которые я положил себе в желудок. Да. Наверно, меня в деревню отправили. Снова отправили в деревню. «Пусть мальчик закалится». Но о лучшей няньке-сиделке, чем экономка с Болота, я и мечтать не мог. Вот она засунула мою правую ногу себе между грудями и гладит своими чудесными ладонями, пытаясь согреть. Вот я сейчас ногами жар загребаю, а хотел бы руками! Впрочем, сейчас я шучу. Предназначавшуюся мне порцию полового влечения я уже давным-давно растратил.
Хильд надевает на меня колюче-чистые шерстяные чулки. Я начинаю молодеть так, что дальше некуда: в ванной я замечаю волосы за ухом. Улыбку в зеркале. Какое-то удивительное счастливое чувство увлажняет меня изнутри, распускается на мне, словно почка среди зимы. Я даже начинаю подумывать, а не пустить ли мне струйку в этот унитаз – такой белый и красивый. Но полегче, лаксик! Не транжирь то, чего у тебя и нет! В коридоре я натыкаюсь на телефон… Одним словом: на Болоте мне нравится.
Меня устроили в кровати, которую я считаю гостевой, пока туда не прокрадывается Эйвис со своей котомкой. Я поднимаюсь:
– А она… она… она с севера?
– Кто?
– Э… экономка Хильд.
– Не знаю. Наверно, – говорит она и садится на кровать напротив моей, откладывает в сторону свой багаж. Сквозь темное окошко доносится мычание из хлева. «Доить!» – вот как это переводится на исландский. Коровы – существа незамысловатые. Но все-таки лучше мне с ними побеседовать.
Писатель в коровнике. В известной степени это чудо. На него мычат: «Доить!» Увы, милочка, это единственное, чего я не умею.
– Ну, Пятнашка, обожди! Дойдет очередь и до тебя. Что-то ты, лапуля, сегодня какая беспокойная!
Это Гейрлёйг. Она по-прежнему говорит как заведенная, и этот завод – единственная доильная установка на всем хуторе. «Аль-фа-Лаваль»[33] еще не покорил этот край. Хозяйка доит четырнадцать коров. В косынке и в сапогах. Мне дают галоши. Корова, которую она доит, при виде меня начинает беспокоиться.
– Ну, Рыжуха, спокойно! – хлопает она ее по ляжке, а корова продолжает лягаться, пытаясь высвободиться из пут на задних ногах, и в конце концов поскальзывается на копытах и съезжает в сток для навоза. Хвост торчит вверх и ходит туда-сюда, как вертикальный маятник, а хозяйка едва успевает спасти свой подойник. «Ну, это вообще нечто! Ну, ну, успокойся! Вроде осеменитель еще не приходил», – говорит Гейрлёйг и улыбается мне короткой улыбкой, а потом заталкивает корову обратно в стойло. Рыжуха успокаивается, и Гейрлёйг снова начинает доить.
– Что-то девочка какая-то пришибленная. Там у вас во время этого бурана что-то серьезное стряслось? Что-то, от чего она до сих пор оправиться не может?
– Нет, не думаю. Но отец с ней весьма сурово обращается, – отвечаю я, стоя на бордюре над стоком, каждую секунду настороже: вокруг меня через равные промежутки низвергается на пол коровья моча, и если я буду неосторожен, то на мой костюм-тройку попадут капли.
– А он ей и не отец, – говорит Гейрлёйг, уткнувшись в пах у вымени, и подчеркивает свои слова двумя тугими струями в подойник. А я уже и забыл, какой это чудесный звук!
– А? Что? Не отец ей, говоришь? – удивляюсь я, уворачиваясь от подымающегося коровьего хвоста и целого полка мух. Но сейчас моча не льется. Нет, сейчас лезет что-то черное. Кажется, мухи возвращаются, полные радостного предвкушения. Здесь все кормятся чужим дерьмом.
– Нет, она дочь иностранца, солдата, англичанина. Он своей Йоуфрид этого так и не простил. Это понять можно, как говорится, до известной степени. Но как только в одном человеке может сидеть столько немирья! У него в голове до сих пор идет мировая война. Он ненавидит все английское, а ведь это же, считай, почти весь мир, все, что к востоку от хейди: электричество, телефон, Фьёрд с этими бараками[34], я уж молчу о столице, обо всех машинах моего Йоуи, всех этих «обглоданных британских костях», как он выражается. Вот честно, Хроульв – единственный исландец своего возраста, который ни разу не садился в автомобиль.
– Да, – говорю я, не слушая. На слове «англичанин» меня отвлекает черный шматок навоза, который вылетел из-под коровьего хвоста за три стойла от меня и громко шлепнулся в сток. Не то чтобы я увидел это – скорее, почувствовал, как этот шматок приземлился мне на правую брючину чуть пониже колена. Вот зараза! Ну что за грязная жизнь! Ну что за грязная нюхательно-табачная навозная сельская жизнь!
– Да, как же он, бедолага, мучается! И отыгрывается на девчонке, а ведь ей он заменил отца, что верно, то верно, этого не отнять. Но отцовская любовь у него не чистая, а в основном из-за денег, которые англичанин посылает ему и ее матери, ведь Стенли – джентльмен, да еще красавец, я однажды его фотографию видела, он из какого-то богатого и знаменитого английского рода. Наверно, ты о нем слышал, это семейство Овертон. Да, и благодаря этому греху Йоуфрид Хроульв прекратил прозябать там в Болотной хижине, приобрел в собственность ту долину и построил там дом, но тут уже и деньги кончились, и теперь ему наследники жить не дают. Недавно они у него новый трактор отобрали и тринадцать лошадей. Тут понятно, к чему все идет, а самое ужасное – смотреть, как он вместе с собой и всю семью тащит к погибели. Но как говорится, каждый сам кузнец своего счастья, – говорит пучеглазая фру, поднимаясь со скамеечки для дойки, отставляет подойник на помост, снимает путы с коровы и веревку с ее хвоста. Корова вежливо благодарит тремя литрами мочи. Ничего себе, в каких гигантских масштабах здесь происходит отправление естественных потребностей! У меня даже голова закружилась.
– Да, за другого-то жизнь не проживешь, – говорю я и иду за ней до конца стойл. Она заходит в молочную и выливает содержимое подойника в пузатый бидон, а я направляюсь к яслям, чтоб взять клочок сена обтереться. Но он оказывается сырым, и с его помощью я только сильнее втираю навоз в брюки. Вот ведь зараза! Затем я поднимаю глаза и вижу все эти блистательные головы. Четырнадцать коровьих голов. И что за головы! В каждую из них можно уложить все собрание исландских саг в кожаном переплете. А что за уши! Да, что хозяйка здесь дважды в день точит лясы – им не навредит. Наверняка эти коровьи головы полным-полны всяких рассказов.
– Эй! – орет одна из них и закатывает глаза, как психически больная. Конечно же, она хочет что-то рассказать мне. Так они всех окликали, эти молодые люди в доме престарелых: «Эй! Ты моих сигарет не видел?» Это они собирались выйти покурить. И сидели там в инвалидных креслах, битые-перебитые после всех этих своих ДТП, и подпускали в воздух дым зимой и летом. И все до одного лысые! В доме престарелых вдруг появилось целое поколение лысых. Как будто это такая мутация. Но это компенсировалось тем, что они очень кучеряво говорили. Понять их было вообще невозможно. И все они вечно пережевывали одно и то же, словно жвачку. «Эй!» – ревут на меня коровы одна за другой, и я вхожу в сарай-сенник.
В сеннике полно сена. Здесь хранится лето. Я пригибаюсь, входя в низенькую дверь, – наверно, сельским жителям нравится нагибаться – и выпрямляюсь перед высоким стогом, стою на пещерке, которая образовалась в нем еще осенью, когда только начали задавать корм в хлеву[35]. Я некоторое время стою в сенном сумраке, вдыхаю запах скошенной травы, наполняюсь старинным блаженством, загораюсь при виде стропил, которые косо поднимаются над запасом сена и соединяются в высоком коньке крыши, почерневшие от времени, словно каменные колонны в готической церкви. Час сенной молитвы. Сенник как храм божий. И он гораздо выше и величественнее, чем все землянки прошлого и бетонные коробки настоящего.
Тишина.
Пыльная сумрачная тишина, наполненная витаминами земли, трудом людей и машин: сенник наполнен погожими летними вечерами, сенокосами на лугах, косьбой, ворошением, сгребанием, криками, зовами, смехом девушки, молчанием парня, отдаленным тарахтением трактора, рокотом зубцов у граблей-ворошилок, скрипом деревянного каркаса телеги, гудением вил – и звуком, с каким сено сыплется на сенник. Шорохом сена.
Я слушаю сено.
И тут мой разум озаряет убежденность, уверенность, самая что ни на есть удивительная весть: я сам сочинил каждую травинку в этом сеннике. Все это сено – не сено, это лишь сто миллионов черточек на бумаге; каждая сухая травинка прочерчена на странице карандашом. Их отволокли в сенник пишущие машинки на тракторной тяге. Я некоторое время стою, вдыхаю запах всего этого ароматного вещества, которое мне посчастливилось сгрести, как сено, и собрать под крышей. Как такое может быть? Я тянусь за клочком сена и нюхаю его. Что сказать – весьма убедительно. Затем осматриваю весь стог, на два метра выше меня.
Ну ничего себе, как ты тут потрудился!
Я благодарю бога за удачную мысль, набираю полную охапку сена и, пригнувшись, выхожу обратно в хлев. Автор задает своим созданиям корм. Ха-ха. Они, болезные, берут его жадно, словно наркоманы в последней стадии. Закатывают глаза. Нет. Наверно, без толку говорить им, что это сено выдуманное. Их не проведешь, они все дважды пережевывают, чтоб быть на сто процентов уверенными. Коровы одним художественным вымыслом сыты не будут. Это удивительно интересно, и я снова иду в сенник за новой порцией сена. Как же так вышло, что я никогда в жизни скотине корму не задавал? Меня от этого берегли.
А сейчас меня кто-то от сна бережет. Хотя в хлеву я потрудился, я не ощущаю усталости, как и накануне, лежу и жую свою жвачку в ночной мгле, смотрю в потолок, на его темную и светлую сторону, а порой на нее – девочку, которая спит напротив меня, такая изящная. Она ему не дочь, Болотная хижина, Душа Живая, Стенли… уж все-то ей известно, этой фру!
– Только ты это дальше не разбалтывай. По-моему, она и сама этого не знает, – сказала она.
Стенли Овертон. Странное совпадение. Я ведь ужинал у супругов с такой фамилией в Лондоне, где застрял во время войны. Тот ужин сильно затянулся из-за немецкого воздушного налета. Между блюдами мы бегали прятаться в подвал. Англичане и немцы: два народа, которые в том, что касается стряпни, всегда умели лишь заваривать кашу и стремились испортить друг другу ужин. Пол Овертон был замечательным человеком. Малорослый чудаковатый сотрудник университета, сидящий под падающими с неба немецкими люфт-вафлями и переводящий Ницше на английский. «Как бесполезен весь этот град из бомб! В тех бомбах, которые бросал Ницше, хотя бы был смысл», – усмехался он в темном холодном подвале в Фулхэме. Но потом Заратустра как шпрахнул[36]. Я узнал об этом лишь позже. Он отложил свой перевод в тот день, когда его сына сбили над Берлином. После войны он сосредоточился на Гейне, чем и прославился. Поэзия в конце концов всегда побеждает.
Эйвис Овертон. Девчоночка. Вот она спит в исландской юдоли слез, в голове у нее знаменитое поместье, в крови – охота на лис, при каждом пальце – слуги. При каждом натруженном пальце. Судьба. Зачата на хейди – исключительно со скуки. У них на Хельской хейди была база – маленький каменный дот недалеко от Болотной хижины, и из него открывался обзор долины, они двое целое лето по очереди лежали там с биноклем, следили за птицами – но из них ни одна не носила опознавательных знаков немецкой армии. Заняться там было нечем. Газет не было, да и книги вряд ли были. Армия запрещала все, кроме рассказов о предыдущей войне. Молодые здоровые лондонские парни, которых извлекли из джаз-холлов современности и переместили на беспивную высокогорную пустошь, где за музыкальным сопровождением следил только бекас. И никакого «action». Никакой «war» среди гор. Единственным, что скрашивало будни этих мальчишек-солдат, был большой черный ящик радиоприемника. Целые дни они тратили на квест: поймать тоненькую волну радиопередачи, порой прорывавшуюся сквозь грохот войны и бури на океане.
Единственное, что вносило разнообразие в это высокогорное бытие, – румяные йоуфридские щеки, показывавшиеся из фермерского дома, – и как эти убогие могут жить в таких норах? Таких кочках с дымоходами? My oh my – примерно после полудня с бутылкою молока – и бутылка всегда одета в толстый шерстяной носок! В этих льдах даже молоку холодно! Но само оно было не холодное. Парной носочный сок. Фермерская дочка была как лучик в пасмурный день.
– Hello there Joffrey!
– Халлоу.
– Some good milk today?
– Йес.
– How old are you?
– Не понимаю… – смущенная улыбка. Он и она смеются. Он – как мировая держава. Она – как хутор с хижинами.
– You have many siblings? Sisters and brothers? You know, I see a lot of children down there, at the farm. Small children, – гладит по головке воображаемого ребенка. – How many?
– Двое, – отвечает она. Она родила двоих. Йоуфрид Тоурдардоттир. Тридцатилетняя женщина с девическим лицом. Он не старше двадцати. Такой блистательно темноволосый. Она подает ему молоко. Он его берет. Когда он достает его из носка, оно белое и чуть теплое. Белое, теплое, сулит утоление жажды. Его губы – чужой мир у горлышка бутылки. Бекас выписывает в воздухе несколько кругов, чертит судьбу на всю жизнь, а по осени улетает прочь из страны, проводит зиму на континенте, под градом бомб. Когда по весне он возвращается, то в доте уже другой юноша. А у девушки, носящей с хутора молоко, теперь молоком полны обе груди. Ребенка назвали Эйвис[37]. Нарочно?
Через четыре года с юга пришла посылка, и тут до Хроульва наконец дошло, отчего средняя дочь решила спать с лютиками в волосах – этих прямых темных волосах, которых отроду не водилось в этих краях. Это наконец дошло до него, когда он стоял и держал в руках деньги возле сарая под вечер, и он отвел взгляд от заплаканных глаз своей Йоуры, поднял взор от хутора Болотная хижина, посмотрел на горы в сторону Хельской долины, немного помечтал, но потом очнулся, отшвырнул конверт, загнал жену в хлев, как корову, и там вскочил на нее верхом, как на кобылу. Она разрыдалась, как женщина. А он пробурчал, полный праведным гневом, как мужчины всех времен: «Всего-то еще одно из сорока тысяч незарегистрированных изнасилований в истории Исландии». Старый Тоурд, когда она прихныкала в спальню, храпел, а ее мать Душа Живая на это:
– А где же Хроульв? Ушел куда-то?
– Да, на хейди поехал.
– А что это было за письмо?
– Письмо? Да? Я… Оно от… оно из Америки. От его дядюшки. Наверно, деньги.
– Деньги? Ох, не к добру это!
Глава 10
Ах, кажется, я начал выдумывать. Я забавляюсь этим, пока девочка спит. Пока весь дом спит. И где-то в его внутренностях лежит моя Хильд с моей книгой на груди. Интересно, какая это книга? Спрошу у нее с утра. На Болоте мне так интересно, что Гейрлёйг приходится напоминать мне о телефоне.
– Ты же позвонить хотел?
Она предлагает мне свою помощь в поиске телефонного номера. Такой уж она человек – ей нравится всем помогать. Она всех нас превращает в детей малых. Мы два часа прождали, пока станция не закрылась. Здесь, очевидно, старый добрый «сельский телефон»[38]: все сельчане подслушивают чужие разговоры. Две бабы болтают, а все остальные слушают – и я тоже. Тонкий голос:
– Сейчас же он вроде на Болото переехал. Хроульву же стало совсем невмоготу его у себя держать. Это же совсем не весело – когда к тебе на двор вдруг целый человек свалится!
Ach so.
– Можно подумать, ему только этого и не хватало: у него же хутор, хозяйство, а тут еще лишний рот прибавился, да ведь его еще и одевать надо! Он же, когда там появился, вообще без носков был, – отвечает другая; судя по всему, она на несколько лет старше, голос у нее толстый и хрипловатый.
– Да, но ел-то он мало. Почти ничего и не ест, только кофе пьет. И что самое удивительное – из него потом ничего не выходит.
– Да ну? А может, это вообще какой-нибудь альв?
– Вполне может быть.
– И что они там, на Болоте, будут с ним делать?
– По-моему, они его в столицу отправить хотели. А так про него вроде объявление дали в газете, но Бриньоульв говорит, из этого толку не вышло.
– Просто сплошные загадки! Нашелся вот так вот, в горах, ничего не знает, ничего не помнит – ни откуда он, ни как его звать.
– Да уж, надеюсь, у меня память настолько не отшибет, чтоб я забыла, как меня звать!
– Его зовут Эйнар, – встреваю я.
– Бенси! А ну, положи трубку! – приказывает тонкоголосая. А хрипловатая подхватывает:
– Бенси, это ты? Тебе что, заняться больше нечем, кроме как чужие разговоры подслушивать? А если уж слушаешь – то пусть у тебя ума хватает самому молчать!
– А это не я, – слышу я старческий мужской голос где-то далеко-далеко на линии.
– Да тебя даже издали узнать пара пустяков – прямо как навозную кучу на твоем хуторе, которую с середины хейди видно! – говорит тонкоголосая.
– А я слышала, что у него уровень навоза в хлеву поднялся до середины двери, так что он даже не смог войти туда коров подоить! – прибавляет толстоголосая.
– Брехня это все! – хнычет вышеупомянутый Бенси, жалкий старик. – Зато свой собственный навоз я выдаю без посторонней помощи – в отличие от некоторых!
– Слушай, милый мой. Мы тут, вообще-то, по телефону разговариваем, – говорит старуха.
И тут они вновь возобновили разговор и поддерживали до тех пор, пока телефонная станция не закрылась.
Она спит. Эйвис. Ей снится саранча. Нашествие саранчи в Исландии. Где она видела этих созданий? Может, дедушка Овертон в Кении служил? Подспудно мы знаем всё – только сами об этом не подозреваем. Внутри нас целый мир, и мы вынашиваем его, как беременная женщина: лишь немногим дано его родить. Я всю жизнь боролся с этим – и к чему это привело, кроме этой сибирской ссылки?
А сейчас меня, видимо, собираются в столицу отправить.
Я вышел из комнаты, покуда она, девочка, раздевалась и ложилась в постель. Из вежливости. Содомитских наклонностей у меня никогда не было. За что я благодарю Господа Бога. Лишь один раз я обвинил самого себя в извращенчестве. Это было в бассейне на Лёйгарватн. Я вышел из раздевалки – и группка верещащих пышненьких девочек в бассейне тотчас замолкла. Такова власть «крупнейшего писателя Исландии» в плавках. И они все обмочились: то ли от страха, то ли от восхищения, и вода вокруг них пожелтела; я обнаружил это, только когда залез в водоем, а они уже убежали. Я позволил себе немного почупахаться в тепловатой девчачьей моче – но, скорее, только ради хорошего сюжета… Эйвис уже легла, когда я прокрался в комнату и лег поверх одеяла на свою кровать. Так мы и лежали, словно усталые с дороги дедушка с внучкой и разговаривали, глядя в потолок.
– На Болоте хорошо, – начал я.
– Ага.
– А в Хельской долине вы, наверно, живете совсем замкнуто?
– Ну… бывает.
– А Постреленок? Ему, наверно, скучно, что сестра уехала, а он остался один с папой и бабушкой?
– Да; только, по-моему, ему скучно не бывает.
– Да, мальчонка горазд на всякие выдумки.
– Да.
– А ведь Хроульв с вами порой суров?
– Гммм, – доносится из-под одеяла, и я останавливаюсь и жду, пока откроются шлюзы, – но она просто молчит, и все. Я пробую зайти с другого бока:
– Но ему, наверно, хозяйство вести непросто? Он ведь один, и механизмов у него почти никаких нет?
– А ему хочется быть одному.
– Э… Да… Я-то его, конечно, настолько хорошо не знаю, – говорю я и тут мешкаю, не зная, что сказать дальше, но потом продолжаю: – Но, по-моему, он вас любит.
– Да, – равнодушно отвечает она, – он мне позволяет в школу ходить.
– Да.
– Но лучше бы я была овцой.
Она произносит это с неожиданной решительностью. Я быстро бросаю на нее взгляд, но различаю лишь лоб, сияющий в темноте, словно белый цветок в ночи. Крошечный нос над одеялом.
– Овца? А почему ты так говоришь?
– Потому что тогда бы у меня рук не было.
– Ach so. Вот оно как. Рук, значит… Э… Так ты его не любишь?
– Он мне папа.
Она поворачивается на подушке и теперь смотрит на меня. Кажется, я вижу, как сверкают ее темные глаза под светлым лбом, окаймленным темными волосами. Заинька.
– Спасибо, что сходил за мной, – говорит она.
– Сходил? Ах, во время бурана? Да не стоит.
– Все равно спасибо.
Через темный океан между кроватями я чувствую связь. Чувствую, что я как-то связан с этим маленьким женским персонажем; она могла бы быть моей дочерью во втором поколении. Она напоминает мне…
– Спокойной ночи, – говорит Эйвис и опускает занавес над глазами.
А я продолжаю лежать и смотреть этот великолепный фильм ужасов из голливудских запасников: «Саранча на Спренгисанде[39]». Он мне папа, сказала она. А она не его дочь. Он ее сын. Получил хутор от нее в наследство. Она напоминает мне какую-то девочку, которую у меня отобрало время. Боже мой! Это не обычная саранча. Гигантские насекомые. Вот уже ледник Ватнайёкютль стал черен от них. Помимо авангардизма я всегда презирал в этом мире три вещи: ужастики, детективы и научную фантастику. Я выхожу в коридор.
Дом спит.
В коридоре легкий запах горелого хлеба. Они, что ли, на завтрак тосты будут подавать! Болото – хутор культурный. Тут школа. Я прокрадываюсь мимо дверей. За какой же из них спит Хильд? Да, эта фрекен меня захватила. И на ночном столике у нее – какая-то моя книга. «Я вас каждый вечер кладу с собой в постель», – так они меня порой веселили, эти йенточки[40] с Лёйгарватн. А я только и отвечал: «Ach so». Писателям свойственно ревновать к собственным книгам. Йенточки. Такие юные, красивые и начитанные. Взрывоопасное сочетание. Но я в ту пору уже вырос из всякого женолюбия и радовался лишь тому, что хоть в моих книгах еще есть капля сексапильности… Я бреду в кухню и сажусь за стол. На улице ночь с мягкой метелицей.
На главном вокзале в Дрездене я, юный, стоял на перроне и смотрел на отправляющиеся поезда. И в каждом из них было полно народу, в освещенных вагонах каждое сиденье занято, и они прокатывались мимо. Поколения прокатывались до самого конца жизненного пути, и некоторые сидели с книжкой. Немцы, итальянцы, французы, большие народы, культурные, – люди. И некоторые – с книжкой. А я спрашивал: могут ли все эти люди стать мне близкими? Да, всем этим людям надо обязательно почитать меня. Мое честолюбие: покорить мир. А удалось ли мне это? Знаменитым на весь мир писателем я не стал. Только «широко известным». А это отнюдь не одно и то же. Ибсеном мне по этой причине никогда не бывать, да и Гамсуном тоже, правда, последний этого и не заслужил, его слишком переоценили, с его своеобразным пониманием людей и однотонностью повествования, ведь такая у него была натура. Меня, правда, тоже часто обвиняли в «поперечной натуре», зато я служанок не бил только за то, что они ставили стакан с молоком слишком близко к тарелке с кашей, как «великий поэт» с Нёрхольма[41]. Нет. «Пан» – кажется, единственная книга, которую я в жизни сжег. Полковник, который живет в лесу и день-деньской разговаривает с деревьями. И это называется – влюблен! А стоит появиться ей, как он скорее в лес, и ей же приходится за ним бежать! За этим дубоголовым! В деревья он влюблен и больше ни в кого! Нет, сейчас бы такое назвали мизогинией. Почему же никто этого не делает? А? И Кафка с этими своими схематичными человечками! Лучше бы они вняли его совету и все это сожгли. Он сам лучше всех знал, насколько у него плохо получилось. Ни малейшего проблеска жизни! Во всяком случае, той, которая известна мне. Одни сплошные аллегории! Превращение человека в жука – неплохой рассказ для семнадцатилетних подростков и всех, кто так себя чувствует, это отлично для мелкого сельского сочинителя, который предъявит это в городе, чтоб как-то выделиться среди всех этих овец, но человеку после тридцати лет эта повесть уже ничего не скажет. А все остальное – сплошные истории об «отчуждении». Так нет, поди же, ему досталась мировая слава! А благодарить за это надо, очевидно, тех приятелей – Гитлера со Сталиным. «Он предвидел тоталитарное государство». Но оно, слава богу, уже кануло в Лету, так почему же и он не исчезнет? А? Вот Ибсен, хотя и скучен – а все же настоящий поэт! Он такой по-деревенски несмешной, как и все эти норвежцы. В них есть эдакая «keisemd» – это довольно забавное новонорвежское слово, обозначающее скуку. Вот как человек, который собственную жену называл Орлом, мог развлекать других? Я спрашиваю.
Нет, моя мечта так мечтою и осталась. Видимо, мне придется признать: в какой-то мере моя жизнь была поражением. Поражением, «широко известным в ряде стран». А каких стран? Да не особенно великих. Норвегия, Швеция, Дания, кусок Германии, а потом кое-что из Восточного блока. Несколько замызганных подъездов в Варшаве и Вроцлаве. Я стал мировой знаменитостью во Вроцлаве! Подумать только! Впрочем, город этот довольно красивый и опрятный и единственный в мире, где выстроилась очередь в книжный магазин за Э. Й. Гримсоном, исландским автором, «одновременно забавным и трагичным», «одним из крупнейших писателей»… во Вроцлаве! В те годы там, на востоке, создать очередь было легче легкого. Там люди просто жаждали хороших очередей. Очереди были их единственным развлечением, единственными разрешенными сборищами! Нет, «никто не прославится на весь мир тем, что переправился через Одер, если только у него не будет танков штук эдак семисот», – сказал мне один добрый человек, когда я пожаловался, насколько малозначащей оказалась моя слава в Польше. «Из Варшавы новости хорошие, да?» – сказал я Тоумасу. «Да только Варшава не важна, а важен Лондон. Нам надо завоевать Лондон!» – «Да? И что ты хочешь? Может, нам воздушный налет устроить?»
Тоумас. Тоумас Сыродел. Он умел продать сыр с дырками. Мог продавать дыры. А в моих книгах дыр не было. Не знаю, читал ли он когда-нибудь мои книги. Но тем увереннее он был в том, что они нужны… да, во Вроцлаве. Может, Тоумас – мой порог? Я никогда не доверял волосатым. Мне всегда казалось, они все берут «из-под волос». Да, наверно, с агентом получше мне бы больше посчастливилось. И как он вообще умудрялся продавать то, чего не читал?! А может, это все из-за того, какой мы, исландцы, маленький народ? Да какому человеку в здравом уме, живущему на Авеню Клебер, захочется тратить вечера на книгу о Сиглюфьордском цирюльнике?[42] Да почти никому! Зато ему захочется узнать все-все о сумасшедшем генерале, который брел напролом сквозь лес, словно лось в любовной тоске где-то на дальних северах Норвегии! Да потому что ему так велела «Ле Монд»! А ведь хибарка, в которой родился Гамсун, была ничуть не лучше хутора на Гримснесе. А может, причина в другом? Может, я просто-напросто не слишком хорош? Нет, черта с два, я все же лучше, чем Гамсун!
Это все просто наша страна, Богом забытая! И народишко наш малочисленный! У нас людей так мало, что каждый человек идет за двоих. И никто высоко не взлетает, потому что за обе ноги привязан. У всех есть вторая работа. У моего издателя все руки перепачканы сыром! У музейного сторожа в свободное время нагрузка: быть президентом. Живописцы дома красят. Телеведущий – одновременно композитор, сочиняющий классическую музыку. Объездчик лошадей – руководитель оперы. А все наши поэты, болезные, которым платили за то, чтоб они по сорок лет в библиотеках храпели![43] Даже сам премьер-министр тайком пишет стихи! Каждый мало-мальски способный ум расщеплен надвое, натрое. Исландии следовало бы дать название «Шизофрения». Разумеется, у нас было много отличных людей, но вечно повторялась одна и та же история: каждый раз, как их посылали на состязание в большой мир, они терпели поражение. Наш лучший кандидат вечно занимал сотое место. Лучший каменщик Исландии проигрывал лучшим каменщикам девяноста девяти других стран, в каждой из которых было по девяносто девять каменщиков, которые превосходили его в искусстве шлифовки. И наш лучший кандидат оказывался № 9 802. Я сам был немногим лучше. Да… Полвека прокорпев, я каким-то образом попал в список «Двухсот лучших ныне здравствующих писателей мира», изданный в Лондоне в качестве какого-то юбилейного развлечения. Слава богу, Гамсун к тому времени уже отдал концы. «E. J. Grimson, Iceland» – восемьдесят второе место. Великолепно! Разумеется, на это никто не стал обращать внимания. Тогда мне только что отказало издательство «Penguin», ведь в ту пору в книгоиздательском деле началось поветрие сексапильности, и эти издательницы печатали лишь тех, с кем им хотелось лечь в постель, а старика никто из них не хотел ни в идеале, ни на одеяле. И все же это была моя величайшая победа – тот самый стебелек дягиля, на котором повисло мое тщеславие, словно скальд на горе Хортнабьярг[44]. Но, боже мой, чего мне это стоило! Один-два возможных брака, семнадцать тысяч газетных статей и полвека одиночества. Я нес эту страну на плечах, словно Геракл – а ведь я им не был. Я был не Геракл, а Овидий в изгнании на север в варварские края, где даже молоко холодное. Половина моего писательства была посвящена тому, чтоб не давать народу заснуть. Держать его в бодрствующем виде – может, он хоть так прочтет мои книги. Двойная нагрузка. В каждом исландце живут двое: он сам и тот, кто дает ему возможность быть им. Автор – и издатель. Композитор – и директор школы. Художник – и критик. Да, кстати о критиках. Все эти малообразованные пернатые падальщики, всю свою жизнь клевавшие, каждый на свой лад, лодыжки Геракла. Ох!
Бессмертие.
Конечно, я его жаждал. Я жаждал его на вокзале в Дрездене в 37-м. Уносился в мечтах за поездами в Лондон, Берлин, Рим. А сам потом залез в громыхалку, идущую до Вроцлава.
О, да…
Кому на пользу смеяться в собственной могиле, словно замерзшему пастору?
Подумать только, я тут, наверно, уже два-три часа просидел! Из хлева доносится первое утреннее мычание, хотя за окном кухни темнота все еще не спешит сдавать позиции. Я ковыляю в коридор, мимо телефона, висящего там высоко на стене, в комнату, наполненную водой – зеленое море с разноцветной фауной; я закрываю за собой дверь и чувствую, что море горячее, а потом медленно заплываю в постель, словно рыбки из снов девочки.
Глава 11
Звонить мы принимаемся рано. Гейрлёйг отвлекается от дома, кухни, коровника, овчарни, школы и комнат, где спят дети. И вот, начинается. Все бабы принимаются доить. Связь с телефонной станцией.
– Эйнар Й. Гримссон, улица Мелабрёйт, 21, город Сельтьяртнарнес, – кричит хозяйка в зияющую черную воронку, укрепленную на стене, и снова повторяет адрес. Когда я слышу свое имя, это придает мне чувство блаженной защищенности. Только бы моя Рагнхильд оказалась дома! Проходит долгое время, и Гейрлёйг подает мне трубку:
– Связь есть!
Я дрожащей рукой беру ее и слышу самого себя:
– Алло.
– Здравствуйте, – отвечает голос, знакомый мне так же хорошо, как свет солнца.
– Ранга, дорогая…
– Простите, а кто это?
– Это я.
– Да? И что же это за «я»?» – раздраженно-насмешливо отвечает она. Я замечаю, что двое малявок стоят в коридоре у дверного косяка и глазеют на меня. Я оборачиваюсь.
– Я просто хотел сказать, что я сейчас на хуторе Болото. Я на востоке… – выпученные глаза хозяйки таращатся на меня за увеличительными стеклами. Да ну вас! Уже нельзя старому человеку по телефону спокойно поговорить?! – …на востоке страны. Мне здесь хорошо, и… со мной все в порядке!
– Кто это?
– Это я, Эйнар.
Я слышу, как она тихонько говорит кому-то рядом:
– По-моему, это тебя.
– Алло? – говорю я.
– Да, здравствуйте, – отвечает мужской голос.
– Э… да, это Эйнар Гримссон.
– Ach so?
Я отнимаю трубку от уха и смотрю внутрь нее: в черную дыру на мироздании.
Глава 12
Где-то далеко-далеко на высокогорье моей души каркает ворон. Весна пришла! Ха-ха-ха! Перелистываю свои глаза на следующую страницу. Светлые ветви. Весна под крышей. На коньке каркает ворон. Исполненный черной, как сажа, насмешки. Ему это смешно. Оседлая птица смеется над появлением перелетных. Чернокожий ухмыляется белой ночи. Ха-ха-ха!
Я просыпаюсь. Значит, я спал. Я все еще здесь.
Спальный чердак безлюден, и я поднимаюсь, спускаюсь вниз. Кухня обезбабела, дом затих. Где же все люди? На улице ветерок, но не совсем холодный: он с юга – солнцем повит. Рваные облака. По-моему, это апрель. И почему-то на ум приходит Тарковский. Тун желт, весь в лужах, и в ложбинах грязные сугробы. Зима уходит, не прибрав за собой. Апрелическая весна: когда ржанка уже прилетела, а зиму не прогнала[45]. Когда земля уже проснулась, а трава еще лежит ниц. Когда в горах мороз, а все ручьи уже вскрылись: горные склоны взялись за работу. Был бы я молод – конечно же, сочинил бы стихи, но я стар, и мне уже не до таких выкрутасов. Я – старый гнилой телефонный столб желтой весной, по моим проводам уже не побегут слова. Так что – я целую зиму проспал?
Ворон пролетает надо мной и садится у навозной кучи, отрывисто хохочет над невежественным цветком, решившим, что настало лето, а потом улетает. По-моему, это лютик. Солнышко, только что вышедшее из темной земли. Я наклоняюсь к этому лютику и пытаюсь определить, какого он года выпуска. Да, сразу видно: пятьдесят пятого! Значит, я проспал три зимы. Это странствие во времени так весело. Месяц торри[46] пережидать не надо, можно его просто проскочить. А навозная куча не изменилась. Нечистоты всегда те же, – горячо бормочет она под холодной коркой. В хлеву жалуется корова: ей хочется на волю. А где же все? Я бреду в коровник.
Четыре пузатых одра пялят белки глаз на свет. Одна поднимается на ноги, но она здесь как корова на льду. Этот хлев – дрянной филиал центрального банка на Болоте. За мое внимание соперничают четыре хвостатки. Они напоминают мне пресс-конференцию: там все носятся, задрав хвосты, и каждое слово из моих уст им как сено. Журналисты – это коровы. Если им не задать свежего корма, они будут снова и снова пережевывать все ту же жвачку. А то, что выходит у них самих, – самый натуральный навоз. А мухи просто рот разевают. Невежды эти мухи. Книжек не читают.
И вдруг мне вспоминается произведение немецкого художника, жившего у нас когда-то. По-моему, его звали Дитер. Такой занятный пивнястый малый, женатый на исландке. Я видел одну его работу – и диву дался, как из такой толщи пробились цветы гениальности. Это был образчик концептуализма – а обычно мне это направление не по душе. В стеклянной витрине лежали две книги: «Майн кампф» и «Война и мир». А затем художник напустил за стекло целую колонию голодных муравьев-листорезов, и результат был до умопомрачения божественным: Толстой оказался весь изъеден и издырявлен этими мелкими тварями, в то время как гроза человечества по-прежнему лежала целой и нетронутой в своем переплете. На «Майн кампф» муравьи даже не взглянули. А я тогда едва снова не поверил в Бога.
Вот журналисты мычат мне, просят чего-нибудь «гениального». Ах, все эти интервью, числом тысяча, ах, вся эта пресса! Это они доили меня. Я прощаюсь с этим навозным сословием и ухожу по моховине в сторону озера. Кочки тверды от мороза, седовласы от мертвой травы – прямо как моя голова. Наверно, мне потребуется целое лето, чтоб изгнать из нее мороз, оттаять свою память и как-то разобраться во всем этом!
Озеро под названием Хель. В него впадает все, что есть в этой долине, а из него, судя по всему, ничего не вытекает. Долина – как ладонь с крошечной пригоршней воды, и там стою я – былинка в руке Господа. И двое лебедей пугаются этой былинки и выбрызгиваются в воздух у дальнего берега. Поверхность воды небрежно исчеркана кистью слабого ветерка: он рисует узор, но не дает этому минималистическому мотиву заполонить все: ближе к берегу линии затихают, и там видно дно. Кажется, до этой серо-зеленой слизи глубина – по колено. Медленно тянутся локоны водорослей, словно русалочьи волосы, а вот и рыба. Жирный голец, фунта на четыре[47].
Он в очках.
Голец – в очках, у него человеческий профиль. И черт меня возьми, если это не профиль нашего Фридтьоува! Ну-ну. Значит, он помер, родимый? Стало быть, помер и переродился. Осужден шевелить плавниками в хельской водице. Четыре фунта. Мой Фридтьоув тянет на четыре фунта. Наверно, ему это в радость, ведь на суше он был таким легковесным. А где же удочка?
Я наблюдаю, как он плавает по озеру взад-вперед. Выражение лица такое же серьезное, как когда он, плавникуя полами пальто, шел по улице Банкастрайти к себе в редакцию: каждый шаг – как историческое событие, очертания рта суровы, словно губы – чаши весов, на которых взвешивается правильное и неправильное в искусстве, а глубокие борозды на лбу – те, что он прочертил в литературной жизни страны. Весь его вид недвусмысленно говорил о том, что это идет человек, ответственный за исландскую литературу, факелоносец, несущий божью искру в своем историческом шествии по Банкастрайти. Длинный худой пальтоносец, носатый, впалощекий, и глаза у него птичьи в этих пластмассовых рамках, каковыми были и по сей день остаются его очки. Голова редковолоса, плоскозатылочна – всего лишь обтянутый кожей мозг. Как раз его и имел в виду Шекспир, когда его Юлий Цезарь пожелал видеть в своей свите только тучных – крепко спящих ночью. Да, я до сих пор помню строки: «А Кассий тощ, в глазах холодный блеск, / Он много думает, такой опасен <…> Такие люди вечно недовольны, / когда другой их в чем-то превосходит»[48]. Уильям Шекспир. Чертов гений! Откуда у него такие познания? Какой-то актеришка из провинции стал на земле уполномоченным Бога. Одно его имя будоражило меня, будило по ночам и влекло к окну. Там он смеялся в небесах: луна, управляющая приливами и отливами в наших соленых душах. Мое лицо в свете его лица: подсвеченная зависть.
Наверно, я сам не был тучным.
Фридтьоув Йоунссон. Обрат[49] сливочных школ этого мира. Учился в Париже. Бывал в Париже. Только ни фига он там не выучил, кроме глупости, которая там все заполоняет. Ходил на курсы в Сорбонне! Полтора года. И всю свою жизнь построил на этих полутора годах. Носил их в кармане, словно какое-нибудь служебное удостоверение, позволяющее ему казнить и миловать нас. Один из «парижских поэтов», которые «совершили переворот в исландском стихосложении». Фух! Которые его разрушили. А изменить им так ничего и не удалось – как не удалось превратить Квос[50] в Латинский квартал путем шатания по нему в беретах! Он от этого только приобрел еще более деревенский вид. Нет ничего более провинциального, чем «граждане мира», которые нигде в мире не бывали! И как вообще этот щеголь затесался в редакцию газеты и получил там всю власть? Ах, у Фридтьоува же был правый уклон. Он был «буржуазным поэтом».
«Буржуазному демократическому обществу и западной культуре свойствен постоянный поиск новых неожиданных путей пересоздания и новаторства, в то время как левые силы и их перья пребывают в стагнации в традиционных формах реализма и натурализма». Он умел все высказать за полтора раза. Он этому научился за те полтора года в Париже. Купил себе очки у какого-то тамошнего оптика в каком-то импассе[51] и с тех пор все видел в черно-белом свете: «moderne» и «pas moderne»[52]. Словно упряжная лошадь, тянул он свой бумажно-гладкий культурный груз по пути авангарда, добросовестно сворачивая по указателям: Surrealisme, Absurdisme и Le Nouveau Roman. Французы щедро производили нонсенс. И давать всякой ерунде названия тоже умели! «Абсурдизм»! Если верить словарю, это просто-напросто «бессмыслица». Более новое поветрие – деконструктивизм. Кажется, это означает «разбор». Высокообразованные специалисты по повесничанью развлекались тем, что разбирали на составные части западную культуру. В последний раз, когда я о них слышал, они уже полностью разобрали Ветхий Завет и взялись за Новый. Последним с юга нам прислали «минимализм» – чрезвычайно изысканное слово для бездуховности.
Сквозь все эти толстые очки я, конечно же, был всего лишь «рабом сюжета», который сидел, корпел и «тянул нить своего рассказа, словно какая-нибудь швея или рукодельница по датским журналам[53] прошлого века. Новая эра требует новых форм и нового мышления, а здесь пером словно бы водит призрак Диккенса». Ах, как это утомляет! И с таким легкообразованным деревенщиной мне пришлось бодаться всю жизнь! А все из-за того, что в отрочестве я затесался в ряды коммунистов – просто потому, что искренне верил в права человека. И за это я был осужден тиранами от авангардизма на вечное изгнание. А тут еще меня самим Диккенсом пытались побить! Наверно, он был не в духе. А для меня не было большей отрады, чем оказаться в одной камере со стариной Бозом, пока я отбывал пожизненный срок по приговору, произнесенному судом авангардистской инквизиции. У каждой эпохи свой бзик, и в двадцатом веке это было массовое производство: сотни тысяч экземпляров Гитлера и Сталина.
Фридтьоув. Это имя означает «вор мира». Он украл у меня покой и то уважение, которого я заслуживал. Он пытался отнять у меня мою родину – ту страну, которую я носил на своих хрупких плечах всю жизнь. Страну, которую я пробудил к жизни. Он пытался убаюкать ее своими длинными статьями в газете «Моргюнбладид» – «газете всех соотечественников». Потом редакция велела ему послать ко мне человека на мой восьмидесятилетний юбилей. Этого было не избежать! Тогда крупная британская газета только что подтвердила: восемьдесят второй из лучших писателей мира сидит на своем Мысу и уже просидел там двадцать лет, а у него всего и было-то что интервью на страничку в маленькой «крупной газете». И он послал ко мне человека. Засланца. Собственного племянника! Сизоносого образованца, исполненного какой-то историографической справедливости: «А сейчас, когда Стена пала, что Вы, оглядываясь назад, считаете главной причиной того, что так много культурных людей и писателей Вашего поколения угодили в сети такой тоталитарной системы, как коммунизм?» Приторный парниша, весь вид которого говорил о том, что всю жизнь он каждые выходные «высыпался как следует». С чего мне следовало начать? Может, для затравки рассказать ему о «законе о часах бодрствования»?[54] А? И что я должен был ответить за Коммунистическую партию в 1992 году? Я же с 1938 года на партсобрания не ходил! Ничего себе юбилейное интервью! Лучше бы я последовал примеру Эдварда Мунка, который на свой семидесятилетний юбилей отослал журналистов обратно в свою «Овценпостен»[55]. Но проклятое тщеславие удержало меня от этого. Оно желало свою фотографию в газете. И я решил ответить в том духе, что мы все еще живем при коммунизме в литературе и искусстве. Стена модернизма не пала. Но, конечно, мой славный «вор мира» это вырезал – и в ту ночь, разумеется, спал спокойно. Спал своим гомосексуальным сном, положив на подушку свою вечно нецелованную голову, в которой хранил все мои «секреты». Да где же ты теперь, родимый?
Фридтьоув подплывает к берегу – толстобрюхий голец – и смотрит вверх. Да, сейчас он, зараза такая, смотрит на меня снизу вверх. Мы заглядываем в глаза друг другу – и тут меня осеняет:
Я понимаю.
Теперь я понимаю все.
Теперь я наконец вспомнил. Фридтьоув растопил мою память. И в этой глыбе льда, словно замороженный мамонт, открывается: старый роман. Который я писал. Роман о Хроульве из Хельской долины. Как же он назывался-то? У меня кружится голова, мне нужно присесть, я снова прислоняюсь к кочке и смотрю на небо: боже мой, боже… Это у меня судьба такая? Сидеть на берегу этого озера, которое я полжизни назад сам напустил из своих чернильниц? Ей-же-ей! Я оказался в своем собственном романе! Насмешка небес. Выкрутас времени. Ощущаю холодную мокреть на заду и локтях, поднимаюсь. Руки у меня трясутся, голова снова идет кругом; я едва не полетел кувырком, пробираясь между кочками. Как может писатель промокнуть в своем собственном романе? И как может писатель жить в собственном романе? Да, он это может, но только одним-единственным образом: если он помер.
Я помер.
Приходится признать, что это известие несколько разочаровывает меня. Значит, это смерть. И все в курсе, кроме меня самого. Позади похороны, цветы, венки, поминки, некрологи. Интересно, сколько из них Фридтьоуву удалось зарезать? Сколько мне досталось страниц? Тоумасу Гвюдмюндссону[56] был посвящен целый добавочный номер газеты. Давиду Стефаунссону – три разворота. И даже этому шуту гороховому Тоурбергу посвятили целых семь страниц в консервативной газете, хотя сам-то он коммунист. Просто из-за того, что он «интересный». Да, по крайней мере, на этих похоронах мне скучать не довелось. Мне должен был быть посвящен отдельный номер газеты, сплетен на шесть разворотов. Вот зараза. Крупнейший писатель страны. А церковь была битком? Или там «остались места»? Вот чего я не мог терпеть, так это пустых сидений. А все мои пьесы? Где они сейчас? Почему я живу только в этом произведении? Я написал восемь больших романов и три повести! Семь пьес! Шесть сборников статей! Пять книг мемуаров! И две книги путевых очерков! И вот – сижу здесь, застряв в этом единственном романе, – и позволяю ему промочить меня. Он – единственное мое произведение, которое живет? Я буду жить только в нем? Если это жизнь. А Хроульв, Постреленок, Душа Живая, Эйвис – это все мое создание. «Так возникают горы». И фермер с Болота – точная копия Лауси Элек-трюка. Да, похоже, писатель собственного творения и не признал. Но откуда мне, черт побери, помнить весь этот люд? Я о нем полвека ничего не слышал.
А я-то собирался в загробной жизни как следует отдохнуть после всех этих трудов. Я жаждал покоя. «Здесь покоится Эйнар Й. Гримссон, 1912–2000». Да, да, на камне это выглядит изящно, и школьникам удобно запомнить эти числа.
Да, похоже, я мертв.
Фридтьоув стоит под берегом и смотрит на меня снизу вверх. Я для тебя ничего не смогу сделать, родимый, разве что съесть тебя или позволить кому-нибудь съесть. Ха-ха! Рыбка в моем озере. Так и только так будешь ты жить, и скажи еще спасибо, что тебе не придется прозябать в твоих собственных стихах, мерзнуть там «Среди камней» или во «Мхах». Меня-то мои мужики хоть выпивкой угощают. Дылда Фридтьоув. Значит, ты-то меня в конце концов и разоблачил. Да. Микроскопическая деталь в большой книге: единственный грех, который я совершил: пойдя на поводу у гнева, придал рыбе гольцу твое лицо. Я просто не удержался, это сравнение показалось мне таким удачным: «А в озере плавает рыба, глаза-очки, рот-подковка, глубокомысленная, как литературный критик, который судит о мире на суше со своей мокрой точки зрения сквозь ту взвесь, которую поднимает его злость…».
Я склоняюсь к воде, чтоб получше рассмотреть его, но тут критик метнулся и уплыл прочь от писателя под волнистую поверхность воды, а я так и остался стоять на коленях перед собственным спокойным отражением. Кажется, зимняя спячка пошла мне на пользу. Выгляжу я просто отлично. Не в последнюю очередь, если учесть, что я только что получил известие о собственной кончине.
Я возвращаюсь на хутор. Бреду в траве, покрывшей кочки, которую мне, кажется, удается выписать из мороза. Какое удивительное, удивительное чувство! И горы – славные горы, сочиненные мною, ей-же-ей! И хутор – так недурно построен. Мой отец гордился бы. Он умер, кажется, осенью того года, когда вышел мой первый роман. «Свет умиротворения». Как слащаво было детство наше![57] Написано в Москве зимой 37–38-го. Через год такое заглавие стало нелепым, и мне пришлось долго признавать, что это была шутка. Мама говорила, что отец прочитал первую главу. Очевидно, она сказала это, чтоб приободрить меня. Она же всегда хотела как лучше. «Он умер, держа твою книгу в руках». Вот именно! Со скуки помер! Я его убил. В девять лет я пожелал, чтоб он сдох прежде, чем прочтет, что я написал, – и вот это желание сбылось. Ах, папа, если б ты это видел: долину, солнце, весну. Ржанку, которая там поет. Сам-то я фермером не стал, но я создавал фермеров. И вспахивал эту землю пером: моим плугом. Гейрлёйг, Хильд, пышногрудие и оладьи; целая сельская телефонная линия из баб и одного мужика – все это иллюзия, вымысел, ложь: то, что в быту мы зовем литературой. Ей-богу! И да, мама, я не забыл надеть ему, то есть фермеру, шерстяные подштанники. Единственный литературный совет, которому я внял на своем веку: она просила меня всегда как следует одевать персонажей, «чтоб им было не холодно». Ей-богу же! И даже запах, сельский телефон, ржанка… с шестью тысячами налетанных километров в желудке… Докуда простирается творчество? К морю до Фьёрда? На юг до Рейкьявика? До самого Лондона? Нет, дух человеческий не ведает преград, он пять раз облетает вокруг Земли на заходе Солнца, долетает до Луны и обратно прежде, чем корова успеет моргнуть глазом. Я хватаюсь за голову – так вот почему я те сны видел – голова кружится – так вот почему я зверей понимаю – нет, больше не надо, я чувствую, как растет давление. Голова пухнет. О, Господи, избавь ее от мучений! Я – голова в голове. Автор всего этого: этой страны, этого неба. И меня переполняет головокружительная тоска, а печаль пригибает меня к земле: я склоняюсь к траве, своей траве.
Ах, как печально. Как печально оказаться запертым в собственном мире, собственном творении. И я становлюсь так печален, как может быть один только Бог. Ах, помоги же мне, жалкому человеку, – я лежу на спине на студено-мокром мху, и смотрю на небеса, и молюсь как никогда прежде. Снова молюсь. Господи! За пределами этого мира – твой мир, и в нем мой мир – всего лишь зернышко, одно-единственное зернышко в твоей ладони, и в этом зернышке я – малое зернышко, а в моей ладони это зернышко, которое… я давным-давно посеял. Как же это все сложно! Господи! Я всегда верил в твое существование, хотя и отпускал шутки, – а вот теперь начал сомневаться. Сейчас я сомневаюсь. Наконец сейчас, когда я понимаю тебя и твое положение как… да, как коллега, значит… Прости мне, отец. Но, значит, у нашей жизни не было высшего смысла? Значит, нашей высшей наградой стала лишь тщета и суета? Жизнь после смерти в собственных произведениях? Чтоб нас продолжали печатать, наши лица появлялись в справочниках, имена – на устах у народа? И это всё? Бессмертие души, привязанное к корешку да обложке? Святый Дух нанесен на страницу черной краской двенадцатым кеглем? Мир – языческий? Дух – сплошная материя?
Я посвятил жизнь тому, что сам считал высокой целью: создать жизнь в головах у других, – но я все же всегда верил, что существуют материи более высокие.
И вот я лежу здесь. А надо мной неистовствует облако: без устали меняет форму, то сгущаясь, то истончаясь: вот оно похоже на верблюда, вот – на кошку, а потом – на белого кита в небе. А кто его об этом просил? Кто несет за это ответственность? Каким законам подчиняется одно-единственное облако? «Законам художественного творчества»? Я спрашиваю. И от этого вопроса пролетает птица неизвестного мне вида. Какая-то «птица вообще», которой я забыл придать черты, нужные для того, чтоб у нее по – явилось название. И тем не менее она стремглав летит через озеро по направлению к горе и там гадит. У меня действительно есть такая сила пера: я сумел создать целую пищеварительную систему, которая работает в полете? Или я с ума схожу? Меня опять Фридтьоув дразнит? Явился тут мне в образе гольца, словно сам дьявол!
Нет. Четыре года в четырех странах я боролся с фермером Хроульвом из Хельской долины и наконец одолел его. Неудивительно, что он со мной так неприветлив. Ему, конечно же, кажется, что я с ним плохо обошелся, несправедливо. Да только в творчестве справедливости нет. Это требование – и поветрие – новейшей эпохи. О да, исчезнуть из того мира было, пожалуй, очень даже и неплохо, он стал для меня чересчур полоумным. Одно сплошное морализаторство. Черт бы его подрал! И против всех замечательных литературных злодеев возбудили дела прокуроры новейших учений. Ричарда Третьего день и ночь допрашивают, Фальстафа приговорили к смерти за аморальность и ложь, Гумберта Гумберта изгнали из всех кинопространств мира. А в какой темнице они собирались держать Эгиля Скаллагримссона? Боюсь, что тюремные камеры Университета Исландии придется как следует усовершенствовать, прежде чем такого человека туда посадят те, кто в жизни не ведал ничего печальнее развода. Для кого самый большой подвиг – бросить курить! Для кого риск – это опоздание на самолет! Который, конечно же, так и не разбился. В этой стране никогда ничего не происходит. Вертолеты положили конец бедствиям на море, и от всевозможных несчастных случаев все отгородили сетками, решетками и касками. А они просто остались дома у телевизора, пристегнутые ремнями безопасности, потому что «мы предупреждаем насчет этих кадров». И я жалею писателей, которые придут после меня. Нет, пожалуй, этот мир стал слишком хорош для литературы.
Ах, все это пустая болтовня! Вот что это такое: мертвец докапывается до жизни. Я мертв. Сколько можно повторять это! А ну-ка, прекрати об этом скулить! Радуйся, что у тебя произведение такое хорошее. Ты смог! Я позволяю себе какое-то время наслаждаться лежанием – и вот лежу среди своего творения, утопая в собственном кочковатом тексте. И тут солнце закрыло. То самое облако. Смотрите-ка: это я солнце закрыл. Надо мне следить за собой, чтоб не сильно заважничать. И снова я зад промочил! Поднимаюсь на ноги.
А как же тогда вычислить мое собственное положение? Я как-нибудь влияю на развитие моего собственного сюжета? Я мешаю? Персонажам, читателю? Да, конечно, я убил одного комара, севшего мне на одеяло прошлой… нет, позапрошлой осенью. И тем самым он оказался вычеркнут из всех переизданий, так что мне, пожалуй, стоит вести себя поосторожнее. Смотреть под ноги: ведь я могу наступить на гнездо, и сейчас я ступаю аккуратно. Я прошу читателя, если ему случится заглянуть сюда, притвориться, как будто он меня не видит.
Возле угла дома я чуть было не продолжил путь: через горный перевал и вниз… в следующую долину? В следующую книгу? Смотрю на небо: какая ожидается погода? Какие-то растрепанные слова на голубом. Горы у меня как удачно получились! А не опасно ли мне сейчас пуститься через хейди? Нет, на востоке ясно, но мне не мешало бы одеться получше. Писатель же не хочет погибнуть где-нибудь в горах в собственном произведении – а ведь такая участь постигла многих. Читатель найдет его на шестнадцатой странице, замерзшего насмерть. Но я смотрю, какая ожидается погода! Я еще явно не разобрался в правилах этой игреальности. На небо смотреть! Да я запросто мог бы посмотреть, какая будет погода, перелистнув на следующую страницу, да только книги у меня нет, так что мне теперь – полагаться на собственные метеорологические познания? Не напишу же я, что в такой весенний день разразился буран?
Эти мысли гнетут меня, я издаю вздох, я вынужден опереться о каменную стену дома. Я опираюсь на собственные слова – но они не служат мне опорой. Сейчас даже самый крошечный план содержит в себе все сомнения жизни. Каждая мысль вызывает две другие. Каждый миг здесь – лишь плод воображения, созданный одним и воспринятый многими, каждым на свой лад. Этот дом воздвигнут на всех подушках мира, и каждый читатель освещает его светом своей лампы для чтения. В польском переводе это дом в Щецине с соломенной крышей. У норвежцев он обшит сосной. Разве я недостаточно ясно описал: дом этот каменный, покрашен белой краской, с красной крышей из рифленого железа? Нет, кажется, сейчас все уже закончено и завершено. И каждый мой шаг проходит бесследно и зазря. Вот солнце снова выныривает из-за облаков и бросает мою тень на стену. Я отодвигаюсь от нее: не хочу бросать тень на собственное произведение. Ах, как все сложно, как это утомляет!
Я наклоняюсь и переворачиваю булыжник во дворе. На том месте, где он лежал, земля темнее: влажные мелкие камешки и половина червяка, тотчас скрывающаяся в почве. А я-то надеялся: вдруг там будет отверстие. Я-то надеялся: вдруг в моем произведении дыра? Но, может, в нее уже убрался червяк и теперь вылезет в другом мире? Я поднимаюсь, держа на ладони камень. Он весом с человеческую голову. Я некоторое время рассматриваю его и обдумываю свое положение. Этот вопрос пугает меня: значит, мне здесь целую вечность вековать? Меня немедленно посещает желание совершить самоубийство, но я сбрасываю эту возможность со счетов, вспомнив, что я мертв. Похоже, придется к этому привыкать. Я мертв – мертвее этого камня у меня на ладони. Он внутри не полый. Он цельный. Он – часть этого произведения. Он – точка в конце предложения в седьмой главе. Я кладу его на место.
Похоже, придется смириться с этим: я бессмертен. И сейчас занимаюсь той самой неизбежной жизнью после смерти.
Я бреду к пристройке, спотыкаюсь о канат, лежащий на земле, привязанный одним концом к углу дома, а другим к сараю, и вспоминаю, как долго я заставил девчонку сидеть в этом сарае. Целую неделю на верандах отелей и на жарких узких улицах я пробирался через этот двор при холодном буране на выручку к Эйвис. И наконец нашел ее в такси: она сидела под стеной дома, потянув себе руку. Но как я поместил ее в дом?
Я захожу в дом и поднимаюсь на чердак. Никого нет.
Я утыкаюсь лицом в край кровати на десять загробных минут, и их мне удается провести без существенных мыслей. Затем я поднимаю лицо и с дрожью смотрю на стропила, доски, мансарду под крышей, гвозди – ах, если бы это были простые саморжавеющие гвозди в крышке моего гроба! Слышу стук молотка. Здесь сколачивают литературное произведение. Каждый гвоздик здесь – миг моей жизни. Глоток пива в датском трактире, копошение в «Книжном магазине Рикки». Гудок поезда на перевале Бреннер и бессонная ночь в студеном отеле в Амальфи. Ей-же-ей! Все эти гвозди – один и тот же: тот, который предстал моим глазам на белой стене в номере 116 в «Hotel della Luna». Я писал что-то кощунственное и не мог работать под взором Христа и его матери, снял иконы. Это суеверие у меня от бабушки. «Не могу я, когда Он все время на меня глазеет». – Но это не помогло. В Его руках торчал этот гвоздь – в руках мастера. В конце концов я переехал в другой город. С Хроульвом в багаже. Служители десяти отелей носили этого человека из машины в холл, под пальмы, наверх в лифте и снова вниз, и он всегда все так же дрожал от холода. Хроульв. Ради тебя я приносил жертвы.
Я поворачиваюсь к одеялу, глажу его ладонью. Пододеяльник шершавый. Под ним спит моя дочь. Осень, когда я с Хроульвом уехал за границу. Ее мать звали Ловиса – сердечная женщина, но надоедливая. А та маленькая искорка – как ее звали? Я тогда пришел с ней попрощаться.
«Значит, мне не исполнится семь лет, когда ты вернешься?»
Когда я вернулся, ей исполнилось девять. Звали ее Свана. Она умерла.
Самая ужасная минута в моей жизни. Я на седьмом этаже отеля в Копенгагене – и мне звонит ее мать:
«Может, ты приедешь домой на похороны; не сочти за труд».
Ловиса была сильной выносливой женщиной, по материнской линии – из обширного шведского лесного рода, а ее отцом был исландец, Йоун из Телефонной компании, а я затесался в этот лес случайно в середине войны: мы с ней вместе снимали жилье у Торбьёрг из Прачечной: две комнаты на чердаке, такие холодные, а у нее постель теплее. Потом она вышла замуж за моряка, впоследствии ставшего шофером, – хорошего человека, родила ему четверых детей, и ни разу с ее уст не слетало в мой адрес ни одной колкости, кроме этого одного раза: «не сочти за труд» – в отчаянии матери, у которой ребенка отняло время – это безвременье, которое тогда уже пришло на землю со всей своей отравой. Кажется, это называлось «бунтом молодежи» – и стало ее смертью. Студенты отказывались учиться и требовали, чтоб им позволили засовывать электрические провода в уши и яд в вену. Прискорбное время. Они боролись против химического оружия во Вьетнаме, а одновременно с этим боролись за возможность угрохать самих себя той же самой химией. Моя Свана погибла в лесу близ Май Лай в объятиях американского солдата в номере гостиницы «Университетский двор». Пала от его руки или от собственной – этого мы так и не узнали. Ее маленькое тельце было полно передозировкой; а он скрылся из Исландии. Но через двадцать лет вернулся, преисполненный раскаяния, к тому времени ставший почтенным юристом, и долго сидел у нас. Я ни о чем не спрашивал. Бутч. Какие у американцев имена нелепые. Рагнхильд предложила ему кофе, а он пил чай. Собственный травяной сбор, который вынул из кармана. Какое глубокое поколение!
Свана. Со светлыми, почти белыми волосами своей матери и моим щуплым мерзлявым телосложением и тягой к искусству. Мечтала стать актрисой. Ее лицо было отмечено тем, что хотело сбыться. На нем лежала печать какой-то глубокой тайны. Изящная хрупкая фарфоровая куколка, которую мальчики находили красивой, а мужчины опасались. Они, видимо, ощущали какое-то несчастье в этом затаблеченном лице, этих кругах под глазами, волосах, которые редели с каждым годом, с каждой новой страной, новым мужчиной, новой работой. Какое-то время она изучала актерское мастерство в Гётеборге, но то учебное заведение, конечно же, никуда не годилось. Она сразу это заметила, не походив на занятия и несколько недель. Одному Богу ведомо, что она делала, куда ходила. Телефонные звонки из Берлина, мольбы о деньгах. Голос пропитой – или в нем сквозит какое-то иное опьянение, будь оно неладно! Затем «экспериментальный театр» в Копенгагене и эксперимент с попыткой самоубийства в Мальмё. Ее жизнь была одним сплошным экспериментом, опытом. И сама она – маленький подопытный зверек, позволявший эпохе – этому безвременью! – нашпиговывать ее всяческими веществами и баловствами. Моя Свана…
«Просто мне хочется попробовать так много всего. Мне хочется попробовать все…»
Она собиралась сказать: «попробовать все, папа» – и не смогла. Она никогда не называла меня папой. В последний раз, когда я ее видел, я наткнулся на нее в отеле «Борг», она была с парнем, каким-то богемным оборванцем, каким-то поэтом битником-не-добитником, которые в ту пору считали себя властелинами мира; они вышли из дверей, смеясь, и она не смогла сдержать укуренной усмешки:
– Привет.
– Здравствуй.
– Ты что здесь делаешь?
– Я здесь живу.
– Здесь? В отеле «Борг»? Ты в гостинице живешь?
– Да, остановился ненадолго.
– Ты за границу собираешься?
– Да, совсем скоро. Через неделю поеду в Польшу.
– В Польшу? Чтоб писать?
Это «писать» она произнесла с ухмылкой. Очевидно, это было уже немодно. Очевидно, театр мог обойтись без слов, а поэты просто выпрядали из себя строки, словно пьяные в лоск пауки. И где теперь все эти паутины? Все, что требовало усердия и труда, сейчас было объявлено буржуазным консерватизмом, частью устаревшего общественного устройства. А жизнь, по-видимому, следовало сделать легче. Все это бунтарство преследовало цель сделать жизнь легче! Никаких экзаменов, побольше кредитов на учебу и наркотики, чтоб подняться над трудностями повседневности. Изгнать всю дисциплину, труд и сложности и потом только принимать таблетки от жизненных разочарований. Как мы могли породить таких ненасытных наглецов? И ведь им всегда все давали.
– Нет, писать я поеду потом в Испанию. А в Польше у меня книга выходит.
– Да? – спросила она, как будто не в себе, рассматривая мое пальто и шляпу, но тут недобитник ляпнул, уронив слова на землю вслед за сигаретой:
– Значит, коммуняки тебя оценили?
Кажется, им это показалось странным. Это была несносная эпоха. В утренних газетах тебя клеймили как коммуниста, а вечером ты стоял перед собственной дочерью как какой-нибудь буржуа в пальто с фалдами: мне было суждено каждый день обращаться в камень.
Что стало с моей маленькой светленькой девочкой?
Она никогда не давала мне ни малейшего повода думать, что она читала мои книги, но позже, уже много времени после ее смерти, я узнал, что она афишировала свое родство со мной в Швеции, чтобы получить роль в фильме по моему рассказу. Бедняжечка. Неужели быть дочерью именитого писателя так сложно? Дочерью Гамсуна, дочерью Джойса – и моей дочерью… Она меня ненавидела? Ненавидела своего отца? Нет, не ненавидела. Да я и не был ей отцом. Она ненавидела меня за то, что не могла меня ненавидеть в качестве отца.
Как и все они. Пацифисты.
«Может, ты приедешь домой на похороны; не сочти за труд». Но я как раз счел за труд. Хотя странно: по-моему, эти слова я уже где-то слышал раньше. Я повесил трубку и подошел к окну. Отель «ДАнглетер», четвертый этаж. А внизу на площади стояли они – с третьим миром против пятизвездочного отеля, с красным транспарантом: «DØD TIL IMPERIALISMEN!»[58] Я принял это на свой счет; я был так напуган, что спрятался за шторой. Мне показалось, что они говорят: «DØD TIL IMPERIALISTEN!» – «DØD TIL HANS DATTER!»[59] – было бы точнее.
Я стою у окна. Площадь Конгенс Нюторв растворяется в Хельском озере.
Глава 13
Я в Хель. Я наказан. Господь прогнал меня от своих врат и приговорил к изгнанию в моей собственной Хельской долине. Не рой, как говорится, другому яму… Своей дочери. Я пожертвовал ею ради других. Ради этих людей. Бабы, Хроульва и Эйвис. Другие встречаются со своими близкими на небесах, а мне: милости просим в хижину – к тем, кто был мне милее всех, пока я был жив. Вот так. Я мог бы уйти. Сбежать. Если в этом моем сочиненном мире достаточно места для пути миграции ржанки[60], значит, я могу уйти во Фьёрд и оттуда уплыть на корабле в Рейкьявик. В худшем случае меня отвезут в другую книгу. Я отворачиваюсь от окна, собираю свои жидкие пожитки – ручку и блокнот – и бреду к выходу с чердака. В какую книгу лучше сбежать? «План»? Наверно, можно устроить так, чтоб меня отвезли в Сиглюфьёрд на лодке. Но этот гад Бёдди Стейнгримс так несносен! Тогда уж лучше Хроульв. «Неодушевленные предметы»? Ад для среднего класса в западном районе столицы – о, нет! «Смехландия»? Нет, там диктатура клоунов. Эта книга в моем творческом пути – исключение, но, как ни странно, она единственная пришлась по душе англичанам. «Mr. Grimson has created a totally brilliant totalitarian hell of forced laughter»[61], – вновь цитирует мое тщеславие строки из «Файнэншл таймс». Я останавливаюсь на ступеньке… Значит, все мое творчество – один сплошной кошмар? А как же «Свет умиротворения»? А, нет, там старухи зажигают свечки во время Первой мировой, а почтенный бургомистр встречает в порту «испанку». Нет, туда я не поеду. Еще заражусь. Мало того что я мертв, не хватало еще в постель слечь! Поеду-ка я просто в столицу, а там посмотрю; попробую «испытать возможности родного языка», как выразились столичные специалисты. Я спускаюсь с лестницы.
На кухне вдруг – баба на своем месте, а за столом сидят две другие, незнакомые, женщины, нарядно одетые: одна – монолитище с восемнадцатью грудями, а другая как обтесанная, а лицо – резная доска. Они встают и почтительно здороваются. Худая – Сигрид с Межи, и Берта с Подхолмья – в черной длинной юбке-занавеске, а выражение лица такое, как будто ей только что отдавили ногу. Я их не узнаю. Наверно, я попал в какую-то сильно исправленную версию этого романа. Хотя нет – может, это и есть те две бабы, которые разговаривали по телефону? Старуха проводит меня в гостиную. Аромат горячего шоколада и блинов.
В коридоре я замечаю симпатичную девушку в сером платье до колен, с красивой прической. Платье старое, оно слишком широко ей: словно мешок вокруг цветка. Она смотрит на меня снизу вверх и счастливо улыбается:
– Здравствуй!
– Ээ… да, здравствуй.
– Ты прилег?
– Ээ… а? Наверно.
– Ты куда-то собрался?
– Да вот, собрался на юг страны съездить.
– На юг? В Рейкьявик? Ты писать будешь?
Слово «писать» она произносит с улыбкой. И вдруг мне так захотелось писать! Я замечаю груди, которые прячутся под отвисшим платьем, загадочные, как поднятие почвы под ледником: двойной посул светлого будущего.
– Ээ… Да, возможно.
– Ты поправился?
– Поправился?.. Да, спасибо.
– Вот и хорошо, – снова улыбается она, и тут я узнаю голос: Эйвис! – Мы тебя пытались добудиться, но ты спал как медведь.
Как медведь. Наверно, я три зимы проспал. Ее не узнать. Рядом с ней стоит рыжеволосая девчушка, эдакий подросший жеребенок, и пожирает меня большими глазами из-под толстых очков. Ах, прости, подруга. Я тебя слепил кое-как, сделал тебя небрежной уменьшенной копией твоей матери – хозяйки с Болота. Но, милая моя, так уж оно бывает в романах. Мы, писатели, выписываем главных героев широкими крупными мазками, делаем их открытыми и непостижимыми, чтоб всякий читатель мог поставить себя на их место, а затем намечаем вас, второстепенных персонажей, с помощью черт вроде рыжеволосости, даем волю одномерным карикатурам.
Девочки бегут в кухню, а в коридоре появляется Гейрлёйг с пустой тарелкой из-под печенья, заталкивает меня в парадную гостиную, а сама выходит. Здесь собрались приглашенные на кофе. Персонажи здороваются со своим автором. Хроульв неудобно сидит на стуле в углу гостиной, положив локти на стол, и наблюдает, как я пожимаю гостям руки. Рядом с ним на стуле сидит новый человек: редковолосый брюнет со вздувшимся лбом над детским личиком. То ли он пастор, то ли носит воротник, потому что покалечился. На диване – уже знакомые мне сельчане. Трое волхвов с Межи, Подхолмья и Камней. Напротив них сидит Йоуи с Болота и одна миролюбивого вида старая вдова в национальном костюме[62]; когда я сажусь на пустой табурет под часами, мне становится виден ее профиль, она похожа на мать Уистлера на одноименной картине[63]. Нос овальный, четко очерченный, подбородок красивой формы, причем ее создатель немного повеселился и придал ей аж два таких же дополнительных подбородка. Ее профиль выделяется на фоне окна с весенним светом. Там воскресенье с воскресеньем сходится.
Календарь на стене: 1955.
Мужики до моего появления явно обсуждали что-то архиважное, потому что сейчас они как ни в чем не бывало продолжают. Из угла ко мне подбегает мальчик, словно собака: сейчас он вырос на целую голову. Кажется, они дали мне поспать на протяжении доброй сотни страниц. Или там была та глава, которую Тоумас велел мне вычеркнуть. «Конечно, у тебя отличный вкус, но она слишком длинная». Вечно с ним одна и та же история… которую он не читал. Он просто смотрел на рукописи и велел мне сокращать. «Отличный вкус!» Он о книгах высказывался словно о каком-нибудь сыре! И проделывал в них такие же дырки. В конце концов я раскусил его и заставил издавать каждую книгу в трех частях. И потом каждую осень в газетных интервью поправлял его анонсы: мол, «новый роман Эйнара Йоуханна Гримссона» – это на самом деле продолжение прошлогоднего. Но Тоумас и интервью моих тоже не читал – и от этого наше сотрудничество только выигрывало.
– А почему тебя в церкви не было? – спрашивает мальчик семилетним голосом.
– Ээ… в церкви? А там служба была?
Вдова, мать Уистлера, превращает профиль в портрет другого рода, поворачивается ко мне носом и таращит на меня глаза. Сейчас она напоминает французского нотариуса девятнадцатого века. Ее лицо – длинный подробный бухгалтерский отчет: во лбу каждая строчка заполнена, глаза подведены как баланс, нос – как итог, и все это подчеркнуто сжатыми губами.
– Да. Меня же крестили! А сестрицу Вису конфирмировали. Где ты был?
Итак, значит, моя девчушка конфирмовалась. «Конфирмировалась». Ну что за выпендрежный способ выражаться! Но в те годы это, очевидно, считалось шикарным: щеголять датскими и просто странными словечками. Блистать своими познаниями. Это считалось таким интересным «добавлением». Тщеславие проклятое! Вдова смотрит на меня, как бухгалтер – на человека, сорящего деньгами. И вдруг я вспомнил: краеведческий музей в Блуа. Фотографии уже покойных горожан. Возникшая и зафиксированная мысль. Записная книжка: «Четк. лицо бухгалтера как бух. Глаза баланс, нос итог».
– Ага, тебя окрестили? И какое же имя тебе дали?
– Грим! – с гордостью произносит мальчик. – Меня назвали в честь маминого брата и его сына. Они в Америку уехали.
Дружочек! Тебя так назвали в честь моего дяди, который и в самом деле уехал в Америку. Ты явился мне жарким летним днем в Париже, в кафе на бульваре Бомарше, болтающий ногами за соседним столиком, такой необычно светловолосый между твоими родителями – людьми, по которым ты никогда не будешь скучать. Тебя окрестили минералкой «Перье». Гейрлёйг вносит еще блинов и по-прежнему улыбается. «Лучшие блины в стране», – говорит она и угощает меня, а потом ставит их на журнальный столик и снова выходит. В коридоре смеются девочки. Блин вкусный. Как бы то ни было. Я-то даже кофе себе сварить не мог. Для меня зажечь свет на кухне было слишком сложным делом. «Выключатель возле двери в кладовку!» – кричала мне моя Ранга, когда я настаивал, что сам достану из холодильника свои таблетки. «Кладовка? А у нас кладовка есть?» – бормотал я, выкидывая таблетки в окно. Эта страна превратилась в какое-то чертово учреждение здравоохранения. Я целую зиму приманивал самую большую в нашем районе стаю птиц, высыпая таблетки в сугроб под кухонным окном. Эти клевалки от них были просто без ума. По весне из-за всего этого пенициллина они разучились летать и стали фиолетовыми. И этим они хотели напичкать меня, старика, – специалисты хреновы! Перья с меня ощипать!
Французский бухгалтер с отвращением на лице смотрит, как я пожираю блин. Наверно, она думает: «Вот он собственные слова обратно в себя запихивает!» А в этом провинциальном музее в Блюэ, насколько я помню, недавно разбили две картины. Кто-то прошелся молотком по стеклам над двумя портретами. «Famille colloborateurs»[64], – сказал мне старо-согбенный сторож, и в его голосе сквозило чувство мести. Конечно, он их сам разбил. А ведь это было шесть лет спустя после войны. И в Гримстад я приехал уже гораздо позже, чтоб увидеть аптеку Ибсена, посмотреть на его ботинки в шкафу. Смотрительница, женщина, блистающая отсутствием шарма, одетая в ту бесполую одежину, которой нас одарила эмансипация, рассказала мне о том, что местные категорически отказались ставить бюст Гамсуна на маленькой площади, где стоял дом семейства, больше всех пожертвовавшего собой при сопротивлении немцам. И теперь там стоит памятник семье Дюрхус: отца семейства расстреляли в лесу, троих сыновей замучили в концлагере, и один из них там покончил с собой. «А Гамсун все еще лежит на складе в подвале мэрии», – сказала женщина с усмешкой, никогда не знавшей войны. Исландской усмешкой.
У всех народов свои испытания, горести и войны. А у нас, исландцев, маленького народа, никогда ничего не происходило, вообще ничего не было, только тишь да гладь да божья благодать. Как прикажешь творить мировую литературу в стране, где нет пушек? Вот Камбан[65] попробовал – а ему за это отплатили той же монетой. В Исландии совершалось от силы одно нормальное убийство за год, и всегда по пьяному делу, как и почти все наши подвиги. И с этим застоем приходилось бороться писателю, жаждавшему страстей. Мне приходилось все выдумывать самому – столкновения! Столкновения! – и многим это наскучило. Я же не хотел быть одномерным писателем вроде Гамсуна, который до сих пор лежит нераспечатанным в подвалах Норвегии, которому еще многие поколения не простят некролога по Гитлеру. А я не прощу ему скуки.
– Да что ты говоришь, дружочек! А кто тебя крестил?
– Новый пастор. К нам новый приехал. А папа не захотел, чтоб меня крестил старый пастор.
– А почему?
– Потому что, когда крестили мою маленькую сестренку, она по дороге умерла.
Да, точно. Из детей супругов из Хельской долины троих крестил старый пастор – и все они умерли. Последняя – по дороге домой с крестин. Они не успели на хейди въехать – а она уже умерла. Господь зажал ей двухмесячный носишко. Это было воскресенье в феврале, небо высокое, снег твердый. Ветер весьма крепкий и чересчур свежий; казалось, у него нет ни малейшей связи с этим небом: синеоблачным воздушным залом с горизонтальными серо-затканными берегами. Хроульв двадцать минут играл в гляделки с колесом трактора, а мать стояла на замерзшей гальке с пустым тельцем на руках и голосила, зовя жизнь, которую ветер так внезапно выдул из него и унес на пустоши. Эйвис, тогда девятилетняя, застыла на сцепном устройстве. И все же ему удалось убедить жену повернуть назад и снова поехать на Болото.
– Чтоб два раза не ездить.
Гейрлёйг встала и обняла Йоуфрид в гостиной, и та сидела там, держа на руках маленькую Адальбьёрг, – и все три сотрясались от непрекращающихся рыданий матери: три женщины, одна из них – остывшая, – а Хроульв тем временем уговаривал Йоуи вылезти из-под старого грузовика «Випон» в гараже. Председатель сельской общины высунул голову из-под доски, покрытой ржавыми пятнами:
– А?
– Кажется, мне снова нужно попросить тебя съездить за пастором.
Но пастор, во время крещения слегка подвыпивший, сейчас был уже слишком пьян для похорон. Когда Йоуи на своем джипе въехал к нему на двор, без посторонней помощи он до машины не добрался. У Хроульва прямо руки чесались убить этого гада. В первой версии романа он так и сделал. Но двое редакторов из троих заявили, что это «слишком дерзко». Я внял их советам. Ну и сам дурак. Слишком мелко, слишком мягко. Чувства недостаточно сильные. Большой мир мне этого не простил. И вот – сейчас я, небось, лежу нераспакованным в подвале Шведской академии.