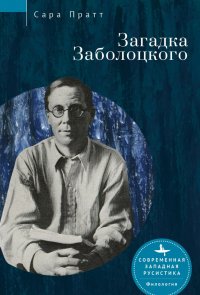
Читать онлайн Загадка Заболоцкого бесплатно
- Все книги автора: Сара Пратт
Предисловие
Когда работа над рукописью затягивается, автор редко радуется этому. Однако на сей раз промедление дало некоторые преимущества. Пока рукопись постепенно принимала свой окончательный вид, Советский Союз распадался на части, что придало центральному вопросу книги – о сущностной преемственности русской культуры – особую остроту. В тексте, который сейчас перед вами, основное внимание сосредоточено на переплетении двух движущих сил культуры: «советской», пропитанной марксистской идеологией, и «русской», опирающейся на дореволюционную жизнь, иногда ассоциирующейся с обычаями крестьянства и часто связанной с особенностями русского православия. Волна гласности, сопровождавшая разрушение Советского государства, послужила дальнейшему развитию этого проекта, открыв путь небольшому, но значимому потоку публикаций о Заболоцком и его собратьях-обэриутах. Это позволило мне меньше сосредотачиваться на вопросах «кто» и «что» и уделять больше внимания интерпретации – вопросам «как» и «почему». Если коротко, цель настоящего исследования – показать, каким образом в Николае Заболоцком, первом большом поэте, целиком сформировавшемся уже в советское время, воплотилась та смесь дерзкого иконоборчества и глубоко впечатавшейся традиции, которая формировала культуру его родины в течение большей части ХХ века.
Сцена, на которой происходит действие, задана в первых трех главах, где приведены краткие, но существенные сведения о жизни поэта и его раннем поэтическом творчестве. Центральный элемент книги – тщательное рассмотрение Декларации ОБЭРИУ в четвертой главе. Декларация несколько раз переиздавалась, но комментарии к ней никогда не превышали нескольких страниц. Настоящее исследование в этом отношении полнее предшествующих работ. Также в нем освещена парадоксальная роль, которую сыграло православное богословие в этом документе, явно принадлежащем советскому авангарду. Кроме того, Декларация сравнивается с манифестами других литературных и художественных групп. В последующих главах показано, как воплощались в текстах Заболоцкого обэриутские принципы на всем протяжении его творческого пути.
В пятой главе с помощью идеи «русского смеха» Д. Лихачева и А. Панченко и столь важной для древнерусской культуры концепции юродивого раскрывается своеобразная оптика, присущая ранней поэзии Заболоцкого. Такой подход дополняет бахтинское понятие карнавала, но в конечном счете и составляет ему мягкую оппозицию: у Бахтина это понятие связано с западноевропейским культурным контекстом, а не с русским. Шестая глава посвящена изучению философских стихотворений Заболоцкого 30–40-х годов и их многочисленных источников, в числе которых произведения разных поэтов и теоретические труды Энгельса, Циолковского, Федорова, Сковороды. Последняя глава книги посвящена описанию разновидности лирики, которую можно было бы назвать «вечернее чувствительное размышление» и которая произрастает из западных корней, восходящих к английской кладбищенской поэзии, но при том заимствует некие идеи из православного богословия в русском изводе, а в случае Заболоцкого – еще и покрывается налетом советской идеологии.
Предлагаемая здесь трактовка Декларации ОБЭРИУ позволяет пересмотреть нерелигиозный взгляд на абсурдизм обэриутов, лежащий в основе большинства устоявшихся интерпретаций деятельности группы. С другой стороны, трактовка конкретных стихотворений призвана дополнить, а не опровергнуть иные прочтения. Я бы не стала ни предлагать исчерпывающий список возможных аллюзий или «интертекста» к стихам Заболоцкого, ни отрицать семантическое изобилие его поэзии. Это изобилие – дар поэзии нам, и мы должны ценить разнообразие интерпретаций и даже извлекать из него выгоду. Я надеюсь, что читатели именно в этом духе воспримут мои рассуждения о поэзии.
Почему все-таки Заболоцкий? Дело в том, что эта фигура, стоящая в пантеоне русской поэзии ХХ века сразу после Пастернака, Мандельштама и Ахматовой, заслуживает дальнейшего, более подробного исследования. Вполне уместно было бы вспомнить слова Иосифа Бродского, который однажды сказал: «Заболоцкий сделал для русской литературы двадцатого века то же, что сделал Гоголь для литературы XIX. Все из нас в большей или меньшей степени находятся под влиянием его обаяния». Другое его высказывание: «Заболоцкий – абсолютно замечательный поэт, что ранний, что поздний» [Goldstein 1993: 233, 290]. Издательство Северо-Западного университета (Northwestern University Press) выразило готовность послужить этому делу благодаря стараниям главного редактора Сьюзан Харрис и редактора Slavic Series Кэрил Эмерсон.
Выражаю глубокую признательность предшествующим исследователям. Если бы Андрей Турков, Адриан Македонов, Николай Степанов, Ефим Эткинд, Глеб Струве, Борис Филиппов, Робин Мильнер-Гулланд, Дарра Гольдстейн и Никита Заболоцкий не предприняли характеристику Заболоцкого и его творчества, написать эту книгу было бы невозможно1. То же можно сказать и в отношении работ Анатолия Александрова, Михаила Мейлаха, Владимира Эрля, Владимира Глоцера, Джорджа Гибиана, Алисы Стоун Нахимовски и Нила Корнуэлла, касающихся ОБЭРИУ в целом и Хармса и Введенского в отдельности. Примечания в конце книги могут дать лишь общее представление о всеохватывающем влиянии этих исследователей, и я выражаю признательность и благодарность за их труд2.
Я также обязана многим моим коллегам. Среди них – Джозеф Аун, декан Колледжа, и Маршалл Коэн, декан факультета гуманитарных наук Университета Южной Калифорнии. Колледж литературы, гуманитарных и естественных наук Университета Южной Калифорнии великодушно предоставил субсидию на использование кириллицы в книге. Стефани Сандлер, Майкл Вахтель и Сюзанна Фюссо читали большие отрывки рукописи и консультировали удаленно. Понимание культуры XX века было достигнуто благодаря Томасу Зейфриду, профессору кафедры славянских языков и литературы Университета Южной Калифорнии, который каким-то образом всегда знал, что нужно дальше читать или обдумывать; консультациями по авангарду и доступом к богатой коллекции Института современной русской культуры я обязана Джону Боулту; Мария Полински помогала мне разобраться в хитросплетениях русских текстов и уловить языковые созвучия, столь важные при чтении стихов; Маркус Левитт консультировал по XVIII веку для написания последней главы книги. Я приношу благодарность всем моим спутникам на стезе русской культуры.
Однако моя самая глубокая признательность – Ричарду Густафсону и Джону Мальмстаду, которые прежде всего научили меня читать стихи; моему коллеге из Южно-Калифорнийского университета Александру Жолковскому (также известному как «Операция Славянская буря»), который разом проглотил рукопись и вернул ее всю испещренную идеями и предложениями; Дарре Гольдстейн, чье знание Заболоцкого и чувство общего дела украсили как книгу, так и процесс ее написания; и, наконец, Николасу Уорнеру, чье устоявшееся понимание русской и английской культур и присутствие в качестве коллеги, мужа и помощника дали мне намного больше, чем я могу выразить.
Глава первая
Вступление
«ПРОБЛЕМА ЗАБОЛОЦКОГО»
Это был необыкновенно противоречивый человек, ни на кого не похожий, а временами непохожий и на самого себя.
Наталья Роскина
Николай Заболоцкий не искал признания. Он прежде всего искал себя.
Лев Озеров
И то, и другое было сказано уже после смерти Заболоцкого. У Роскиной были краткие, но насыщенные отношения с поэтом под конец его жизни, Озеров знал его как поэта и товарища по цеху. И для них обоих он – ребус, который они пытаются разгадать уже после его смерти, вступая в схватку с человеком, очень знакомым, но при этом неузнаваемым. В действительности поиски «настоящего» Заболоцкого, персонажа, «временами непохожего и на самого себя», начались на много лет раньше, о чем свидетельствует один эпизод из жизни поэта, случившийся в первые годы его участия в кружках ленинградского авангарда 20-х годов.
Несколько подающих надежды творцов левого искусства в очередной раз собрались для литературно-философской беседы и воодушевленного дурачества. На этот раз дурачество и философия нашли точку соприкосновения в проблеме идентичности. «На кого вы хотите походить сегодня?» – обратился один из них к присутствующим. После недолгого размышления самый эксцентричный участник группы, известный тем, что бродил по Ленинграду в образе Шерлока Холмса, внезапно заявил, что хочет быть похожим на Гёте. «Только таким мне представляется настоящий поэт», – уверял он окружающих. Другой участник кружка, разудалый любитель женщин и карт, решил стать пройдохой-перекупщиком, «слоняться по Невскому, болтать с извозчиками и пьяными проститутками». Третий, подражающий франтовству главного футуриста, который на один глаз был слеп, а в другом носил монокль, заявил, что хочет «быть как Давид Бурлюк», но затем делано пошутил: «Только c двумя глазами». Наконец, дошла очередь до светловолосого румяного молодого человека в очках, который, казалось, источал опрятность, аккуратность и чистоту. Это был Заболоцкий. К удивлению и досаде своих экстравагантных друзей, Заболоцкий, не задумываясь, ответил: «Я хочу походить на самого себя» [Бахтерев 1977: 61–62]3.
Вопрос, конечно, в том, кем же был Заболоцкий? Практически любое рассуждение о нем в итоге наводит на мысль о расщелине, раздвоенности между разными реальностями. Иногда трещина проходит между внешней солидностью Заболоцкого и его поэтическим визионерством. Оно порождало откровенный гротеск в его стихах периода последнего всплеска Ленинградского авангарда, и придавало неожиданные проблески мистики творчеству маститого советского поэта. Кто-то из друзей уверяет, что он был похож на бухгалтера. Другой полагает, что его можно было принять за инженера, врача, агронома, даже спортсмена. Третий, похоже, описывает его как представителя дореволюционной высокой буржуазии: «степенный и по-старомодному вежливый, носит на шелковом шнурке чеховское пенсне в черной оправе». Иные прямо заявляют, что у него была поразительно «непоэтическая» внешность, что он являл собой «антитезу вдохновенной богеме», что он был «ненавязчивым, вежливым и скрупулезным человеком» с «манерами клерка», которого никак нельзя было принять за поэта-авангардиста [Роскина 1980: 93; Максимов 1984а]4. Литературовед Лидия Гинзбург, в 1920–1030-х годах дружившая с Заболоцким, с некоторым замешательством резюмирует общее удивление: «Какая сила подлинно поэтического безумия в этом человеке, как будто умышленно розовом, белокуром, и почти неестественно чистеньком» [Гинзбург 1989: 81].
В других случаях пропасть лежит между молодым и зрелым Заболоцким. «Молодой Заболоцкий» работал в 1920-х – начале 1930-х годов, посредством авангардной поэзии живописуя разгульные и лихие времена НЭПа. Для «зрелого Заболоцкого», по видимости, не прошли бесследно жестокая критика его ранних «литературных ошибок» и лагерный срок5. Поздний Заболоцкий избегал таких политически опасных сфер, как авангардная поэтика. Он предался поэтически-философским размышлениям, писал оды-гимны достижениям человечества (иногда с определенным политическим подтекстом) и рисовал сцены из повседневной жизни, причем явно традиционными поэтическими средствами. Этот Заболоцкий подкрепил свое видимое примирение с советской реальностью, заявив, что его мировоззрение сформировано идеями Фридриха Энгельса и Константина Циолковского, известного советским читателям в первую очередь как «отец советского воздухоплавания» [Чиковани 1977: 164].
Литературоведы привязывают превращение Заболоцкого из «молодого» в «зрелого» то к середине 1930-х годов (до лагеря, но после резкой критики в прессе), то к середине 1940-х годов (после лагеря). Но сам этот разрыв подчеркивают все. Борис Филиппов, один из редакторов единственного крупного издания стихов Заболоцкого, изданного на Западе, категорически заявляет: «Поэзия Заболоцкого делится на два резко отличающихся периода: до лагеря и после» [Filippov 1985: 525]. Адриан Македонов, один из ведущих советских специалистов по Заболоцкому, несколько смягчает резкость этой перемены, используя понятие «метаморфоза», но тем не менее приходит к выводу, что Заболоцкий «Столбцов» (сборника 1929 года) и Заболоцкий стихотворения «Вечер на Оке» (1957 год) – это «два разных, абсолютно разных поэта, как будто это два разных человека» [Македонов 1968: 4]. Поэт Маргарита Алигер горячо поддержала это мнение, написав, что поздние стихи Заболоцкого «совсем иные, чем те, начала 1930-х годов, совсем иные, словно другим человеком написанные» [Алигер 1977: 209]. А статья А. Дымшица, в которой эта проблема была затронута впервые, просто и прямо озаглавлена «О двух Заболоцких»6.
Долгие годы ведущие советские критики, если и писали о Заболоцком, принижали его ранние произведения, утверждая, что эти авангардные стихи – творение политически наивного и в целом незрелого поэта, который много лет экспериментировал не в том направлении и лишь затем обрел свой истинный голос. Например, в первом большом издании стихов Заболоцкого, опубликованном после смерти поэта, Владимир Орлов хвалит его за то, что он «обрел в себе волю и мужество решительно и бесповоротно отойти от своих первоначальных заблуждений» [Орлов 1959: 8]7. С другой стороны, западные критики, стремясь сохранить культурное наследие авангарда и не желая быть обманутыми советской литературной пропагандой, чаще воспринимали именно молодого Заболоцкого как «настоящего», считая основным вкладом в русскую литературную традицию его ранние стихи [Karlinsky 1967; Milner-Gulland 1976; Milner-Gulland 1970; Masing-Delic 1992; Masing-Delic 1987; Masing-Delic 1974; Masing-Delic 1977; Bjorling 1973; Юнггрен 1971; Pratt 1995; Milner-Gulland 1971; Pratt 1983]. Многие образованные советские читатели (в противоположность советским критикам) разделяли эту точку зрения. Как и их западные единомышленники, они, бывало, поглядывали на Заболоцкого с подозрением, потому что он выжил и даже добился толики успеха, тогда как многие подобные ему погибли. В своей книге «Nikolai Zabolotskij: Play for Mortal Stakes» Дарра Гольдстейн с иронией, но при этом точно резюмирует эту ситуацию, утверждая, что репутация Заболоцкого пострадала, «потому что он упустил свой шанс умереть молодым» [Goldstein 1993: 2]8.
НАУЧНЫЙ МЕТОД
Настоящее исследование волей-неволей берет в качестве отправной точки все ту же «проблему Заболоцкого», которая стала источником вдохновения для некоторых предшествующих работ, но подход к проблеме здесь иной9. Мы признаем очевидные противоречия в характере Заболоцкого и глубокие изменения, которые претерпел его поэтический метод (не признать этого было бы глупо). Но сосредоточена эта книга на базовых аспектах культуры, которые придавали содержание и форму поэтическому ви́дению Заболоцкого на протяжении всей его творческой жизни. Среди этих культурных констант особенно выделяются четыре. Их мы будем рассматривать в различных контекстах на протяжении всей книги: ощущение сельской, «полумужицкой» идентичности; пропитанное принципами и структурами русского православия мировоззрение (как отличное от веры как таковой, так и неразличимое с ней); прочная связь с литературной традицией; признание советской действительности.
Деревенское происхождение Заболоцкого подробно обсуждается во второй главе. Пока отметим, что Заболоцкий родился в 1903 году на ферме под Казанью и провел первые 17 лет своей жизни вдали от крупных культурных центров. Он никогда не был крестьянским поэтом в духе Клюева или Есенина, но черты выходца из деревни отчетливо проступают в его автобиографических сочинениях и письмах, в его остраненном взгляде на городскую жизнь, в его скованности в кругу статусной городской интеллигенции и в его свойском и непосредственном отношении к миру природы10. Возможно, в стихах Заболоцкого грязь и должна быть более грязной, а биологический мир – более осязаемо биологическим, чем, скажем, у Пастернака.
И если для Пастернака и Мандельштама и им подобных образованность и причастность высокой русской культуре подразумевались сами собой, по праву рождения, и были даже обязанностью, то Заболоцкий относился к интеллектуальной жизни с благоговением и ревностью неофита. Известная умышленно-наивная пытливость, которой отличались многие из его стихов и которая приводила в ярость некоторых критиков, в ранние годы отчасти объяснялась авангардистской провокацией. Но во все периоды творчества она также была элементом подлинного, открытого интеллектуального поиска провинциального самоучки, как любил называть себя Заболоцкий [Чуковский 1977: 227; [Заболоцкий Н. Н. 1987: 5–16; Заболоцкий Н. Н. 1989: 3–13]. Это сочетание деревенской самобытности и наивного любопытства – иногда мрачного, иногда причудливого – так или иначе свойственно всему его творчеству, с начала и до конца.
Самый сложный и, вероятно, самый противоречивый аспект этого исследования, составляющий самую его сердцевину, – связь Заболоцкого с русским православием. Да, как известно, русским писателям свойственно открыто использовать свое религиозное наследие в творчестве. Толстой, Достоевский и Пастернак тяготели к вопросам христианской этики. Интеллигенты «конца века», творцы религиозного возрождения приспособили утопическую форму христианского богословия, иногда с элементами марксизма, к своему собственному мировоззрению. Александр Блок, Владимир Маяковский, Мария Шкапская и многие пролетарские писатели в темах общественной морали, эксплуатации, искупления и революции использовали христианскую символику. И даже насквозь «советские» писатели, к замешательству властей, в попытке выразить громадное нравственное значение Второй мировой войны обращались к христианской образности11. Внимание недавних исследователей обращено уже не столько на такое явное использование религии, сколько на менее очевидные пути, которыми элементы православия проникали в идеологию и образ мышления деятелей культуры, начиная с поэтов-декабристов и заканчивая Чеховым и многочисленными теоретиками русской словесности, «философами-филологами» начала ХХ века [Morris 1993; Cassedy 1990; Rzhevsky 1983; Ziolkowski 1988; Ziolkowski 1986, 30: 29–44; Petro 1990; Gustafson 1986; Murav 1992; Meerson 1992, 36: 317–322; Maguire 1990: 44–55; Maguire 1994; Naydan 1989, 33: 373–385; Pahomov 1993, 37: 33–45; Struve 1975; van Ree 1993, 52: 43–57].
Заболоцкий находится где-то посередине между теми, кто использует религиозные концепции намеренно, и теми, кто, по-видимому, неосознанно воспроизводит соответствующие семиотические структуры12. Из его автобиографических произведений можно заключить, что его религиозное воспитание было традиционным, характерным для русской провинции, и что, по его мнению, оно сыграло значительную роль в его развитии в детстве. Религиозные темы в его стихах прорываются лишь изредка. Иногда религиозный порыв связан с крестьянским мистическим утопизмом, который либо замещает, либо дополняет собой православное христианство. Недостаток сведений о религиозных убеждениях Заболоцкого легко было бы списать исключительно на антирелигиозную позицию советского режима. Однако, несомненно, сыграли роль и другие факторы – неоднозначное отношение авангарда к религии, а также особенности восприятия и отображения православия самим Заболоцким, в том числе его собственная скрытность и возможная неосведомленность о религиозной составляющей своего творчества.
Можно сказать тем не менее, что отличие Заболоцкого от более явно религиозных писателей в том, что он не исследует ни христианскую этику, ни христианский утопизм как таковой, а воспроизводит структуру православной онтологии и эпистемологии, особенно сосредотачиваясь на способах бытия и способах ви́дения. Соответственно, в его поэтической вселенной есть место богословию иконы, евхаристии, Воплощения Христа, поскольку в нем рассматривается экзистенциальная взаимосвязь материального и духовного царств и демонстрируются способы восприятия этой взаимосвязи.
Что еще более значительно – само поэтическое ви́дение Заболоцкого опирается на концепцию преображения. Это не столько утопическая трансформация материальной реальности, сыгравшая решающую роль в первой половине века (хотя и этот вариант присутствует в некоторых его произведениях), сколько концепция, напрямую связанная с Преображением Христа. Глубокое значение этого события для русского сознания демонстрируют многочисленные русские церкви и села, названные в его честь. Преображение в этом смысле предполагает не столько изменение самой реальности, сколько изменение восприятия, позволяющее увидеть истинную природу реальности в присущей ей взаимосвязи духовного и материального [Лосский, Успенский 2014: 314; Ware 1986: 170–172, 182–183]. Начиная с Декларации ОБЭРИУ (1928 год), составленной в основном Заболоцким, и заканчивая его творческими кредо – эссе «Мысль – образ – музыка» и «Почему я не пессимист» (1957 год), а также в многочисленных стихотворениях Заболоцкий определяет задачу искусства не как утопическую перестройку мира, но как откровение об истинной материально-духовной природе мира существующего.
Пренебрежение религиозной составляющей творчества Заболоцкого в ранних исследованиях, скорее всего, обусловлено неоднозначностью сигналов, исходящих от самого поэта, а также антирелигиозными предубеждениями, царившими как в советской, так и в западной научной среде. Здесь будет особенно уместно высказывание Григория Фрейдина о Мандельштаме: он отмечает, что «хронологическая, этническая и языковая отдаленность» мешает нам увидеть, что поэзия Мандельштама «пропитана священным символизмом русской православной культуры» [Freidin 1987: 120–121]. Примерно то же самое можно сказать и о Заболоцком.
Отношение Заболоцкого к литературной традиции – вопрос уже не столь спорный. Критики обычно отмечают его связи с Хлебниковым, Державиным, Пушкиным, Тютчевым, Боратынским. Однако его изначальные изыскания в области символистской эстетики обсуждаются редко, – возможно, потому, что ранние работы Заболоцкого лишь недавно были включены в стандартные издания его поэзии. И все же, добросовестная студенческая статья «О сущности символизма» и несколько «символистских» стихотворений начинающего поэта демонстрируют живой интерес Заболоцкого к символизму и объясняют его более поздние попытки вырваться из-под влияния символистов, которые иначе были бы непонятны. Также здесь рассматриваются и другие вопросы, требующие исследования: возможная связь поэта с кружком Бахтина в 1920-х годах; его отношение к бахтинской концепции карнавала и схожей, но не идентичной древнерусской традиции «русского смеха», описанной Д. Лихачевым; и, наконец, его отношение не только к ранним медитативным поэтам, но и ко всей традиции английской медитативной поэзии, перенесенной в Россию в конце XVIII – начале XIX века.
Четвертый вопрос, имеющий особое значение, – это широко дискутируемое и подверженное обширной критике признание Заболоцким советской действительности. На самом деле отношение поэта к советской действительности, вероятно, менялось не так сильно, как представлялось многим исследователям раннего советского периода и периода холодной войны. Вывести поэта политическим бунтовщиком из-за гротеска в его ранних работах – столь же серьезная ошибка, как на основании отсутствия гротеска и встречающейся в поздних работах советской тематики изобразить его политическим конъюнктурщиком. Заболоцкий действительно был советским поэтом с точки зрения и хронологии, и культуры. Но «советские» черты его творчества часто сглаживались благодаря прочным узам, связывающим его с обычаями русской старины, под влиянием которых он сформировался, а также благодаря глубинному желанию сохранить свою самость как поэта. С одной стороны, это означало, что он был лишен того запала и той глубоко сидящей склонности к эксцентричности, которые подвигли его товарищей-обэриутов Даниила Хармса и Александра Введенского идти дальше путем абсурдизма, фактически гарантированно ведшим их к гибели. В данных обстоятельствах даже сама его сдержанность в проявлении своеобразия помогла ему выжить. С другой стороны, из-за своей искренней преданности поэтическому призванию, неспособности отнестись к нему с легкомысленной небрежностью, он просто не мог сдаться и стать конъюнктурным писателем, независимо от того, насколько жестокой была критика в его адрес, или насколько страшным был лагерный опыт13.
Эту преданность отмечали многие из тех, кто его знал. Один его знакомый вспоминает, что поэт относился к своему творчеству как «к Высшему Долгу, священной обязанности, во имя которой он всегда готов был пожертвовать и любыми удобствами, и материальной выгодой». Другой отмечает преданность Заболоцкого «делу… простому и правому», то есть своему поэтическому призванию [Антокольский 1977: 138; Степанов 1977: 100]. Писатель Вениамин Каверин предлагает следующее описание того, как Заболоцкий понимал нравственную ответственность поэта:
…что происходило с ним, вокруг него, при его участии или независимо от него – всегда и неизменно было связано для него с сознанием того, что он был поэтом. Это было чертой, которая морально, этически поверяла все, о чем он думал и что он делал… Он был честен, потому что он был поэтом. Он никогда не лгал, потому что он был поэтом. Он никогда не предавал друзей, потому что он был поэтом. Все нормы его существования, его поведения, его отношения к людям определялись тем, что, будучи поэтом, он не мог быть одновременно обманщиком, предателем, льстецом, карьеристом [Каверин 1977: 109].
Критик Алексей Павловский делает схожее замечание, характеризуя Заболоцкого так: «рыцарь стиха, по-хлебниковски преданный ему глубоко и верно». Павловский продолжает: «Ему помогало ясное ощущение своего призвания, предначертания, судьбы, уклониться от которой он не мог и не хотел» [Павловский 1982: 222].
Заимствуя термин из Декларации ОБЭРИУ, мы вполне можем утверждать, что Заболоцкий наблюдал действительность «голыми глазами». Однако то, что он голыми глазами видел, иногда сбивало его с толку и обескураживало. В период бурного расцвета НЭПа этот метод наблюдения породил поэзию, которая воспринималась как сатира, но для самого поэта его творчество было беспристрастным изображением действительности в соответствии с художественными принципами Декларации ОБЭРИУ. Можно заподозрить также, что в его творчестве отразился изумленный взгляд молодого выходца из деревни на нэпманский Ленинград «ревущих 1920-х»14. «То, что я пишу, – сказал он одному знакомому, – не пародия. Это мое зрение. Больше того: это мой Петербург-Ленинград нашего поколения: Малая Невка, Обводный канал, пивные бары на Невском. Вот и все!» [Антокольский 1977: 138]. В этом контексте стоит отметить, что «ОБЭРИУ» – это причудливо искаженное сокращение наименования «Объединение реального искусства», которое подчеркивало ориентацию группы на реальность, пусть даже своеобразно понимаемую. Первоначальное восприятие Заболоцким советской действительности, основанное на его ви́дении, было встречено бурными аплодисментами в одних кругах и насмешками в других. Впоследствии для поэта семиотика ситуации изменится на противоположную: те, кто когда-то над ним насмехался, будут его сдержанно хвалить, а те, кого он пленял, – будут высказывать неодобрение. И то, и другое было по-своему опасно.
После угасания НЭПа, а тем более после лагерного срока изменился и повзрослел не только сам поэт, но изменился и мир, наблюдаемый его голыми глазами. Его поэзия должна была соответственно измениться, так же как поэзия Пастернака и прочих15. Лишь некоторые (но не все) изменения были напрямую обусловлены политикой. Помимо стихотворений на темы природы, смерти и многие другие темы, Заболоцкий писал также произведения в духе «социалистического реализма», как и многие его соотечественники. Похоже, некоторые из них с радостью, даже с апломбом, приняли роль угодного властям советского поэта. Среди них были Василий Лебедев-Кумач и Степан Щипачёв, а также не столь известный Николай Браун, – в свое время сокурсник Заболоцкого и соиздатель студенческого литературного журнала. Другие, как Мандельштам и Ахматова, сочиняли хвалебные гимны советской жизни и вождям от крайней безысходности16 [Mandelshtam N. 1970: 195, 198, 203; Freidin 1987: 250–267].
Заболоцкий находится где-то между этими двумя категориями. Как и многие советские писатели, он практиковал то, что Александр Жолковский называет «искусством приспособления». Жолковский отмечает, что такие авторы, как Зощенко и Пастернак, создавали «гибриды», в которых линия партии комбинировалась с другими идеологическими и эстетическими мотивами, создавая тем самым замечательное впечатление диалога в противовес монологической среде официальной литературы. «Искусство приспособления», утверждает Жолковский, создает «вторую реальность», которая облегчает читателям распознание и понимание основных атрибутов советской действительности [Жолковский 1992: 56, 63–64]17.
Концепцию Жолковского развил Томас Зейфрид в книге о писателе Андрее Платонове, с которым часто сравнивают Заболоцкого. Используя термины, которые в равной степени можно примечаниеть и к Заболоцкому, Зейфрид пишет, что для Платонова «искусство приспособления»
…не является ни внутренним преодолением своего прежнего творческого «я», ни отчуждающей капитуляцией… Поздние работы созданы как результат медиации между мировоззрением Платонова и его ранней поэтикой, с одной стороны, и эстетикой соцреализма, которой он теперь должен был соответствовать, – с другой. С этой точки зрения, Платонов настойчиво, исподволь сохраняет признаки старины (отсюда его настороженность по отношению к бюрократии и ее принципам), но в то же время старается трансформироваться в функционера нового типа, хоть и не законченного циника [Seifrid 1992: 177]18.
Подобно поздним произведениям Платонова, в ряде поздних стихотворений Заболоцкого отражена злободневная политическая повестка. Такая повестка действительно была частью реальности. Но в то же время очевидный политический смысл часто тем или иным образом смягчается. Возможно, что некоторые стихотворения написаны эзоповым языком, понятным лишь проницательному читателю. Многие из них опираются на религиозные предпосылки, связи с натурфилософией романтизма или концепции искусства, идущие вразрез с «прогрессивным» поверхностным смыслом. Устойчивое признание Заболоцким советской действительности и участие в ней слились с его упорной решимостью сохранить собственное поэтическое видение, каким оно становилось с течением времени.
Если принять во внимание эти культурные влияния, загадка Заболоцкого, сохраняя всю сложность и противоречия, становится чем-то вроде культурной парадигмы Советской России19. (На самом деле и сама загадка становится частью этой парадигмы, если согласиться с часто перефразируемой характеристикой Черчилля, данной Советской России: «окутанная тайной головоломка внутри загадки».) Общий рисунок жизненного пути Заболоцкого и ряд конкретных эпизодов в его творчестве отражают судьбу многих писателей, чье мировоззрение неизбежно включает и хмель первых лет советской власти, и мрачный опыт репрессий и лагерей, и, при особом везении, мерцающую надежду на оттепель. Как и Пастернак, Заболоцкий участвовал в искусстве авангарда и был сформирован им, затем в 1930-е годы пережил явное «второе рождение», двигаясь к большей простоте в попытке идти в ногу со временем20. Подобно Пастернаку, Мандельштаму и Ахматовой, идти в ногу со временем ему удалось не вполне, и он для заработка занялся переводами (а также детской литературой, как Мандельштам и обэриуты)21. Как и Мандельштама, его отправили в лагерь, но он выжил и дожил, как Ахматова и Пастернак, до десталинизации, успев почувствовать ее вкус, но не успев насладиться ею в полной мере.
Но, несмотря на сходство в некоторых аспектах судеб Пастернака, Мандельштама, Ахматовой и судьбы Заболоцкого, эти поэты значительно от него отличались, будучи примерно на десятилетие старше и происходя из семей, стоящих ощутимо выше на социальной лестнице. По возрасту и социальному происхождению Заболоцкий был, скорее, представителем новой, уже явно советской интеллигенции с довольно обрывочным образованием, набранной из крестьянской и пролетарской молодежи 1920-х годов, – к ней же относились, например, Андрей Платонов и другие, вступившие на профессиональную стезю уже при советской власти22. Для этого более молодого поколения революция сама по себе вряд ли была проблемой. В момент революции большинству из них было меньше двадцати, и они не выражали ни живагоподобного восторга от «великолепной хирургии» большевистского переворота, ни живагоподобной тоски по несбывшимся надеждам 1905 года. Революция просто создала реальность, в которой происходило их созревание как писателей. Они формировали новое государство, – но также и сами были им сформированы. Многие из них, в том числе Заболоцкий и Платонов, работали в учреждениях новорожденной советской бюрократии с разной степенью идеологической вовлеченности [Касьянов 1977: 32; Дьяконов 1984: 30]23. Как и упомянутые выше поэты старшего поколения, они тоже столкнулись с проблемой того, как быть писателем в эпоху, когда старое определение писателя больше не применялось, а новые определения возникали как результат мучительного, а иногда и смертельно опасного процесса.
Переходя на более абстрактный уровень, можно также утверждать, что в интеллектуальной вселенной Заболоцкого во многом отразилась та смесь идеологий, из которой образовалась советская культура. В ее дальней перспективе присутствуют утопические идеи футуристов (особенно Хлебникова) и авангардистов; позитивизм Энгельса и разнородные феномены русского марксизма; фрагменты утопической мысли Циолковского и Федорова, а также следы того, что можно было бы назвать «биологической философией», восходящей к работам Вернадского.
Однако при всей устремленности к будущему добрая часть этой идеологической мешанины была сформулирована в выражениях, относящихся к привычным и, казалось, незаменимым структурам российского прошлого. Образ мышления и мировоззрение Заболоцкого, как и советской культуры в целом, часто строились на фундаменте русского православия, даже если на это основание надстраивалась прогрессивная идеология. Здесь можно вспомнить о переделке старых религиозных праздников на светский лад, о схожести большевистских демонстраций с православными крестными ходами и о поразительном сходстве между большевистской и православной традициями агиографии [Stites 1989: 61, 109–114; Tolstoy et al. 1993; Bojko 1980: 72–77; Clark 1981: 4–5, 47–67, 151–152, 181–182]. Кроме того, литературные приемы XIX века оказались весьма полезны, а важное место в творчестве Заболоцкого и в советской литературе в целом занимал тяжеловесный, церемониальный стиль оды XVIII века.
Опираясь в исследовании о Заболоцком на концепцию загадки и культурной парадигмы, настоящая работа не полагает своей целью дать исчерпывающую картину жизни и творчества поэта. Это уже превосходно сделали Дарра Гольдстейн, Никита Заболоцкий (сын поэта), Андрей Турков, Адриан Македонов и другие. В настоящем исследовании, скорее, освещаются избранные моменты, в которых отражены основные культурные импульсы Советской России и проявились главные структуры и механизмы поэтической идентичности Заболоцкого. Парадоксальным образом именно такой подход, с выделением отдельных моментов, позволяет увидеть элементы целостности и преемственности, присущие русской советской культуре в целом, а также элементы целостности в творчестве «расколотого» поэта Заболоцкого. И напротив, при использовании привычного мыслительного шаблона, основанного на непрерывности изложения, наблюдается тенденция усиливать трещины и подчеркивать неоднородность культуры и идентичности.
Интересующие нас моменты биографии Заболоцкого содержатся в его немногих автобиографических высказываниях, в его письмах и в на редкость богатом собрании мемуаров, изданном под названием «Воспоминания о Заболоцком». Соответствующие моменты литературной жизни – это чаще всего отдельные короткие стихотворения и изредка проза, относящиеся к разным периодам творческой деятельности поэта. Длинные стихотворения 1930-х годов, хотя и составляют важный этап в его поэтическом становлении, будут рассмотрены не столь подробно. Сосредоточенные в рамках одного творческого периода, они менее полезны для такого рода диахронического исследования. Кроме того, они достаточно освещены в предыдущих работах [Goldstein 1993; Goldstein 1983; Masing-Delic 1983: 360–376; Masing-Delic 1992; Demes 1984].
Такой выборочный подход дает возможность отследить комплекс взглядов, идей и убеждений, струящихся в произведениях Заболоцкого, как животворный источник, порой потаенный, а порой бьющий у всех на виду. Именно этот комплекс лег в основу творчества поэта, решительно прокладывающего себе путь сквозь суровый и изменчивый ландшафт советской культуры, и как ее строитель, и как жертва.
Глава вторая
Устроение личности
НА ПОЛПУТИ МЕЖДУ КРЕСТЬЯНСТВОМ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ
Милый друг! Люби и уважай книги… Написать книгу нелегко. Для многих книга – все равно, что хлеб.
Наставление на книжном шкафу Алексея Агафоновича Заболотского
Положиться можно только на свою картошку.
Заболоцкий – Николаю Чуковскому
Первым «моментом», имеющим значение для нашего исследования, является, собственно, первое мгновение жизни Заболоцкого в день 24 апреля 1903 года, когда он, первый из шести детей Алексея Агафоновича и Лидии Андреевны Заболотских, родился на ферме под Казанью. Вряд ли кто-либо еще из крупных русских поэтов родился на ферме. Вряд ли у отца кого-то из них было такое откровенно крестьянское отчество – Агафонович. Немногие провели свои первые 17 лет жизни в такой глухомани, как Кукмор, Сернур и Уржум. И хотя многие русские поэты брали псевдонимы, ни у одного из них фамилия так не отдавала стоячей водой, как у Заболотского. Видимо, он и написание ее изменил в тщетной попытке избежать ассоциаций с неисправимой деревенщиной [Касьянов 1977: 31; Сбоев 1977: 42; Васин 1985: 137, 140]24.
О матери Заболоцкого до нас дошли только смутные сведения. Принимая во внимание ее девичью фамилию (Дьяконова), можно предположить, что она происходила из семьи священнослужителя. Бывшая учительница, это была морально стойкая женщина, угнетенная житейскими и духовными невзгодами [Заболоцкий 1972, 2: 208, 222; Васин 1985: 138]. Сестра поэта описывает Лидию Андреевну как праведницу, настолько стереотипную, что возникает вопрос, не потеряна ли ее индивидуальность: «Все хорошее, что в нас есть, заложено мамой, – пишет она. – Мама была очень хорошим, умным и справедливым человеком. Любовь к людям, отвращение к лжи и обману она внушала нам с детства. У нее был удивительно чистый и свежий ум» [Васин 1985: 138]. Однако даже с поправкой на дочернее обожание, по описанию угадывается умная и нравственно сильная женщина.
В отце поэта гораздо отчетливее можно увидеть ключ к некоторым противоречиям, которыми отличается сын как человек и как поэт. Согласно автобиографическому очерку поэта «Ранние годы» (1955 год), Алексей Агафонович первым из Заболотских был «человеком умственного труда». Но «умственный труд» в данном случае недалеко отстоял от крестьянских занятий предков: Алексей Агафонович отучился в Казанском сельскохозяйственном училище и работал на полях агрономом. «Не столь теоретик, сколь убежденный практик, – пишет Заболоцкий, – он около 40 лет проработал с крестьянами» [Заболоцкий 1972, 2: 208]. Он, по-видимому, внес много усовершенствований в возделывание клевера, ржи и льна, а также прославился тем, что сумел получить от певца Федора Шаляпина, также уроженца Уржумского уезда, помощь на содержание бесплатных столовых в неурожайные годы [Васин 1985: 137, 138]. Далее поэт рассказывает:
Отцу были свойственны многие черты старозаветной патриархальности, которые каким-то странным образом уживались в нем с его наукой и с его борьбой против земледельческой косности крестьянства. Высокий, видный собою, с красивой черной шевелюрой, он носил свою светло-рыжую бороду на два клина, ходил в поддевке и русских сапогах, был умеренно религиозен, науки почитал, в высокие дела мира сего предпочитал не вмешиваться и жил интересами своей непосредственной работы и заботами своего многочисленного семейства [Заболоцкий 1972, 2: 208].
Сдержанность в поведении, которой Заболоцкий-сын, казалось, отличался с самого начала, и ореол рассудительности, добродетели и чистоты, окружавший его (и приводивший в замешательство тех, кто ожидал гораздо большей мудрености от поэта-авангардиста), скорее всего, унаследованы как от отца с его «патриархальностью», так и от матери с ее обостренным нравственным чувством.
Также чувствуется влияние Алексея Агафоновича в стремлении Заболоцкого «в высокие дела мира сего не вмешиваться» и жить «интересами своей непосредственной работы» и заботами своей семьи. «Работа» в его случае была поэзией, а не агрономией, а «высокие дела мира сего» приняли форму сталинизма. Все эти аспекты очень ярко проявляются, например, в обращении поэта в прокуратуру в 1939 году с просьбой об освобождении из лагеря. Изложив подробности сфабрикованного против него дела, Заболоцкий выражает озабоченность по поводу депортации его семьи из Ленинграда в Кировскую область (ранее – Уржумский уезд) и по поводу того факта, что с момента ареста у него не было возможности ни прочитать книгу, ни написать стихотворение. «Я чувствую, что с каждым днем теряю свою квалификацию», – пишет он [Goldstein 1993: 94]. В завершение Заболоцкий свидетельствует как о своей лояльности советскому строю, так и о приоритетности для него ролей поэта и семьянина:
Прошу направить на пересмотр мое дело… Прошу снять с меня незаслуженное позорное клеймо врага народа и возвратить меня к моей семье, к моим детям, к моей работе. …Дело идет о физической и литературной жизни советского поэта, который на благо советской культуры готов отдать все свои силы и способности [Goldstein 1993: 94].
Подлинная преданность поэта семье подтверждается двумя свидетельствами примерно этого же периода. Первое из них – это письмо Заболоцкого жене из лагеря. В письме от 8 мая 1941 года явно видна мука любящего отца, насильно разлученного с детьми:
Часто вспоминаю я Никиткино детство – как он на Сиверской впервые встал на ножки, как лазил под стол за мячом и, разогнувшись там, – ушибся… как он наблюдал за моим бритьем, а я строил ему невероятные рожи, что доставляло ему столько удовольствия; как дочку укачивал; как она тихонько сказала «папа» – тогда, – прощаясь со мной. Или это только почудилось мне?.. Судьба оторвала меня от дочки; детство ее проходит без меня [Заболоцкий Н. Н. 1998: 303].
Второе свидетельство находится в мемуарах того самого Никиты, о котором говорилось выше, – теперь уже взрослого человека. Он вспоминает, как они с матерью и сестрой путешествовали из Уржума, куда они были сосланы как семья врага народа, на крошечную, почти заброшенную дальневосточную станцию25, чтобы воссоединиться с Заболоцким, который был уже не заключенным, а вольнонаемным. Маленькая группа все ждала и ждала, когда же появится поэт с лошадью, чтобы отвезти их в хижину, где они будут жить. Наконец он появился. «Папа, который не терпел никакой аффектации, – пишет Никита Заболоцкий, – опустился перед детьми на колени, смотрел, смотрел…» [Заболоцкий Н. Н. 1977: 184].
Свое желание не вмешиваться в высокие дела мира сего Заболоцкий повторял неоднократно, и однажды в 1950-е годы он прямо заявил: «Для меня политика – это химия. Я ничего не понимаю в химии, ничего не понимаю в политике, и не хочу об этом думать… Я только поэт, и только о поэзии могу судить». В другом случае он снова с необычной откровенностью заявил о политических аспектах своей позиции: «Я не знаю, может быть социализм и в самом деле полезен для техники. Искусству он несет смерть» [Роскина 1980: 70, 77].
Пожалуй, наиболее впечатляет утверждение Заболоцкого об отце в «Ранних годах». Это определение примечаниемо к нему самому почти в той же мере, как и к его отцу. «По своему воспитанию, нраву и характеру работы, – пишет поэт, – он [мой отец] стоял где-то на полпути между крестьянством и тогдашней интеллигенцией» [Заболоцкий 1972, 2: 208]. Занятия Заболоцкого-младшего явно отличались от работы его отца, но вот его воспитание, нрав и, прежде всего, его промежуточное положение, принадлежность к двум мирам оказали глубокое влияние на его характер.
Можно утверждать, что сам Заболоцкий-младший был уже полноценным интеллигентом: он переехал из деревни в город, получил литературное образование и, самое главное, в изменившемся обществе новая советская интеллигенция создавалась именно из таких, как он. И здесь он снова вписывается в общую культурную парадигму26. Но все же очевидно, что все это определяет принадлежность к интеллигенции лишь технически. А вот следы «крестьянского» происхождения и рвение новоявленного интеллигента были характерны для поэта и для других членов новой интеллигенции в течение всей жизни. Так, сборник Заболоцкого «Столбцы» – это одновременно и авангардная поэзия, и «реалистическое» видение деревенского парня, изумленного излишествами городской жизни времен НЭПа [Engel 1993: 446– 459]. Его позднейшее обращение к классическим стихам о природе – это возврат к местности, где прошло его детство, к «целомудренной прелести растительного мира» и к природе Сернура, которая, как выразился сам поэт, «никогда не умирала в моей душе и отобразилась во многих моих стихотворениях» [Заболоцкий 1972, 2: 209].
Именно в бытность свою студентом в Петрограде, когда молодой Заболоцкий всеми силами старался превозмочь свое деревенское происхождение, он ясно дал понять, что гордится крестьянскими корнями. Рисуя свою петроградскую жизнь в письме другу детства и однокласснику из Уржума Михаилу (Мише) Касьянову, Заболоцкий сочетает эту гордость с тем, что можно принять за обычное крестьянское недоверие к «чужакам», и с лермонтовским чувством отчуждения, присущим начинающему поэту. Предвосхищая свою более позднюю характеристику отца как того, кто стоит «на полпути между крестьянством и интеллигенцией», – себя он именует «полумужиком»:
Соседи по квартире знают меня, как грубого, несимпатичного полумужика, и я – странное дело – как будто радуюсь этому. Ведь жизнь такая странная вещь – если видишь в себе что-нибудь – не показывай этого никому – пусть ты будешь для других кем угодно, но пусть руки их не трогают твоего сердца. И в сущности, это почти всегда так и бывает. Я знаю многих людей, которые инстинктивно показывают себя другими, не теми, что есть. Это так понятно. Но я люблю и боюсь своего одиночества [Заболоцкий 1972, 2: 231]27.
О схожем недоверии к внешнему миру и о сельскохозяйственных познаниях крестьянина свидетельствует один эпизод конца 1940-х. Когда Заболоцкий вернулся из тюрьмы и дальневосточной ссылки, ему, бывшему заключенному, трудно было немедленно рассчитывать на квартиру, поэтому он с семьей жил на чужой даче в Переделкино. К удивлению Николая Чуковского, жившего на соседней даче, только что вернувшийся поэт сразу же принялся вскапывать огород и «трудился от зари до зари, переворачивая землю лопатой» [Чуковский 1977: 219]. Идея разбить огород для пропитания никогда не приходила в голову Чуковскому, который тоже был в стесненных обстоятельствах. Но когда он попытался уверить Заболоцкого в том, что прожить можно и на литературные заработки, тот отказался принять это на веру и ответил фразой, подозрительно похожей на крестьянскую поговорку: «Положиться можно только на свою картошку» [Чуковский 1977: 219]. Как только Заболоцкий законным порядком получил квартиру в Москве, огородничество, скорее всего, прекратилось. Тем не менее поэт держал у входной двери несколько пар валенок, как будто в знак опоры на крестьянские обычаи и из опасения, что снова арест бросит его на милость стихий. Как сообщает сын Заболоцкого, в городе валенки были «совершенно ненужными» [Заболоцкий Н. Н. 1977: 188].
В письме, написанном незадолго до смерти, примерно через 40 лет после процитированного выше письма Касьянову, поэт снова обращается к своей крестьянской идентичности. Спросив своего адресата о здоровье, Заболоцкий затем отмечает, что у него самого были проблемы с сердцем, поскольку «здоровье моего сердца осталось в содовой грязи одного сибирского озера», то есть на месте его принудительных работ. «Но я и мое сердце – мы понимаем друг друга, – продолжает он. – Оно знает, что пощады ему от меня не будет, а я надеюсь, что его мужицкая порода еще потерпит некоторое время» [Заболоцкий 1972, 2: 265]. Примечательно, что в обоих письмах самоощущение Заболоцкого как крестьянина связано с его сердцем, первый раз образно («пусть руки их не трогают твоего сердца»), а второй раз – более или менее буквально («здоровье моего сердца»), хотя и это выражение могло быть образным, поскольку лагерный опыт сказался не только на теле поэта, но и на душе.
Вследствие того, что Заболоцкий непрестанно помнил о своем крестьянском происхождении, к интеллектуальной жизни он зачастую относился не просто с уважением, а с благоговением. В «Ранних годах» он вспоминает отцовский книжный шкаф с произведениями русских классиков. Это была не та библиотека, которая бывала в домах образованных высших слоев общества и состояла из дорогостоящих собраний сочинений. Это было собрание русской классики, выпущенное в качестве приложений к популярному иллюстрированному журналу «Нива» для тех, кому дорогие издания были недоступны и кому могло потребоваться некоторое руководство в выборе книг для чтения. Алексей Агафонович «старательно» переплетал тома, сообщает Заболоцкий, но он скорее «уважал» свою коллекцию, чем «любил» или читал книги из нее. Как впоследствии выразился один критик, Алексей Агафонович много не читал, но относился к своей коллекции «с крестьянской уважительностью» [Павловский 1982: 170]. Книжный шкаф тем не менее сослужил хорошую службу, став «любимым наставником и воспитателем» будущего поэта. Даже спустя 45 лет, будучи уже зрелым поэтом, он вспоминает наставление, вырезанное из календаря, приклеенное к куску картона и размещенное на дверце книжного шкафа. Он пишет, что читал его «сотни раз» и до сих пор «дословно помнит его немудреное содержание». В доказательство он цитирует это благоговейное и действительно немудреное увещевание:
«Милый друг! Люби и уважай книги. Книги – плод ума человеческого. Береги их, не рви и не пачкай. Написать книгу нелегко. Для многих книги – все равно, что хлеб» [Заболоцкий 1972, 2: 211].
Он заключает, что его детская душа восприняла эту календарную премудрость со всей пылкостью и непосредственностью детства, что именно около книжного шкафа с надписью на картонке он выбрал профессию и стал писателем, сам еще не вполне понимая смысл этого большого для себя события.
Как многие хорошие русские мальчики, Заболоцкий начал писать стихи еще в начальной школе. Его первая проба пера, написанная, когда он был в третьем классе, начиналась так: «Как во Сернуре большом / Раздается сильный гром» [Васин 1985: 139]. Стихотворение, в котором предсказуемо отсутствует поэтическая изощренность, демонстрирует точку зрения очень маленького ребенка, который нигде, кроме деревни, не жил. Деревня, в которой есть «площадь с церковью… две длинные улицы… две короткие улочки: на одной была сельская школа, а на другой – больница», характеризуется как «большой» Сернур [Заболоцкий 1972, 2: 209].
Заболоцкий занимался поэзией с чувством абсолютной преданности ей, – в отличие от многих других, для кого причастность культуре была естественной и кто мог поэтому позволить себе писать стихи в качестве развлечения, хобби или для проверки своего художественного чутья. В торжественной манере, приличествующей знаменательным событиям жизни, он сообщил своему другу Мише Касьянову, что если начал писать стихи, то это уже «до самой смерти». И он подкрепил свой аргумент, объяснив, что у него есть «тетка», которая тоже писала стихи, и тоже так говорила: «Знаешь, Миша. У меня тетка есть, она тоже пишет стихи. И она говорит – если кто почал… стихи писать, до смерти не бросит» [Касьянов 1977: 31]. Обращение мальчика к авторитету своей «тетки», о которой до сих пор ничего не известно ни как о поэте, ни в ином качестве, использование им глагола «почать», типичного для сельского говора, вместо литературного «начать» и детская простота синтаксиса придают особенный вес серьезности этого заявления.
Немногим более десяти лет спустя, когда Заболоцкий был на пути к тому, чтобы стать значимой фигурой среди ленинградских поэтов-авангардистов, в письме к своей будущей жене, Е. В. Клыковой, он выразил такую же преданность поэзии, но несколько более драматично.
Надо покорять жизнь, надо работать и бороться за самих себя.
Сколько неудач еще впереди, сколько разочарований, сомнений! Но если в такие минуты человек поколеблется – его песня спета. Вера и упорство, труд и честность… Моя жизнь навсегда связана с искусством – вы это знаете. Вы знаете – каков путь писателя. Я отрекся от житейского благополучия, от «общественного положения», оторвался от своей семьи – для искусства. Вне его – я ничто [Степанов 1972: 6].
Здесь снова видна искренность новообращенного – человека, для которого поэзия и иные творческие и интеллектуальные занятия не были чем-то прирожденным.
Молодой Пастернак, например, мог чередовать занятия музыкой, философией и поэзией, и при этом рассчитывать как на понимание своей семьи, так и на относительно постоянный материальный достаток. Но для Заболоцкого его утверждение о том, что он оторвался от семьи и отрекся от житейского благополучия, хоть и кажется преувеличением, тем не менее соответствует реальности. Вряд ли можно было ожидать, что его семья, оставшаяся в Сернуре, хотя бы поймет поход Заболоцкого в авангард, не говоря уже о том, чтобы деятельно поддержать его. Согласно прошению Заболоцкого о предоставлении ему стипендии в институте имени Герцена, его отец уже жил на «небольшую пенсию», а мать работала руководительницей в Доме ребенка, имея «скудный заработок». Кроме того, у них было еще пятеро детей на иждивении, самому младшему из которых было пять лет [Павловский 1982: 167–168]. И даже не беря во внимание финансовую возможность семьи поддержать его, – возможно, молодой поэт углубил наметившийся разрыв с семьей, изменив в середине 1920-х написание своей фамилии в тщетной попытке выглядеть по-интеллигентски, а не по-мужицки.
Первый большой шаг в направлении интеллигенции Заболоцкий сделал в 1920 году, когда они с другом, Мишей Касьяновым, решили покинуть Уржумский уезд и добиваться успеха на поприще культуры в Москве. Как начинающие литераторы, они сначала поступили на историко-филологический факультет Первого Московского университета. Обнаружив, что студенческого пайка, выдаваемого на филфаке, им не хватает, они поступили еще и на медицинский факультет Второго Московского университета, где пайки были лучше. Если судить по воспоминаниям Касьянова и одному стихотворению Заболоцкого того периода, жили они очень бедно, но сумели сохранить бодрость духа. В стихотворении Заболоцкого сначала описывается дорога двух друзей на занятия медицинского факультета. Они завтракают в дешевой чайной, где «чай» заваривают из моркови за неимением настоящего чая, где «повидло» к «чаю» было из разряда «ненормированных сладостей», где посетители приносили с собой свой паек хлеба и где вывеска, словно по некой иронии, все еще сулила мифические яства: «Торты, хлеб, сайки, баранки, какао». Затем они шли к месту назначения – на класс остеологии на медицинском факультете. Что символично для того времени, оказавшись на уроке, поэт размышлял о стоянии в очереди за хлебом и о проблемах с обувью. Как в хорошую, так и в плохую погоду он надевал поверх кожаных сапог галоши, потому что подметки его сапог отвалились, – но и галоши теперь тоже уже разваливались.
- Утром за чайной
- Рано, чуть свет,
- Зайдешь не случайно
- В университет.
- Припев
- Торты и сдобные хлебы,
- Сайки, баранки, какао.
- Эй, подтянись потуже,
- Будь молодцом!
- Номенклатура,
- Костный музей.
- Vertebra Prominens
- ноет сильней.
- В аудитории сонной
- Чувства не лгут —
- На Малой Бронной
- Хлеб выдают.
- На Малую Бронную
- Сбегать не грех.
- Очередь там небольшая —
- Шестьсот человек.
- Улица Остоженка,
- Пречистенский бульвар,
- Все свои галоши
- О вас изорвал
Этот Заболоцкий – не тот блестящий визионер гротеска, каким он станет в конце 1920-х, и не претерпевший страдания мастер классического русского стиха, которым он станет еще позже, когда юмор останется лишь в стишках, как он их называл, предназначенных только для друзей и семьи, а не для публикации. Студент Заболоцкий, описывая суровые материальные лишения, пишет с добрым лаконичным юмором и с легкой иронией молодого человека, полного надежд на будущее.
Возможно, поэт использует противоречие между подлинной серьезностью, даже мрачностью изображаемой ситуации и уходом от стандартных форм «серьезной» поэзии, чтобы создать ощущение приятной неустойчивости. Стихотворение легко делится на «классические» строфы длиной в четыре строки, но короткие строки с тенденцией к дактильному метру больше тяготеют к фольклору или частушке, чем к великой русской поэтической традиции. В большей части стихотворения применяется обычное чередование мужских и женских рифм. Заболоцкий, однако, смешивая точные рифмы (свет / университет, сонной / Бронной), неточные рифмы (из чайной / случайно, не грех / человек) и нерифмованные окончания (хлебы / потуже, Бронную / небольшая), добивается некоей преднамеренной комической неловкости. Пестрящая стилистика стихотворения, сочетающая литературную и разговорную русскую речь, перечень кондитерских товаров с вывески чайной, русифицированную латынь и настоящую латынь, – все это бросает бесшабашный вызов закоснелым нормам поэтической традиции, – равно как и внезапные обращения – первое, напористо-фамильярное, – к читателю, либо к самому поэту («Эй, подтянись потуже, будь молодцом!»), и второе – к московским улицам, на которых поэт разодрал калоши («Улица Остоженка, Пречистенский бульвар, / все свои галоши о вас изорвал»).
Несмотря на оптимизм и жизнестойкость молодости, начинающий поэт в конце концов решил, что «нет смысла голодать на медицинском факультете», и в начале 1921 года вернулся в Уржум [Касьянов 1977: 40]. Однако к осени того же года его решимость получить литературное образование вновь окрепла, и он отправился в Петроград, где поступил на литературный факультет Педагогического института имени Герцена.
Любопытен выбор Заболоцким этого учебного заведения, если учесть его собственное признание, что он «педагогом… быть не собирался и хотел лишь получить литературное образование, необходимое для писательской работы» [Заболоцкий 1983, 1: 491]28. По некоторым источникам, он мог бы участвовать в деятельности Дома искусств Горького, поступить в Петроградский университет или Институт истории искусств, под сенью которых он смог бы познакомиться с выдающимися литературными умами того времени [Goldstein 1993: 17]29. Подобно Николаю Брауну, с которым он выпускал студенческий журнал, он мог бы учиться одновременно и в Институте имени Герцена, и в Институте истории искусств, извлекая пользу из обоих [Филиппов 1981: 18]. Но насколько нам известно, для получения формального образования Заболоцкий рассматривал только Институт имени Герцена. Это был институт с хорошей репутацией, но тем не менее в нем готовили не поэтов или литературоведов, а учителей.
Ответ на эту загадку может заключаться в некоторых практических деталях, ныне неизвестных истории, например, в предоставлении продуктовых карточек или места в общежитии. Также могли иметь значение академическая подготовка Заболоцкого и его классовая принадлежность. В Уржуме он посещал реальное училище и поэтому не получил той подготовки, которую обеспечивала гимназия и которая обычно требовалась для поступления в университет до революции. Возможно, в 1921 году некоторые прежние требования еще были в силе. С другой стороны, в ранние годы советской власти рабочие и крестьяне имели огромное преимущество при поступлении в институт, – но, возможно, с точки зрения приемной комиссии, классовая принадлежность Заболоцкого к крестьянам была неполноценной из-за «управленческой» должности отца [Fitzpatrick 1992: 66, 95–96]30.
Сделанный выбор, возможно, также имел некое отношение к собственному чувству идентичности Заболоцкого как полукрестьянина, полуинтеллигента. В конце концов, именно в это время он написал письмо, в котором одновременно и сокрушался, и хвастался, что его соседи по комнате принимали его за «грубого, несимпатичного полумужика». Возможно, он разделял опасения поэта меньшего масштаба, впоследствии ставшего успешным чиновником от литературы, Александра Прокофьева, который однажды отказался читать свои стихи в Институте истории искусств, сославшись на присутствие «тщеславных снобов и эстетов-формалистов» [Филиппов 1981: 73].
Как отмечалось ранее, Заболоцкий считал себя «самоучкой». Если в американской культуре представление о человеке, который учился самостоятельно, обычно нейтрально или несет в себе позитивный оттенок, то в русском понятии «самоучка» есть намек на возможную недостаточность самообучения. Словарь Даля, например, определяет самоучку как «человека, не получившего правильного образования» [Даль 1880–82]. Слово «правильное» здесь, скорее всего, следует понимать как «регулярное», «структурированное», «формальное», но тем не менее оно несет сильные коннотации своего более общего значения, тем самым предполагая что-то потенциально «неправильное» в образовании самоучки. Другие словари подчеркивают отсутствие «систематического обучения» и отсутствие учителя («руководителя»), тем самым обращая внимание на потенциально ошибочный характер обучения, а не на позитивное представление о личной инициативе [Ушаков 1974; Ожегов 1963]. В воспоминаниях Николая Чуковского мы находим подтверждение этой мысли в связи с Заболоцким:
Он родился и вырос в маленьком глухом городке, и все, что знал, узнавал самоучкой, до всего додумывался самостоятельно, и нередко очень поздно узнавал то, что с детства известно людям, выросшим в культурной среде. Он понимал, что он самоучка, и всю жизнь относился к самоучкам с особой нежностью. Он называл их «самодеятельными мудрецами», – то есть мудрецами, в основе мудрости которых лежит не школьная наука, не книжность, а собственное, наивное, но отважное мышление [Чуковский 1977: 227].
Чуковский далее отмечает, что самоучками Заболоцкий считал и большинство своих героев – философа XVIII века Г. Сковороду, физика-провидца Циолковского и поэта Хлебникова, а также своего друга и товарища по ОБЭРИУ Даниила Хармса. Если придираться, Сковорода, Хлебников и Хармс на самом деле получили толику «правильного» образования (тогда как Циолковский действительно учился самостоятельно, из-за глухоты, вызванной скарлатиной). Тем не менее факт остается фактом: каждый из них обитал в созданном им самим неповторимом интеллектуальном мире, и каждый так или иначе пострадал ради его целостности.
Не исключено, что поступление Заболоцкого в Педагогический институт имени Герцена в какой-то степени отразило раскол между двумя половинами его собственного «я». Одна половина, воплощенная в безоговорочной клятве стать поэтом и продолжать писать стихи «до самой смерти», влекла его к культурному брожению Москвы и Петрограда, манила прочь от сравнительно спокойной жизни провинциального уржумского интеллигента. Но столкнувшись с утонченностью городской интеллигенции, которую олицетворяли элитарный Университет и Институт истории искусств, молодой человек стал лучше осознавать свою вторую половину, которая была действительно связана с деревенской жизнью и жизнью маленького городка его детства. Когда он оказался в Петрограде, ему пришлось самому справляться с городской жизнью, без моральной поддержки от человека с похожим происхождением и взглядами, потому что его друг, Миша Касьянов, остался в Москве.
Можно также попытаться экстраполировать первую реакцию Заболоцкого на город Уржум, который он впервые увидел десятилетним мальчиком, поступив в реальное училище, на восприятие им культурного богатства Петрограда. Оглядываясь назад, пожилой Заболоцкий называет Уржум «крохотным». Но для десятилетнего Заболоцкого, который бо́льшую часть детства провел в «большом Сернуре» (том самом мегаполисе, состоящем из «двух длинных улиц, двух коротких улиц и деревенской площади»), переезд в Уржум стал действительно важным событием:
Это было великое, несказанное счастье! Мой мир раздвинулся до громадных пределов, ибо крохотный Уржум представлялся моему взору колоссальным городом, полным всяких чудес. Как была прекрасна эта Большая улица с великолепным красного кирпича собором! Как пленительны были звуки рояля, доносившиеся из открытых окон купеческого дома – звуки, еще никогда в жизни не слыханные мною! А городской сад с оркестром, а городовые по углам, а магазины, полные необычайно дорогих и прекрасных вещей! [Заболоцкий 1972, 2: 210].
Но несмотря на это несказанное счастье, на чудеса и на то, что Уржум был на самом деле «крохотным» по сравнению с любым крупным городом, мальчик все же тосковал, и даже будучи уже взрослым, вспоминает это переживание: «Но как тяжко вдали от дома!» Если даже Уржум вызвал такую реакцию, насколько глубже могла быть реакция Заболоцкого на Москву и Петроград. Но сильнее могла быть не только очарованность, но и подавленность – культурная, интеллектуальная и физическая, усугубляемая неизбежными невзгодами тех лет.
РЕЛИГИОЗНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ
…и когда девичьи голоса пели «Слава в вышних Богу»…, слезы подступали к горлу, и я по-мальчишески верил во что-то высшее и милосердное, что парит высоко над нами и, наверное, поможет мне добиться настоящего человеческого счастья.
Заболоцкий. Ранние годы
Помимо ощущения своего промежуточного положения в мире, с ранних лет до конца жизни Заболоцкого отличали и другие черты: в первую очередь метафизическое и религиозное переживание высшего смысла, пронизывающего здешнюю жизнь, и чувство причудливого, в котором сочетались любознательность, мягкая ирония, бунтарство и литературное остроумие. Первому особенно способствовало его сельское происхождение, второму – чаяния, побудившие его переехать из деревни в город.
Что совершенно необычно для советского писателя, о своем религиозном воспитании Заболоцкий пишет довольно подробно, более или менее позитивно и с воодушевлением. На этом основании можно предположить, что это воспитание довольно значительно повлияло на его становление в детские годы. Даже после уроков, полученных в лагере, он не забыл своего религиозного образования и включил его в мемуары, несмотря на политические соображения.
Он никогда не делает четких заявлений о своей вере или неверии. Однако описание религиозного опыта у него контрастирует с подобными описаниями у других советских писателей, будь то опыт персонажа книги «Как закалялась сталь» Павла Корчагина, предположительно отразившего черты Николая Островского, или опыт Андрея Платонова, чье сходство с Заболоцким уже отмечалось. И у Платонова, и у Островского религиозное образование описывается в лучшем случае как нечто ненужное, в худшем – как зло, и оно всегда в тягость. В их глазах главное достоинство церковно-приходской школы было в том, что учителя-вероотступники могли пробудить в учениках первые проблески революционного сознания31. Законоучители юного Заболоцкого в его описании мало похожи на образцы святости: отец Сергий из приходской школы в Сернуре особенно запомнился своей склонностью ставить непослушных учеников в угол на горох, а отец Михаил из уржумского реального училища описывается как «удивительный неудачник», которого «ни во что не ставили» [Заболоцкий 1972, 2: 210, 216]. Однако в то же время они внесли свой вклад в создание среды, в которой мальчик оттачивал духовные инструменты и взращивал интуиции, впоследствии вновь и вновь служившие ему.
Само собой разумеется, что начальное духовное развитие Заболоцкого не имело ничего общего ни с изысканной эстетизированной религией символистов, ни с богословской утонченностью религиозных слоев городской интеллигенции. Его религиозная чувствительность произросла из доморощенного провинциального, крестьянского православия. Принимая во внимание интерес семьи Заболоцкого к образованию, свидетельствующий о ее движении от крестьянства к провинциальной интеллигенции, можно быть уверенным, что в основах религии будущий поэт разбирался более основательно, чем окружающие крестьяне. Но в то же время в основе этого понимания лежало неоспариваемое, неисправимое, традиционное сельское православие, способное вобрать в себя и примеси языческих народных верований, и крестьянский утопический мистицизм и, в конечном итоге, элементы марксистской мысли. К большому огорчению церковных властей, из этой разнородной пряжи состояла ткань духовной жизни русской деревни32.
Если, как сообщает Заболоцкий, его «отцу были свойственны многие черты старозаветной патриархальности» и он был «умеренно религиозным», в семье, скорее всего, было принято ежедневное молитвенное правило и более-менее регулярное посещение церкви [Заболоцкий 1972, 2: 208]. Более того, мальчик, несомненно, изучал Закон Божий как в приходской школе в Сернуре, так и в уржумском реальном училище. Поэт помнит не только вступительные экзамены в реальное училище по Закону Божию, но и (более 40 лет спустя) короткий молебен, с которого начинался каждый учебный день: зал с огромным портретом царя в мантии в золотой раме; хор, стоящий перед учениками с левой стороны; пение молитвы «Царю Небесный» «каким-то младенцем-новичком»; священник отец Михаил, страдающий флюсом, читающий дрожащим тенорком главу из Евангелия; и заключительное пение гимна «Боже, царя храни» [Заболоцкий 1972, 2: 210, 213]. Заболоцкий вспоминает и об обязательном посещении всенощной и обедни по субботам и воскресеньям и о том, как прислуживал алтарником в соборе. Это послушание, помимо зажигания и тушения свечей, давало возможность, к большому удовольствию действующих лиц, потягивать украдкой «теплоту» (разведенное вино) и передавать записки от мальчиков из реального училища гимназисткам и обратно [Заболоцкий 1972, 2: 220].
Однако ни участие в шалостях, ни дрожащий тенорок священника с флюсом не могли полностью разрушить религиозные переживания Заболоцкого. Описывая свое детство в Сернуре, поэт вспоминает одноклассника Ваню Мамаева, выходца из бедной семьи, которому доверили участвовать в обходе села с чудотворной иконой. Зима была холодной, и Ваня, в худой одежонке, с утра до ночи ходил по домам с монахами, которые несли икону. «Бедняга замерз до полусмерти, – пишет Заболоцкий, – и получил в награду лаковую картинку с изображением Николая Чудотворца. Я завидовал его счастью самой черной завистью» [Заболоцкий 1972, 2: 210]. Возможно, повзрослевший Заболоцкий и внес в этот эпизод нотку самоиронии – ведь, на первый взгляд, довольно глупо завидовать тому, кто замерз до полусмерти и получил взамен только картинку. Очевидно, однако же, что ребенком Заболоцкий отнесся к случившемуся со всей серьезностью и искренне завидовал религиозному самопожертвованию маленького Вани и его награде.
Пожалуй, самое глубокое выражение детского религиозного опыта Заболоцкого мы находим в его описании всенощной. И здесь опять-таки повзрослевший автор, возможно, передает некоторую наивность веры мальчика, но все же этому отрывку скорее свойственна сладкая ностальгия по самому себе в юности, чем самоирония:
…тихие всенощные в полутемной, мерцающей огоньками церкви невольно располагали к задумчивости и сладкой грусти. Хор был отличный, и когда девичьи голоса пели «Слава в вышних Богу» или «Свете тихий», слезы подступали к горлу, и я по-мальчишески верил во что-то высшее и милосердное, что парит высоко над нами и, наверное, поможет мне добиться настоящего человеческого счастья [Заболоцкий 1972, 2: 220].
Наш главный источник сведений о детстве Заболоцкого – его собственные воспоминания, «Ранние годы», – описывает его жизнь только до начала Первой мировой войны. По понятным причинам, письменных обсуждений религиозного опыта Заболоцкого в послереволюционный период не существует. Известно, однако, что некоторые православные традиции живо сохранились в его памяти. Например, в письме Касьянову в 1921 году он тепло вспоминает о Рождестве у себя дома:
Сегодня я вспомнил мое глубокое детство. Елку, Рождество. Печка топится. Пар из дверей. Мальчишки в инее. – Можно прославить?
Лежал в постели и пел про себя: – Рождество Твое Христе Боже наш…
У дверей стояли студентки и смеялись… [Заболоцкий 1972, 2: 228].
Заболоцкий завершает письмо предложением Касьянову приехать к нему «на Рождество», хотя теоретически Рождество отменили четырьмя годами ранее.
Сосед молодых поэтов по комнате рассказывает о другом случае, происшедшем несколько лет спустя. На спонтанном празднике с общим пением исполнялись не только вполне предсказуемые «Вечерний звон» и «Вниз по матушке, по Волге», но также духовные песнопения: «Хвалите имя Господне…», «Се Жених…» и «Чертог Твой…». Хотя сосед по комнате подчеркивает, что религиозных наклонностей у импровизированных певчих не было, он тем не менее добавляет, что песнопения выходили вполне хорошо [Сбоев 1977: 43–44].
Религиозное образование влияло на творчество Заболоцкого достаточно долго, – это очевидно из временно́го разброса нескольких написанных и запланированных работ на откровенно религиозные темы. Еще в 1921 году 18-летний Заболоцкий подробно пишет Касьянову (в письме в стихах, ни больше ни меньше) о своей работе над драмой «Вифлеемское перепутье» [Касьянов 1977: 40–41]. Никаких указаний на судьбу этой драмы у нас нет, но не исключено, что к ней имеет отношение отрывок, написанный примерно десятью годами позже, под названием «Пастухи». Это краткая инсценировка встречи ангелов, возвещающих Рождество Христово, группы натуралистически изображенных, бестолковых пастухов и говорящего (или по меньшей мере думающего вслух) быка.
Эта авангардная, на первый взгляд, трактовка Рождества на самом деле уходит корнями в древнерусскую культуру, и в частности – опирается на рождественскую пьесу религиозного писателя XVII века святого Димитрия Ростовского (Туптало), к которому Заболоцкий проявлял явный интерес. Как и в отрывке, написанном Заболоцким, в пьесе святого Димитрия Ростовского пастухи изображены натуралистически. Что примечательно, в произведение на серьезную, возвышенную религиозную тему святой Димитрий вводит реалистические и комические элементы. По словам Д. Святополк-Мирского, пьесы святого Димитрия «…причудливо барочны в своем странно-конкретном изображении сверхъестественного и смелом привлечении юмора, когда речь идет о высоких предметах» [Святополк-Мирский 2005: 88]33. И святой Димитрий, и Заболоцкий, скорее всего, своей основной концепцией в чем-то обязаны также русским православным иконам Рождества Христова, живописное содержание которых сосредоточено на скромных обстоятельствах рождения Христа, а четко заданный иератический стиль указывает на высший смысл [Лосский, Успенский 2014: 237–245; Baggley 1988: 122, 142].
Кроме того, на стихотворение Заболоцкого вполне могли повлиять изображения детских лет Христа кисти авангардного художника Павла Филонова, которым он сильно восхищался и у которого брал уроки рисования в 1920-х годах. Филонов совершил паломничество в Палестину и написал несколько икон в традиционном стиле, но здесь подразумеваются авангардные картины Филонова. Обращаясь к исполненным религиозным смыслом сюжетам, таким как «Святое Семейство», «Поклонение волхвов» и «Бегство в Египет», Филонов применяет целенаправленные искажения и «примитивизм», характерные для большей части русского авангардного искусства34. Самобытно живописуя Рождество, Заболоцкий, как и во многих других случаях, олицетворяет смешение культур послереволюционной России, заимствуя одновременно и у авангарда, и у православия, энергично двигаясь в будущее, будучи при этом прочно привязанным к прошлому.
К этому же периоду относится довольно таинственное замечание друга Заболоцкого Леонида Липавского, касающееся дальнейших размышлений поэта на тему Рождества: «Удивительная легенда о поклонении волхвов, – сказал Н. А. [Заболоцкий], – высшая мудрость – поклонение младенцу»35. Липавский, однако, далее ничего не поясняет, и для предположений о литературном творчестве, проистекшем из этих мыслей, нам не на что опереться, кроме «Пастухов».
В 30–40-е годы Заболоцкий написал ряд философских стихотворений и поэм, затрагивающих тему бессмертия, в которых смешиваются религиозные и научные концепции, однако откровенно религиозной тематики и символики поэт избегает. Самыми яркими из них, пожалуй, являются поэмы начала 1930-х годов. В «Торжестве земледелия» широко и весьма своеобразно рассматриваются вопросы бессмертия и коллективизации советского сельского хозяйства. Из-за диковинности некоторых представленных идей, вкупе с эксцентричностью поэтического стиля раннего Заболоцкого, поэма создавала впечатление, что поэт пародирует благородную советскую идею коллективизации. Поэтому поэма «Торжество земледелия» стала одним из ключевых элементов кампании против Заболоцкого, а также одним из наиболее тщательно изученных произведений поэта. В другой его длинной поэме, «Безумный волк», карикатурно, но от этого не менее философски изображается серьезный Безумный Волк, представляющий собой нечто среднее между Фаустом и юродивым, или, возможно, самим Иисусом Христом36.
В свете всего этого неудивительно, что в шкафу вместе с другими книгами, которые Заболоцкий считал «необходимыми для работы», он хранил и Библию. Среди этих книг были издания Пушкина, Тютчева, Боратынского, Лермонтова, Гёте, Гоголя, Достоевского, Байрона, Шекспира, Шиллера, Мольера и некоторые другие. И еще менее удивительно то, что именно Библия была одной из книг, конфискованных при аресте поэта в 1938 году [Заболоцкий Н. Н. 1998: 221, 260].
В 1950-е годы Заболоцкий снова обратился к одной из сторон рождественской темы в трактовке святого Димитрия Ростовского и Филонова, на этот раз в стихотворении «Бегство в Египет». Как и в большей части работ Заболоцкого этого периода, в стихотворении изображается повседневная жизнь, быт. Однако, в отличие от остальных работ, у этого произведения есть еще один уровень с явно религиозным смыслом. Здесь поэт изображает себя самого больным, за которым ухаживает кто-то, кого он называет своим «ангелом-хранителем». В бреду он наслаждается блаженным сновидением, будто он – Младенец Христос. Когда он узнает, что Святое Семейство должно вернуться в Иудею, то просыпается с криком ужаса, но вновь успокаивается, видя «ангела-хранителя», сидящего у его постели. Пожалуй, самое поразительное в стихотворении – это переплетение метафоры и реалий. Бегство в Египет с библейской точки зрения «реально», но здесь оно – часть метафорического сна. «Ангел-хранитель» здесь – реальный человек, но также и религиозная идея. И хотя в целом стихотворение представляет собой «реалистичное» повествование, а не молитву, первые его слова «Ангел, дней моих хранитель…» напоминают урезанное, осовремененное начало русской православной молитвы ангелу-хранителю: «Ангеле Христов, хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего…» [Заболоцкий 1972, 1: 287; Божественная литургия 1960: 286–287].
Среди любимых произведений Заболоцкого, которые он переписал в записную книжку и читал друзьям в последние десять лет жизни, были два из еще не опубликованных религиозных «стихотворений Юрия Живаго» Пастернака. Одно из них, «Рождественская звезда», – это рождественское стихотворение, своим сочетанием натурализма и высокого религиозного смысла отчасти напоминающее «Пастухов» Заболоцкого и «Рождественскую драму» святого Димитрия Ростовского. Вспоминают, что Заболоцкий был восхищен этим стихотворением, сравнивая его с картинами старых фламандских и итальянских мастеров, «изображавших с равной простотой и благородством “Поклонение волхвов”» [Степанов 1977: 100]37. В другом стихотворении Пастернака, «На Страстной», изображена неделя перед Пасхой во взаимном переплетении церковных служб и весенней оттепели. Своим обращением к природе и предельной сосредоточенностью на вопросе бессмертия это стихотворение резонирует с собственными размышлениями Заболоцкого, особенно отразившимися в его творчестве конца 1930–1940-х годов.
Наконец, на момент смерти Заболоцкий работал над трилогией «Поклонение волхвов» [Заболоцкий Н. Н. 1977: 205; Заболоцкий 1972, 2: 295]. На листе бумаги, лежащем у него на столе, остался начатый план:
1. Пастухи, животные, ангелы.
2. _______________________
Второй пункт остался пустым. Обычно предполагается, что в трилогию должен был войти более ранний отрывок «Пастухи»38. В любом случае этой трилогией завершился бы цикл его творчества, начатый «Вифлеемским перепутьем».
Несмотря на то что прямых утверждений или свидетельств о религиозных настроениях со стороны Заболоцкого нет, все-таки предположение о его вере достаточно весомо. К тому же, безусловно, он обладал тем, что можно было бы назвать хорошо развитой религиозной восприимчивостью. Свой детский религиозный опыт Заболоцкий посчитал достаточно значимым для того, чтобы сделать его одним из узловых пунктов своей наиболее подробной автобиографии, «Ранние годы», написанной всего за три года до смерти. Его детские воспоминания на тот момент вряд ли уже могли быть свежими, особенно если учесть все, что он пережил в промежутке – активное участие в ОБЭРИУ с его авангардистским эпатажем, брак и семья, жестокая критика, лагерь, ссылка и постепенное, осторожное возвращение к литературной жизни в Москве. Тем не менее он ясно помнил подробности своего религиозного воспитания, которые до конца жизни иногда выходили на поверхность его сознания, несмотря на разрушения, причиненные временем и сталинской политикой «воинствующего атеизма».
ПРИЧУДЫ
Читайте, деревья, стихи Гезиода!
Заболоцкий
С его религиозной восприимчивостью связано одно свойство, которое, на первый взгляд, с ней не совместимо, но по сути имеет те же корни. За неимением лучшего слова назовем его чудаковатостью. Как и религия, причудливость, чудаковатость происходит из желания и способности видеть нечто за пределами поверхностной реальности жизни39. В отличие от институционализированной религии, но подобно русскому религиозному «институту» юродства Христа ради, причудливость порождает чудачества, дерзости, наносит удары по очевидности. Она ломает жизненные штампы в попытке найти истину, лежащую на глубине40. В Декларации ОБЭРИУ объясняется сущность такой причудливости, хотя она сама как понятие не упоминается. Так называемая литература абсурда, или бессмыслица Хармса и Введенского; гротески «Столбцов» Заболоцкого; и, как ни удивительно, ряд его философских стихов и лирика о природе – все это примеры причудливости.
В изданиях стихов Заболоцкого на фотографиях он обычно выглядит чересчур напыщенно – как человек, слишком много думающий о нравственном грузе своего призвания, человек, который не захочет поддержать друзей в игре в смену идентичности и который без тени улыбки скажет: «Я хочу походить на самого себя». И все же факт остается фактом: Заболоцкий был близким другом этих любителей розыгрышей и философии, связанных в той или иной степени с ОБЭРИУ. Тот самый чопорный тип, бесстрастно взирающий на нас со стольких фотографий, – и есть автор дерзновенных стихов, населенных говорящими быками, медведями и волками, иногда, как известно, вполне склонный к самоиронии41. Причудливость в той или иной форме присутствует в его творчестве с начала и до конца.
Самые ранние причуды в стихах Заболоцкого больше всего отдают юношеским бунтом и намеренной литературной дерзостью. Первоначальной мишенью этого бунтарства был ханжеский культурный код молодой провинциальной интеллигенции и формирующейся городской буржуазии – тот самый код, который спровоцировал литературный мятеж футуристов. Для конкретного примера возьмем журнал «Нива», украшавший собою книжный шкаф Алексея Агафоновича Заболотского и четверти миллиона других предполагаемых читателей42. «Нива» стремилась сделать своих подписчиков «культурно грамотными» в самом традиционном смысле. Целью журнала было не открыть новые горизонты, а, скорее, поддержать господствующие культурные устои. Ведь именно из приложений к «Ниве» Алексей Агафонович собрал свою коллекцию русской классики.
В цитированном ранее стихотворении московского периода Заболоцкий пренебрегает стандартами, поощряемыми «Нивой» и аналогичными изданиями: он избирает нетрадиционную тематику (голод, анатомия, калоши), бессвязную манеру изложения, смешанную лексику и не вполне правильные размер и рифму. Однако за год или два до отъезда в Москву его чудачества были больше похожи на типичный подростковый бунт, чем на литературное новаторство. Следующий отрывок, второй по времени образец поэзии Заболоцкого из ныне опубликованных (первый – это бессмертные строки третьеклассника о грозе в «Большом Сернуре»), представляет собой фрагмент стихотворения 1918 или 1919 года, которое молодой сорванец отправил в студенческий журнал – очевидно, для литературной провокации в духе Маяковского:
- …И если внимаете вы, исполненные горечи,
- К этим, моим словам,
- Тогда я скажу вам: сволочи!
- Идите ко всем чертям!43
В этот период он также написал длинное стихотворение «Уржумиада», которое было утеряно. Поэма, по всей видимости, была написана в том же стиле, что и вышеприведенный отрывок, и в ней высмеивались учителя и однокашники из уржумского реального училища44.
Примерно через год поэт написал стихотворение из шести строк «Лоцман», в котором к своему юношескому иконоборчеству добавил немного Лермонтова, чуть-чуть Маяковского (которого он читал, похоже, без особого энтузиазма, но которому тем не менее подражал) и, возможно, еще и отзвук «воинствующего атеизма», проповедуемого большевиками.
- …Я гордый лоцман, готовлюсь к отплытию,
- Готовлюсь к отплытию к другим берегам.
- Мне ветер рифмой нахально свистнет,
- Окрасит дали полуночный фрегат.
- Всплыву и гордо под купол жизни
- Шепну Богу: «здравствуй, брат!»
Касьянов сообщает, что Заболоцкий остался доволен стихотворением и считал его «большим и серьезным достижением». По поводу концовки он пишет, что они вступали в жизнь с настроением молодого задора и «на меньшее, чем на панибратские отношения с Богом, не соглашались» [Касьянов 1977: 34].
ПРИЧУДЛИВОСТЬ И ПОДРЫВ ЛИТЕРАТУРНЫХ УСТОЕВ В ДРАМАТИЧЕСКОМ МОНОЛОГЕ С ПРИМЕЧАНИЯМИ
Уже к концу 1920-х годов Заболоцкий имел за плечами некоторые поэтические достижения в виде стихотворного сборника «Столбцы». Кроме того, он закончил Педагогический институт имени Герцена и умел сочетать свою склонность к причудам, доходящим до дерзости, с доскональным знанием литературы. Приобщаясь к традиции литературных аллюзий, влияний, интертекста и испытывая «страх влияния», описанный многими исследователями – от Юрия Тынянова до Гарольда Блума, – литературным образованием Заболоцкий пользовался как топливом для поэтического воображения. С этих пор он время от времени он обращался к работам своих предшественников, переделывал их так или иначе, и в итоге создавал что-то явно свое.
Один из первых примеров такого соединения – юмористическое стихотворение, написанное в мае 1928 года для друга, Лидии Гинзбург, по случаю несостоявшегося путешествия на моторной лодке45. В произведении под названием «Драматический монолог с примечаниями» есть нечто и от дерзкого тона ранних работ Заболоцкого, и от большой традиции литературной пародии. Суть причудливости здесь в том, что Заболоцкий саботирует исходную традицию; в конфликте между архаическим языком и явно современным сюжетом – путешествием на моторной лодке; в кульбитах, которые автор совершает от образа поэта-сентименталиста былых времен к образу современного литературного хулигана, похожего на самого Заболоцкого 1920-х годов. (Многоточия в первой строфе вместо имен литераторов вставлены Л. Гинзбург, опубликовавшей текст. Примечания к тексту принадлежат Заболоцкому, но для ясности перенумерованы.) Произведение начинается следующим образом:
ДРАМАТИЧЕСКИЙ МОНОЛОГ
С примечаниями
Обладательница альбома сидит под сенью лавров и олеандров. Вдалеке видны величественные здания храмов и академии. Подходит автор.
Автор
(робко и растерянно)
- Смиряя дрожь своих коленок,
- стою у входа в Иллион1.
- Повсюду тысяча.............
- И… миллион..............
- О Лидья Яковлевна, каюсь —
- я так недолго протяну;
- Куда пойду, куда деваюсь,
- в котору сторону шагну???
(Оглядывается по сторонам, горько улыбается и замолкает. Проходит минута молчания. Затем автор устремляет взор в отверстые небеса и продолжает мечтательно.)
- Одна осталась мне дорога —
- терновый заказать венец,
- а также вымолить у Бога
- моторной лодки образец.
1 Автор не силен в мифологии, но все же термин сей примечателен.
Вопрос о жанре выходит на первый план уже в названии: «Драматический монолог с примечаниями». Даже в более ранние периоды, когда примечания были довольно обычным явлением в художественной литературе, вряд ли они когда-либо удостаивались от автора упоминания в названии или использовались для определения литературного жанра. Авторское «я» Заболоцкого примечаниями здесь просто одержимо, как будет показано дальше.
Драматический монолог (безотносительно к примечаниям) обычно определяется как разновидность лирической поэзии, характерной для монологов в драматической пьесе. Основное свойство драматического монолога состоит в том, что его произносит в виде целого стихотворения персонаж, который «явно не является поэтом», при этом раскрывая свою личность и характер46. Другой персонаж, или персонажи, присутствуют, но функционируют исключительно как слушатели. У Заболоцкого персонаж по имени «Лидия Яковлевна» ничего не делает, кроме как сидит, слушает говорящего и держит альбом для стихов и эпиграмм. Она вводится в монолог вместе с местом действия, частью которого и является. Персонаж-«автор», напротив, сочиняет и тут же представляет в театральных сценках стихи, которые будут записаны в альбом.
Заболоцкий идет вразрез с обычной практикой, напрямую связывая свой драматический монолог с непосредственной реальностью, и именно с помощью такого подрыва основ жанра он создает атмосферу взрывного веселья. Наперекор правилам, рассказчик у Заболоцкого явно идентифицируется с самим поэтом. Его слушательница также отождествляется с реальным человеком, а поводом для монолога является реальная прогулка, о которой сообщает настоящая Лидия Гинзбург. Отчасти из-за такой большой дозы реальности «автор» производит впечатление шута. Драматическому монологу свойственна эмоциональная интенсивность, и если ей сопутствует не добровольное воздержание от недоверия, а восприятие непосредственной и личной реальности, то ее становится больше, чем может вынести жанр (и большинство читателей). Должен последовать либо ужас, либо смех, и Заболоцкий делает это ради смеха.
Кроме того, монологический характер произведения (в противоположность диалогическому) усиливает ощущение фарса. В реальной ситуации у людей, которым нужна лодка, естественным образом начался бы диалог о путях решения проблемы. Солипсизм монолога в этих обстоятельствах становится смехотворным.
Альбом для сентиментальных стихов, сень лавров и олеандров, вид на храмы и академию – все это отсылает к смешению неоклассицизма и сентиментализма, которое было характерно для культуры светского общества в России конца XVIII – начала XIX века. Слог, используемый Заболоцким, также восходит к этому периоду и, вместе со сценой действия, создает атмосферу, свойственную для английской кладбищенской поэзии в русской адаптации. Кладбищенская поэзия, наиболее ярко представленная в России «Элегией, написанной на сельском кладбище» – стихотворением Томаса Грея в переложении Жуковского, – обычно живописует одинокого молодого человека с повышенной чувствительностью, который на лоне природы (возможно, рядом с кладбищем, предпочтительно находящимся в состоянии живописной заброшенности) переходит от созерцания ландшафта к размышлению о смысле жизни и, особенно, смерти47. К этой тональности Заболоцкий всерьез обратится к концу жизни, как будет показано в последующих главах настоящей работы. Однако в 1928 году основным импульсом была причуда.
Авторское «я» «Драматического монолога с примечаниями» немедленно опровергает собственную претензию на литературную компетентность в примечании, в котором признается, что «…не силен в мифологии, но все же термин сей примечателен». Расточительность в примечаниях полностью подрывает его очевидные притязания на эрудицию и глубину. Что еще хуже, любые притязания на личное человеческое достоинство уничтожаются сценическими указаниями по поводу его собственного выхода, которые предписывают ему выходить «робко и несколько растерянно». Упоминание о «дрожи в коленках» в первой строке вряд ли помогает делу. По сути, перед нами Заболоцкий в образе Вуди Аллена в сентименталистском изводе48.
После положенного количества вздохов, многозначительных взглядов на небеса и других сентиментальных жестов «автор» решает, что ему остается только сымитировать Христа: «терновый заказать венец, а также вымолить у Бога моторной лодки образец»49. Затем он начинает довольно затянутый процесс прощания, который включает в себя плагиат с саморазоблачением и отличается все возрастающим литературным нахальством.
(Умолкает. Тишина. Вдруг – протягивая руки к обладательнице альбома.)
- Ах, до свиданья, до свиданья!
- Бокалы выше головы!
- Моторной лодки трепетанье
- слыхали ль вы, слыхали ль вы?2
- …Повсюду тишь и гладь реки,
- свистят, играя, кулики,
- и воздух вятского затона
- прекраснее одеколона.
- Дышали ль вы?
- Нет! Не дышали!
- Слыхали ль вы?
- Нет! Не слыхали!
- И я как будто не слыхал…
2 Явный, но неудачный плагиат.
Плагиат здесь «очевиден» в контексте русской культуры: заимствование взято у Пушкина и усилено Чайковским. Со слов «Слыхали ль Вы?» начинается дуэт Татьяны и Ольги в первом действии оперы Чайковского «Евгений Онегин»50. Либретто для дуэта, однако, происходит не из пушкинского «Евгения Онегина», а из его раннего сентиментального стихотворения «Певец» 1816 года. Любой русский с претензиями на культурность уличил бы «автора» в культурном хищении. Более того, плагиат «неудачен», потому что «автор» в примечаниях упорно продолжает компрометировать собственный текст, а также потому, что текст намекает на запах «вятского затона», что является слишком неподходящей темой для сентиментального монолога. Связь между текстами достаточно ясна уже при знакомстве с первой строфой стихотворения Пушкина:
- Слыхали ль вы за рощей глас ночной
- Певца любви, певца своей печали?
- Когда поля в час утренний молчали,
- Свирели звук унылый и простой
- Слыхали ль вы?
В следующих строфах Пушкин сохраняет рефрен в виде повторяющихся вопрошаний, но сам вопрос уже звучит как «Встречали ль Вы?» (то есть: «Вы встречали певца любви?»), а затем – «Вздохнули ль Вы?» (то есть: «Вы вздохнули, когда услышали тихий глас певца любви?»).
«Автор» у Заболоцкого пытается воплотить подобную же поэтическую последовательность, но при этом падает в яму, которую сам вырыл. Его самый явный плагиат, «Слыхали ль Вы?», подчеркивает комическое противопоставление архаики и современности в монологе – ведь слышна не меланхолическая песнь «певца любви», а тарахтение моторной лодки. И тот факт, что этот звук обозначается словом трепетанье, которое скорее подходит для описания чувствительного сердца, чем для мотора, только усиливает это противопоставление. Затем «автор» переделывает рефрен, используя однокоренное слово с пушкинским вздохнули (корень дых-, дыш-, дух-, дох-), но вместо того чтобы спросить, «вздохнула» ли слушательница над певцом любви, он спрашивает, не «дышала» ли она воздухом вятского затона, который, как он клянется, прекраснее одеколона. Эта очевидная гипербола и могла бы, вероятно, балансировать на тонкой грани между смешным и возвышенным, если не вспоминать, что прототип «автора» происходил из той же местности близ реки Вятки и изменил написание своей фамилии именно для того, чтобы избавиться от ассоциаций с болотом. Похоже, что воздух затона не был для его обоняния таким уж ароматным. Как только понятия аромата и затона возникают в непосредственной близости, рефрен «Слыхали ль Вы?» начинает отдавать весьма уничижительным каламбуром, так как «слышать» в словосочетании «слышать запах» – слово, однокоренное (слых-, слыш-) с глаголом «слыхали». Настойчивое внимание «автора» к воздуху затона приводит к тому, что рефрен, помимо очевидного обозначения слуховых ощущений, начинает слабо намекать на обонятельный вариант прочтения. «Вдыхали ль вы? Нет! Не вдыхали! И я как будто не вдыхал…» Понятно, что литературный двойник Заболоцкого крепко увяз в тине плагиата и литературной бездарности51.
Но не все потеряно. По крайней мере, он, кажется, осознает проблему, потому что с воплем отчаяния он оборачивается к собеседнице и извиняется с крайним самоуничижением:
(Посмотрел на собеседницу. С отчаянным воплем.)
- Я, Лидья Якольна3, нахал!
- Мошенник я, мерзавец, тать!
- Как можно этим Вас пытать?
3 Сие сокращение слогов как нельзя лучше свидетельствует о душевном волнении автора.
Затем монолог погружается в литературный и интеллектуальный хаос, примерно через 20 строк достигает точки невозврата и заканчивается. Сначала «автор» пытается снискать расположение «Лидьи Якольны», называя ее «незабвенным меценатом, Вергилием в дебрях Академий [и] Сократом в версификациях». «Академия» здесь – каламбур, поскольку слово относится как к «академии» в общем, так и к издательству «Academia», с которым была связана Л. Гинзбург и которое оказалось «в дебрях» (то есть было закрыто) в результате политических преследований в конце 1920-х годов. После этого «автор», похоже, занимает более агрессивную позицию, утверждая, что даже «мерзавцы, тати и лгуны» выходят «в люди», долетают до луны и могут что-то дать людям. Но снова и снова он опровергает свои утверждения (многие из которых уже не имеют смысла) в примечаниях, например, таких: «Сего понять невозможно иначе как явную ложь и клевету».
Наконец, после «секунды молчания» «автор» рисует образ гроба, стоящего на столе, в соответствии с обычной русской практикой прежних времен. Эта картина отсылает к строке из хорошо известного стихотворения Державина «На смерть князя Мещерского»: «Где стол был яств, там гроб стоит», но еще в ней отражено то же прямое противостояние со смертью (возможно, с элементом назидательности), которым завершаются многие кладбищенские стихотворения, в том числе «Элегия, написанная на сельском кладбище» Грея и ее переложение Жуковским52. В этом обращении к традиции заключается спасение «автора»: он признает литературную условность смерти как завершения и тем самым находит способ закончить монолог, хоть и неуклюже, просто врезавшись в англицизм «Стоп!»53:
- …И вот —
- представьте дом неприхотливый,
- в столовой гроб, в гробу – урод…4
- ..........................................
- Я знаю: вид такого дома
- немножко мрачен для альбома,
- но дело в том, что если гроб —
- то и конец. Довольно! Стоп!5
4 Непонятное, неуместное кощунство, которое, однако, можно было ожидать после предшествующего.
5 Оправдание сие – смешно и нелепо. Оно свидетельствует также о вредном свободомыслии сочинителя, который как бы не верует в загробное бытие.
Это явно мастерское литературное произведение, хоть и весьма своеобразное. «Монолог» – это практически учебник по применению формалистского принципа «обнажения приема»: в нем есть автор, создающий персонажа, называемого «автором», который, в свою очередь, является протагонистом в собственном произведении. Таким образом, «автор», созданный монологом, одновременно «пишет» монолог в альбом «Лидьи Якольны», и более того – когда он записывает текст в альбом, он действует за пределами монолога. Помимо этой игры с разными уровнями литературной реальности, Заболоцкий умело воссоздает языковые и литературные условности прежних эпох, а затем с немалым остроумием разбивает их вдребезги. Эта расположенность признавать, а затем преодолевать культурные и интеллектуальные барьеры – основа его причуд.
ПРИЧУДА В ИНЫХ ОБЛИЧЬЯХ
Тот же самый феномен в другом варианте проявляется в откровенно шуточных стишках, которые Заболоцкий писал время от времени на протяжении всего своего творческого пути. Учитывая, что, например, «Неудачная прогулка» была написана в 30-х годах, а цикл «Из записок старого аптекаря» – в 50-х, можно видеть, что юмор Заболоцкого – не просто результат юношеского избытка жизненных сил или обэриутской бравады. «Неудачная прогулка» прорывается сквозь «нормальную» реальность посредством неявного вопроса, похожего на тот, что был задан гоголевским «Носом», но с акцентом на другую часть анатомии человека. Вопрос таков: а что, если пупок решит прогуляться и объявит себя Богом? Излишне говорить, что прогулка пупка вызывает переполох. К счастью, вмешивается ухо и ставит заблудший пупок на место, а стихотворение заканчивается суровым увещеванием читателю, которое поддерживается (или опровергается, в зависимости от обстоятельств) потенциально кощунственной рифмой между словами пупок и Бог:
- Читатель! Если ты не Бог,
- проверь – на месте ль твой пупок.
В «Записках старого аптекаря» используется другая схема – возможно, та же, что и в пушкинских «Повестях Белкина». Учитывая образ автора, «старого аптекаря», «Записки», как и «Повести» Пушкина, противоречат общепринятому допущению, что только литературные рассуждения образованных, «важных» людей заслуживают интереса. Также подразумевается, что произведение одновременно и оспаривает, и своеобразным способом поддерживает романтический шаблон найденной рукописи, которая свидетельствует о завораживающем и оригинальном складе ума ее автора.
Весьма немногие поэты в попытке стимулировать творческий процесс задавали бы вопросы вроде таких: что, если бы старый аптекарь вел дневник, да еще в стихах? О чем бы он писал? Каков был бы его язык? Что его раздражает? Отчего он делается счастлив? Содержание предполагаемых записок разноообразно: от размышлений о пенициллине, идиотах и йоде до радости от появления новых аптек. В первом четверостишии описывается, как «красавице Акулине» пенициллин спас жизнь. Судя по ее крестьянскому имени и разговорной интонации стиха, она не типичная литературная героиня и не красавица из какого-нибудь роскошного литературного салона. Вполне возможно, что эта Акулина приходится дальней родственницей «крестьянке» Акулине, которая в действительности является переодетой барышней в одной из «Повестей Белкина» «Барышня-крестьянка». Также возможно, что этот персонаж трансформировался из другой «красотки Акулины» – куклы, игравшей скромную, но важную роль Петрушкиной невесты в народном кукольном театре – русском аналоге зрелища «Панч и Джуди»54.
- Красотка Акулина захворала,
- Но скоро ей уже полегче стало.
- А ведь не будь у нас пенициллина,
- Пожалуй, померла бы Акулина!
Поразмышляв о разных других предметах, «старый аптекарь», впечатленный сходством между словами «идиот», «йод» и «йота», записывает в виде двустишия следующую мысль:
- Дай хоть йоду идиоту —
- Не поможет ни на йоту.
В конце концов цикл завершается звучным двустишием, которое представляет собой одновременно и гимн старого аптекаря строительству новых аптек (возможно, его собственное восприятие успехов строительства социализма), и опровержение блоковской тоски («Ночь, улица, фонарь, аптека»). Первую строку вполне можно встретить во многих одах XVIII века, а вот вторую мог изречь только «старый аптекарь» Заболоцкого, живший в советское время:
- О сколь велик ты, разум человека!
- Что ни квартал – то новая аптека.
Пожалуй, наиболее привлекательно и мягко причудливость Заболоцкого выражается в виде самоироничного недоумения, которым наполнены его мемуары и некоторые письма. Несмотря на его манеру держать себя, которая выражала груз морального долга перед своим призванием, он также видел смешное вокруг себя. Описывая свое волнение во время вступительного экзамена в Уржумское реальное училище, он именует его «святилищем науки». Эта гипербола передает как трепет десятилетних мальчиков, так и ироническую дистанцию автора средних лет от всего этого. Более того, автор снимает напряженность описываемой ситуации, пересказывая замечание по поводу собственной внешности, донесшееся из толпы волнующихся матерей и поступающих учеников: «Когда мать провела меня в это святилище науки, я слышал, как кто-то сказал в толпе: «Ну, этот сдаст. Смотрите, лоб-то какой обширный!» [Заболоцкий 1972, 2: 210]. И действительно, на фотографиях Заболоцкого в молодости у него широкий и высокий лоб, придающий его лицу выражение открытости, ума и в то же время грустной задумчивости.
В другом случае заслуженный и довольно суровый с виду поэт в 1957 году весело описывает детскую проделку, когда старшие ученики нарядили его девочкой, чтобы пробраться в кино и не попасться школьному инспектору. В уржумском кинематографе «Фурор» показывали «картины с участием Веры Холодной и несравненного Мозжухина!». Взрослый Заболоцкий очевидно наслаждается, рассказывая эту историю, точно так же, как в детстве наслаждался походом в кино [Заболоцкий 1972, 2: 212]55.
Стихам, создавшим тот образ Заболоцкого, к которому мы привыкли, обычно недостает юмора. Они совсем не смешные. И все же гротеск «Столбцов» в конечном итоге происходит из той же причудливости, из той же способности действовать за пределами общепринятого видения реальности – увидеть соленые огурцы как великанов, прилежно плавающих в воде, увидеть клубы дыма в небе как картошку, или глаза внезапно засыпающего пьяницы – падающими, словно гири56. Точно так же многое из того, что не дает спутать «классическую» поэзию Заболоцкого с поэзией XIX века – камень с ликом Сковороды, деревья, читающие Гесиода, жук-человек с маленьким фонариком, приветствующий тех, кто переходит в мир иной, – есть отражение того причудливого любопытства, которое было неизменной частью мироощущения поэта: что, если бы у камней были лица? На кого бы они были похожи? Что, если бы мы могли отправить природу в школу? Какое чтение порекомендовать деревьям? А если бы возможно было увидеть загробную жизнь своих давно ушедших друзей?57
В последний год своей жизни Заболоцкий сказал сыну, что хотел бы написать пьесу, «в которой действующими лицами были бы люди, камни, животные, растения, мысли, атомы». Действие, по его замыслу, должно было происходить в самых разнообразных местах – «от межпланетного пространства до живой клетки» [Заболоцкий Н. Н. 1977: 203; Бахтерев 1977: 78]. Как и задуманная им трилогия «Поклонение волхвов», которая должна была охватить огромные материальные и духовные царства, населенные пастухами, животными и ангелами, пьеса так и не была реализована. Эти планы, даже неосуществленные, дают основание полагать, что ни возраст, ни превратности судьбы, ни трагические обстоятельства советской жизни не изменили природы основных интересов Заболоцкого и не притупили его эксцентричного любопытства.
Глава третья
Начинающий поэт нового строя
ПОЭЗИЯ И ГОЛОД В ПЕТРОГРАДЕ
Голодать кончаю… Как-то сами собой выливаются черные строки.
Заболоцкий, письмо Мише Касьянову, 7 ноября 1921 года
К моменту поступления Заболоцкого в Петроградский институт имени Герцена в 1921 году интеллектуальные основания его мировоззрения были уже прочно заложены, но ему не хватало самого важного для поэта инструмента – собственного поэтического голоса. Как выразился он сам: «Много писал, подражая то Маяковскому, то Блоку, то Есенину. Собственного голоса не находил» [Заболоцкий 1983, 1: 491]. Однако в Петрограде, как и в Москве, проблемы физического выживания отнимали у него время и энергию, которые он предпочел бы отдать поэзии. Свою досаду он изливал в письмах к Касьянову. 11 ноября 1921 года он писал:
Мой дорогой Миша, прости – за 3 месяца моего петроградского житья не послал тебе ни одного слова. Почему? Почему? Ни одной минуты не уделил еще себе из всего этого времени – обратился в профессионального грузчика – физическая работа – все время заняла до сих пор – сюда еще присоединяется хроническое безденежье и полуголодное существование. 3 месяца убиты на будущее [Заболоцкий 1972, 2: 227].
В другом письме Заболоцкий жалуется, что его душа бунтует против обременяющих его практических дел, но «проклятый желудок требует своих минимумов, а минимумы пахнут бесконечными десятками и сотнями тысяч» рублей [Заболоцкий 1972, 2: 230]. Кроме того, он опасается, что от безысходности ему придется уехать в Уржум. «Конечно, все силы приложу для того, чтобы остаться здесь, – пишет он, – Это все же необходимо; Иначе будет трудно. Но пусть будет то, что будет…» [Заболоцкий 1972, 2: 231].
Его постоянные упоминания о еде в этих письмах выдают навязчивое состояние человека, действительно страдающего от «полуголодного существования». Например, он рассказывает, что за работу по разгрузке судов в порту получит «шпику, муки, сахару, рыбы и пр.» [Заболоцкий 1972, 2: 227]. Далее он сообщает, что он и его соседи по комнате в своей жизни различают три периода в зависимости от основного источника существования:
I. Картофельный
II. Мучной
III. Жировой —
и что каждый из периодов отличается свойственной ему разновидностью расстройства желудка. Кратко упомянув о лекциях в институте, он переходит к вопросу о недавно увеличенных студенческих пайках: «1 ф. хлеба, 4 ф. крупы, 5 ф. селедок, 1 – масла, 1 – сахару и пр.». И торжествующе заключает: «Голодать кончаю» [Заболоцкий 1972, 2: 227].
И все же, несмотря на материальные заботы, Заболоцкий продолжает всерьез заниматься своим поэтическим образованием. Сожалея о том, что он не написал «ничего или очень мало», он рассказывает Касьянову, что иногда выступает на концертах, иронически добавляя, что публика относится к его творчеству «с удивлением и нерешительно хлопает» [Заболоцкий 1972, 2: 228]. Он признается, что поддался искушению и потратил последние деньги на книги стихов и книги по стихосложению, однако о своей финансовой неосмотрительности он упоминает с детским восторгом: «Но я так рад, Мишка, какие я купил книги!» [Заболоцкий 1972, 2: 230]58. Он оплакивает смерть Блока и отъезд Андрея Белого, но радуется стихам Мандельштама: «Мандельштам пишет замечательные стихи. Послушай-ка», – и целиком приводит стихотворение Мандельштама 1920 года: «Возьми на радость из моих ладоней» [Заболоцкий 1972, 2: 228–229]59.
По всей видимости, молодой поэт находится на пороге нового этапа своего литературного становления. Он говорит Касьянову, что его ум освежается под влиянием новых прочитанных книг и что ему «до боли» хочется приступить к работе над своими стихами. Вдобавок он, видимо, чувствует, что развивается не только его собственная поэзия, но и русская поэзия в целом. Свои интуиции и порывы он пытается объяснить довольно сумбурно, но тем не менее это объяснение стоит процитировать:
…чувствую непреодолимое влечение к поэзии О. Мандельштама («Камень») и пр. Так хочется принять на веру его слова, «Есть ценностей незыблемая скала…» и «И думал я: витийствовать не надо…» И я не витийствую. По крайней мере, не хочу витийствовать. Появляется какое-то иное отношение к поэзии, тяготение к глубоким вдумчивым строфам, тяготение к сильному смысловому образу. С другой стороны – томит душу непосредственная бессмысленность существования. Есть страшный искус – дорога к сладостному одиночеству, но это – Клеопатра, которая убивает. Родина, мораль, религия, – современность, – революция, – точно тяжкая громада висят над душой эти гнетущие вопросы. Бессмысленно плакать и жаловаться – быть Надсонами современности, но как-то сами собой выливаются черные строки [Заболоцкий 1972, 2: 230–231].
Молодой Заболоцкий хочет избежать участи Семена Надсона, «гражданского» поэта второй руки, чрезвычайно популярного в конце XIX века (про его стихи Д. Святополк-Мирский пишет, что они «…внушены бессильным желанием сделать мир лучше и жгучим сознанием собственного бессилия» [Святополк-Мирский 2005: 591]60). Тем не менее он цитирует стихи Мандельштама из сборника «Камень», в котором присутствует (по крайней мере, потенциально) «общественная» тематика: отношения поэта со своим веком и местом в обществе. Первое стихотворение, датированное 1914 годом, из которого часто цитируется строка о «жалком Сумарокове», сфокусировано на прошлом, однако из первой строфы достаточно ясно видно, что основная идея стихотворения универсальна:
- Есть ценностей незыблемая скала
- Над скучными ошибками веков.
- Неправильно наложена опала
- На автора возвышенных стихов.
Вторая цитата взята из стихотворения Мандельштама «Лютеранин» 1912 года, которое, по-видимому, является ответом сразу на два стихотворения Тютчева: «И гроб опущен уж в могилу» (с описанием протестантского – вероятно, лютеранского – погребения); и «Я лютеран люблю богослуженье». Как и Тютчев, Мандельштам неявно противопоставляет сдержанность и простоту лютеранской заупокойной службы драматизму и сложности православного ритуала, делая предметом рефлексии и надежду, и нищету человеческого состояния. Но если Тютчев остается в области веры как таковой, Мандельштам, завершая стихотворение, обращается к вопросу об уделе поэта. Именно эта сторона привлекла внимание молодого Заболоцкого:
- И думал я: витийствовать не надо.
- Мы не пророки, даже не предтечи,
- Не любим рая, не боимся ада,
- И в полдень матовый горим, как свечи.
Если бы эти стихи были написаны после революции, а не до нее, их, по всей вероятности, истолковали бы как прямое политическое высказывание. И действительно, уже отмечалось, что сознательное отношение Мандельштама к истории делает политическую тематику с самого начала естественной для его стихов62. Внимание Заболоцкого к этим стихам (выраженное в тот самый год, когда был расстрелян Гумилев) в ретроспективе как будто зловеще предвещает его собственное непростое отношение к советскому литературному истеблишменту, его требованиям и суждениям.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К СИМВОЛИЗМУ
Заболоцкий. Небесная Севилья
- В небесной Севилье
- Растворяется рама
- И выходит белая лилия,
- Звездная Дама…
Заболоцкий. Сизифово рождество
- Не свисти, сизый Ибис, с папируса
- В переулки извилин моих,
- От меня уже не зависят
- Золотые мои стихи.
Стремление к «иному отношению к поэзии», «тяготение к глубоким вдумчивым строфам» и «сильному смысловому образу», неприятие напоминающего о Клеопатре солипсизма и стремление разрешить висящие над душой «гнетущие вопросы» явно выводили Заболоцкого за рамки шутовской дерзости его первых произведений. Теперь в поисках подходящих выразительных средств он чаще всего обращался к символизму и его производным, иногда в сочетании с элементами акмеизма. Эта комбинация еще сыграет свою роль в будущем, когда онтологические принципы искусства ОБЭРИУ постфактум послужат мостом между символизмом и акмеизмом.
Касьянов сообщает, что они с 16-летним Заболоцким попали под чары символистов, в первую очередь Блока и Белого, еще в 1919 году в Уржуме. К тому времени, как он отмечает, они уже «преодолели» Бальмонта и Северянина, но тем не менее любили «чеканную краткость и эмоциональную насыщенность» Ахматовой [Касьянов 1977: 33]. В Петрограде, судя по всему, на акмеистическую чашу весов была добавлена еще и немалая толика Мандельштама. В письме Касьянову от 11 ноября 1921 года Заболоцкий после цитирования «Возьми на радость из моих ладоней» Мандельштама приводит два отрывка из собственного произведения, над которым работал, предваряя их словами: «После сладкого вина, отведай горького. Вот мои». «Его» стихи в данном случае ближе к Блоку, чем к Мандельштаму, хотя стоит отметить, что и Мандельштам в своем становлении не миновал символизма [Taranovsky 1976: 83]63. В обеих этих ранних работах Заболоцкий указывает на существование «иного мира», столь важного для символистов, и, так же как они, видит ключ к иному миру в слове, а в природе, наполненной духовным смыслом, – посредника.
Первый отрывок, «Промерзшие кочки, бруснига», можно рассматривать как часть диалога с авторским «я» Блока из его цикла о сверхъестественной жизни болот «Пузыри Земли». В этом отрывке переживание осеннего вечера открывает поэту «новую книгу», новый источник смысла, и природа воспринимается с точки зрения религиозной образности: сосны стоят «как желтые свечи на Божьем лесном алтаре»64.
- …Промерзшие кочки, бруснига,
- Смолистые запахи пней.
- Мне кажется: новая книга
- Раскрыта искателю мне.
- Ведь вечер ветвист и клетчат.
- Ах, вечер, как сон в Октябре,
- И сосны, как желтые свечи
- На Божьем лесном алтаре…
В продолжающейся саге об отношениях Заболоцкого с болотами это воспринимается как ответ – возможно, непреднамеренный – на поэму Блока «Полюби эту вечность болот» 1905 года, которая вместе со стихотворениями «Болотный попик», «Болотные чертенятки» и другими образует цикл «Пузыри земли». Блок начинает призывом: «Полюби эту вечность болот» и затем движется к кочкам и пням, к вопросам вечной истины, которые, казалось, предвосхищают трактовку Заболоцким «промерзших кочек», «смолистых запахов пней» и откровений «новой книги» природы:
- Эти ржавые кочки и пни
- Знают твой отдыхающий плен.
- Неизменно предвечны они, —
- Ты пред Вечностью полон измен.
Певучесть стихов, сближающая их между собой, достигается за счет трехсложного размера (Заболоцкий использует трехстопный амфибрахиий, а Блок – трехстопный анапест). В концовках стихотворений, однако, лежит глубокое различие. Заболоцкий, молодой «искатель», полон надежды перед лицом божественного, хоть и неясного, откровения природы. Блок, с другой стороны, как все более разочаровывающийся символист, утверждает, что непостоянство человеческой участи не может сравниться с великой неизменностью природы. В заключительной строфе стихотворения Блока поэт полагает, что в безвременье болот снизошла Сама Вечность – но она навеки замкнула уста, вместо того чтобы явить откровение, как Заболоцкому.
Возможно, из-за того, что «Промерзшие кочки, бруснига» – менее бунтарское произведение, чем ранние сочинения Заболоцкого, а также потому, что возросло поэтическое мастерство Заболоцкого, структурные элементы стиха определены более отчетливо. Уже на этом этапе можно увидеть проблески «классического» Заболоцкого. Размер вполне устойчив. Половина рифм – точные (бруснига / книга, Октябре / алтаре), половина – неточные, но вполне благозвучные (пней / мне, клетчат / свечи). Кроме того, структура стихотворения примерно симметрична, его можно разделить на два четверостишия, каждое из которых начинается с описания природной сцены и затем переходит к духовно значимым наблюдениям, которые протагонисту открывает «новая книга» на «Божьем лесном алтаре».
Второй отрывок, включенный в письмо Заболоцкого, начинается со слов «Но день пройдет печален и высок». Фрагменту предшествует римская цифра «V», что дает основания считать отрывок частью большего произведения, – что может как соответствовать реальности, так и быть литературной мистификацией. Этому произведению также присущи многие атрибуты символизма: атмосфера таинственности, тоски и мучений, которая придает стихотворению привкус декаданса; поиск откровения через слово; одухотворенное и персонифицированное изображение природы. Но, в отличие от более раннего стихотворения, в этом отрывке характерные черты символизма сочетаются с признаками реальных трудностей жизни Заболоцкого в Петрограде: его «дуэль» с каждым проходящим днем, в котором он пытается выкроить время для писания, его борьба с голодом, его одиночество. Краткое прозаическое вступление придает стихотворению дух таинственности, осведомляя читателя о том, что действие происходит «у входов “в те края, где тонет жизнь несказанного слова”». Затем следует строфа на тему, скорее всего, совершенно новую для русской поэзии – тему ковбоя. В стихотворении день персонифицирован как некто вроде символистского Клинта Иствуда:
Он, таящийся у входов «в те края, где тонет жизнь несказанного слова»:
[Заболоцкий 1972, 2: 229]
- …Но день пройдет печален и высок,
- Он выйдет вдруг походкой угловатой,
- Накинет на меня упругое лассо
- И кровь иссушит на заре проклятой.
- Борьба и жизнь… Пытает глаз туман…
- Тоскует жизнь тоскою расставанья,
- И голод – одинокий секундант —
- Шаги костяшкой меряет заране…
Несмотря на своеобразие темы, Заболоцкий использует вполне традиционные поэтические конструкции. Размер – пятистопный ямб, один из основных в русском стихосложении. В третьей строке, с осевым высказыванием «накинет на меня упругое лассо», шесть стоп вместо пяти, но такой метрический сдвиг не нарушает общего впечатления от размера, и к тому же подобное встречалось и в XIX веке. Как и в предыдущем отрывке, здесь чередуются точные и неточные рифмы66. Как само это смешение, так и тот факт, что два из рифмующихся слов – очевидно заимствованные (лассо и секундант), выводят стихотворение из соответствия нормам XIX века. Однако структура отдельных рифм все же имитирует структуры, время от времени встречающиеся в более раннем периоде.
Отзвуки символистского мироощущения у Заболоцкого в полной мере выразились во время его участия в литературном кружке «Мастерская слова» в течение 1921/22 учебного года в Педагогическом институте имени Герцена. Название группы, акцентирующее взгляд на литературу как на ремесло, напоминает об акмеистском «Цехе поэтов», или даже о пролетарской «Кузнице». Однако, если судить по тону и содержанию журнала «Мысль», издаваемого литературным объединением, можно заключить, что задачи «Мастерской слова» были эклектичными, с тяготением скорее к символизму, чем к какому-либо иному движению67. В редколлегию журнала в числе прочих входили Заболоцкий и Николай Браун. Редакторы сообщают читателю, что главная цель журнала – «пробудить дремлющие творческие силы студенчества», а смысл его существования – свободное выявление настроений студентов, шлифовка и заострение их мыслей. В самом журнале публиковались стихи, «лирическая» и «психологическая проза», теоретические трактаты, статьи о студенческой жизни, сатирические и юмористические миниатюры, хроника. Среди произведений студентов преобладала интимная лирика «с налетом декаданса» и с такими названиями, как «В соборе», «Грусть», «Мертвый Брюгге», «Пион», «Сердце-пустырь» [Грищинский, Филиппов 1978: 183]68. Подобный акцент на религию, эмоции и смерть создает впечатление, что это поколение молодых литераторов одной ногой все еще твердо стоит в эпохе символизма.
Возможно, наиболее симптоматичными работами являются публикации самого Заболоцкого: очерк «О сущности символизма» и три стихотворения – «Сердце-пустырь», «Сизифово рождество», «Небесная Севилья». Учитывая его возраст – 19 лет – и еще не завершенное образование, эти работы производят сильное впечатление.
В очерке рассматриваются (хотя и мимолетно) философские проблемы словесного познания, подобные тем, которые изучали П. Флоренский, С. Франк, Г. Шпет и другие теоретики слова в начале века. Молодой Заболоцкий демонстрирует знакомство со множеством сочинений символистов: цитирует отрывки из «Горных вершин» Бальмонта и из русских переводов «Цветов зла» Бодлера, «Искусства поэзии» Верлена и «Страны грез» Эдгара По69. Он также упоминает Ницше, Верхарена, Гюисманса, Сологуба, Белого, Брюсова, Мережковского, Александра Добролюбова, Вячеслава Иванова. Блок, что любопытно, отсутствует. В очерке, однако же, символизм трактуется как однородное движение, индивидуальные различия между его приверженцами по большей части проигнорированы. Символизм, широко понимаемый, в очерке оценивается с сочувствием, но не без критики, что дает интересный исходный материал для изучения собственных трудов Заболоцкого, включая более поздний сборник «Столбцы» и авангардную (и до некоторой степени антисимволистскую) Декларацию ОБЭРИУ.
Анализируя мировоззрение символистов, Заболоцкий подчеркивает лежащую в его основе субъективность. Временно принимая то, что он считает символистским взглядом на мир, он пишет:
Вступая в сознание, вещь не приемлется в своем бытии, но содержание ее, присутствующее в познающем субъекте, подвергается воздействию субъективности его познания. Субъективные начала свойственны каждому познанию… Таким образом получается различие не в переживаемом, а в переживании… В поэзии реалист является простым наблюдателем, символист – всегда мыслителем. Наблюдая уличную жизнь, реалист видит отдельные фигуры и переживает их в видимой очевидной простоте.
«…Улица… Дряхлый старик просит милостыни… Проходит, сверкая поддельными камнями, накрашенная женщина…» Символист, переживая очевидную простоту действия, мысленно и творчески проникает в его скрытый смысл, скрытую отвлеченность.
«Нет, это не нищий, не женщина веселых притонов – это Нужда и Разврат, это – дети Гиганта-Города, это смерть его каменных объятий…» [Грищинский, Филиппов 1978: 185].
Далее Заболоцкий переходит от методов познания к вопросу об «ином мире» символистов. Он цитирует Бальмонта, утверждающего, что поэты-символисты «всегда овеяны дуновениями, идущими из области запредельного» и что за их словами «чудится гул еще других голосов, ощущается говор стихий, отрывки из хоров, Святая Святых мыслимой нами Вечности…» [Грищинский, Филиппов 1978: 186]. Затем он подводит итог вышеизложенному следующим образом:
Душа символиста – всегда в стремлении к таинственному миру объектов, в отрицании ценности непосредственно воспринимаемого, в ненависти к «фотографированию быта». Она видит жизнь всегда через призму искусства. Такое искусство, конечно, не может не быть несколько аристократичным по своему существу, замкнутым в области творения своего мира. Своеобразная интуиция символиста целиком направлена на отыскивание вечного во всем не вечном, случайном и преходящем. В его действии движутся уже не вещи, а символы их, символы частиц великого мира субстанций. Слагая символы, символист интуитивно приближается к этому миру, его поэзия есть претворение субъективно-познаваемого в символ истины. Поэтому поэзия его есть поэзия намеков, оттенков… [Грищинский, Филиппов 1978: 186].
В конечном итоге символизм, с его субъективностью и неопределенностью, не мог не вызвать вопросов у Заболоцкого с его потрясающей восприимчивостью, направленной на материальный мир. Для решения этой проблемы он выступит в Декларации ОБЭРИУ с призывом наблюдать за предметом «голыми глазами», отойти от поэзии, «запутанной в тине “переживаний” и “эмоций”» – другими словами, с призывом уважать базовую сущность предмета. Но пока он еще не определился. Самые талантливые из символистов явно привлекали его. И все же он пришел к выводу, что фиксация символистов на «видении индивида», в противоположность «гласу природы», привела к упадку «действительного символизма» и к утрате прежнего литературного облика его «талантливыми представителями, Брюсовым и Белым…» [Грищинский, Филиппов 1978: 187].
Опубликованные в журнале стихи Заболоцкого также наводят на мысль о том, что молодой поэт старается разобраться в своих отношениях с символизмом. С одной стороны, он отнюдь не прочь появиться в образе поэта-символиста, как, например, в стихотворении «Сердце-пустырь», которым он в значительной степени обязан декадентской стороне символизма, представленной Брюсовым, Гиппиус, Сологубом, – и, возможно, в еще большей степени циклу Блока «На поле Куликовом». С другой стороны, в некоторых стихотворениях можно увидеть отвержение позиции символистов. Рассказчик в «Небесной Севилье» – преемник никчемного, разочарованного блоковского поэта-символиста. В стихотворении также оспаривается аполлонический бальмонтовский образ поэта. Кроме того, инструментарий молодого Заболоцкого здесь обогащается нотками немецкой романтической иронии и визуальной образностью, напоминающей картины Шагала. В «Сизифовом рождестве» сочетаются присущее акмеизму внимание к деталям с элементами символизма, выражена реакция на поэтическую позицию Бальмонта и заметно движение к материалистичности зрения, которое будет преобладать в сборнике «Столбцы».
В первом из этих студенческих произведений, «Сердце-пустырь», поэт ведет рассказ о своих попытках охладить пылкое, но тем не менее пустое сердце, о наступлении осени и надвигающейся смерти природы. Чем неизбежней становится смерть природы, о которой свидетельствует замерзание реки, тем более усиливается привязанность поэта к реке как к возлюбленной невесте, несмотря на его неоднократные повеления своему сердцу: «Стынь, сердце-пустырь». Поэма завершается слиянием любви и смерти, типичным для символизма в его декадентских формах.
Сердце-пустырь
- Прозрачней лунного камня
- Стынь, сердце-пустырь.
- Полный отчаяньем каменным,
- Взор я в тебя вперил.
- С криком несутся стрижи, —
- Лет их тревожен рассеянный,
- Грудью стылой лежит
- Реки обнаженной бассейн.
- О река, невеста мертвая,
- Грозным покоем глубокая,
- Венком твоим желтым
- Осенью сохнет осока.
- Я костер на твоем берегу
- Разожгу красным кадилом,
- Стылый образ твой сберегу,
- Милая.
- Прозрачней лунного камня
- Стынь, сердце-пустырь.
- Точно полог, звездами затканный,
- Трепещет ширь.
- О река, невеста названная,
- Смерть твою
- Пою.
- И, один, по ночам – окаянный —
- Грудь
- Твою
- Целую.
Как отражение противостояния смертного распада и связующей силы любви, в стихотворении действуют две разнонаправленных силы: энтропия, стремящаяся развалить поэтическую структуру, и объединяющая мощь, за счет которой стихотворение остается целостным. Наибольший вклад в энтропию вносит постепенное уменьшение размера строфы и длины строки71. Размер стихотворения, по большей части трехударный дольник – с самого начала «неправильный» по отношению к стандартному силлаботоническому стиху, но и он неизбежно разрушается по мере уменьшения длины строки. Схема рифмовки, – если можно сказать, что таковая имеется, – слабо противодействует энтропии. Правильных рифм немного, большинство окончаний строк построено на сходстве звуков: камня / каменным, кадилом / милая, что способствует единству стихотворения лишь отчасти72. Кроме того, в некоторых случаях, например, мертвая / желтым, наличествующее сходство (здесь – повторяющиеся звуки ё и т) лишь подчеркивает преобладающее различие. Это выглядит так, будто все строение стихотворения постепенно разрушается по мере приближения смерти.
Тем не менее стихотворение не разваливается благодаря поэтической мощи, которая удерживает его целостность. Отчасти прочность обеспечивается за счет повторения целых строк и разнообразных звуковых приемов, создания столь ценимой символистами поэтической «музыки». Наиболее наглядный тому пример – повторение пронзительных начальных строк: Прозрачней лунного камня / стынь, сердце-пустырь и подобное эху: О река, невеста мертвая – О река, невеста названная. Что касается конкретных звуков, в большей части стихотворения преобладает сочетание с, т и иногда р, заданное названием «Сердце-пустырь». Это созвучие усиливается повторением второй строки: «Стынь, сердце-пустырь» и прилагательного стылый, однокоренного с глаголом стыть, означающего в прямом смысле «остывать», «охлаждаться», а в переносном – «становиться бесстрастным». Строка «Осенью сохнет осока» своим сухим шелестом передает шорох увядшей осенней природы и поддерживает выбранные звуковые сочетания. Повторение у / ю – Смерть твою / Пою.... Грудь / Твою / Целую – придает завершению собственное звучание, до некоторой степени компенсирующее развал строфической структуры. Существует мнение, что «темное звучание», присущее звуку у, здесь особенно уместно. Учитывая неоднократное упоминание Заболоцким Андрея Белого, одного из первых поборников идеи такого рода звуковой оркестровки, это утверждение представляется обоснованным.
Но возможно, что самые сильные элементы, держащие стихотворение как единое целое, – это развитие образа реки как персонажа и развитие отношения поэта к ней. Первый намек на человеческие атрибуты реки содержится в аналогии заключительных строк первой строфы – «Грудью стылой лежит / Реки обнаженной бассейн». Намечающаяся персонификация выделена с помощью некоторого несоответствия прилагательного и существительного. Обычная логика подсказывает, что прилагательное «стылый», используемое в основном для описания остывших жидкостей, лучше примечаниеть к реке, тогда как «обнаженный» скорее подходит для описания груди. Несогласованность до некоторой степени разрешается благодаря использованию хиастического приема, позволяющего перекрещивать поэтические соответствия. Но река тем временем приобретает человеческое измерение как благодаря своей «обнаженности», так и благодаря тому, что ее бассейн подобен «груди». В ретроспективе мы видим, что сердце поэта «прозрачнее лунного камня», – и это наделяет человеческое сердце визуальными характеристиками, обычно присущими воде, тем самым еще сильнее переплетая человеческие и природные качества. Неоднократные упоминания поэтом реки как своей «невесты» и его обращение к ней «милая» протягивает нить персонификации через середину стихотворения, а также заставляет вспомнить об олицетворении реки как женщины в русской народной культуре, хотя умирающая река-невеста у Заболоцкого далека от плодородной и могущественной «матушки Волги», которая течет через множество народных песен.
Конечно, поэт мог бы свести на нет свое высказывание упоминанием смерти, которое завершает третью строфу, Смерть твою / Пою, так как смерть – довольно типичный признак концовки [Smith 1974: 113, 117]. Но в конечном итоге стихотворение не поддается разрушающей силе смерти. Именно любовь, хотя и в декадентском ее изводе, животворит стихотворение, сохраняет его «живым», несмотря на преднамеренное бравирование поэта смертью и угрозу структурной энтропии. Таким образом, завершающие слова поэта – Грудь / Твою / Целую – неопровержимо устанавливают «человечность» реки в отношении к рассказчику, сплавляют воедино темы природы и человека и связывают конец стихотворения с началом, возвращаясь к образу груди и создавая тем самым ясное и отчетливое ощущение финала.
Помимо отголосков народной культуры, в стихотворении содержатся следы русского православия. Как и в некоторых более поздних работах Заболоцкого, следы эти так глубоки, что практически невидимы. Они обеспечивают подтекст, который обогащает стихотворение, но не вносит изменений в его явный смысл. Здесь Заболоцкий играет на более-менее православном мистическом пантеизме в сочетании с «метафизическим» олицетворением природы, столь важным для символистской культуры. Во фразе «Я костер на твоем берегу / Разожгу красным кадилом, / Стылый образ твой сберегу», Заболоцкий использует устойчивые противопоставления: горячее – холодное и любовь – смерть, но также вносит религиозные коннотации с помощью сочетания слов кадило и образ, который может означать как «образ» в общем смысле, так и «икону» в значении, связанном с православием. Разжигая костер на берегу реки, чтобы сберечь ее стылый образ, лирический герой использует для этого раскаленное докрасна («красное») кадило либо уголек из него, – а «костер» тогда возжигается вместо церковной свечи. Этот акт почитания совершается перед иконой (образом), взирающей на мир иератически-бесстрастно, и тогда у выражения стылый образ появляется второе значение – «бесстрастная икона».
Что характерно для многих стихотворений символистов, река становится персонификацией сакральной, но при этом разрушительной сексуальности, которая дает герою некое сочетание блаженства и мучения, спасения и гибели. «Сердце-пустырь» нельзя назвать религиозным стихотворением. Это прежде всего проба пера в декадентском духе, и религиозный подтекст не меняет этого факта. Но даже когда молодой Заболоцкий пытается быть декадентом, семиотика православия (здесь, пожалуй, отразился его собственный опыт алтарника, разжигающего кадило для церковной службы) выступает как важная опора его поэтической вселенной. Как и многие более поздние произведения Заболоцкого, «Сердце-пустырь» несет на себе отпечаток православной среды, в которой сформировался его создатель, советский поэт.
Что касается более конкретного влияния, «Сердце-пустырь» предполагает отсылку к первому стихотворению из цикла Блока «На поле Куликовом», известному по первой строчке: «Река раскинулась. Течет, грустит лениво». Из двух первых строф видна как связь между стихотворениями, так и неполнота этой связи. Блок пишет:
- Река раскинулась. Течет, грустит лениво
- И моет берега.
- Над скудной глиной желтого обрыва
- В степи грустят стога.
- О, Русь моя! Жена моя! До боли
- Нам ясен долгий путь!
- Наш путь – стрелой татарской древней воли
- Пронзил нам грудь.
Каждое из стихотворений начинается с образа реки, движется с рваным ритмом, создает настроение бесплодности, меланхолии, тоски73. Оба поэта обращаются к возлюбленной. Блок обращается к России как к жене, а Заболоцкий обращается к реке как к невесте. Ближе к концу каждого из стихотворений оба поэта усиливают эмоциональное напряжение высказывания, обращаясь к сердцу. Блок говорит: «Плачь, сердце, плачь…», Заболоцкий же все повторяет свое моление: «Стынь, сердце-пустырь». Кроме того, наличие определенных слов в обоих стихотворениях способствует ощущению связи между ними, даже если слова используются в разных контекстах: берег, желтый, костер, грудь.
В конечном итоге, однако, различия между стихотворениями обусловлены способом обращения, который используют поэты. Стихотворение Блока в основе своей патриотическое, хотя и в символистской манере. Он обращается к России как к жене и увещевает свое сердце оплакивать судьбу России. Стихотворение Заболоцкого – просто декадентское. Он обращается к реке не как к жене, а как к своей мертвой невесте, и ищет он не катарсиса, увиденного Блоком, а стылости и онемения, соответствующих холоду самой реки.
Стихотворение Заболоцкого «Небесная Севилья», опубликованное в студенческом журнале вместе со стихотворением «Сердце-пустырь», тоже причастно символизму, но совсем иным образом. Все это стихотворение, так же как «Сердце-пустырь», пропитано идеей охлаждения, застывания, бесстрастия, выраженной корнем стын-, стыл-. Однако здесь этот образ применяется к месяцу, а не к сердцу действующего лица или предмету его воздыханий, а герой, вместо упоения пленом собственной декадентской любви, с воодушевлением бросается в пучину деланого уныния, представляя собой крайний вариант блоковского лирического героя, который вынужден разлучиться со все более безучастной Прекрасной Дамой.
Стихотворение, в котором сочетаются надежда, отчаяние и самоирония, а сцена действия напоминает картины Шагала (возможно, с оттенком испанского влияния Эль Греко), повествует о безответной любви. Сходство с Шагалом неудивительно, поскольку он был одним из любимых художников Заболоцкого, наряду с Малевичем, Филоновым, Брейгелем, Анри Руссо, Николаем Рерихом. Критики отмечают у Заболоцкого «шагаловское визионерское смешение ужаса и лирики», видят в его стихах «полных изящества коров, летающих по воздуху в шагаловском духе», однако четкая связь между его поэтикой и конкретными работами Шагала еще не установлена74. Итак, «профессор отчаянья» укрепился на звездном шпиле и осматривает окрестности в ожидании романтических событий.
Небесная Севилья
- Стынет месяцево ворчанье
- В небесной Севилье.
- Я сегодня – профессор отчаянья —
- Укрепился на звездном шпиле,
- И на самой нежной волынке
- Вывожу ритурнель небесный,
- И дрожат мои ботинки
- На блестящей крыше звездной.
- В небесной Севилье
- Растворяется рама
- И выходит белая лилия,
- Звездная Дама,
- Говорит: профессор, милый,
- Я сегодня тоскую —
- Кавалер мой, месяц стылый,
- Променял меня на другую.
- В небесной Севилье
- Не тоска ли закинула сети.
- Звездной Даме, лилии милой
- Не могу я ответить…
- Стынет месяцево ворчанье.
- Плачет Генрих внизу на Гарце.
- Отчего я, профессор отчаянья,
- Не могу над собой смеяться?
Первая половина стихотворения указывает на готовность к любви. Севилья, родина Дон Жуана, Кармен и Фигаро, существует в поэтической вселенной, где господствуют сверкающие звезды. Сам город – «небесный»; профессор, укрепившись на звездном шпиле, играет «небесный» ритурнель на «самой нежной» волынке; а его ботинки «дрожат» на блестящей звездной крыше. Он явно предвкушает некое знаменательное романтическое событие.
По этим признакам стихотворение сходно с «Звездным хороводом» Бальмонта из цикла «Только любовь» 1903 года, также повлиявшего и на «Сизифово рождество» Заболоцкого. В стихотворении Бальмонта нет специального места действия, помимо «эго» поэта. Тем не менее поэт открыто сравнивает себя с «тем севильским Дон Жуаном», и его задача – сплетать «мгновенья нежной красоты» в «звездный хоровод». Наполненная звездами, музыкой и танцем атмосфера, тема нежности и романтики в Севилье – все это находит отклик у Заболоцкого75. Но если бальмонтовский поэт, по-видимому, преуспевает в любовных приключениях в качестве самозваного «минутного мужа», покоряя новые вершины, то томящегося «профессора отчаяния» у Заболоцкого ожидает иная участь.
Когда рама воображаемой картины или окна незаметно исчезает и из нее выходит Звездная Дама, надежды профессора лишь на волосок отстоят от исполнения. Но они терпят крах. В конце концов, она ведь «белая лилия», символ чистоты. Растравляя рану, она говорит, что влюблена в месяц, который остыл и бросил ее ради другой («…месяц стылый / Променял меня на другую»). Такой печальный исход не стал полной неожиданностью, если вспомнить первую строку стихотворения – «Стынет месяцево ворчанье», – отдающую холодом, тема которого преобладает в стихотворении «Сердце-пустырь». Тема нарастания холода противостоит всему «небесному» и «звездному», и холод берет верх, когда профессор завершает стихотворение теми же словами, что и начал.
Но, несмотря на нагнетание холодности, атмосфера разочарования в финале напрямую исходит от осознания профессором своего эмоционального бессилия. Бессилие подразумевается самим характером стихотворения, которое сочиняет профессор, – например, отсутствием определенного размера, даже дольника76. Стихотворение без четкого ритмического рисунка, состоящее из строк длиной от 5 до 11 слогов, просто тащится вперед. Самая короткая строка находится в середине стихотворения, когда является Звездная Дама, – таким образом это событие выделяется структурно. Самая длинная строка – предпоследняя, она высвечивает жалкий вопрос профессора о его неспособности посмеяться над собой. Рифма в стихотворении играет бо́льшую роль, чем размер. Но даже несмотря на то, что рифма несколько ближе к традиционной норме, чем в более ранних работах, и невзирая на регулярное чередование рифм по схеме abab, неразрешенная цепочка безударных окончаний и отсутствие регулярного размера приводят к тому, что строки болтаются, вместо того чтобы энергично защелкиваться.
То, как профессор описывает собственное поведение, только усиливает впечатление о его бессилии, но не смягчает его. Когда Звездная Дама спрашивает, не закинула ли тоска сети в небесной Севилье, он не может ответить. Все, на что он способен, – это воспроизвести свое первое наблюдение о том, что месяц стынет, и, повторяя фразу «не могу», он завершает стихотворение жалким, на грани смешного, вопросом: «почему я, профессор отчаяния, не могу над собой смеяться?»
Это безнадежное вопрошание очень далеко отстоит от полной энергии финальной реплики героя в стихотворении «Сердце-пустырь»: «И один по ночам, – окаянный – грудь твою целую». В «Небесной Севилье» воспроизводится не декаданс и не эротический эгоизм, присущий некоторым аспектам символизма, но иронический, горький символизм Блока после его разочарования в Прекрасной Даме. «Звездная Дама» Заболоцкого не может не напоминать о Прекрасной Даме Блока просто в силу своего имени, так же как крушение надежд профессора отчаяния не может не указывать на разбитые надежды и разочарование блоковского лирического героя. Как Блок, так и Заболоцкий опираются на традицию романтической иронии, и этот долг Заболоцкий изящно признает в аллитеративной отсылке к Генриху Гейне – «Плачет Генрих внизу на Гарце»77.
Тем не менее между стареющим Блоком и подающим надежды Заболоцким есть существенные различия. Блок был с самого начала дико, слепо влюблен в Прекрасную Даму, тогда как профессор у Заболоцкого начинает скромнее – он мог бы влюбиться в Звездную Даму – и у него все заканчивается почти комической беспомощностью, а не всепоглощающей депрессией, как у Блока. И, конечно, Блок был настоящим символистом, а Заболоцкий – всего лишь молодым поэтом, примеряющим символистскую эстетику в поисках собственного голоса. Но все же «Небесная Севилья» с ее символистской темой утерянного блаженства, несомненно, была частью продолжающегося диалога Заболоцкого с Блоком, Бальмонтом и символизмом в целом.
Третья работа Заболоцкого, опубликованная в студенческом журнале, «Сизифово рождество», не отличается ни декадентской интонацией стихотворения «Сердце-пустырь», ни символистской атмосферой общей духовной таинственности, свойственной отрывкам «Промерзшие кочки, бруснига» и «Но день пройдет печален и высок», а также не живописует несостоявшуюся символистскую вселенную, как в «Небесной Севилье». Некоторые аспекты лексики, яркость визуальных образов и музыкальность стихотворения наводят на мысль о том, что здесь присуствует отсылка к поэзии Бальмонта. Но вместо туманного символистского поиска знаний, любви или блаженства Заболоцкий предлагает четкое описание творческого процесса, высвечивая его резким, ярким светом и сосредоточиваясь на особенностях, которые знаменуют его уход из-под влияния символистов. Невозможно сказать, был ли этот уход спровоцирован увлечением Заболоцкого акмеизмом или просто растущим чувством собственной поэтической идентичности.
Физиологическая образность стихотворения не характерна ни для акмеизма, ни для символизма. Она, возможно, указывает на растущий интерес Заболоцкого к «аналитическому искусству» Филонова, который часто рисовал человеческие фигуры со снятой кожей и обнаженной анатомией, хотя в действительности поэт брал уроки у Филонова несколько позже, в 1920-е годы [Максимов 1984а; Misler, Bowlt 1984; Goldstein 1989]78. Физиологические детали также могут отражать видение, которое поэт приобрел в бытность студентом-медиком в Москве: впечатления от занятий по анатомии выплеснулись в его поэзию. Каким бы ни был источник такого видения, еще один шаг к обретению собственного голоса молодой поэт совершает, изображая сизого ибиса (похожую на аиста болотную птицу, священную в Древнем Египте), который свистит либо с растущего папируса, либо с папирусного манускрипта или иллюстрации, – возможно, египетского артефакта, что указывает на еще один потенциальный источник вдохновения и является своего рода деконструирующей самоотсылкой. Ибис высвистывает золотые стихи из извилин мозга поэта. Покинув пределы мозга поэта, стихи, по-видимому, воспроизводятся на преемнике папируса, бумаге, а затем скачут «в чужие мозги». Поэт таким образом создает конкретно-физиологическую и абсолютно симметричную структуру поэтической рецепции: растение папирус – мозг поэта – бумага – чужие мозги.
Сизифово рождество
- Просвистел сизый Ибис с папируса
- В переулки извилин моих.
- И навстречу пичужке вынеслись
- Золотые мои стихи.
- А на месте, где будет лысина
- К двадцати пяти годам, —
- Желтенькое солнышко изумилось
- Светлейшим моим стихам.
- А они, улыбнувшись родителю,
- Поскакали в чужие мозги.
- И мои глаза увидели
- Панораму седой тоски.
- Не свисти, сизый Ибис, с папируса
- В переулки извилин моих,
- От меня уже не зависят
- Золотые мои стихи79.
Это одно из самых музыкальных стихотворений Заболоцкого благодаря яркой оркестровке звуков с/з-и, а также тенденции к трехстопному анапесту80. Можно даже заподозрить, что эпитет Сизифово выбран поэтом больше из-за его звукового сходства с сизый ибис и другими сочетаниями с/з-и, чем из-за его смысла, поскольку описание рождения золотых стихов не представляется трудом настолько тяжелым, чтобы именовать его «сизифовым». Звуковая оркестровка начинается с пика в первых строках, описывающих свист ибиса («Просвистел сизый ибис с папируса…»), и снова выходит на первый план в отголоске этих строк в последней строфе, где поэт просит ибиса не свистеть, потому что его стихи больше ему не принадлежат. Свистящий звук предсказуемо утихает на время в конце третьей строфы, когда поэт представляет себе жизнь без своих стихов, которые «поскакали в чужие мозги».
Своими звуковыми экспериментами и сосредоточенностью на пении птицы (пусть даже египетского ибиса, а не русского соловья) стихотворение напоминает «Соловей во сне» Державина, которое в интересах благозвучия было написано с преобладанием звуков с, л и с полным отсутствием р. Однако наиболее прямое влияние на «Сизифово рождество» оказал Бальмонт, стихи которого славились музыкальностью и использованием яркой образности, связанной с огнем и солнцем. Также он писал много стихов о процессе стихосложения. В общих чертах, стихотворение Заболоцкого могло быть реакцией на описание «рождения» поэзии в стихотворении Бальмонта «Как я пишу стихи». Говоря более конкретно, он, по-видимому, усваивает образы из стихотворения «Солнечный луч» Бальмонта, входящего в тот же цикл, что и «Звездный хоровод», но при этом сопротивляется субъективной символистской позиции, отраженной в этом произведении. Ни одно из этих стихотворений не выражает в полной мере музыкальности Бальмонта, а также не дотягивает до музыки «Сизифова рождества», но другие параллели говорят сами за себя.
Стихотворение «Как я пишу стихи» начинается с темы рождения, обозначенной глаголом «рождается», так как Бальмонт описывает «рождение» пяти стихотворных строк. После пяти поэт сбивается со счета, – строки стихов словно роятся над ним.
Как я пишу стихи
- Рождается внезапная строка,
- За ней встает немедленно другая,
- Мелькает третья ей издалека,
- Четвертая смеется, набегая.
- И пятая, и после, и потом,
- Откуда, сколько, я и сам не знаю,
- Но я не размышляю над стихом,
- И, право, никогда – не сочиняю.
Глагол «рождается» – однокоренной со словом «рождество», которое Заболоцкий использовал в названии. «Рождество» – архаичная форма, которая теперь используется почти исключительно в словосочетании «Рождество Христово», а форма «рождение» выражает общий смысл понятия. Можно догадаться, что Заболоцкий выбрал форму «рождество» из соображений мелодики, так как с ударным последним слогом название намного убедительнее, чем с дактильным окончанием слова «рождение», а также, возможно, ради создания атмосферы архаики, подходящей к древнему мифу о Сизифе. Для Бальмонта, который в поэзии видит результат внезапного вдохновения, стих рождается мгновенно, легко, без необходимости сизифовых усилий со стороны его «родителя». Действительно, рождающий остается неизвестным. Стихотворная строчка просто «рождается». Заболоцкий вторит бальмонтовскому ощущению, что поэзия зависит, по меньшей мере частично, от чего-то вне самого поэта (в его случае – от свиста ибиса), что она не просто бьет ключом из сокровенной части души поэта, как «стихийное излияние сильных чувств», по Вордсворту. Но в то же время название стихотворения Заболоцкого предполагает, что поэзия – дело трудное, и эмоциональная привязанность его персонажа к новорожденным стихам намного сильнее, чем у Бальмонта. Если персонаж Заболоцкого воспринимает себя именно как «родителя» стихов и после их побега страдает «седой тоской», своего рода «синдромом пустого гнезда», то авторское «я» Бальмонта отстраняется от происходящего, не претендует на отцовство, не желает размышлять над стихами или «сочинять» их.
В первой же строке стихотворения Бальмонта «Солнечный луч» говорится о солнечном луче, пронзающем мозг поэта. Может показаться, что отсюда дорога идет прямо к «желтенькому солнышку» Заболоцкого, которое «изумилось светлейшим стихам», населяющим «переулки извилин» поэта. «Свой мозг пронзил я солнечным лучом», – пишет Бальмонт. Но по мере развития его стихотворения в нем становятся все более заметны те самые качества, на которые Заболоцкий в своем эссе указал как на отличительные критерии символизма – неопределенность объекта и всеобъемлющий субъективизм, – тогда как в стихотворении Заболоцкого субъект и объект отчетливо различаются. Вторая строфа Бальмонта гласит:
- Как луч горит на пальцах у меня!
- Как сладко мне присутствие огня!
- Смешалось все. Людское я забыл.
- Я в мировом. Я в центре вечных сил.
Символист Бальмонт владычествует над вселенной своего стихотворения. Форма первого лица, если не считать глаголов, в 12 строках встречается 11 раз. Заболоцкий, будущий автор Декларации ОБЭРИУ, уже основывается на «предметности предмета» и не только своим стихам, но и другим вещам – ибису, папирусу – предоставляет независимое существование вне сферы собственного «эго» поэта. Даже с бальмонтовским упоминанием солнца, бальмонтовским сверканием «золотых» и «светлейших» стихов и очевидной параллелью с упоминанием мозга в обоих стихотворениях, произведение Заболоцкого очень конкретно – немыслимым для старшего поэта образом, – потому что молодой поэт все ближе к тому голосу и видению, которые сделают его стихи уникальными, безошибочно узнаваемыми как его собственные.
Один из основных признаков ви́дения Заболоцкого – ощущение физической и физиологической реальности. Если Бальмонт довольствуется более отвлеченным понятием «мозг» (в единственном числе), то Заболоцкий, видимо, смакует эффект встряски от анатомических подробностей, используя более разговорную форму «мозги» (во множественном числе) и рисуя графику «переулков извилин», повторяя этот образ в важнейших местах стихотворения. В стихотворении «Незнакомка», оказавшем глубокое влияние на Заболоцкого, Блок, как и Бальмонт, использует слово «мозг» в единственном числе, а его упоминание об излучинах несколько туманно. Значение этого стихотворения для Заболоцкого будет обсуждаться в пятой главе, а сейчас достаточно сказать, что у Блока речь идет о метафорических излучинах души поэта, а не о физических извилинах его мозгов: «И все души моей излучины / Пронзило терпкое вино. / И перья страуса склоненные / В моем качаются мозгу» [Блок 1960, 2: 185].
Упоминание Заболоцким своей будущей лысины, наряду с «мозгами» и синекдохическими «извилинами», указывает на элементы самоиронии и на граничащую с физиологическим гротеском фокусировку на анатомии, которой нет места в безупречно серьезной эстетике символизма. Человеческое тело для символиста вроде Брюсова может нести глубокий эротический смысл или быть предметом болезненной декадентской очарованности, но эти функции неизбежно будут связаны с неким высоким духовным значением. Заболоцкий-поэт пишет стихи, вдохновляемый ибисом, но он не только творит, – у него есть физиология и конкретная внешность. Читатель узнает его не как обладателя отвлеченного и возвышенного «ума» или «души», но как обладателя «извилин», которому предстоит облысеть. Даже типичный символистский недуг неопределенного томления (тоска), которым страдает поэт у Заболоцкого, приобретает физиологический оттенок, поскольку для описания оттенка серого выбрано слово, характеризующее цвет волос, – «седая».
«Иной мир», столь значимый для символистов, меркнет для Заболоцкого примерно в той же степени, в какой для него становятся все более важными конкретные предметы. Если в начале стихотворения еще можно предположить, с известной долей условности, что способность ибиса вызывать «золотые стихи» проистекает из его связи с высшим поэтическим и духовным миром, то к концу стихотворения царство конкретики берет верх. Ни поэт, ни ибис не контролируют стихи, которые обрели собственную жизнь и мигрировали в мозги других людей, предвещая независимость «слова как предмета», столь важную для идеологии ОБЭРИУ.
Таким образом, Заболоцкий изгладил практически все следы символизма из своего поэтического голоса. Теория символизма как объект рассмотрения еще появится в Декларации ОБЭРИУ; диалог с Блоком продолжится в стихотворении «Красная Бавария»; а в более поздних стихах снова найдут отражение некоторые свойственные символистской поэзии вопросы, и в первую очередь о смысле смерти. Но все это будет выражено собственным языком Заболоцкого внутри более широкого контекста традиций русской поэзии. С этого момента поэтический мир Заболоцкого, пусть даже открытый для влияния с разных сторон, станет ощутимо его собственным миром.
Глава четвертая
Последний вздох авангарда и преемственность культуры
ОБЭРИУ – ПОСЛЕДНИЙ ENFANT TERRIBLE ЛЕНИНГРАДА
Искусство есть шкаф!
Стихи не пироги; мы не сельдь!
Лозунги ОБЭРИУ
24 января 1928 года, посулив в афишах, вывешенных как обычным образом, так и в перевернутом виде, среди прочего, ослепительное виртуозное выступление конферансье на трехколесном велосипеде, ОБЭРИУ представило вниманию жителей нэповского Ленинграда апофеоз позднего авангарда в виде театрализованного вечера «Три левых часа»82. Представление было устроено в Доме печати, где на стенах, стараниями учеников Филонова, были изображены
нежными, прозрачными красками лиловые и розовые коровы и люди, с которых, казалось, при помощи чудесной хирургии были сняты кожные покровы. Отчетливо просвечивали вены и артерии, внутренние органы. Сквозь фигуры прорастали побеги деревьев и трав светло-зеленого цвета [Степанов 1977: 86–87].
Как и ожидавшееся представление, фрески поражали, утверждая в то же время ценность и возрождающую силу жизни и искусства.
Во время первого из «Трех левых часов» на потрепанном и, как казалось, самоходном шкафу к центру сцены выехал человек в клетчатом сюртуке, длинном пальто и шапочке. Он слез и стал расхаживать взад и вперед перед шкафом, нараспев читая малопонятные стихи, попыхивая трубкой и время от времени прерывая чтение, чтобы выпустить кольца дыма. Сбоку выглянул пожарный в бронзовом шлеме, вызвав аплодисменты зрителей. Внезапно человек с трубкой остановился, посмотрел на часы и попросил соблюдать тишину, объявив, что в этот самый момент на углу Проспекта 25 октября и улицы Имени 3 июля моряк читает стихи. (Моряк-поэт, чья фамилия на афише была напечатана вверх ногами, закончив путаться под ногами прохожих на перекрестке, вернулся в Дом печати еще до окончания программы.) Затем второй человек в кашне вылез из шкафа и тоже прочитал малопонятные стихи, разворачивая свиток папируса, а первый в это время, все еще покуривая трубку, забрался на шкаф и со своего возвышения повторял строки за чтецом. Танцевала балерина. Юнец в солдатской шинели декламировал стихи чуть более понятные, чем у других, хотя, безусловно, странные, и зачитал декларацию, в которой сочетались литературная бравада, революционная риторика и метафизика. На «втором часе» был представлен крайне нетрадиционный спектакль «Елизавета Бам», а на «третьем часе» был показан фильм «Мясорубка», смонтированный из разных эпизодов, в числе которых был фрагмент с поездом, едущим прямо на зрителей.
На следующий день, как зловещее предвестие грядущей травли, в «Красной газете» появился гневный отзыв83. «Вчера в Доме печати происходило нечто непечатное, – разъярялась критик. – К чему?! Зачем?! Кому нужен этот балаган?»84 Возможно, термины, которые критик Л. Лесная использовала для оскорблений, были подсказаны Декларацией, зачитанной на первом из «Трех левых часов». «Скажете – балаган?» – риторически спрашивает Декларация, а затем немедленно возражает: «Но и балаган – театр». И как будто предвидя гневный вопрос критика: «К чему?! Зачем?!», сама Декларация риторически вопрошает: «Кто мы? И почему мы?»85 Ко всему этому можно добавить еще только один вопрос: а какое отношение все это имеет к Заболоцкому и общему развитию русской культуры?
Заболоцкий и был тем юнцом в солдатской шинели, который представил публике Декларацию ОБЭРИУ и который, вместе с курильщиком трубки в длинном пальто, Даниилом Хармсом, обычно считается одним из ее главных авторов86. Он недавно демобилизовался из Красной Армии, и уже далеко ушел от болот своего детства, став заметной фигурой ленинградского авангарда, молодым городским интеллигентом. Он играл ключевую роль в Объединении реального искусства, обычно известном под причудливой аббревиатурой ОБЭРИУ. Это была последняя независимая авангардистская группа, расцветшая перед тем, как русская культура рухнула под тяжестью сталинизма87.
Однако, вопреки нарочитому «авангардизму» ОБЭРИУ и вопреки безудержной «советизации» 20-х годов, на Заболоцком, ОБЭРИУ и на самой советской культуре в основных ее аспектах все еще лежал отпечаток прошлого. Апогеем советской орбиты, которую она описывала вокруг традиционной русской культуры, были новые социальные и политические структуры и авангардная эстетика. Но тяга к семиотическим структурам русского православия и нравам старой ленинградской интеллигенции и русской деревни была ее перигеем. В Москве строй жизни был радикален настолько, что, казалось, советская культура вот-вот вырвется из гравитационного поля традиции и устремится в открытый космос. В Ленинграде же, казалось, жизнь рождалась из хрупкого равновесия центробежных и центростремительных сил, сохранявшего устойчивость орбиты.
Довольно резко проводя границы, но тем не менее верно уловив суть, один критик противопоставляет засилье московских «интеллектуальных нуворишей» – ленинградской интеллигенции с ее приверженностью старым ценностям. Он пишет:
В новой столице, Москве, была власть. В Москве были деньги. Из Москвы исходили все коренные перемены (главным образом, отмены) в культуре русской интеллигенции. Литературную атмосферу Москвы определяли интеллектуальные нувориши: … лефовцы, конструктивисты. Маяковский, Сельвинский, Багрицкий, Катаев, Ильф, Петров, Олеша – при всей разнице в дарованиях, нравственных потенциалах и художественных ориентациях их объединяло одно: радикальное отрицание русской культурной традиции (всего, что они именовали «интеллигентщиной») и стремление отожествить себя с новым режимом, заменить искание собственной идеологии… радостным и безопасным принятием идеологии официальной.
......
В [Ленинграде] же еще сохранялись литературно-художественные и философские кружки старого типа, в которых продолжались, как бы не прерванные революцией и войной, творческие и духовные поиски. И прежние моральные ценности в этой среде были отнюдь не отменены. Здесь культивировались формы неприятия надвинувшегося тоталитаризма: игнорирование, ирония, эзоповская, да и прямая сатира [Лосев 1982а: 11, 15]88.
Таким образом, именно в Ленинграде формалисты и их ученики сохранили живые традиции литературоведения (иногда вопреки собственным искренним усилиям совершить интеллектуальную революцию), а кружок Бахтина углубился в вопросы православия и природы слова89.
Заболоцкий и ОБЭРИУ также внесли свой вклад в шаткое равновесие ленинградской культуры, хотя и сами были ей сформированы. Состав ОБЭРИУ был достаточно текучим, хотя вступление в него якобы предполагало подачу письменного заявления, в котором нужно было дать ответ на эстетические и интеллектуальные вопросы, вроде следующих: «Какое мороженое вы предпочитаете?» и «Где ваш нос?» [Бахтерев 1984: 87]. Однако же ОБЭРИУ, просуществовавшее с 1927 по 1930 год, было лишь одним из ряда кружков, сформировавшихся вокруг Хармса и Введенского. «Радикс», «Левый фланг», «Академия левых классиков», «Клуб малограмотных ученых» и «Чинари»90 в разное время объединяли в целом одних и тех же людей, исповедующих те же самые эстетические и философские принципы, которые стали самоопределением ОБЭРИУ91.
В состав участников ОБЭРИУ, перечисленных в Декларации, входили Николай Заболоцкий, Даниил Хармс, Александр Введенский, Константин Вагинов, Игорь Бахтерев и Борис (Дойвбер) Левин. Также с группой в разные времена были связаны художник-авангардист Казимир Малевич, поэт Николай Олейников, философы Леонид Липавский и Яков Друскин и теоретик футуристической зауми Александр Туфанов (который в конечном итоге внес свой вклад в арест Заболоцкого, назвав его соучастником по «контрреволюционному заговору»92)93. Хармс – тот самый человек в клетчатом сюртуке и шапочке, который декламировал малопонятные стихи, пускал дымовые кольца и забирался на шкаф во время «Трех левых часов». Он же был автором спектакля «Елизавета Бам», представленного на «втором часе». Это он разглагольствовал в эпизоде, представленном в начале первой главы, и был известен тем, что гулял по Ленинграду в обличье Шерлока Холмса94. Также он прославился захватывающим трюком: он повис над Невским проспектом на парапете дома Зингера (ныне Дом книги) с целью популяризации деятельности ОБЭРИУ [Nakhimovsky 1982: 6]. «Хармс – …произведение искусства, человек-спектакль», – заключил один его знакомый [Семенов 1979: 182]. Помимо сомнительной славы, вызванной столь эксцентричным поведением, Хармс был известным детским писателем (хотя в реальной жизни детей он терпеть не мог), а также пользовался признанием в весьма узком кругу знатоков как автор неопубликованных стихов и прозы для взрослых [Cornwell 1991: 6]95.
Человеком в кашне, вышедшим из шкафа, был Введенский. Как и Хармс, он читал малопонятные стихи на первом из «Трех левых часов». Он также участвовал во вступительном эпизоде, противопоставив желанию Хармса походить на Гёте свое собственное желание стать торгашом, чтобы «слоняться по Невскому, болтать с извозчиками и пьяными проститутками». Несмотря на различие между Гёте и проходимцами времен НЭПа, бо́льшую часть жизни Хармс и Введенский трудились вместе на литературном поприще, и их пути были схожи. Оба были зачинщиками веселых авангардных эпатажей, оба зарабатывали на жизнь в Детгизе во времена его расцвета и обоих арестовали, решив, что их произведения отвлекают советских граждан от великой задачи социалистического строительства. После обоих остались архивы, полные своеобразной прозы и поэзии для взрослых, очевидно не предназначавшиеся для публикации96. И, в конце концов, оба оказались чересчур оригинальны для советской системы, были арестованы и погибли в заключении97.
Вагинов известен в основном своими романами о чудаках, один из которых до некоторой степени затрагивает ОБЭРИУ («Труды и дни Свистонова»), а другой – бахтинский кружок («Козлиная песнь») [Вагинов 1991]98. Как и Борис Левин99, он умер от туберкулеза еще молодым. Единственным членом ОБЭРИУ, который прожил долгую жизнь, был Бахтерев100, который зарабатывал на жизнь в театральных кругах и оставил ценные (но иногда противоречивые) воспоминания о своих бывших товарищах101.
Из трех центральных фигур ОБЭРИУ – Хармса, Введенского и Заболоцкого – найти связь между первыми двумя достаточно легко. Каждый из них – творец бессмыслицы, основанной на игре слов и поисках метафизической истины. Целью поиска была явленная связь между человеком и Богом, а средством – апофатическое или «отрицательное» богословие. Сложнее увидеть связь между Хармсом и Введенским, с одной стороны, и Заболоцким – с другой. Заболоцкий не писал бессмыслицы в их духе: в своем авангардном поиске истины он прибегал скорее к гротеску. Более того, предметом его поиска была не столько особая связь между человеком и Богом, сколько способ увидеть мир в полноте его истинной вечной физической и метафизической природы, увидеть божественную природу вселенной через ее преображение. Возможно, из-за своего заветного желания стать признанным поэтом – тогда как остальные отказались от всякой надежды на общественное признание – и из-за своего более чем десятилетнего опыта жизни при Сталине после гибели остальных, – свой метафизический поиск он выразил менее явно, практикуя, осознанно или нет, искусство приспособления, о котором говорилось в первой главе.
Несмотря на различия, члены группы разделяли общую веру в свободу художественного ви́дения – что в те времена становилось все большей редкостью, – напоминая этим «Серапионовых братьев», группу начала 1920-х годов. «Говорят о случайном соединении различных людей», – сказано в Декларации о восприятии ОБЭРИУ публикой. «Видимо, полагают, что литературная школа – это нечто вроде монастыря, где монахи на одно лицо. Наше объединение свободное и добровольное, оно соединяет мастеров, а не подмастерьев – художников, а не маляров» [ОБЭРИУ 1928].