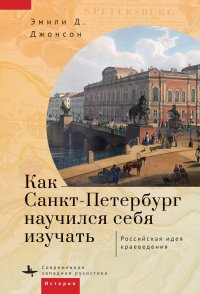
Читать онлайн Как Петербург научился себя изучать бесплатно
- Все книги автора: Эмили Д. Джонсон
Рис. 1. Карта Санкт-Петербурга от Карла Бедекера [Baedeker 1914: VIII].
Благодарности
В работе над этим проектом мне помогали представители множества разных организаций. Моим друзьям и бывшим работодателям Никите Ломагину и Аркадию Полярусу я благодарна за то, что они впервые познакомили меня с миром экскурсионной работы и, следовательно, за то, что пробудили во мне интерес как к краеведению, так и к путеводителям. Роберт Магуайр, мой научный руководитель в Колумбийском университете, стал постоянным источником советов и поддержки. Его руководство на всех этапах этого процесса было бесценным. Кэти Непомнящий и Кэрол Юланд сыграли весьма важную роль в моем образовании. Я очень благодарна за помощь и поддержку, которые они оказывали мне на протяжении многих лет. Ричард Густафсон, Элизабет Валькенир, Ирина Рейфман, Джули Баклер, Джули Кассидей, Энн Лоунсбери, Ларри Холмс и Том Бейер – все прочитали и прокомментировали различные версии этого текста, сделав много полезных замечаний. Ольга Семеновна Острой дала мне ценнейшие советы по основным источникам, когда я впервые начала проводить архивные исследования в Санкт-Петербурге. Российская национальная библиотека остается моим любимейшим местом работы в мире, и я очень благодарна ее сотрудникам.
Я хотела бы поблагодарить Питера Поттера из издательства «Penn State Press» за веру в этот проект и за помощь в доработке текста. Я в долгу перед Роном Мейером, редактором публикаций Института Гарримана, за его ценные редакторские советы.
Финансирование этого проекта было предоставлено Американским советом преподавателей русского языка, Программой исследований и обучения Государственного департамента США по Восточной Европе и независимым государствам бывшего Советского Союза, Славянским факультетом Колумбийского университета, Институтом Гарримана и Университетом Оклахомы. Я хотела бы выразить особую признательность университетским семинарам Колумбийского университета за их помощь в публикации. Материал этой работы был представлен на семинаре по славянской истории и культуре.
Часть главы 7 этой монографии ранее появилась в несколько иной форме в книге под редакцией Иэна Лилли «Москва и Петербург: Город в русской культуре» [Lilly 2002]. Благодарю Иэна Лилли и Гарта Терри за помощь в доработке этого материала.
Финансовую поддержку русского издания этой монографии осуществили Офис вице-президента по исследованиям и партнерству, провост, Колледж искусств и наук и Отдел современных языков, литературы и лингвистики Университета Оклахомы.
Предисловие
Способы познания: российское краеведение как дисциплина идентичности
Научные дисциплины есть культурный конструкт. Они возникают в определенных местах в определенные моменты времени и либо процветают, либо угасают в зависимости от того, насколько они воспринимаются как интеллектуально жизнеспособные, полезные, модные и/или совместимые с потребностями и устремлениями активных социальных групп. Подобно стилям в музыке, тенденциям моды и политическим теориям, научные дисциплины могут пересекать границы стран, где они возникли. Они могут распространяться по миру независимо от своей исходной культуры, осваивая другие страны и континенты. Иногда в новой среде научные дисциплины существенно меняются: цели, границы и теоретические основы, а также терминология могут меняться в зависимости от местных условий. Однако нередко может показаться, что научные дисциплины, по крайней мере на первый взгляд, переходят без изменений из одной культуры в другую.
Неудивительно, что сильные нации и империи экспортируют академические дисциплины более успешно, чем более слабые государства. В последние десятилетия экологическая инженерия, гендерные и этнические исследования – новые дисциплины, которые пользуются значительной популярностью в Западной Европе и Соединенных Штатах, – начали завоевывать позиции в других регионах земного шара. Ведущие университеты в таких странах, как Аргентина, Уганда, Словения и Йемен, регулярно выпускают рекламные материалы, заполненные ссылками на новые кафедры, программы и курсы, которые современному американскому педагогу могут показаться знакомыми. Сходство временами настолько разительно, что можно не без оснований предположить, что благодаря современным средствам коммуникации и западному экономическому и культурному доминированию во всем мире сложилась общая однородная система организации и классификации подходов к обучению и значение региональных тенденций, берущих начало за пределами влиятельных стран Запада, в структуре интеллектуальной жизни невелико.
Однако, несмотря на несомненное влияние западных университетов, научных обществ и агентств, предоставляющих гранты, в организации обучения и научной работы по-прежнему сохраняется огромное разнообразие. Научные дисциплины, в значительной степени или полностью неизвестные в Соединенных Штатах, процветают в других регионах земного шара. Они могут легко ускользнуть от внимания американских ученых, потому что не вписываются в нашу систему дисциплинарной классификации: для них не существует слов в английском языке, они пересекаются с западными областями специализации, но все же полностью не совпадают с ними. Нам они кажутся похожими то на одно, то на другое, но никогда мы не признаем их ценность и важность. В результате американские специалисты склонны переводить иностранные дисциплинарные термины либо упрощенно, либо ситуативно. В первом случае они буквально переводят название иностранной дисциплины на английский язык, а затем, отмечая, что оно звучит примерно так же, как один из его известных западных аналогов, предполагают, независимо от охвата или методологии, что два подхода к познанию по существу идентичны. Во втором случае они полностью игнорируют существование незнакомой категории и классифицируют отдельные научные работы, являющиеся примерами зарубежной дисциплины, в соответствии с западными нормами; они могут обозначить какие-то работы как историю, идентифицировать другие как политологию и отнести третью группу к культурной антропологии. Незнакомая дисциплинарная категория при этом исчезает; остаются только разрозненные предметы. Как упрощенные, так и ситуативные переводы иностранных дисциплинарных терминов, как правило, усиливают нашу культурную слепоту, а ложные уравнения и поспешно придуманные сравнения снижают нашу и без того ограниченную способность воспринимать незнакомые категории и структуры.
Должно ли нас беспокоить наше пренебрежение к дисциплинам, возникшим в других странах? Важны ли категории и термины вообще или значение имеют только отдельные научные работы? В наш век междисциплинарных исследований было бы глупо считать границы, разделяющие области специализации, изначально фиксированными или непроницаемыми, но означает ли это, что дисциплины как таковые не важны? Можно сказать, что нет; способы организации науки, разработка категорий и подходов, возникших в различных частях земного шара, заслуживают нашего внимания. Изучая их, мы можем многое узнать о себе и своих соседях, о том, что во всеобщем стремлении к знаниям является постоянным, и о том, что меняется в зависимости от культуры и эпохи.
Эта книга посвящена традиции, которая незнакома большинству американцев и многим западноевропейцам: системе исследований, которая по-русски называется краеведением. Лучше всего это понятие переводится на английский язык как региональные или, возможно, местные исследования («край» – регион или местный административный округ, а «ведение» – изучение или знание). Эта область знаний сформировалась в центральной России в начале XX века, сочетая элементы, заимствованные из различных отечественных и зарубежных источников. По мере своего развития краеведение росло и изменялось в соответствии с советскими историческими условиями, приобретая со временем функции, теоретическую базу и социальную значимость, которые отличают его от всех очевидных предшественников. Популярное с самого начала, краеведение быстро распространилось по всей советской территории и в последующие после Второй мировой войны десятилетия даже играло определенную роль в некоторых восточноевропейских сателлитах СССР1. После краха коммунизма краеведение, по-видимому, прекратило географическую экспансию, но оно остается динамичной и важной силой на территории бывшего Советского Союза. В России, в частности, в последние годы эта сила процветает, никоим образом не омраченная и не ослабленная недавно импортированными западными дисциплинами и способами мышления. С начала 1990-х годов в России наблюдается – в дополнение к созданию новых кафедр, центров и школ гендерных исследований, пиара и маркетинга – значительное увеличение числа академических подразделений и учреждений, занимающихся краеведением.
Что именно означает краеведение? Современные российские составители словарей обычно определяют этот термин как «изучение природной среды, населения, экономики, истории или культуры какой-либо части страны, такой как административный или природный регион или место поселения» [Прохоров 1987: 643]2. Как следует из данного определения, краеведение представляет собой синтетическую область знания, которая опирается на методологическое и теоретическое наследие различных научных традиций. В нем подходы, терминология и методы, типичные для таких разнообразных научных областей, как антропология, социология, история, искусствоведение, экономика и почвоведение, объединяются для создания новой целостной науки о месте. Краеведы-практики исследуют и описывают природные и рукотворные ландшафты, изучают то, как человеческое общество и окружающая среда влияют друг на друга, и расшифровывают семиотику пространства. Они изучают местные мифы, анализируют условности, регулирующие изображение тех или иных регионов и городов в произведениях искусства и литературе, и исследуют как внешнее, так и внутреннее восприятие местных групп населения. Представление о том, что люди формируются и определяются средой, в которой они живут, является основополагающим для этой современной области знаний. Краеведы считают, что географический фактор играет активную роль и в истории человечества в целом, и в жизни отдельных людей. Они утверждают, что длительное проживание в определенном городе или регионе – воздействие определенной эстетической и социальной среды, определенного набора символов, мифов, стереотипов и исторических концепций – может повлиять на наши возможности, выбор, точку зрения и в некоторой степени даже на наш характер. По этой причине краеведы склонны рассматривать исследование географического пространства как средство изучения человеческого сознания и культуры.
С точки зрения исследуемых вопросов, возможно, разумнее сравнить краеведение с современной географией человека. Однако структурно эти две дисциплины различаются по ряду существенных аспектов. Самое главное, в то время как географы исследуют большие и малые единицы территории и изучают места, как близкие, так и удаленные от их собственного личного опыта, краеведы почти неизменно изучают отдельные населенные пункты (города, общины, административные районы), в которых они когда-то жили или которые каким-то иным образом связаны с семейной историей – например, давно утраченное наследие или место смерти родителей. Для краеведов крайне нехарактерно писать о местах, с которыми у них нет устойчивой личной связи. Как иногда признают лексикографы, пытающиеся дать определение краеведению, «по большей части» эта форма исследования представляет собой работу людей, которых можно было бы при определенном условии классифицировать как «местных жителей» [Прохоров 1987: 643].
В этом отношении краеведение очень похоже на немецкое Heimatkunde (буквально: изучение родины), традицию региональных географических исследований, которая явно послужила для него источником вдохновения и из которой оно, в ограниченном смысле, даже, можно сказать, произошло. Как я подробнее объясню позже на страницах этой работы, слово «краеведение» вошло в русский язык в начале XX века как один из трех возможных переводов Heimatkunde. Значительно менее популярное, чем конкурирующие кальки «родиноведение» и «страноведение», «краеведение» лишь эпизодически появлялось в российских публикациях до 1920-х годов, когда оно стало ассоциироваться с формирующейся сетью провинциальных научных обществ, слабо связанных с Академией наук. В течение следующих нескольких десятилетий определение краеведения постепенно расширялось, включая другие учреждения и формы науки о регионах. При этом сходство данного способа исследования с Heimatkunde значительно уменьшилось. По сравнению со своим немецким предшественником, краеведение стало не столь провинциальным по своему характеру, оно приобрело новые академические притязания и амбиции3. Однако большинство ученых продолжали, даже когда российское краеведение в некоторой степени стало профессионализированным, изучать районы, в которых они жили или с которыми чувствовали личную связь. Они исследовали пейзажи, сформировавшие, по их мнению, их собственные характеры, а изучая пространство, они таким образом познавали себя.
Подобно Heimatkunde и гендерным исследованиям, исследованиям, посвященным сексуальным меньшинствам, и различным формам этнических изысканий в Соединенных Штатах, краеведение можно было бы обоснованно назвать «дисциплиной идентичности». Под этим я подразумеваю область, в которой доминируют научные работники, отождествляющие себя с предметом своей науки, воспринимающие его как «я», а не «другой». В таких областях специализации различие между ученым и объектом исследования в лучшем случае остается размытым. Исторически и культурно обусловленные понятия идентичности часто выступают в качестве ключевых детерминант дисциплинарных границ, и исследователи нередко рассматривают свою научную деятельность как часть более широкого поиска тех или иных политических и социальных прав, исправления несправедливостей прошлого, самореализации, самосознания и защиты от угнетения. В результате познание может легко слиться с общественным активизмом4.
Ученые, занимающиеся проблемой дисциплинарности, часто утверждают, что дисциплины идентичности вообще не являются реальными дисциплинами. Они отмечают, что такие области специализации омрачены слишком большим субъективизмом и лишены реальной цельности. Что, иногда спрашивают критики, общего у всех практиков женских исследований, кроме того, что они работают над проектами, которые каким-то образом связаны с женщинами или представлениями о женственности? Они необязательно проходят одинаковую подготовку или даже имеют одинаковые степени, у них могут быть совершенно разные интересы и методологические подходы. Возможно, все это в какой-то степени верно, но стоит отметить, что такого же рода критика может применяться и в отношении множества более традиционных областей специализации. Если интеллектуальная согласованность представляет собой основной показатель дисциплинарности, то сколько областей соответствуют этому стандарту? Филология? Экономика, история, антропология, медицина или физика? В публикациях за последние двадцать лет ученые, которые рассматривают «цельность» как основной критерий дисциплинарного статуса, обозначили (или приблизились к обозначению) каждую из этих областей как «непредметную» [Amariglio et al. 1993; Klein 1993: 197–198; Raymond 1996]5.
Подходы к изучению систем знаний, подчеркивающие как ключевой показатель дисциплинарности внешние характеристики, а не внутреннюю согласованность, как правило, являются более широкими и часто могут учитывать современные дисциплины, связанные с идентичностью. Такие области, как исследования, посвященные женщинам, афроамериканцам, сексуальным меньшинствам, как правило, демонстрируют большинство функциональных характеристик, связанных со статусом научной дисциплины. Для их поддержки существует развитая академическая инфраструктура: у них есть свои собственные кафедры, профессиональные сообщества, конференции, журналы, гранты, кафедры и учебники. Они также, по крайней мере в некоторой степени, связаны с теми или иными теориями, методами, техниками и дискурсивными стратегиями [Lenoir 1993: 72, 76, 80]. Занятые в них ученые используют специализированный словарь и продвигают свои идеи, обучая, проверяя и назначая преемников. Они изучают статьи и монографии друг друга, подают и оценивают заявки на финансирование и опираются на работу своих предшественников [Cohen 1993: 406–407; Hoskin 1993: 272–274; Shumway, Messer-Davidow 1991: 212]. Хотя было бы нелепо утверждать, что дисциплины идентичности обладают степенью формализации, характерной для таких устоявшихся областей, как биология, тем не менее при прямом отрицании их дисциплинарного статуса, похоже, упускается из виду важная тенденция: многие из этих областей специализации быстро становятся профессионализированными и в некоторых случаях даже, возможно, становятся более согласованными.
В этой книге я намерена рассматривать русское краеведение как дисциплину идентичности, как область специализации, сочетающую в себе определенную внешнюю структуру с большим внутренним разнообразием, в которой ученые склонны значительно отождествлять себя с изучаемым предметом и где стремление к знаниям может легко слиться с политической и социальной активностью. Подобно тому как женские исследования во всем мире во многих отношениях связаны с феминистским движением, а работы на расовые и этнические темы – с борьбой за толерантность и равенство, краеведение в России всегда было тесно связано с движениями по сохранению исторического наследия и окружающей среды, с различными формами местного бустеризма и с антицентристскими настроениями. Ученые, работающие в институтах и центрах местных исследований, преподающие на курсах по краеведению и пишущие научные работы в этой области, часто также принадлежат к неправительственным организациям, которые выступают за соблюдение ограничений на развитие, настаивают на более строгом контроле за загрязнением окружающей среды и борются за получение или сохранение финансирования региональных музеев и парков. Они свободно общаются с различными местными активистами и чувствуют, что у них есть с ними общие интересы. В целом было бы справедливо сказать, что большинство краеведов воспринимают себя как часть динамичного регионального сообщества, чей уникальный характер и голос заслуживают защиты. Поскольку краеведы заинтересованы в поощрении интереса к своему предмету среди населения в целом и имеют склонность ценить многие формы выступлений по региональным вопросам, они часто привлекают к участию в своих конференциях и издательских проектах любителей с небольшой формальной научной подготовкой или опытом: преподавателей, которые вводят связанные с краеведением материалы в свои курсы начальной школы, старшеклассников, пишущих прекрасные работы по региональной истории, художников, изображающих местные памятники и пейзажи в своих произведениях, а также разного рода энтузиастов и коллекционеров.
Готовность разрешить некоторым членам неакадемического сообщества участвовать на ограниченной основе в научных форумах представляет собой типичную особенность дисциплин, связанных с идентичностью6. Как могут области, в которых научные исследования и стремление к самопознанию дополняют друг друга, жестко исключать новичков и энтузиастов? Специалисты-практики часто склонны поощрять людей со стороны принимать участие в дисциплине, которая поможет их самореализации. Более того, многие ценят неподготовленную речь по вопросам идентичности по другой причине: они рассматривают ее как важный первоисточник, пример того, как изучаемый тип идентичности понимают и воспринимают в масштабах общества. Из-за их относительной инклюзивности дисциплины идентичности часто продолжают напоминать популярные движения даже после того, как они в значительной степени профессионализировались. Они остаются неразрывно связаны с социальными и политическими движениями, из которых берут начало.
Чем объясняется популярность краеведения в современной России? Какие факторы способствовали росту интереса к этой дисциплине идентичности преимущественно местного происхождения в течение последних пятнадцати лет? Социальные и политические потрясения, распад Советского Союза и появление новых национальных государств и региональных организаций, несомненно, сыграли свою роль. Поскольку границы по всей Восточной Европе сместились, старые формы представления и понимания себя географически неизбежно потеряли большую часть своей актуальности. Внезапно перестав быть частью советской группы населения, россияне оказались вынуждены переоценить себя как народ: необходимо было пересмотреть свою национальную историческую концепцию, установить этнические, языковые и поведенческие границы между собой и своими соседями, найти новые символы и переоценить роль своей страны на международной арене. Что значит быть русским? Где начинается и заканчивается русскость? Как дисциплина, которая занимается и понятиями идентичности, и географическим пространством, краеведение представляет собой идеальный форум для рассмотрения таких вопросов. Оно дает россиянам возможность сформировать региональную идентичность, которая потенциально не будет искажена националистическими (и интернационалистскими) эксцессами советского периода. Будут ли понятия идентичности, сформированные благодаря краеведению, способствовать росту нового национального чувства принадлежности, с терпимым и даже положительным отношением к региональным различиям как важным проявлениям русскости? Поможет ли краеведение объединить постсоветскую Россию так же, как, по утверждению Алона Конфино, идеи и символы «хаймата» способствовали национальному самосознанию в Германии после объединения 1871 года? [Confino 1997: 9–13]. Возможно, но так же легко понять современный российский регионализм в целом и краеведение в частности как глубоко антицентристскую позицию, более способствующую дальнейшему разъединению, чем возрождению сильного и положительного национального чувства.
Изменение государственных границ и необходимость формирования новой постсоветской коллективной идентичности во многом объясняют рост интереса к краеведению в современной России. Однако нынешнему буму наверняка способствовал и другой, менее очевидный исторический фактор. Современное российское краеведение возникло в результате слияния нескольких небольших интеллектуальных и культурных движений, которые были жестоко уничтожены в конце 1920-х и начале 1930-х годов. Ведущие исследователи оказались в тюрьмах и лагерях; институты, объединения и журналы были закрыты. Эти события оказались ключевыми для самосознания последующих поколений краеведов. После смерти Сталина в 1953 году ограничения на свободу слова и страх преследований ослабли, что позволило краеведам заново открыть свое наследие. Молодые исследователи искали забытые источники как в государственных, так и в частных библиотеках и архивах; они читали книги и рукописи, написанные их предшественниками в начале XX века, и встречались с представителями старшего поколения, которые остались в живых после террора . Вдохновленные тем, что они узнали, многие в конечном счете начали понимать истории и цели краеведения в аллегорическом смысле. Они восхваляли время непосредственно перед чистками как потерянный «золотой век», оплакивали павших как «мучеников», жестоко убитых централизованным советским государством, которое по своей бесчеловечности было полностью сопоставимо с Римом, и идентифицировали себя как «выживших», миссия которых – нести особую форму просвещения в мир. В десятилетия, последовавшие за смертью Сталина, краеведы кропотливо трудились над распространением знаний и расширением краеведческой практики, но, даже добиваясь значительных успехов, были склонны воспринимать себя как нечто «маргинальное», действующее вне или даже против ведущих общественных тенденций и, по этой причине, как возможные мишени для официальных преследований. В некотором смысле российские краеведы в конечном счете приняли одно из основных обвинений, выдвигавшихся против них в обличительных речах эпохи чисток: в постсталинскую эпоху многие исследователи-практики стали принципиально рассматривать краеведение как антиистеблишмент [Лурье, Кобак 1993: 26–27].
История краеведения как мученической дисциплины и его контркультурная Я-концепция в постсталинские годы проложили путь к его быстрому распространению после распада Советского Союза. В начале 1990-х годов, когда другие области знаний пытались избавиться от наследия семидесяти лет коммунизма, краеведение упивалось своим героическим прошлым. У него был относительно небольшой институциональный багаж, и оно могло быстро реагировать на политические и социальные изменения. Ветераны-исследователи в советский период часто вели такое маргинальное существование, что их трудно было обвинить в соучастии в злоупотреблении властью. Казалось, что краеведение, тесно связанное с различными формами региональной активности и относительно инклюзивное по самой своей природе, демократичнее, чем многие более старые и устоявшиеся области знаний. Когда в середине 1990-х годов конфликт между российским центральным правительством и локальными интересами усилился и стал ключевым политическим вопросом, краеведение возобновило свою традиционную функцию форума для выражения местных идей. Даже несмотря на то, что оно расширилось и пустило новые институциональные корни, оно оставалось жизнеспособным средством выражения мнений меньшинств по важным вопросам и, следовательно, потенциально, организационным центром для новых политических партий и групп7.
Я подробнее рассматриваю роль краеведения в постсоветской России в заключении к этой книге. Более ранние главы монографии посвящены проблеме, которую я считаю более важной: вопросу о его происхождении. Нельзя полностью понять нынешнюю форму российского краеведения, не проследив историю этой дисциплины. Для формулирования проблемы в понимании Фуко сначала нужно показать, как эта конкретная дискурсивная формация возникла из сети отношений между централизованным государственным управлением и различными региональными интересами, между публичной и частной сферами, между художественной и литературной критикой, работниками образования, научным сообществом и центральными органами планирования, между сторонниками старых и новых эстетических стандартов и систем ценностей [Foucault 1972: 40–44].
Рассказ о происхождении современного краеведения, который излагается здесь, будет сосредоточен почти исключительно на одном российском городе – Санкт-Петербурге. В этом смысле моя работа напоминает исследования немецкой идеи «хаймата» Селии Эпплгейт в Пфальце и Алона Конфино в Вюртемберге: я смотрю на то, как явление, существовавшее во всей стране, проявилось в одном населенном пункте [Applegate 1990; Confino 1997]. Однако стоит отметить, что, выбрав бывшую столицу императорской России, я решила описать региональную школу краеведения, которая является авторитетной, но не типичной, скорее авангардом, чем нормой8. Ни один другой российский город или регион не может претендовать на столь же развитый культ местности, как Санкт-Петербург. Основанный Петром Великим в 1703 году в рамках амбициозной кампании по модернизации и вестернизации, Санкт-Петербург с самого начала представлял собой символическое пространство. Это было окно России в Европу, месторасположение крупнейшего порта страны, самых роскошных дворцов и величайших культурных учреждений. Это была сознательно глядевшая на Запад столица полуазиатской империи. На протяжении большей части последних трех столетий русские литераторы и общественные обозреватели использовали описания Санкт-Петербурга как средство выражения взглядов на историю и судьбу своей страны. Город интересовал как славянофилов, так и западников 1840-х годов, большинство великих полемистов 1860-х годов и многих интеллектуалов начала XX века. В зависимости от точки зрения, Петербург может представлять собой символ необходимого и совершенно естественного прогресса или «искусственный» город, возведенный вопреки присущему России характеру; столицу бывшей империи или колыбель революции. Говоря о Санкт-Петербурге, нельзя обойти вниманием ключевые проблемы, связанные с российской идентичностью. Совместимы ли русскость и европейскость вообще? Должна ли Россия стремиться подражать Западу? Отстала ли она от Англии, Германии и Франции? Если да, то как она может их догнать? Могла ли Россия внести какой-то особый вклад в мировое развитие? В чем заключаются основные черты русского народа? Были ли эти черты вообще заметны в Санкт-Петербурге?
История Санкт-Петербурга и его символическая роль в русской культуре сделали его естественным местом для возникновения сильной школы краеведения. В начале ХХ века возник целый ряд общественных объединений и культурных учреждений, имевших целью изучить северную столицу России и/или сохранить наиболее ценные исторические и архитектурные памятники города. Будучи глубоко инновационными во многих отношениях, они разработали новые методы исследования и описания местных ландшафтов, концепции, программы организации исследовательской деятельности и академические стандарты, придумали терминологию и установили далеко идущие научные цели. Краеведы со всей России сегодня признают эти структуры важнейшими источниками, из которых развилась их дисциплина. Благодаря как историческому вкладу этих учреждений начала XX века, так и динамичности познавательных инициатив в современном Санкт-Петербурге российские краеведы сегодня признают этот город «теоретическим центром» краеведения. В нем работает значительный контингент специалистов, которые идентифицируют себя как краеведы, и выпускается больше публикаций, классифицируемых как относящиеся к краеведению, чем в любом другом городе в России. Научные направления, возникшие в Петербурге, даже сейчас быстро распространяются по стране и оказывают большое влияние на работу научных коллективов в других областях.
Тем не менее мое решение написать о краеведении в контексте Санкт-Петербурга может, по крайней мере с определенной точки зрения, показаться неуместным. Несмотря на то что большинство современных ученых считают это трюизмом, обозначение Санкт-Петербурга как «теоретического центра» современного краеведения иногда выглядит парадоксально как для россиян, далеких от предмета, так и для зарубежных наблюдателей с некоторым знанием славянских языков. Этимология термина «краеведение» играет роль в появлении таких реакций. В русском языке слово «край» имеет несколько различных значений. Оно может относиться к некоему региону или административному округу, как я отмечала ранее, но оно также вызывает множество других, более прямых ассоциаций. Чаще всего этот термин обозначает самый дальний предел какого-либо предмета или вещества (край стола, край одежды) и, следовательно, при использовании в отношении территориальных единиц, как правило, предполагает расположение на периферии, на расстоянии от центра (край села, край света, окраина деревни). Таким образом, если разбить термин «краеведение» на составляющие, можно понимать его как изучение отдаленных районов, тех мест, которые находятся дальше всего от столицы. Это слово попахивает провинциализмом и, как следствие, когда используется в отношении научных проектов, сосредоточенных в резиденции бывшего императорского правительства, выглядит неподходящим для многих русскоговорящих. Хотя географически Санкт-Петербург и правда находится на окраине российской территории и весной 1918 года город перестал быть столицей страны, в сознании многих россиян он по-прежнему имеет огромное культурное значение и, следовательно, далеко не провинциален по характеру.
В этой книге я намерена исследовать те аспекты истории краеведения, которые способствовали, несмотря на кажущуюся этимологическую несообразность, появлению Санкт-Петербурга как теоретического центра и основного места происхождения данной дисциплины. Я подробно рассмотрю три культурных движения, которые в той или иной степени базировались в Санкт-Петербурге и способствовали формированию современного краеведения. Во второй и третьей главах будет обсуждаться движение за сохранение культурных памятников, возникшее в самом начале XX века и первоначально связанное с художественным объединением «Мир искусства». В четвертой и пятой главах я сосредоточусь на педагогическом экскурсионном движении, делая акцент на работе петербургского теоретика экскурсий И. М. Гревса и его ученика Н. П. Анциферова. В шестой главе будет рассмотрена сеть краеведческих организаций, которая была связана с Центральным бюро краеведения (ЦБК) Академии наук в 1920-х годах. В седьмой главе я попытаюсь показать, как значение термина «краеведение» менялось и расширялось с течением времени, исследуя одну сферу деятельности – литературное краеведение. В случае каждого из трех движений, которые обсуждаются в этой книге, я представлю довольно подробные отчеты об истории определенных культурных учреждений и прокомментирую жизнь и работу отдельных ученых. Эта информация представляет собой важную часть предыстории и мифологии современного краеведения и имеет большое значение для понимания нынешней самооценки данной дисциплины. Как я уже заметила, современные российские краеведы склонны определять себя через сравнение с людьми и учреждениями начала XX века: как последователи Бенуа, Гревса и Анциферова, наследники традиций Общества изучения и сохранения Старого Петербурга, Петроградского экскурсионного института и Центрального бюро краеведения. Чрезвычайно саморефлексивное как дисциплина, краеведение сегодня занимается изучением своего возникновения и эволюции. Практически каждый сборник научных эссе по краеведению содержит значительный раздел, посвященный карьере и судьбе представителей предыдущих поколений региональных исследователей, на конференциях часто делаются доклады на аналогичные темы. Петербургские защитники памятников культуры, экскурсоводы и ученые, связанные с Центральным бюро краеведения, занимают видное место в рассказах о прошлом краеведения.
Помимо интереса к научным исследованиям отдельных географических районов и опыта гонений, что общего имели движение за сохранение культурных памятников начала XX века, движение педагогических экскурсий и организованные краеведческие работы, поддерживаемые Академией наук в 1920-х годах? Что в конечном счете позволило им восприниматься, по крайней мере постфактум, как часть единой дисциплинарной традиции, как краеугольные камни современного краеведения? У каждого движения были свои задачи и предубеждения, уникальный подход к изучению географического пространства и особая идентичность. Защитники культурных памятников и экскурсоводы начала XX века, как правило, не считали себя краеведами: до 1930-х годов многие россияне понимали термин «краеведение» довольно узко – как относящийся исключительно к виду местных исследований, продвигаемых Центральным бюро краеведения. Я утверждаю, что одной из основных нитей, которая помогла соединить изучаемые мною движения вместе, в конечном счете позволив отнести их к одной дисциплинарной категории, была литература. Защитники культурных памятников, экскурсоводы и исследователи, связанные с организациями Центрального бюро краеведения, – все разделяли интерес к типу описательных текстов, обычно известных как путеводители9. Ученые, связанные с этими движениями, читали данные тексты, извлекали из них фактическую информацию, собирали их, писали о них и способствовали их распространению. Подражая людям, которых они почитают как родоначальников, современные краеведы продолжили эту традицию. Они считают старые путеводители столь важными текстами, что за последние пятнадцать лет предприняли шаги по переизданию многих классических произведений. Более того, они усердно работают над тем, чтобы способствовать дальнейшему развитию этой литературной формы сегодня, каждый год составляя множество новых путеводителей. Хотя краеведы, как и другие ученые, пишут и традиционные исследования в виде академических монографий и статей, большая часть их наиболее важных и характерных работ выходит в печать в форме путеводителя.
Что же представляет собой этот жанр, который так тесно связан с краеведением сегодня? Разбитое на составные части, слово «путеводитель» буквально означает «инструмент, который ведет или направляет вас по пути или маршруту» и, следовательно, с точки зрения этимологии, как я уже заметила, эквивалентно англоязычным терминам «guidebook» и «guide» в смысле письменного документа. Однако, когда это слово используется у современных российских читателей, библиографов и издателей, оно часто имеет несколько более широкое значение, чем можно было бы предположить, судя по наиболее распространенным переводам на английский язык. Применительно к описаниям географических районов оно может относиться не только к стандартным обзорам достопримечательностей и мест отдыха туристов или деловых путешественников, но и к другим, более сложным текстовым формам: каталогам с подробными описаниями чудес, содержащихся в том или ином русском дворце или городе, многотомным сборникам исторических анекдотов, статистических данных и фактов о той или иной области, популярным обзорам истории архитектуры, книгам, в которых представлены маршруты и образцы групповых экскурсий10. Публикации, которые в своих названиях содержат слова «описание» (в данном случае географического района), «экскурсия», «прогулка», а иногда даже «очерк» – каждое из которых может обозначать отдельный жанр, – сегодня часто называют путеводителями, при условии что они описывают географическую область и ее основные достопримечательности или образ жизни ее жителей. В случае по крайней мере географических описаний и руководств по экскурсиям, эта тенденция настолько распространена, что было бы справедливо сказать, что и то и другое, как правило, рассматривается российскими читателями как подкатегории в более широкой категории путеводителей. Географическое описание вполне может быть определено как путеводитель, который в некоторых отношениях напоминает опись или каталог; руководство по экскурсиям как путеводитель, который предоставляет тем, кто планирует провести экскурсию по определенному месту, необходимую справочную информацию и образцовый маршрут.
Некоторые из книг, которые современные россияне классифицируют как путеводители, очевидно, отвечают на потребности туристов, деловых путешественников или новых жителей города или поселения. Они предоставляют основную фактическую информацию о том или ином регионе, крае, его достопримечательностях и дают полезные советы для посетителей: заметки о том, где и как получить услуги, списки отелей, ресторанов и клубов, примеры маршрутов, приблизительные расходы. Однако значительная часть этих изданий больше ориентирована на интересы местных жителей, давно проживающих в регионе. Такие путеводители предполагают высокий уровень знакомства с данной областью и содержат мало практической информации. Более того, хотя они могут содержать основные исторические факты (даты постройки зданий, имена и происхождение ведущих архитекторов, значение различных памятников), они зачастую не организованы так, чтобы читатели могли быстро найти ответы на конкретные вопросы. Во многих работах, называемых сегодня путеводителями, идея о том, что непосредственно сама книга представляет собой полезный портативный инструмент, своего рода словесный компас, который может вести читателя через физическое пространство, оказывается справедлива только на уровне метафоры. Авторы, как я объясню более подробно в следующей главе, неизменно подразумевают, что пейзаж, который они исследуют, заслуживает нашего внимания, они часто прилагают немалые усилия, чтобы указать на его самые яркие и интересные особенности. Они могут расположить часть своего материала географически или использовать инклюзивные формы речи, помещая рассказчика и читателя в череду различных мест для создания иллюзии, что, читая, мы также продвигаемся в физическом пространстве. Однако путеводители часто оказываются слишком тяжелы для прогулок и не подходят на роль карманных справочников.
Как и некоторые формы биографии на Западе, путеводитель в России сегодня привлекает широкую читательскую аудиторию с разнообразными интересами и требованиями, хотя, как я уже заметила, авторы могут создавать и создают тексты с учетом конкретной аудитории. Одна хорошо написанная книга может привлечь различные категории читателей: посетителей описываемой местности; новых жителей, желающих узнать о городе или регионе, в который они только что переехали; старожилов, интересующихся историей, географией или культурой; восторженных «путешественников в креслах»; а также специалистов по краеведению. В результате такие книги часто хорошо продаются. Произведения, описывающие две современные столицы России, Москву и Санкт-Петербург, пользуются особой популярностью по вполне очевидным причинам: в обоих городах большое население, сильные традиции местного патриотизма и развитая мифология, каждый из них сыграл исключительно важную роль в российской истории, послужил местом действия для важных произведений русской литературы и представляет собой средоточие желаний и чаяний большей части населения России. Как американцы мечтают о жизни в Нью-Йорке и Голливуде, русские фантазируют о Москве и Санкт-Петербурге. Путеводители по небольшим региональным центрам и провинциальным районам, хотя и могут продаваться достаточно хорошо, чтобы оправдать публикацию, неизбежно привлекают меньшую аудиторию: за редкими исключениями, они в первую очередь привлекают жителей (или бывших жителей) и гостей данного населенного пункта.
Вопросы идентичности играют в путеводителе важную роль. В этих работах авторы не просто описывают города, регионы и страны; они также в целом стремятся охарактеризовать их жителей. Работая с точки зрения как инсайдера, так и аутсайдера, в зависимости от своих личных предпочтений и целевой аудитории, авторы рассматривают, что значит быть петербуржцем, москвичом, сибиряком или жителем какого-либо другого региона. Они пытаются определить черты личности, модели поведения и отношения, в целом представляющие собой проявления русского мировоззрения. В этом смысле путеводитель хорошо сочетается как с современным краеведением, так и со многими из его наиболее очевидных предшественников. Как жанр путеводитель подспудно стремится определить личность (и в некоторых случаях ее визави – другого) географически. Защитники памятников культуры начала XX века, экскурсоводы и исследователи, связанные с Центральным бюро краеведения, несомненно, были заинтересованы в путеводителе отчасти потому, что естественные тенденции этой формы отражали их собственные склонности. Эти географические описания предоставили родоначальникам современного краеведения возможность изучить два вопроса, которые их особенно занимали: пространство и идентичность. Относящиеся к научно-популярной литературе, эти книги могли использоваться для общения как с другими специалистами, так и с общественностью в целом, что соответствовало активистскому духу всех трех движений.
Поскольку путеводитель сыграл такую важную роль в формировании современного краеведения и поскольку я рассматриваю эту текстовую форму как ключевой элемент, помогающий собрать воедино дисциплину, о которой я пишу, я посвящу значительное место в этом томе обсуждению таких текстов. Я объясню, почему защитники памятников культуры начала XX века, экскурсоводы и ученые, связанные с Центральным бюро краеведения, рассматривали путеводитель как важный жанр, покажу, как они использовали старые географические описания в качестве источников, как вводили инновации и опирались на ранее существовавшие описательные традиции в создаваемых ими руководствах. В первой главе я предоставляю читателям некоторую базовую информацию о видах географических описаний, которые появились в России в XVIII и XIX веках, сфокусировав внимание, как и в основной части своей книги, на материалах, относящихся к Санкт-Петербургу и окрестностям.
Прежде чем приступить к этому обсуждению, стоит отметить, что, несмотря на сравнительную молодость, Санкт-Петербург обладает давней по российским меркам традицией путеводителей. Топографические описания города начали появляться в печати вскоре после его основания в 1703 году и быстро развивались, приобретя в течение одного столетия многие атрибуты современных путеводителей. К началу XIX века в Санкт-Петербурге сложилась самая развитая описательная традиция во всей России. Книги, посвященные столице, повлияли на книги о других российских городах и регионах. Иными словами, как в составлении путеводителей, так и в краеведении в целом Санкт-Петербург представлял собой важный центр инноваций. Направления, возникавшие там, часто распространялись по стране, вызывая аналогичные течения в других городах несколько лет спустя. Поэтому, хотя в этой книге основное внимание уделено появлению и эволюции путеводителя в Петербурге, более общие замечания справедливы также в отношении изучения истории путеводителя как национальной литературной формы.
Глава 1
Традиция XVIII и XIX веков
Первое подробное топографическое описание Санкт-Петербурга появилось в печати через десять лет после основания города, в 1713 году. Оно было написано на немецком языке и опубликовано в Лейпциге11. Историки долго размышляли о происхождении и авторстве этого документа, выдвигая различные теории о том, кто его составил и как анонимный автор приехал в Санкт-Петербург. Некоторые исследователи предполагали, что он является переводом или переработкой русского текста, оригинал которого был утерян. Однако нам представляется более вероятным, что, как и большинство аналогичных книг начала XVIII века, он был написан иностранцем: либо путешественником, либо, как предположил Ю. Н. Беспятых, придворным немецкого происхождения, возможно, по заказу самого Петра I. Целью описания было создать у западноевропейского читателя хорошее впечатление о новой русской столице [Беспятых 1991: 10]. С точки зрения царя, Санкт-Петербург отражал в себе суть проводимых им реформ, материальное воплощение огромного богатства и военной мощи империи, которой он правил. Продуманный архитектурный облик города соотносил Россию с Европой, давая понять, что Россия намерена играть все более значительную роль в этой части света. Распространение свидетельств о быстром развитии города было политическим императивом; описания Санкт-Петербурга служили для освещения новых амбиций России, а поскольку в них в подробностях говорилось о росте оборонительных укреплений, также имеет смысл предположить, что они должны были сдерживать вторжения из-за рубежа [Столпянский 1995: 116–117]. Возможно, по этой причине и Петр I, и его ближайшие преемники поощряли интерес Запада к этому региону и, желая добиться того, чтобы большинство отзывов о городе были положительными, иногда даже поручали служителям двора их писать12.
В первые десятилетия XVIII века светская письменная культура оставалась в России сравнительно малоразвитой. Типографии и газеты, не принадлежавшие церкви, только начали появляться, было мало опытных русских писателей и, особенно за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, мало читателей; литературный русский язык оставался в значительной степени неоформленным. Учитывая эти факты, неудивительно, что большинство топографических описаний Санкт-Петербурга, относившихся к этому периоду, были написаны иностранцами, состоявшими на службе у российской короны, или европейскими гостями и предназначались для аудитории за рубежом. Шведские военнопленные, оказавшиеся в России во время долгой Северной войны (1700–1721), польские дипломаты, английские гувернантки, шотландские врачи и армейские офицеры писали подробные отчеты о времени, проведенном в новой северной столице России. Во многих случаях им удавалось опубликовать свои работы в Западной Европе, и их впечатления от города привлекали внимание читателей13. В этот период русскими авторами было создано лишь небольшое количество географических описаний Санкт-Петербурга. Эти труды были относительно кратки, и, поскольку они либо томились в архивах в течение многих лет, либо появлялись в малоизвестных публикациях, они имели лишь ограниченное хождение. Самая ранняя и, вероятно, самая важная русская работа в этом отношении весьма типична. Она была написана анонимным автором около 1725 года, состоит из пяти страниц и содержит краткий отчет о том, как был основан Санкт-Петербург. В ней также перечислено несколько важных событий, включая наводнения, которые произошли в течение первых двух десятилетий истории города. Впервые этот текст появился в печати в журнале «Русский архив» в 1863 году14.
Большинство других топографических описаний Санкт-Петербурга, составленных русскими авторами начала XVIII века, представляют собой фрагменты более крупных текстов. Феофан Прокопович, например, в своей «Истории императора Петра Великого» несколько страниц посвящает основанию Петербурга15. Аналогичным образом поэт Антиох Кантемир кратко описывает новую столицу в большом произведении, которое он опубликовал во Франкфурте и Лейпциге на немецком языке в 1738 году [Moscowitische Brieffe 1738]16. В то время Кантемир служил дипломатом в Западной Европе. Он узнал, что недавно в нескольких европейских столицах появилось издание под названием «Московитские письма», в котором Россия была представлена в крайне негативном свете. Обеспокоенный тем, что книга может нанести ущерб имиджу России за рубежом, Кантемир после обмена перепиской с императрицей Анной Иоанновной решил опубликовать серьезное опровержение, предназначенное для западных читателей. Хотя в оригинальном оскорбительном тексте Санкт-Петербург почти не упоминался, Кантемир включил его краткое описание в свой трактат, явно предполагая, что портрет города, который многие его посетители называли «восьмым чудом света», окажется полезен в пропагандистской войне.
Какими бы интересными они ни казались историкам сегодня, подобные описания Санкт-Петербурга не особо повлияли на более поздние работы о столице. Они были слишком фрагментарны и, по большому счету, недоступны, – они публиковались на немецком языке или вообще не публиковались, – чтобы служить эффективными моделями для русских писателей. Эти краткие отчеты, однако, предвосхищают более поздние русские топографические описания Санкт-Петербурга в двух важных аспектах. Во-первых, все они полны преувеличенного восхищения и изображают новую столицу как чудесное творение могущественного царя. Вплоть до XIX века воспевание Петра I и его преемников было одной из главных целей большинства географических описаний столицы17. Для любого, кто принимал официальную идеологию, Петербург представлял собой одно из самых великолепных достижений династии Романовых. Восхваление его, как и восхваление величия царской персоны, – это стандартный способ выразить лояльность режиму.
Во-вторых, хотя в этих ранних описаниях Санкт-Петербург часто сравнивается с западными или античными городами и, возможно, в них отмечается вклад иностранных архитекторов в строительство новой столицы, эти труды, как правило, изображают создание города как важнейший этап в исполнении божественно предопределенной исторической судьбы России, о которой так много говорилось. Подробно описывая провидческие знамения, происходившие при строительстве столицы, и во многих случаях обобщая старые пророчества, относившиеся, по-видимому, к событиям начала XVIII века, первые летописцы Петербурга предсказывают будущее влияние и славу столицы [Беспятых 1991: 261]. Подобно тому как Москва после падения Византии в XV веке постулировалась в официальных российских заявлениях как Третий Рим – новый и самый ярый защитник христианства, Петербург, таким образом, в топографических описаниях начала XVIII века предстает как новый центр, благодаря которому Россия, несомненно, внесет свой вклад в мировую цивилизацию. В этих текстах едва ли можно увидеть намеки на тенденцию рассматривать европейское и русское мировоззрение как взаимоисключающие противоположности, которая обретет популярность в высокой русской культуре в результате дебатов славянофилов и западников 1830-х годов. В них европейский облик Санкт-Петербурга не вызывает нареканий, и он никоим образом не подрывает способность города служить центром русского мессианизма. Как отмечает Кристофер Эли в своем исследовании эволюции русской пейзажной живописи, концепции национальной идентичности оставались в России относительно расплывчатыми на протяжении всего XVIII века. Дискурс, уделяющий первостепенное внимание международному значению государства, а не «природным» характеристикам его территории или народа, и, как следствие, убеждение в том, что европеизация представляет собой естественный процесс, реализацию судьбы России, а не отклонение от нее, оставались преобладающими – по крайней мере в письменных документах, подготовленных немногочисленной образованной российской элитой [Ely 2002: 36–37]18.
Первое объемное топографическое описание Санкт-Петербурга русского автора выполнено в русле обеих этих традиций. Оно было составлено между 1749 и 1751 годами А. И. Богдановым, помощником библиотекаря Академии наук. Очевидно, Богданова попросили подготовить краткую легенду к новой карте столицы, которую должны были официально представить императрице Елизавете [Петров 1884: 6]. Однако, как только он начал собирать данные для этого проекта, Богданов, похоже, увлекся. Текст, поданный в Академию наук в июне 1752 года, был объемом в 341 лист, с отдельной картой, указателем, портретами Петра I и Елизаветы и большим количеством рисунков старого города [Слуховский 1973: 208]. Несмотря на то что Богданов явно отклонился от данного ему задания, он, по-видимому, продолжал надеяться, что его работа будет показана императрице. Он начал свой труд пространным посвящением ей, сравнивая ее нынешние строительные кампании с огромными проектами, осуществленными при ее отце:
Известно есть, Всемилостивейшая Государыня, сколь пространен и великолепен был с начала своего построения Царствующий Град сей, Санктпетербург, который Приснопамятныя и Вечнодостойныя Славы Родитель Вашего Императорского Величества, Государь Император Петр Великий, между тяжчайшими неусыпными своими военными трудами в славу имени своего возградить соизволил. Но есть ли прежнее его состояние сравнить с нынешним, то такая в том будет разность, какова бывает между первым его основанием и совершенством. Ибо усердным Вашего Императорскаго Величества тщанием ныне столь Град сей раз-пространен и новыми преславными зданиями украшен и возвеличен, так что пред многими славнейшими европейскими городами, которые древностию своею славятся, имеет в том преимущество к неописанной славе самаго Основателя, а особливо Вашего Императорскаго Величества [Богданов 1997: 99].
На протяжении большей части своего описания Богданов сохраняет этот панегирический тон. Он сравнивает восшествие Петра I на российский престол с внезапным появлением солнца на небе, которое ранее было затянуто тучами. Он неоднократно напоминает своему читателю, что основание Санкт-Петербурга было результатом как неустанных усилий Петра, так и воли Божьей. Нам говорят, что Петр был мудр, как Соломон, так же сведущ в военных делах, как Кир Великий, и построил столько же прекрасных зданий, сколько французский король Людовик XIV. Его прямо называют «вторым Константином», основавшим для себя Царствующий Град, в котором он «так любимо, так весело, так ненасладимо царствовал, что несравненно сказать, якобы в Небесном Сионе царствовал». Его преемники, особенно дочь Елизавета, достойны похвалы за то, что продолжают проводить его политику и с каждым днем делают Санкт-Петербург все более славным. Сам город, хотя и был создан совсем недавно, уже превосходит величественные города Европы по многим показателям и прибавляет в красоте и международном значении с каждым годом [Богданов 1997: 106, 123, 138, 340, 370–371].
Несмотря на все эти прекрасные чувства, рукопись Богданова – возможно, из-за ее объема – не была опубликована в качестве дополнения к официальной карте, для которой она была заказана. Ее место занял текст меньшего размера, написанный анонимным автором, и Богданов в конечном итоге сдал свою рукопись в библиотеку Академии наук. Она оставалась там в течение нескольких десятилетий, периодически привлекая внимание посетителей. Было сделано несколько копий, и одна из них, по-видимому, попалась на глаза поэту В. Г. Рубану. В 1776 году он напечатал заметку в ежемесячном журнале «Собрание разных сочинений и новостей» и заявил, что в ближайшем будущем намерен опубликовать описание города Санкт-Петербурга Андрея Богданова [Слуховский 1973: 208]. Три года спустя Рубан выполнил обещание, данное им общественности. Он издал рукопись Богданова 1749–1751 годов, но с рядом существенных изменений [Богданов 1779]19. Он добавил туда новые данные, а также внес ряд «исправлений» в первоначальный текст, изменив даты и факты, которые, по его мнению, были неточными. В целом современные историки относятся к этим изменениям критически [Кобленц 1958: 58–60]. Однако они признают, что издание рукописи Богданова Рубаном, независимо от того, насколько она была искажена, сыграло огромную роль в повышении интереса российской читающей публики к истории Санкт-Петербурга. Это побудило многих других потенциальных издателей искать похожие тексты – необработанные рассказы очевидцев о недавнем прошлом России, которые можно было бы или напечатать как есть, или использовать в качестве материала для более современных описаний города.
Данная публикация принесла Богданову некоторую долю посмертной славы. Низкооплачиваемый и мало ценимый на протяжении десятилетий работы в Академии наук, Богданов был быстро забыт после своей смерти в 1766 году. Почти никто не помнил, что когда-то он играл важнейшую роль в руководстве повседневной деятельностью библиотеки Академии наук, помог реформировать школу изучения японского языка и участвовал в различных научных публикациях.
Издание Рубаном давно забытой рукописи Богданова превратило автора в первого великого летописца Санкт-Петербурга и вызвало интерес к его жизни и творчеству. В начале XIX века исследователи обнаружили второй текст Богданова о Санкт-Петербурге. После передачи своей первой рукописи в Академию наук в 1751 году он, по-видимому, продолжал собирать информацию о городе и составил приложение к своей первоначальной работе, охватывавшее период с 1751 по 1762 год. Отрывок из этого текста появился в журнале «Сын Отечества» в 1839 году20. Вся рукопись была наконец опубликована к двухсотлетию Санкт-Петербурга в 1903 году [Титов 1903].
Помимо работы Богданова, важнейшим топографическим описанием Санкт-Петербурга XVIII века объемом в целую книгу, опубликованным на русском языке, несомненно, является сочинение Иоганна Готлиба Георги «Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного, с планом». Родившийся в Померании и получивший образование в Швеции, Георги был приглашен в Россию в 1770-х годах для участия в научной экспедиции в Сибирь, которую возглавлял немецкий натуралист Петер Симон Паллас. В итоге после возвращения из экспедиции он остался в Санкт-Петербурге. Он получил должность заведующего химической лабораторией в Академии наук и занимался медицинской практикой. Очарованный своим новым домом, Георги также вскоре начал собирать информацию о Санкт-Петербурге и в 1791 году опубликовал в одном из петербургских издательств объемное топографическое описание города на немецком языке. В 1793 году в Риге появилось второе издание этой книги на немецком языке, а в Санкт-Петербурге был выпущен французский перевод. В следующем году книга была переведена на русский язык и издана в значительно измененном виде. Для русскоязычного издания Георги внес коррективы в свой первоначальный текст, как он объясняет в предисловии – потому что понял, что внезапно у него появилась новая целевая аудитория. Его первое издание было ориентировано в первую очередь на аудиторию, состоящую из иностранцев, живущих как в России, так и в других государствах. Изданием же 1794 года было нацелено, напротив, удовлетворить скорее российскую общественность [Георги 1996: 24]. Следовательно, он опустил много информации о местных традициях и условиях жизни, которые коренные жители не сочли бы интересными или полезными. Он также воспользовался возможностью исправить обнаруженные в предыдущих изданиях своей работы ошибки и значительно обновить ее.
Хотя описание Георги было создано иностранцем и первоначально опубликовано на немецком языке, оно заслуживает упоминания, потому что оно повлияло на многие позднейшие русские работы о столице. По сей день его труд остается важным энциклопедическим путеводителем по Петербургу XVIII века. Помимо описания каждого из пяти основных районов города (Петербургская сторона, Васильевский остров, Адмиралтейская сторона, Выборгская сторона и Литейная часть), он также включает в себя целый ряд других полезных данных: рассказ об Эрмитаже и список содержащихся в нем сокровищ, информацию о школах, больницах, церквях и благотворительных учреждениях, списки правительственных ведомств и лиц, занимающих видные посты при дворе, отчеты о государственных и народных праздниках. Богданов также привел в своем труде много фактического материала такого рода, но портрет города, представленный Георги, был бесконечно более полным. В отличие от Богданова, которому, как истинному первопроходцу, в значительной степени приходилось продвигаться вперед самостоятельно, собирая информацию доступными способами, у Георги были четкие модели для работы. Во введении он упоминает, что создал свою книгу по образцу немецкого путеводителя по Берлину, а также что в качестве источников использовал как работу Богданова, так и различные путевые заметки иностранцев. Кроме того, он благодарит множество высокопоставленных чиновников за помощь в получении доступа к архивам и за то, что они позволили ему посетить учреждения, обычно недоступные для публики. Самой императрице Екатерине II выражается особая благодарность за то, что она позволила ему осмотреть Эрмитаж и написать о нем [Георги 1996: 20–21, 22].
Предисловие к русскому изданию работы Георги настолько наполнено благодарностями, что создается впечатление, будто подготовка этой исправленной версии представляла собой нечто вроде государственного задания. «Императорская столица Санкт-Петербург, – объявляет Георги в начале своего вступления, – удостаивается по ее величине, великолепию и по великому числу достопамятностей, по крайней мере, не менее другого какого главного города Европы, точного, на все предметы распространяющегося и здешних жителей и чужестранных удовлетворяющего описания». Несмотря на все трудности, связанные с составлением такого труда, Георги добавляет: «Ведая пользу топографического описания Санкт-Петербурга» (курсив мой), он охотно вложил значительное количество времени и усилий в первоначальное издание своей книги на немецком языке. По аналогичным причинам, когда в 1793 году некие «любители словесности» попросили его составить русскоязычную версию своей книги, он немедленно согласился и начал собирать дополнительную информацию о городе [Георги 1996: 19].
Почему Георги и его неназванные поклонники считали создание адекватного описания Санкт-Петербурга для российских читателей такой важной задачей? Текст книги Георги не дает прямого ответа на этот вопрос. Однако, судя по количеству фактической информации об учреждениях и нормативных актах, включенной в книгу, представляется вероятным, что, по крайней мере, частично, они рассматривали этот том в качестве полезного справочного инструмента, ресурса, к которому смогут обратиться как жители, так и гости из провинции в поисках ответов на те или иные практические вопросы. Однако описание Георги также выполняло множество других функций. Как и более ранняя работа Богданова, оно отчасти служило отчетом о достижениях Романовых. Хотя Георги несколько менее витиевато, чем его предшественник, восхваляет правящую династию, он постоянно отмечает роль, которую различные правители, особенно Петр I и Екатерина II, сыграли в росте города. Каждый раз, когда он упоминает какое-то благотворительное учреждение или усовершенствование в местных услугах, он тщательно отмечает участие ее величества в проекте и подробно описывает все случаи ее вмешательства. Кроме того, как и Богданов, Георги прилагает всяческие усилия, чтобы подчеркнуть огромные изменения, постоянно происходящие в ландшафте столицы. В какой-то момент, порекомендовав читателям взглянуть на город с нескольких разных возвышенностей, чтобы лучше понять его разнообразный и постоянно меняющийся облик, Георги заключает: «Сравнивая же нынешнее состояние столицы с прежнею негостеприимною ее дикостью, взирая на немноголетнее ее существование и уважая, что украшению и возращению [к великолепию] города способствовали два только Государя, дух восхищается великим восторгом» [Георги 1996: 53]. Важной миссией этих топографических описаний XVIII века было, по-видимому, напомнить читателям о почти волшебных изменениях, произошедших в городе в течение одного столетия. Стремительное развитие Петербурга, все новые архитектурные чудеса, парки и культурные учреждения предстают в этих текстах как доказательство растущего богатства, могущества и значения Российской империи в мире. Помощь, которую Георги, по-видимому, получил от царского режима при подготовке русскоязычного издания своего труда, указывает на то, что внедрение этой идеи в отечественную аудиторию часто представляло собой не меньший приоритет для российских правителей, чем ее распространение за рубежом.
По ряду важных аспектов описание Санкт-Петербурга, составленное Георги в 1794 году, намного больше напоминает современный российский путеводитель, чем более ранние работы Богданова. В отличие от Богданова, который последовательно структурировал свой текст тематически, посвящая отдельные главы таким темам, как острова, реки, дворцы и торговые ряды, Георги организовал некоторые разделы своей книги географически. Такой подход является нормой в современных работах и часто помогает, даже в случае громоздких томов, поддерживать иллюзию того, что путеводитель можно использовать в качестве практического пособия для прогулок. Хотя это описание довольно объемно и слишком энциклопедично, чтобы сделать его удобным карманным справочником, Георги явно надеется, что его книга вдохновит читателей выйти из дому и исследовать город. Он часто указывает на «главнейшие из достойных примечания предметов» и «великолепнейшие зрелища» таким тоном, который, кажется, имеет целью пробудить интерес к посещению памятных мест [Георги 1996: 80–81, 91, 109, 119, 121, 125]. Как уже было отмечено, в одном месте своего описания он особо рекомендует читателям осматривать город сверху, например, с Адмиралтейства. В XIX веке списки достопримечательностей, которые следует посетить читателям, подробные заметки о маршрутах, которые можно использовать в качестве основы для пеших или каретных экскурсий, длинные описания панорамы города с высоты птичьего полета – все это стало стандартными характеристиками российских путеводителей.
Заслуживает ли работа Георги того, чтобы ее классифицировали как путеводитель? Ответ, конечно, зависит от понимания данного термина. Сам Георги использует это слово в своем описании 1794 года только один раз. В предисловии к своей книге он выражает надежду на то, что она будет «заменять путеводитель при собственном осматривании и наблюдении достопамятностей, отменностей и пр.» [Георги 1996: 53]. Как отметила российская исследовательница О. С. Острой, это утверждение предполагает, что, Георги хотя и считал написанную им работу способной выполнять некоторые функции путеводителя, все же она не вполне соответствует его представлениям о стандартах этого жанра [Острой 1997: 485]. По всей вероятности, Георги понимал путеводитель как простую, утилитарную литературную форму, единственная цель которой – помочь путешественникам сориентироваться в незнакомом городе. Такой взгляд, вероятно, был типичен для того времени. Термин «путеводитель», впервые появившийся в названии русского географического описания в 1792 году [Путеводитель 1792], до второй половины XIX века чаще всего применялся к довольно кратким утилитарным текстам21. Говоря о длинных и амбициозных работах по географии, таких как книга Георги, русские писатели и издатели, как правило, употребляли термин «описание», воспринимая его как более общий по смыслу. Разница в использовании, однако, была очень незначительной и не всегда соблюдалась. В начале XIX века даже появились книги со словом «путеводитель» в названиях, состоящие из четырех томов и содержащие намного более подробную историческую информацию, чем необходимо среднему туристу [Гурьянов 1827–1831]. Работы, обозначенные их авторами как описания, часто включали те же ссылки на прогулки и достопримечательности, которые были характерны для путеводителей.
Две книги о Санкт-Петербурге, написанные в первые десятилетия XIX века, помогают проиллюстрировать возможности и проблемы, связанные с выделением «путеводителя» и «описания» в отдельные жанры даже в этот ранний период. Это работа П. П. Свиньина 1816–1828 годов «Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей», состоящая из пяти частей и названная ее создателем «описанием», и путеводитель Ф. А. Шредера по Санкт-Петербургу 1820 года, первое описание северной столицы России, в названии которого содержится слово «путеводитель» («Новейший путеводитель по Санкт-Петербургу»). На первый взгляд кажется, что книги очень разные. На базовом физическом уровне заметно различие между терминами «описание» и «путеводитель», как это, видимо, воспринимали многие русскоязычные люди в конце XVIII и начале XIX века. Сохранившиеся экземпляры «описания» Свиньина переплетены в четыре или пять богато иллюстрированных томов, каждый из которых имеет высоту более 25 см и слишком тяжел, чтобы носить его на прогулках. Однотомный путеводитель Шредера – довольно небольшой и легкий22. Помимо одной вставленной карты, он не содержит иллюстраций и, следовательно, мог относительно дешево продаваться массовой аудитории. По сравнению с работой Свиньина путеводитель Шредера кажется кратким и прагматичным: описания отдельных достопримечательностей и рассказы о достижениях членов царствующей фамилии, как правило, короткие. Также в нем приводится более практическая информация, в том числе советы о том, как записать ребенка в военную академию, найти гостиницу, сообщить о нечестном извозчике и оформить паспорт.
Однако, если отвлечься от этих очевидных различий, обе книги во многих отношениях довольно похожи. И Свиньин, и Шредер стремятся охватить довольно широкую аудиторию, в том числе, в некоторой степени, давних жителей Санкт-Петербурга, а также отечественных и зарубежных гостей столицы [Свиньин 1816–1828, 1: 4; Шредер 1820: III–IV]23. Оба предлагают читателям места для посещения, указывают, с каких верхних точек открываются лучшие панорамные виды на город, и набрасывают, хотя бы фрагментарно, маршруты для экскурсий по достопримечательностям [Свиньин 1816–1828, 1: 72; 3: 44; Шредер 1820: 5, 49, 54, 146]. Несмотря на кажущийся непомерным объем его описания, Свиньин, как и Шредер, иногда даже предполагает, что читатели могли бы в некоторых случаях брать с собой отдельные тома на прогулки, полагаясь на них как на своего рода путеводителя [Свиньин 1816–1828, 4: 22].
Со временем сходство между описаниями и путеводителями, без сомнения, стало казаться более важным, чем их различия. Сегодня писатели, издатели и в некоторых случаях ученые нередко объединяют книги, которые я обсуждала, – Георги, Свиньина, Шредера и даже Богданова, – называя их общим термином «путеводитель», потому что рассматривают их как выполняющие одни и те же функции и как часть единой литературной традиции. Все эти книги являются важными предшественниками современных российских путеводителей, все они оказали значительное влияние на более поздние письменные изображения Санкт-Петербурга. В данной монографии употребляется более широкое современное значение термина «путеводитель», предполагая, что оно охватывает как обсуждавшиеся здесь объемные описательные книги конца XVIII и начала XIX веков, так и выходившие позже работы. Я классифицирую как путеводители все преимущественно нехудожественные описательные тексты, которые помогают (или имеют целью помочь) читателю ориентироваться в физическом пространстве, где перечисляются заслуживающие внимания достопримечательности и набрасываются маршруты для прогулок или экскурсий, хотя бы в зачаточной форме. Предполагается, что категория путеводителя включает в себя как краткие практические тексты, предназначенные для удовлетворения потребностей путешественников, так и более длинные, менее утилитарные произведения, которые могут понравиться людям, давно проживающим в описываемых районах. Иными словами, и такие руководства, которые можно смело отнести к категории путеводителей в самом строгом смысле слова, и такие, которые первоначально рассматривались их авторами как описания.
Топографические описания Свиньина и Шредера также заслуживают нашего внимания в контексте обзора развития путеводителя как жанра и изображений Санкт-Петербурга в частности. В соответствии с нормами, установленными их предшественниками XVIII века, оба автора занимают выраженную патриотическую позицию. Они постоянно превозносят достижения династии Романовых, отмечая прекрасные культурные и социальные институты империи, низкий уровень преступности, учтивую, эффективную государственную бюрократию и растущее влияние страны за рубежом [Свиньин 1816–1828, 3: 122–138; Шредер 1820: 10–11, 99, 115–116]. Более того, эти тексты также отражают новый вид этнического национализма, который, как отмечают многие ученые, начал набирать силу в русской культуре в начале XIX века под влиянием европейского романтизма и чувства культурного единства, возникшего в тот период, когда русские из всех социальных классов вместе сражались ради победы над Наполеоном [Jahn 2004: 58–62; Ely 2002: 37]. После войны 1812 года характеристики российской идентичности все чаще включали в себя, помимо утверждений о равенстве или даже превосходстве империи над великими державами Запада, также попытки выделить добродетели, черты характера и народные традиции, характерные для русского народа как этноса. В соответствии с этой тенденцией Шредер и, что более очевидно, Свиньин определяют некоторые положительные качества как типично русские. Свиньин, например, пишет, что, кроме России, «ни одна другая нация не имеет вообще столь счастливых дарований к искусствам и не одарена подобною понятливостью». По поводу пьянства он отмечает: «В самом хмелю русский не бурлит, не бранится, а обнимается, извиняется, уверяет в дружбе – это отличительное свойство нашего народа, как зверство – в обитателе южных стран, когда он бывает пьян» [Свиньин 1816–1828, 2: 96, 130]24. Хотя в целом он более сдержан в своей риторике, Шредер также иногда обращает внимание на положительные русские черты и традиции, отмечая, например, вежливость, услужливость и любовь к искусству, проявляемые всеми слоями общества в столице империи [Шредер 1820: 10–12, 87–88, 215]. Понимаемый как по сути своей русский город, несмотря на его европейский облик, Санкт-Петербург в этих текстах предстает и как центр имперской власти, и как место, из которого мессианская энергия России излучается в мир, место, где, несомненно, можно обнаружить добродетели, присущие русским как этнокультурной группе [Свиньин 1816–1828, 1: 2–4]. Имперская идентичность и первые попытки охарактеризовать русский народ как этнос сливаются здесь воедино, создавая достаточно размытое представление о русскости, чтобы охватить также и новую столицу Петра.
Читатели, несомненно, обнаружат параллели между описательными нормами, используемыми в упомянутых выше путеводителях, и представлениями о Санкт-Петербурге в классических литературных произведениях примерно того же периода, включая, в частности, те оды М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова и Г. Р. Державина, которые часто приводятся литературоведами как первые подлинные шедевры описания Санкт-Петербурга. Подобно Богданову, Георги, Свиньину и Шредеру, эти поэты представляли Петербург в восторженных выражениях и часто использовали описания столицы для выражения благодарности и верности правящей династии Романовых. Для них Санкт-Петербург представлял «всех городов царицу» [Державин 1988: 45]. Опираясь на представление о Москве как о Третьем Риме, они утверждали в своих сочинениях, что новая столица превзошла не только этот древний город, но и Афины, Венецию, Амстердам и Париж. В одной оде Ломоносов сравнивает Санкт-Петербург с небесами, отмечая, что город, кажется, излучает непрерывный поток света: вода в Неве, позолота и полированный мрамор дворцов – все сияет и сверкает [Ломоносов 1965: 133]. Это сравнение, в дополнение к намеку на представление о Санкт-Петербурге как о святом, небесном городе, Новом Иерусалиме, напоминает образы солнца, использовавшиеся в изображениях Людовика XIV во Франции XVII века. Нас заставляют поверить, что Петербург, подобно версальскому дворцу, представляет собой главную резиденцию верховного монарха, который благосклонно одаряет своих подданных светом, теплом и порядком25. Сравнения столицы Российской империи с зарубежными городами в стихах XVIII века неизменно позитивны по тону: авторы последовательно описывают Санкт-Петербург как равный или превосходящий потенциальных конкурентов. Как и в ранних топографических описаниях северного города, тот факт, что такие сравнения могут быть предложены, никоим образом не снижает способность столицы империи служить центром исторических устремлений России.
Поэтические гимны Санкт-Петербургу как средоточию императорской власти начали выходить из моды в конце XVIII века, когда торжественная ода – литературный жанр, наиболее характерный для составления политических панегириков – пришла в упадок. В 1810–1820-е годы изображения Санкт-Петербурга стали заметно разнообразнее. В быстро развивающихся формах, таких как лирическое стихотворение и эссе, некоторые авторы продолжали говорить, хотя и с несколько большей сдержанностью, о величественных видах города, царственных фасадах его дворцов, церквей и других общественных зданий, а также о роли прошлых и нынешних императоров в осуществлении нового строительства. Они восхищались недолгой историей Санкт-Петербурга, отмечая, что столица достигла своего нынешнего состояния за сто лет, не более [Батюшков 1984; Вяземский 1988]. Другие авторы, однако, начали изображать город, используя совершенно иные выражения. Молодые поэты-офицеры, вернувшиеся с наполеоновских войн, жаждущие политических реформ, поддержавшие неудавшееся восстание на Сенатской площади в декабре 1825 года или сочувствовавшие ему, часто упоминали в своих произведениях о сыром и нездоровом местном климате, зловещей темноте столицы во время долгих северных зим, о пошлом, невежественном и злонравном в своей праздности придворном обществе. Для них Петербург представлял собой главный бастион неуступчивого самодержавия, город, в котором наиболее остро ощущалась тирания, характеризовавшая всю русскую жизнь [Рылеев 1988; Бестужев-Марлинский 1988: 57; Пушкин 1950–1951, 1: 316]. Импортированные архитектурные стили и усовершенствования в городском планировании, по их мнению, не могли скрыть того факта, что с точки зрения основных политических свобод Россия была далеко позади своих западноевропейских конкурентов.
Тенденция негативного изображения Санкт-Петербурга, возникшая в начале XIX века, быстро развивалась и уже в 1830–1840-х годах могла обоснованно рассматриваться в качестве доминирующей в высокой литературе. За эти десятилетия русские писатели создали целую серию шедевров, в которых город по крайней мере временами казался мрачным, пугающим, а в некоторых случаях потенциально опасной, враждебной средой, в которой отдельные жители могли легко погибнуть. «Медный всадник» А. С. Пушкина (написан в 1833 году, опубликован в 1837 году) часто рассматривается как ключевой поворотный момент. Многие ученые отмечают, что, хотя во вступлении к этой поэме Пушкин описывает Санкт-Петербург в приподнятом тоне, который, кажется, намеренно напоминает великие панегирические оды XVIII века, он меняет тональность по ходу повествования и в конечном итоге представляет не столь позитивный взгляд на столицу. Говоря о катастрофическом наводнении 1824 года в мельчайших деталях, он отмечает мрак, окутавший город, и «разъяренные воды» реки Невы. В последней части поэмы герой Пушкина Евгений, обедневший бывший чиновник, потерявший рассудок после того, как его возлюбленная погибла в катастрофе, грозит кулаком статуе основателя города, «Того, чьей волей роковой / Под морем город основался…» [Пушкин 1950–1951, 4: 384, 393]. Вскоре после «Медного всадника» появилась череда других произведений, представлявших Санкт-Петербург в откровенно темных тонах: «Невский проспект», «Портрет», «Записки сумасшедшего», «Нос» и, самое главное, «Шинель» Н. В. Гоголя, «Бедные люди» Ф. М. Достоевского, различные произведения М. Ю. Лермонтова и В. Ф. Одоевского26. Во многих из этих сочинений, как и в «Медном всаднике» Пушкина, «маленькие люди» занимают центральное место. Мелкие чиновники, живущие на мизерную зарплату, видят, как их мечты о счастье рушатся. Подавленные суровыми условиями, царящими в столице, они сходят с ума или начинают пить. Признаков влияния на события дьявола (или, по крайней мере, гнева Божьего) здесь предостаточно. Санкт-Петербург часто кажется адским, проклятым местом, которое возникло с неестественной скоростью и может так же быстро исчезнуть. В этом отношении тексты данного периода опираются на важный элемент русской народной традиции: противодействие петровским реформам в начале XVIII века породило множество анекдотов, пророчеств и проклятий, где Петр I назывался антихристом, а его новая столица – нечистым местом [Лотман 1992: 13; Лотман, Успенский 1993: 203]. В 1830–1840-х годах, когда проходили бурные дебаты между славянофилами и западниками, этот аспект образа и мифа города начал более регулярным и заметным образом отражаться в высокой литературе. В то время как ведущие мыслители высказывались за и против вестернизации, споря о конечном эффекте кампании модернизации Петра, Санкт-Петербург, главное место великих реформ начала XVIII века, неизбежно оказывался проблематичным пространством. Для славянофилов город представлял собой искусственное творение, глубоко чуждое истинной природе России, и как таковой олицетворял все ошибки XVIII века, включая отказ от собственных традиций и судьбы России как православного славянского государства. Для западников Санкт-Петербург служил постоянным напоминанием о том, как далеко еще предстоит пройти империи. Аккуратные фасады города и упорядоченная сетка улиц, если уж на то пошло, делали противоречия и неравенство, присутствовавшие во всех аспектах российской общественной жизни, еще более вопиющими. Ни та ни другая группа не могла смотреть на город равнодушно.
Поскольку условности описания Санкт-Петербурга в путеводителях и канонических литературных текстах в XVIII и начале XIX века в значительной степени совпадали, можно было бы со всем основанием ожидать, что аналогичные закономерности развития будут преобладать и в более поздние периоды. В какой-то степени, конечно, так оно и есть. В 1830-х и 1840-х годах появилось новое поколение авторов путеводителей, которые, в соответствии с тенденцией изображения «маленьких людей» в поэзии и художественной литературе, начали создавать описания города, где беспрецедентное внимание уделялось менее обеспеченным слоям населения. А. П. Башуцкий, например, в своей новаторской «Панораме Санкт-Петербурга» 1834 года делит жителей столицы на пять различных категорий (высшее общество, образованная публика, третье сословие, иностранцы и низшие классы), а затем уделяет десятки страниц описанию внешности людей и присущих им жизненных привычек [Башуцкий 1834, 3: 12–210]27. Точно так же в своем «Описании Санкт-Петербурга и уездных городов С.-Петербургской губернии» И. И. Пушкарев уделяет огромное место привычкам мелких ремесленников, уличных торговцев и обычных столичных мошенников [Пушкарев 1841, 3: 1–55]. Введение такого социологического материала в путеводители, хотя и было, несомненно, значительным, тем не менее не привело к изменению тона на более мрачный, что было характерно как для поэтических, так и для художественных описаний Санкт-Петербурга указанного периода. Причины этого связаны отчасти с характером путеводителя как жанра. Центральная идея путеводителя, представление о читателе как о реальном или потенциальном туристе, а о тексте – как о функциональном навигационном пособии, способствует положительному отношению к описанной местности. Выбирая тот или иной город или место для описания, автор помечает его как достойный пункт назначения и культивирует желание читателя исследовать объект. Читатель, как он подразумевает, в результате получит удовольствие, знания или какую-то другую ощутимую пользу. Хотя авторы путеводителей могут признавать и признают недостатки в описываемых ими пейзажах, хотя они могут предоставлять информацию о неприятных или трагических аспектах местной истории и жизни, они должны формировать материал так, чтобы не снижать интерес к путешествиям по региону, иначе они рискуют лишить текст его функциональности и назначения. Чтобы правильно вписаться в повествование, чтобы полностью погрузиться в книгу, читатели должны захотеть двигаться по маршруту, предложенному автором; они должны сохранить свой энтузиазм в процессе изучения местности. По этой причине в путеводителях стихийные бедствия, скандалы, провалы в управлении и другие негативные события часто преподносятся как неудачи, которые были или могут быть преодолены и которые должны послужить читателю уроком, или как слегка щекотливые эпизоды, придающие пикантность имиджу региона. Бедность, преступность и другие социальные проблемы редко вызывают крайнюю степень ужаса и пафоса, нередко встречавшихся в поэзии и художественной литературе XIX века28. Во многих случаях описания жителей низшего класса служат в первую очередь созданию локального колорита.
Можно сказать, что путеводитель как форма, подобно торжественной оде, имеет врожденные панегирические тенденции. В нем описываемый предмет, как правило, вызывает благоговение, а не презрение. Писатели стремятся выделить уникальные характеристики и особенности места, выбранного для изображения, они подчеркивают его важность, стремятся внушить своим читателям признательность за его особые достоинства и очарование. Подобно тому как торжественные оды, как правило, подчеркивают и укрепляют связи между подданным и самодержцем, между населением и родиной, путеводители, независимо от того, написаны они для гостей или для местных жителей, в большинстве случаев должны способствовать развитию и росту той или иной формы привязанности к месту29. Поскольку эта основная ориентация никогда не меняется, поскольку во все времена авторы путеводителей бывают склонны восхвалять если не настоящее, то по крайней мере прошлое или будущий потенциал исследуемого района, такие работы часто выглядят, даже при развитии и расширении своего кругозора, в некотором смысле следующими описательной традиции XVIII и начала XIX века. Подобно Георги и Свиньину, авторы путеводителей 1830-х и 1840-х годов, помимо предоставления читателям практических советов о том, как передвигаться по столице, стремились научить их ценить многочисленные прекрасные архитектурные памятники Санкт-Петербурга, драматическое прошлое и уникальную роль города в качестве центра российской политической жизни и культуры30. С большой гордостью и энтузиазмом они подробно описывали работу важнейших социальных, образовательных и административных учреждений столицы, панорамные виды, открывающиеся со смотровых площадок и церковных шпилей, набрасывали маршруты для экскурсий по городу. Хотя к этому времени писатели, похоже, больше не рассматривали путеводители преимущественно как средство восхваления династии Романовых, большинство авторов в своих описаниях продолжали отдавать дань уважения некоторым членам императорской семьи. Петр I предстает во многих подобных руководствах как полубог – всемогущий, непостижимый и неустанно трудящийся на благо отечества. Мария Федоровна, вдова несчастного императора Павла, удостаивается особых похвал в связи с ее обширной благотворительной деятельностью. Как правящий монарх Николай I также получает некоторую меру внимания. Создание Санкт-Петербурга неизменно преподносится в позитивном ключе. Если они вообще признаются, трудности, связанные с быстрым строительством города и суровым климатом, способствуют повышению оценки нынешней славы Санкт-Петербурга.
В середине XIX века путеводитель стал наиболее близок к таким литературным формам, как очерк и фельетон. Подобно путеводителям, в очерках и фельетонах часто описываются географические районы. В них рассказчик, как правило, прогуливаясь по городу, описывает от первого лица те или иные сцены, места и звуки. Литературный критик Гэри Сол Морсон в своей книге «Границы жанра» утверждает, что очерки и фельетоны одновременно принадлежат как к реальной жизни, так и к искусству, сочетая черты как журналистских репортажей, так и большой литературы, традиционно эстетические и неэстетические коммуникативные формы [Morson 1981: 15]. Нечто подобное можно сказать и о путеводителях. В 1830-х и 1840-х годах такие тексты начали время от времени включать в себя художественный элемент и литературные изыски. Книга Виктора Бурьянова 1838 года «Прогулка с детьми по С.-Петербургу и его окрестностям» представляет собой особенно яркий пример такой тенденции. Написанный отчасти в художественной форме, отчет о многонедельном туре по столице разбит на серию «дней», каждый из которых – отдельная прогулка. Рассказчик, передвигаясь по Санкт-Петербургу в компании молодых людей, от первого лица комментирует в настоящем времени все, что они видят или чувствуют. Текст изобилует замечаниями о погоде, полезных знакомствах и незначительных неудобствах путешествия. Использование местоимений множественного числа первого и второго лица и глагольных форм на протяжении всего повествования, постоянное повторение «мы» и «вы», как бы приглашает читателя считать себя частью счастливого коллектива и отправиться в путешествие, следуя маршрутам, так тщательно разработанным в книге. Несмотря на все художественные изыски, украшающие текст, прогулка Бурьянова, по-видимому, частично предназначена для использования в качестве практического пособия. На первых страницах автор прилагает все усилия, чтобы проинформировать детей, предположительно из провинции, готовящихся присоединиться к нему на прогулке, о том, с какими документами и дополнительными библиографическими материалами им следует ознакомиться перед отъездом в Санкт-Петербург. На протяжении всей книги он дает читателям точные инструкции по навигации по городу, иногда отмечает магазины для возможных покупок, предлагает места для проживания в пригороде и предоставляет информацию о доступных видах транспорта [Бурьянов 1838, 1: 2, 228; 3: 19, 143].
Хотя по большей части нехудожественная по стилю, «Панорама Санкт-Петербурга» Башуцкого также в некоторых отношениях напоминает художественную литературу по присущим ей тенденциям. Она содержит, в дополнение к пространному описанию панорамы города с высоты птичьего полета и фрагментарным маршрутам пешеходных экскурсий, один раздел, который, очевидно, является вымыслом. В главе, озаглавленной «Петербургский день в 1723 году», автор представляет, как в том конкретном году несколько придуманных им персонажей могли отмечать день святого покровителя Петра I. Он описывает посещение кабака, пьяный разгул князя-папы и ассамблею [Башуцкий 1834, 3: 111–148; 2: 194–271]31. В конце концов главный герой повествования, молодой дворянин, который долгое время отказывался приспосабливаться к новым западным нормам социального поведения, наконец сбривает бороду и завоевывает руку своей возлюбленной.
Если путеводители, очерки и фельетоны во многих отношениях так похожи друг на друга, если все три жанра часто используются для исследования географического пространства в виде прогулки и пересекают границу между традиционно эстетическими и неэстетическими способами общения, то что делает каждую форму уникальной? Чем путеводитель отличается от других описательных текстов? Ряд факторов затрудняет проведение жестких различий. Каждая категория включает в себя значительные вариации – термины «очерк» и «путеводитель», в частности, могут быть очень широки. В некоторых случаях жанры явно пересекаются – иногда, например, можно обоснованно сказать, что часть путеводителя представляет собой очерк или фельетон. В ряде случаев отдельные авторы вносили свой вклад в разработку более чем одной описательной формы32. Однако некоторые обобщения сделать можно. В отличие от очерков и фельетонов, путеводители не полагаются на мотив фрагментарности и иллюзию спонтанности [Morson 1981: 15–16]. Хотя в некоторых случаях писатели могут принимать разговорный тон, жанр не требует такой манеры повествования. Путеводители часто бывают относительно длинными, а фельетоны и наброски, как правило, кратки. В письменных путеводителях читатель всегда выступает в роли потенциального экскурсанта, а сам текст по крайней мере представляется как своего рода навигационное пособие. Обычно писатели привлекают нас фразами с местоимениями первого и второго лица, дают практические советы по облегчению нашей прогулки по городу или району, предлагают нам следовать вместе с ними по маршрутам, описанным в руководстве. Хотя многие путеводители слишком тяжелы, чтобы брать их с собой на прогулки, и могут содержать больше справочной информации, чем обычно требуется простым туристам и путешественникам, они могут помочь читателю практически, то есть помочь исследовать физическое пространство, облегчая планирование путешествий и/или прогулок.
В фельетонах и очерках рассказчик чаще всего выступает в роли нашего доверенного лица, а не в качестве гида или компаньона. Обладающий свободным временем и, потенциально, особыми навыками, проницательностью, связями и знаниями, он посещает места и сообщает о сферах, во многих случаях далеких от нашего опыта. Не предполагается, что мы обладаем способностью или хотим повторить эти приключения. Рассказчик во многих случаях, кажется, блуждает почти бесцельно, следуя личной прихоти, преходящим стимулам и гоняясь за текущими новостями, в отличие от движения по тщательно продуманному и разработанному маршруту. Путешествия рассказчика приводят к открытиям о людях и местах, которыми он любезно соглашается поделиться, тем самым освобождая нас от обязанности самим исследовать эту же территорию. Часто очерк функционирует как своего рода журналистское расследование: он раскрывает завуалированные или неприятные аспекты местной жизни. В отличие от путеводителей, авторы очерков и фельетонов необязательно оценивают или рекламируют регионы, которые они описывают, как потенциальные места для экскурсий и прогулок.
Очерки и фельетоны обрели значительную популярность в России в 1830-х и 1840-х годах, как раз тогда, когда образ Санкт-Петербурга в поэзии и художественной литературе начал тускнеть. Полупублицистический характер обоих жанров сделал их идеальными формами для размышлений о современной российской жизни и социальных проблемах. Подхваченные талантливыми писателями и критиками, связанными с различными литературными и философскими лагерями, они быстро превратились в ключевые форумы для партизанских вылазок и дискуссий. Грандиозный спор, разразившийся в этот период между западниками и славянофилами, например, частично разыгрывался на страницах очерков. Особенно примечательно, что в 1845 году группа писателей, связанных с «Отечественными записками», главным издательским органом западников и прибежищем радикального критика В. Г. Белинского, выпустила чрезвычайно влиятельную антологию очерков под названием «Физиология Петербурга». Изобилующий остротами в адрес конкурирующего славянофильского лагеря в Москве сборник сыграл важную роль в популяризации физиологического очерка – поджанра, появившегося в России в начале десятилетия и основанного на французских моделях. Авторы физиологических очерков, как правило, стремились изучить и классифицировать человека с научных позиций, создавая подробные портреты типичных представителей тех или иных профессий, социальных слоев и национальностей. Они также проявили интерес к функциональному анализу географического пространства. В некоторых случаях, явно приравнивая города к живым организмам, они разбивали их на составные части и пытались понять механизмы, поддерживающие их существование. Они смотрели на реки, улицы и связующий их транспорт как на систему кровообращения, на рынки и магазины, которые их кормили, как на пищеварительный тракт, на органы массовой коммуникации и учреждения культуры, формировавшие вкус и одновременно выражавшие характер местных жителей, как на личность/разум/дух/душу. Многие физиологические очерки были посвящены низшим слоям общества и, казалось, должны были привести к прогрессивным политическим последствиям, соответствующим взглядам ведущих западников. Писатели так ярко изображали плачевные условия, в которых жили бедняки, что эти тексты воспринимались как призыв к социальным изменениям.
Во введении, написанном для «Физиологии Петербурга», Белинский призвал русских писателей взять сборник в качестве примера и уделить больше внимания описанию территории России. Он отметил, что, несмотря на разрозненные усилия в 1830-х годах, российское общество продолжает страдать от недостатка хороших произведений.
При этой качественной бедности в числительном богатстве у нас совсем нет беллетристических произведений, которые бы в форме путешествий, поездок, очерков, рассказов, описаний знакомили с различными частями беспредельной и разнообразной России, которая заключает в себе столько климатов, столько народов и племен, столько вер и обычаев и которой коренное русское народонаселение представляется такою огромною массою, с таким множеством самых противоположных и разнообразных пластов и слоев, пестреющих бесчисленными оттенками [Белинский 1991а: 7].
Хотя Белинский в своем введении, несомненно, стремился в первую очередь продвигать как жанр физиологический очерк, его замечания также подразумевают поддержку других видов описательной литературы, включая тексты, которые сегодня часто условно классифицируются как путеводители. Рассматривая в дальнейшем прежние попытки описать территорию России, Белинский особо хвалит «Панораму» Башуцкого [Белинский 1991а: 12].
Учитывая полемические выпады, содержащиеся в томе, неприязнь славянофилов к «Физиологии Петербурга» была предсказуема. К. С. Аксаков написал для периодического издания «Москвитянин» язвительную рецензию на антологию, в которой высмеял отдельные отрывки во введении Белинского как нелогичные и обвинил автора в том, что сборнику в целом не хватает оригинальности. Аксаков заявил, что это не более чем слепое подражание иностранному литературному течению [Аксаков 1981]. Но он не возражал против мнения Белинского о потребности в увеличении количества литературы, описывающей территорию России33. В годы, последовавшие за публикацией «Физиологии Петербурга», как славянофилы, так и западники поддерживали стремление к изучению и созданию словесных портретов Российской империи и ее народа. Писатели, сочувствовавшие взглядам обеих групп, а в некоторых случаях и сами ведущие идеологи, разрабатывали проекты, в которых рассматривались те или иные города и территориальные единицы, освещались общественные явления и тенденции, казавшиеся особенно актуальными для национального развития. Для многих авторов привычки, взгляды и поведение различных слоев населения, условия жизни в городских и сельских районах, текущее состояние сельского хозяйства, промышленности, журналистики и ремесленного производства, даже особенности местного ландшафта и климатические условия представляли собой свидетельства, полезные для получения исчерпывающих ответов на важные вопросы дня. Помогли ли реформы начала XVIII века России частично преодолеть свою отсталость и приблизиться к западному уровню развития, или они представляли собой катастрофическую ошибку? Нужно ли стране искать собственные решения своих проблем, или ей следует продолжать идти по стопам Запада? Как лучше всего определить русскость? С какими чертами характера она наиболее тесно связана? Поскольку Москва и Санкт-Петербург в контексте дебатов славянофилов и западников имели особое значение, они, как правило, привлекали к себе непропорционально большое внимание. Многие авторы пытались определить характер одной или обеих столиц России. Писатели часто затрагивали проблему кажущейся чужеродности Петербурга; они спрашивали себя, является ли столица западного облика, которую Петр I так поспешно возвел в качестве центрального элемента своей кампании реформ, величайшей надеждой и достижением современной России или предательством истинной природы страны [Белинский 1991б: 14; Герцен 1984].
Поскольку русские писатели стали тратить все больше времени на создание беллетристических описаний географического пространства и значение, которое литературный мир придавал очеркам, фельетонам и другим коротким описательным формам, резко возросло, можно было бы ожидать, что путеводители также ожидает процветание. Однако на самом деле их выпуск резко уменьшился в конце 1840-х годов и оставался на низком уровне до конца 1860-х. Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел и другие административные учреждения за этот период выпустили несколько важных сборников статистической информации о Санкт-Петербурге, но эти коллективные усилия мало что дают в плане повествования и, следовательно, полезны исключительно в качестве практических справочников [Карнович 1860; Санкт-Петербург 1868–1870].
В середине XIX века возникло несколько факторов, которые, вероятно, отбили у писателей охоту выпускать путеводители по Санкт-Петербургу. Во-первых, как я уже заметила, поток художественных произведений, очерков и фельетонов о Санкт-Петербурге, напечатанных в конце 1830-х и начале 1840-х годов, постепенно изменил общественное восприятие города. Северная Пальмира потеряла большую часть своего блеска, она стала казаться более темной и фантасмагоричной, местом громадного социального бедствия, где пороку и преступности было позволено бушевать безудержно. Грандиозные классические архитектурные ансамбли, доминировавшие в центре города, вышли из моды. Постепенно многие россияне стали рассматривать ряды однообразных желтых фасадов, выстроившихся вдоль улиц и площадей, как некий символ жестких и тиранических привычек династии Романовых, любви режима к военному порядку и упорного отказа от осуществления реальных демократических реформ. В результате все меньше и меньше людей воспринимало Петербург как место архитектурных чудес и примечательных мест, осмотр которых обязательно приведет к развитию художественного вкуса и личной пользе. Важная составляющая потребности в путеводителях, посвященных историческим и культурным достопримечательностям (в отличие от простых справочников и сборников географических фактов), в некоторой степени отпала.
Во-вторых, к середине 1840-х годов российские читатели столкнулись с избытком текстов о Санкт-Петербурге: физиологических очерков, рассказов и романов, написанных писателями натуральной школы, а также фельетонов и художественных произведений в новом реалистическом стиле. По мере распространения новых форм и способов описания путеводители неизбежно должны были выглядеть все более старомодными и неуместными. Публицистическая функция, которую они когда-то помогали выполнять, теперь считалась более чем адекватно выполняемой многочисленными авторами городских очерков. В эпоху, когда большая часть образованного российского общества стремилась обсудить современные социальные проблемы – крепостное право, бедность, необходимость реформ, – панегирический способ изложения, с которым у многих ассоциировались путеводители, должен был казаться неуместным. Интерес к письменным руководствам резко упал34.
Новые путеводители начали появляться в большом количестве только ближе к концу ХІХ столетия, но отчасти благодаря другой культурной тенденции. В конце 1850-х и начале 1860-х годов, после смерти царя Николая I, архивы, которые долгое время были почти полностью закрыты для исследователей, стали постепенно открываться. Цензура также значительно ослабла. Официальная директива, изданная в 1860 году, предоставила российским историкам право свободно сообщать обо всех событиях, произошедших до смерти Петра I в 1725 году. Если они хотели писать о более поздней истории, то им все же приходилось следовать установленным цензурным процедурам, но им больше не запрещалось автоматически пытаться описывать личности и частную жизнь членов императорской фамилии. М. И. Семевский, писавший главным образом для журнала «Русская старина», оглядываясь назад на этот период либерализации, в течение которого он впервые начал заниматься историей, вспоминал:
Шестнадцать лет прошло после появления моих первых исторических очерков, и с некоторой точки зрения нахожу их <…> весьма слабыми. Я никогда не скажу, чтобы труды эти были бы для нашей публики того времени бесполезны. <…> Что касается до читающего общества, то, повторяю, они были весьма полезны, и вот почему. Я уже выше сказал, что эта масса, сквозь устряловщину глядя на отечественную историю, была в полнейшем невежестве по отношению к родной старине. И вот являются в литературных журналах монографии в весьма живой форме и, совершенно не обвинуясь скажу, трактующие о всех исторических лицах, и в особенности о представителях власти в России XVIII века, в самых простых образах, низводя их с ходулей, на которых они до сих пор высились. В этих монографиях эти лица были оживляемы пред умственным взором читателя, со всеми их малыми и крупными недостатками, со всеми их человеческими слабостями, со всеми последствиями в их характерах и их действиях влияния той среды, в которой взросли и действовали эти герои и героини, эти монархи и монархини [Семевский 1997: 586–587].
Изменение режима цензуры и доступ к более широкому кругу архивных документов привели к коренным изменениям в русской исторической литературе. В конце 1850-х и начале 1860-х годов в толстых столичных журналах стали намного чаще появляться заслуживающие внимания статьи. Более того, интерес, вызываемый этими материалами, был настолько велик, что вскоре стало возможно открывать популярные журналы, посвященные исключительно публикациям исторических исследований. Периодическое издание «Русская старина», основанное в 1870 году, было самым известным и успешным из этих журналов. Оно работало в течение двадцати двух лет и, как правило, имело от пяти до шести тысяч подписчиков [Семевский 1997: 591–592].
История успешных изданий, подобных «Русской старине», показывает, что русские были заинтересованы в том, чтобы больше узнать о своей недавней национальной истории. Это, в свою очередь, привело к появлению нового вида путеводителя: изданий, которые, бесспорно, выглядели менее публицистичными и больше фокусировались на прошлом города, чем на его текущей жизни. В них авторы редко предлагали информацию о современных социальных нормах, административных процедурах и праздничных обычаях, а также, как правило, не уделяли много места хронике достижений нынешних царей и не писали в подробностях о важности последних строительных проектов и реформ. Вместо этого они предлагали отчеты о строительстве и реконструкции тех или иных памятников и районов, показывали, как выглядели важнейшие здания, улицы и площади в конце XVIII и начале XIX века, описывали забытые традиции, нормы поведения, правила. В какой-то степени, конечно, российские путеводители всегда включали в себя такие материалы. Однако в этот период прошлому стало уделяться больше внимания. Изображение этого прошлого, а не настоящего, стало главной целью многих писателей35.
В некоторых случаях в составлении этих новых исторических руководств, по-видимому, сыграла определенную роль сама династия Романовых. В конце 1860-х и 1870-х годах было опубликовано несколько путеводителей, в которых описывались императорские дворцово-парковые ансамбли в пригородах Санкт-Петербурга. Эти книги не могли появиться хотя бы без согласия, а то и активной поддержки Романовых. А. Ф. Гейрот, в свое время руководивший администрацией Петергофского дворца, в 1868 году выпустил книгу о Петергофе, которая содержала как разнообразную историческую информацию, так и довольно подробные описания различных украшений и сооружений в парках [Гейрот 1991]. Десять лет спустя в связи со столетием дворцового комплекса великий князь Константин Николаевич попросил Семевского составить значительно более масштабное описание Павловска. После того как том был закончен и напечатан, его копия была подарена царю Александру II. Ему очень понравилась книга, и он внес исправления на полях в тех местах, где, по его мнению, автор допустил незначительные ошибки в датах и другой фактической информации. Когда великий князь Константин Николаевич передал исправления Семевскому, тот предположил, что их можно было бы вставить в книгу в качестве сносок, если когда-нибудь выйдет новое издание [Семевский 1997: 595–596].
Отчасти, в основном потому, что они сосредоточены на идиллических пригородных дворцовых комплексах, а не на самом городе Санкт-Петербурге, путеводители, написанные Гейротом и Семевским, дают мало информации о низших классах России. Крестьяне, стражники и даже слуги предстают в них прежде всего как объекты романовской благотворительности и заботы [Гейрот 1991: 106; Семевский 1997: 56–57]. В этом отношении может возникнуть соблазн назвать данные руководства возвратом к более ранней эпохе. Однако стоит отметить, что по стилю они заметно отличаются от описаний таких авторов конца XVIII и начала XIX века, как Богданов, Георги и Свиньин. Они научны, используют обширный массив документов, частично хранящихся в дворцовых архивах. Они содержат намного более полные отчеты о строительных проектах и более подробные описания отдельных памятников архитектуры. Они также в целом дают более близкое представление о придворной жизни. Члены семьи Романовых показаны в них не только как представители правящей династии, публичные благотворители, внушающие благоговейный трепет и заслуживающие прославления, но и как любящие жены, матери и сыновья, как личности, способные пережить великую любовь и личную утрату [Гейрот 1891: 106–108; Семевский 1997: 115–117]. В результате эти произведения меньше похожи на торжественные хвалебные оды: хотя царей по-прежнему отделяет от их подданных пропасть, первые больше не похожи на богов – они приобрели человеческие черты.
В контексте того времени путеводители Гейрота и Семевского на самом деле кажутся консервативными хотя бы в одном ключевом отношении. Возможно, отчасти потому, что каждый автор в той или иной степени работал на благо императорской семьи, они не решились уделить много места слабостям и романтическим приключениям прошлых представителей династии Романовых. Их путеводители по Петергофу и Павловску кажутся особенно скучными по сравнению с журналом Семевского «Русская старина», в котором в 1870–1880-х годах было опубликовано много сенсационных материалов, в том числе копии переписки Потемкина, заметки о методах пыток XVIII века и легенды, окружавшие различных претендентов на императорскую власть. Исключение такого сенсационного материала, вероятно, оказало отрицательное влияние на продажи. Путеводитель Семевского по Павловску, во всяком случае, продавался плохо [Семевский 1997: 96].
Безусловно, самым популярным живописателем пейзажей и истории Санкт-Петербурга и его пригородов конца XIX века был М. И. Пыляев. Он начал свою карьеру в качестве журналиста, пишущего короткие статьи и очерки для столичных газет и журналов, в том числе для «Нового времени» и «Исторического вестника». Позже он переработал многие эссе, объединив их в сборники, которые затем выпустил в виде отдельных книг. Таким образом были составлены два выдающихся произведения о Санкт-Петербурге. «Старый Петербург» и «Забытое прошлое окрестностей Петербурга» – это, по сути, антологии материалов, которые были первоначально опубликованы в виде набросков. Книги разбиты на главы и организованы в соответствии с хронологическим и географическим принципами. Они имели бешеный успех и пережили множество изданий.
Читатели любили работы Пыляева не столько потому, что он предоставлял новый важный фактический материал – многие приводившиеся им факты он брал из старых источников и иногда опирался на документы или устных информаторов, которые были не вполне надежны, – но прежде всего потому, что они были такими занимательными. Пыляев умел рассказать анекдот. Из обилия на первый взгляд разрозненных деталей – описаний императорских приемов и балов, диковинных дамских мод, эксцентричного поведения пожилых генералов и личных слабостей царей, рассказов о диких ритуалах, связанных с употреблением алкоголя, о забытых народных развлечениях и таинственных смертях, заметок об уходе за слонами, которые когда-то содержались в Летнем саду, очерков о давно утраченных дворцах, дачах и парках – он создал романтизированную версию прошлого столицы, одновременно яркую и притягательную. Обильно украшенный и эротизированный, Санкт-Петербург Пыляева выглядит почти как фантазия востоковеда. Мы видим отношения хозяина и слуги (раба), интимность будуара и неожиданно пышную растительность (учитывая северное расположение столицы). Описывая повседневную жизнь императрицы середины XVIII века, Пыляев пишет: «Засыпая, Елисавета любила слушать рассказы старух и торговок, которых для нее нарочно брали с площадей. Под рассказы и сказки их кто-нибудь чесал Елисавете пятки, и она засыпала» [Пыляев 1990б: 78]. Рассказ Пыляева о большом бале, устроенном князем Потемкиным в Таврическом дворце в 1791 году, содержит следующий пассаж с восторженным описанием:
Из большой залы был выход в зимний сад; сад этот был чудом роскоши и искусства, и в шестъ раз больше эрмитажнаго; тут был зеленый дерновый скат, густо обсаженный цветущими померанцами, душистыми жасминами, розами; в кустарниках виднелись гнезды соловьев и других птиц, оглашавших сад пением. Между кустами были расставлены невидимые для гуляющих курильницы и бил фонтан из лавандовой воды [Пыляев 1990б: 312].
Как и в классической сказке, атмосфера волшебства может слишком быстро смениться гротеском или ужасом. Пыляев рассказывает о пьяной оргии, устроенной сборщиком налогов, которая в конечном итоге привела к четырем сотням смертей, об отвратительных пытках, применявшихся к арестованным в царствование Анны Иоанновны, об алебастровых статуях на участке набережной одного богатого эксцентрика, которые, выкрашенные в телесно-розовый цвет, напоминали обнаженных купальщиков [Пыляев 1990б: 73, 154, 443]. Работы Пыляева изобилуют такими словами, как «замечательный», «курьезный», «сказочный», «диковинки», «оригиналы», «чудаки», «непомерный» и «беспримерный». Автор постоянно ссылается на легенды, мифы и анекдоты, на сообщения различных неопознанных свидетелей, на то, что люди говорят или предполагают.
Наряду с популярными историческими журналами, такими как «Русская старина» Семевского, книги Пыляева способствовали появлению новой формы ностальгического национализма. Постоянно привлекая внимание к самым фантастическим и любопытным эпизодам российской истории, к самым удивительным чудакам империи, к ее самым странным культурным традициям, они побуждали россиян воспринимать себя жителями страны, в которой регулярно происходило нечто невероятное, по крайней мере до самого недавнего прошлого. В них знакомый и часто раздражающий западноевропейский стереотип, представление о России как об экзотическом чужом, стране сладострастных азиатских излишеств и неслыханных чудес, был эффективно преобразован в позитивную концепцию. Представленное в великолепных исторических деталях почти гоголевское видение русских пейзажей и русской жизни в конце концов превратилось в объект коллективной ностальгической тоски. Идеализированное видение прошлого России, представленное на страницах книг Пыляева, заметно отличалось от ностальгических мечтаний славянофилов 1840-х годов и их более поздних последователей и сочувствующих. Большая часть опубликованных работ Пыляева посвящена послепетровской эпохе и городским районам, а не крестьянской жизни и допетровским русским традициям. Как и авторы путеводителей, о которых я говорила ранее в этой главе, он рассматривает Петербург как неотъемлемую и характерную часть культурного ландшафта России, а не как иностранный город, глубоко чуждый стране, в которой он возник.
Рис. 2. Вид на Исаакиевский мост и на город от Адмиралтейства до Сенатской площади. Гравюра с рисунка Патерсена (1794) [Пыляев 1990б: 42]
Рис. 3. Процессия со слонами, подаренными русскому царю персидским шахом. Гравюра с акварели Воробьева [Пыляев 1990б: 44]
Пыляев играл очень заметную роль в популяризации термина «Старый Петербург», который в начале и середине XIX века лишь спорадически появлялся в печатных работах и на протяжении всего этого периода, скорее всего, казался многим русским интеллектуалам почти абсурдом36. Как можно назвать старым что-либо связанное с Санкт-Петербургом? Столица все еще казалась такой новой, что в 1840-х годах Герцен лихо назвал ее «городом без истории» [Герцен 1984: 52]. Вместе с журналом Семевского «Русская старина» Пыляев научил россиян видеть в Санкт-Петербурге исторический город. Он превратил прошлое столицы во что-то, о чем можно мечтать, в место, которое можно исследовать в своем воображении с книгой в качестве путеводителя. Работы Пыляева вызвали интерес к истории имперской столицы. Они вдохновили подражателей и в определенном смысле, можно сказать, проложили путь к великому буму местных исследований, который произошел в Санкт-Петербурге в начале XX века. Наполненный новым смыслом в первые годы XX века, популяризированный Пыляевым термин «Старый Петербург» служил объединяющим призывом для движения по сохранению исторического наследия, одного из трех крупных культурных движений начала XX века в Санкт-Петербурге, которые в этой монографии связываются с развитием современного краеведения.
Рост интереса к деятельности по сохранению исторических памятников в России в начале XX века был тесно связан с деятельностью кружка «Мир искусства», свободного и постоянно развивающегося объединения художников и критиков, игравшего доминирующую роль в российской и, в значительной степени, европейской культурной жизни в тот период. Среди участников были С. П. Дягилев, антрепренер, который позже основал легендарные «Русские сезоны», А. Н. Бенуа, талантливый художник и, возможно, крупнейший русский искусствовед ХХ века, Д. В. Философов, критик и соучредитель Санкт-Петербургского религиозно-философского общества, известный художник и искусствовед И. Э. Грабарь, художники М. В. Добужинский, К. А. Сомов и Л. С. Бакст. Группа получила свое название от толстого журнала «Мир искусства», посвященного искусству, философии и литературе, который Дягилев начал издавать с помощью других участников в 1898 году. Это чрезвычайно авторитетное периодическое издание познакомило российскую публику с множеством новых стилей и направлений (символизм, кубизм, примитивизм, возрождение неоклассической архитектуры начала XX века) и опубликовало планы реформирования многих наиболее значительных культурных учреждений России. После того как журнал в 1904 году перестал издаваться, группа распалась, а ее участники стали работать над различными проектами.
Поскольку о «Мире искусства» уже имеется много хороших исследований, эта книга не включает в себя полного отчета об истории или культурном вкладе данной группы. Вместо этого в следующих двух главах предлагается целенаправленное рассмотрение тех аспектов идеологии и деятельности кружка, которые наиболее явно связаны с развитием современного краеведения. В них будет рассмотрено то, как участники объединения понимали и применяли термин «Старый Петербург», какие периодические издания использовали в качестве форумов для обсуждения работы по сохранению исторического наследия, а также учреждения, которые они основали для продвижения своих целей. Самое главное, в этих главах будет показано, как усилия людей по изучению и защите памятников столицы привели к созданию целого ряда новых путеводителей.
Глава 2
Художественные журналы Серебряного века, движение за сохранение наследия Петербурга и путеводитель
К Петербургу я буду возвращаться в своих воспоминаниях по всякому поводу – как влюбленный к предмету своего обожания.
А. Н. Бенуа. Мои воспоминания в пяти книгах [Бенуа 1990–1993, 1: 13]
Когда писатели конца XIX века, такие как, например, М. И. Пыляев, говорили о Старом Петербурге, они обычно имели в виду XVIII век, прежде всего яркие эпохи правления Елизаветы и Екатерины Великой: балы, платья, фейерверки, ошеломляющую роскошь жизни при дворе. В этот «золотой век» иногда включались и первые десять лет после восшествия на престол в 1801 году Александра I. Писатели могли с ностальгией описывать красивого молодого царя, оптимистическую атмосферу, царившую в обществе, и надевших военную форму офицеров, маршем уходивших на войну с Наполеоном. Однако для летописцев XIX века Старый Петербург закончился после возвращения русских войск из-за границы в 1815 году. Вторая половина правления Александра уже казалась им частью современной эпохи и, следовательно, не вызывала такого рода ностальгии. Атмосфера этого периода, его общественные ритуалы и характерные черты все еще оставались в памяти, его проблемы были слишком насущными. Чтобы конец 1810-х и 1820-е годы вообще начали вспоминать с теплотой, должно было пройти больше времени и появиться новое поколение летописцев.
А. Н. Бенуа часто и совершенно справедливо приписывают то, что именно он расширил временные границы Старого Петербурга, включив в него вторую половину правления Александра и в определенной степени даже десятилетия царствования Николая I [Petrov, Kamensky 1991: 134]. С 1899 года Бенуа и другие авторы журнала «Мир искусства» пытались изменить общественное восприятие великой эпохи российского империализма, утверждая в своих статьях, что, несмотря на всю ее римскую строгость, формальность и порядок, эпоха эта не была лишена своих прелестей37. Помимо расширения трактовки термина «старый Петербург» и включения в него дополнительного периода времени, критики, писавшие для «Мира искусства», также дали новое определение этому понятию в другом важном отношении. В отличие от Пыляева и писателей, публиковавших ностальгические статьи в журнале «Русская старина», Бенуа и его коллеги в своих дискуссиях о прошлом, как правило, сосредоточивались почти исключительно на искусстве и архитектуре. Иногда они могли рассказать волнующий анекдот об императорской семье или описать живописную сцену, но по большей части исторические события и зрелища повседневной жизни в столице интересовали их относительно мало. Например, в ранней статье о петергофском Монплезире Бенуа критически отметил:
Принято смотреть на наши загородные дворцы исключительно с исторической точки зрения. Никому, за единичными исключениями, не приходит в голову обратить внимание на тот высокохудожественный интерес, который представляют все эти «большие» и «малые» дворцы, Марли, Монплезиры, пустыньки, гроты, беседки, птичники, турецкие и китайские домики. Эти очаровательные создания XVIII века известны публике только потому, что в одном из них Петр любил пировать со своими протеже (птенцами), в другом хранятся его чернильница, халат и туфли, в третьем – будто бы он сам, собственноручно, вырезал смешные украшения, в четвертом – Екатерина II занималась государственными делами в жаркие летние дни, в пятом – имеется стол с особым куриозным механизмом и т. д.38.
Объединение «Мир искусства» выступало за новое отношение к воспоминаниям о прошлом. Его участники надеялись, что публика выйдет за рамки «engouement historique», простого понимания «прелести давности»; они хотели, чтобы в России ценили памятники Старого Петербурга с сугубо эстетических позиций, как нечто «истинно хорошее» и «вечно прекрасное»39. Они возражали против негативного отношения к образу столицы, преобладавшего в литературе и критике на протяжении почти всего XIX века.
Бенуа и его единомышленники относились к столице как к законченному произведению искусства. Они считали, что до середины XIX века, пока тенденция к архитектурной эклектике не начала портить общую панораму, Петербург был «по-своему великолепен и целостен, с особым стилем»40. В одной из своих самых важных статей, «Живописный Петербург», Бенуа призывал отнестись с большим вниманием к старым районам столицы, подчеркивая, что город, несмотря на всю холодность, которую так часто выделяли последние поколения русских писателей и критиков, чрезвычайно привлекателен.
Он, если красив, то именно в целом или, вернее, огромными кусками, большими ансамблями, широкими панорамами, выдержанными в известном типе – чопорном, но прекрасном и величественном. Все эти картины не очень веселы. Если сравнить виды Петербурга с некоторыми видами Парижа, то невольно явится на ум сравнение строгого римского сенатора с восхитительной греческой вакханкой. Но ведь и в римском сенаторе не меньше красоты, не меньше обаяния, нежели в вакханке, иначе бы римский сенатор не покорил бы весь мир и ту же самую вакханку. В Петербурге есть именно тот же римский, жесткий дух, дух порядка, дух формально совершенной жизни, несносный для общего российского разгильдяйства, но, бесспорно, не лишенный прелести [Бенуа 1991: 132]41.
Это описание столицы должно было вызвать в сознании два ряда ассоциаций. Прежде всего, Бенуа явно персонифицирует Санкт-Петербург, отождествляет город с его харизматичным, всемогущим основателем. Петр I, беспощадный и последовательный противник «российского разгильдяйства» во всех его проявлениях, часто изображался на живописных и скульптурных портретах как «древний римлянин». Оба знаменитых конных памятника царю, установленных в Санкт-Петербурге в XVIII веке, например, изображают Петра I в античных одеждах42. «Римская строгость» и «любовь к порядку» – это качества, которые можно понимать как в положительном, так и в отрицательном смысле. Для Бенуа они явно предпочтительнее очевидной альтернативы – «российского разгильдяйства», и, следовательно, как Петр I, так и Санкт-Петербург, ставший центром царских реформ, заслуживают скорее похвалы, чем порицания.
Однако в этом отрывке Бенуа не ограничивается тем, что просто принимает чью-либо сторону в известной дискуссии о последствиях петровских реформ, непрерывно бушевавшей на протяжении всего XIX века и породившей в 1830-х годах соперничающие друг с другом лагеря славянофилов и западников. Каждую из ключевых фраз в приведенной выше цитате можно прочесть не только как намек на Петра I, но и как отсылку к определенному архитектурному стилю. Слова Бенуа, кажется, рассчитаны на то, чтобы напомнить читателю о конкретном наборе местных памятников: «великих ансамблях» в стиле ампир начала XIX века. Впечатляюще реконструированная Карло Росси Дворцовая площадь, ансамбль Михайловского дворца, участок между Александринским театром и площадью Ломоносова, а также Адмиралтейство А. Д. Захарова, более чем что-либо другое в городе, являются поистине «римскими по масштабу и величию»43. Во второй половине XIX века такие градостроительные проекты вышли из моды и подверглись критике в прессе. Пришло новое поколение архитекторов и заказчиков, отвергавших стандарты прошлого. Им обычно не нравился стиль ампир как слишком «строгий», «суровый» и «скучный»44. Вместо него они предпочитали более «человечный» тип зданий, с большим количеством декоративных элементов, сочетанием венецианских и арабских мотивов или другими эклектичными узорами. Русский стиль привлек особенно активных сторонников, в том числе двух последних российских царей, Александра III и Николая II. Этим романтическим националистам было свойственно отвергать Cанкт-Петербург и его классические здания как чересчур европейские. Убежденные в том, что великие петровские реформы, приведшие к созданию в России «окна на Запад», в корне противоречили национальным интересам, они с тоской оглядывались назад и пытались возродить традиции Московского государства XVII века45.
Рис. 4. Открытие памятника Петру I работы Этьена-Мориса Фальконе «Медный всадник» в 1782 году. Гравюра Мельникова, сделанная по рисунку Давыдова [Пыляев 1990б: 48]
В «Живописном Петербурге» Бенуа стремился противодействовать антиклассическим настроениям. Он высказывался против последних 50 лет строительства и того, что он считал неудачными проектами реставрации и непродуманными дополнениями к упорядоченной панораме города. Бенуа не одобрял ни новые западные стили, ни широко используемый русский стиль; он утверждал, что жителям следует прекратить попытки декорировать старые здания «дешевыми, отвратительными лепными “украшениями”», «пестрой, безвкусной плиткой» или «петухами… и другими “русскими” деталями». [Бенуа 1991: 134]. Он хотел, чтобы люди научились ценить уникальный облик исторического Петербурга, чтобы они признали, что сооружения, построенные как в непопулярном в настоящее время классическом стиле, так и в более ранней барочной манере, во многих случаях представляют собой бесценные национальные сокровища. Такие архитекторы, как Растрелли, Кваренги, Росси и Томон, хотя и были иностранцами по рождению, быстро адаптировались к уникальным условиям своей новой родины. Здания, которые они спроектировали, возможно, и не напоминали традиционные русские сооружения, но ими не следует пренебрегать, как простыми западными заимствованиями. Они являлись чем-то принципиально новым; бескрайние просторы России и огромные финансовые ресурсы ее знати позволили западным архитекторам воплотить свои идеи и теории так, как это не представлялось возможным в Италии или Франции. Петербург мог похвастаться прекраснейшими и наиболее полно реализованными образцами разнообразных архитектурных течений XVIII и начала XIX века. Неспособность западноевропейских специалистов сделать эти здания объектом своих исследований того периода была, по мнению Бенуа, «непростительной оплошностью», а пренебрежение и плохое обращение российской общественности с типичными сооружениями Санкт-Петербурга он считал еще большей трагедией [Бенуа 1991: 138].
Несмотря на то что в статье «Живописный Петербург» Бенуа подчеркивал внешнюю чуждость классического города в экстравагантных выражениях, он в конечном счете призвал своих соотечественников признать ансамбли в центре столицы чем-то типично русским, эстетическим чудом мирового значения, возникшим в результате уникальной географии России (бескрайнее пространство) и, по сути, неограниченных финансовых ресурсов. В последнем разделе «Живописного Петербурга» Бенуа особенно призывал российских художников гордиться Северной столицей и стараться в своих работах запечатлеть ее неповторимую красоту. Он полагал, что таким образом они смогут научить общественность бережно относиться к многочисленным памятникам города и его величественным панорамам. Они могли бы спасти Санкт-Петербург «от погибели, остановить варварское его искажение» и «оградить его красоту от посягательства грубых невежд». В последние десятилетия, утверждал он, российские художники не смогли выполнить эту важную задачу. Город, который художники и поэты в XVIII и начале XIX века изображали как великолепную «Северную Пальмиру», был в значительной степени забыт последующими поколениями. «В настоящее время, – утверждал Бенуа, – можно найти немало художников, занятых Москвой и умеющих действительно передать красоту и характер ее. Но нет ни одного, кто пожелал бы обратить серьезное внимание на Петербург». Это же можно сказать и о российских писателях: «За Петербург никто из больших поэтов второй половины XIX века не заступался» [Бенуа 1991: 136, 138].
Бенуа критиковал писателей конца XIX века за то, что они не признавали внешней красоты столицы, но это не значит, что он хотел, чтобы они отказались от столетней литературной истории и вернулись к составлению панегирических од в манере Ломоносова и Державина46. Бенуа явно одобрял описания столицы, сделанные Пушкиным, Гоголем и Достоевским. Он понимал, что у города есть его темная сторона, что он представляет собой нечто большее, чем просто коллекцию «великолепных» классических фасадов. Петербург также оставался «фантастическим», «мрачным» и даже немного «страшным» [Бенуа 1991: 132–133]. На самом деле для Бенуа потенциально страшные аспекты характера столицы, по-видимому, способствовали ее привлекательности.
В этой чопорности, в этом, казалось бы, только филистерском «бонтоне» есть даже что-то фантастическое, какая-то сказка об умном и недобродушном колдуне, пожелавшем создать целый город, в котором вместо живых людей и живой жизни возились бы безупречно исполняющие свою роль автоматы, грандиозная, неслабеющая пружина. Сказка – довольно мрачная, но нельзя сказать, чтобы окончательно противная. Повторяю – в этой машинности, в этой неестественности – есть особая и даже огромная прелесть, во всяком случае, большая прелесть, нежели в буржуазно толковой, усердной жизни Берлина [Бенуа 1991: 133].
Это гофмановское описание города, кажется, отсылает к Пушкину, Гоголю и к раннему Достоевскому. Бенуа, возможно, мало интересовали изображенные писателями социальные проблемы, скрупулезные рассказы этих авторов о «маленьких людях» и убогих условиях жизни, но он находил наполнявшую их труды ужасающую атмосферу захватывающей с эстетической точки зрения. Он, кажется, понял «фантастический», «призрачный» Петербург – город, где коллежские асессоры превратились в беспомощных роботов, где носы, портреты и отражения приобрели неестественную силу, как своего рода символическое кукольное представление. У Бенуа был талант к театральному оформлению, и он, без сомнения, интуитивно чувствовал, что ужас и великолепие художественно совместимы. История беспомощной жертвы, оказавшейся в пасти враждебного сверхъестественного существа (представлявшего на каком-то уровне, конечно, саму столицу), – обычный сюжет произведения о Петербурге XIX века – выглядела особенно эффектно на фоне бесконечного ряда классических фасадов.
Из всех писателей XIX века наибольшее сходство, вероятно, Бенуа имел с Пушкиным. Оба они обладали способностью воспринимать Санкт-Петербург одновременно двумя способами: как чудесное творение русского царя, достойное величайшего хвалебного гимна, и как странное и зловещее место, естественную декорацию для великих трагедий. В «Живописном Петербурге» Бенуа призвал писателей включать в свои произведения описания города обоих типов. Им стоило бы продолжать исследовать темное подбрюшье Северной столицы, но им также не следует забывать время от времени останавливаться и, подобно Пушкину в первой части «Медного всадника», воспевать внешнее очарование города.
Мысли о сохранении облика Северной столицы и о спасении великолепных центральных районов города от разрушения начали занимать Бенуа в самом начале эпохи «Мира искусства». В 1899 году, за три года до публикации «Живописного Петербурга», он начал регулярно печатать в журнале короткие статьи о городе. Судя по всему, эти произведения быстро привлекли внимание определенной части читающей публики. В связи со стремительно приближающимся двухсотлетием со дня основания Петербурга произошел всплеск интереса к истории города и его архитектурным памятникам, что было, пожалуй, вполне предсказуемо. Бурные протесты Бенуа против недавних актов архитектурного вандализма и его краткие описания местных достопримечательностей вызвали у людей сочувствие и потребность в более детальных и систематических исследованиях. «Мир искусства», однако, во многих отношениях не слишком подходил для решения задачи удовлетворения этого растущего интереса. Журнал носил в общем и целом энциклопедический характер, и, как правило, отдельный номер мог содержать не более одной краткой статьи о столице или несколько фотографий. Его редакция стремилась к широкому освещению вопросов современного искусства как в России, так и за рубежом, и поэтому не могла позволить себе выделять большое количество страниц для одной проблемы. Ожидалось, что каждый выпуск будет содержать обзоры выставок, новости о недавних аукционах, переводы перспективных исследований по истории искусства, восторженные описания новых школ живописи и эстетических тенденций, проекты реформ консервативных культурных учреждений, таких как Академия художеств, Эрмитаж и Императорское общество поощрения художеств, и связанную с этим полемику. Предполагалось, что в каждом номере будет солидный литературный раздел с участием ведущих российских символистов.
Иногда сотрудники «Мира искусства» меняли формат журнала, отходя от строго энциклопедического подхода и посвящая большую часть номера изложению одной темы. Однако такие узконаправленные номера печатались относительно редко. Один из таких выпусков появился в 1899 году в связи со столетием со дня рождения Пушкина; еще несколько вышли в период с 1902 по 1904 год. Более того, во всех случаях, за исключением пушкинского, эти номинально тематические номера включали, наряду с текстом и иллюстрациями, относившимися к рассматриваемой теме, большое количество посторонних материалов. Единственный тематический номер, посвященный Санкт-Петербургу, первый выпуск 1902 года, в этом смысле типичен. Он открывается фронтисписом, украшенным словом «Петербург» и изображением Петропавловской крепости. Издание содержит расширенную серию фотографий и репродукций с архитектурными видами Северной столицы. Основополагающая статья Бенуа «Живописный Петербург» появляется в разделе «Хроника». Эти материалы занимают около трети журнального номера. Остальные страницы заполнены статьями на другие темы. Как показывает это описание, даже в выпусках, теоретически посвященных одной теме, «Мир искусства», как правило, оставался энциклопедическим. Одна краткая статья о Санкт-Петербурге и серия иллюстраций – самое большее, чего можно было ожидать.
Очевидно, в силу желания уйти от энциклопедического формата и более подробно писать как о художественной культуре прошлого в целом, так и конкретно о Старом Петербурге, Бенуа был готов приняться за другие проекты, связанные с периодической печатью, уже на раннем этапе существования «Мира искусства»47. Летом 1900 года П. П. Марсеру, член руководящего комитета Императорского общества поощрения художеств, встретился с Бенуа в Париже на Всемирной выставке и предложил ему должность редактора журнала. Бенуа быстро согласился, несмотря на то что предложение было неожиданным: в то время издание «Искусство и художественная промышленность», которое Марсеру надеялся передать А. Бенуа, было одним из главных полемических оппонентов «Мира искусства». В течение двух дней Бенуа разработал конкретные идеи по обновлению журнала. Он предложил отказаться от его нынешнего формата и создать тонкий ежемесячный журнал, частично смоделированный по образцу популярных европейских периодических изданий «L’art pour tous», «Formenschatz», «Bilderschatz» и «Skulpturenschatz», которые опирались на иллюстративный материал для просвещения своей читательской аудитории. Каждый выпуск должен был состоять в основном из высококачественных репродукций произведений искусства, дополненных при необходимости краткими, но точными историческими комментариями. Более того, Бенуа утверждал, что журнал мог бы разумно ограничиться каталогизацией культурных ценностей, расположенных на российской земле. Музеи, дворцы, церкви и частные коллекции страны содержали множество прекрасных произведений, замечательных образцов различных национальных и зарубежных художественных стилей. Поскольку мало кто имел доступ к этим местам, публикация репродукций сама по себе принесла бы значительную общественную пользу. Если общество одобрит его план, Бенуа предложил дать журналу соответствующее новое название: «Художественные сокровища России».
В своих воспоминаниях Бенуа позже отметил, что, разрабатывая идеи для нового журнала, он очень хорошо осознавал необходимость сделать его как можно более непохожим на «Мир искусства». Он не хотел конкурировать с изданием, над которым он и его друзья работали в течение двух лет. Без сомнения, эта забота помогла оформить предложения, которые он направил в Общество поощрения художеств. Когда Бенуа решил отказаться от освещения искусства Западной Европы и снизить значимость текста, он вполне мог иметь в виду интересы в первую очередь «Мира искусства». Однако по большей части, несмотря на работу в условиях определенных ограничений, наложенных им самим, Бенуа, похоже, был в восторге от итоговой формы своего проекта для «Художественных сокровищ России». Он позднее написал в мемуарах о своем настроении при подаче предложения: «…уж очень мне вдруг захотелось получить в свои руки ведение такого дела…» [Бенуа 1990–1993, 2: 314]. Этот всплеск энтузиазма, без сомнения, отчасти был вызван мыслью о том, что предлагаемая публикация позволит ему исследовать ряд давно интересовавших его тем: он сможет изучить лучшие коллекции России и собрать информацию о ее прекрасных дворцах и парках. Однако Бенуа, возможно, привлекло также и то, что, став редактором принадлежащего обществу издания, он, вероятно, получит значительную независимость. «Мир искусства» был совместным предприятием и, следовательно, всегда отражал интересы и вкусы разных людей, в том числе и в первую очередь его редактора Дягилева. Новый журнал предоставил Бенуа собственную платформу, ему лично принадлежало последнее слово во всех редакционных решениях. В своих воспоминаниях Бенуа всегда называет «Художественные сокровища России» «своим» изданием, а «Мир искусства» – «нашим» [Бенуа 1990–1993, 2: 313].
Бенуа передал руководящему комитету общества вместе со своими предложениями о реорганизации журнала только одно значительное требование. Он потребовал права вести себя так, как считает нужным, когда не выступает в качестве редактора, и публиковать все, что пожелает, в других изданиях. Совет организации быстро согласился со всем, добавив только одно важное условие: все материалы для «Художественных сокровищ России», включая бумагу и репродукции, должны быть приобретены внутри страны. Понимая, что это значительно усложнит его работу, Бенуа согласился.
Осенью 1900 года Бенуа готовился к выпуску нового журнала, делая подготовительные заказы. Поскольку первый номер журнала должен был выйти в начале 1901 года, ему пришлось действовать быстро, заключая сделки с типографиями и обеспечивая надежную поставку высококачественной бумаги. Более того, он знал, что с приходом осени в Санкт-Петербурге будет затруднительно фотографировать из-за отсутствия солнечного света, и хотел запастись иллюстрациями на весь зимний сезон. Несколько недель он вместе с фотографами ездил по городу и снимал на пленку различные виды. В примечаниях к иллюстрациям Бенуа полагался в основном на свой собственный опыт. Позже он утверждал, что лично написал «по меньшей мере, три четверти напечатанного текста», появившегося в «Художественных сокровищах России», включая не только примечания, сопровождавшие иллюстрации, но и большую часть материалов для «ежемесячной хроники» и обзоров других периодических изданий и книг [Бенуа 1990–1993, 2: 361]. Когда Бенуа не считал в своей компетенции комментировать какую-либо тему самостоятельно, он обычно обращался к одному из своих старых друзей в кружке «Мир искусства» или при необходимости к сторонним экспертам: профессора Санкт-Петербургского университета и руководители различных отделов Эрмитажа регулярно публиковали комментарии для журнала.
Едва появившись, «Художественные сокровища России» получили очень благоприятные отзывы и быстро завоевали популярность у российских читателей48. Хотя журнал не участвовал в той бурной полемике, которая принесла «Миру искусства» внимание и славу, и поэтому в некоторых отношениях играл менее заметную роль на культурной сцене, он был по-своему новаторским. К середине 1901 года Бенуа приобрел значительные навыки редактора и начал уделять пристальное внимание отбору и оформлению материалов для каждого выпуска. Он начал тематически группировать иллюстрации и размещать пояснительные тексты в разумной близости от картинок, к которым они относились. Хотя сейчас это может показаться очевидной организационной стратегией, в «Мире искусства» это не практиковалось. Там, особенно в течение первых двух лет издания, текст и изображения часто распределялись беспорядочно, иллюстрации к одной статье оказывались размещены в другой или ряд репродукций появлялся в середине текста без видимой причины49. Кроме того, виньетки и другие украшения, используемые для оформления страниц «Мира искусства», часто не соответствовали сопровождаемым произведениям, а художники выбирали мотивы по своей прихоти, редко задумываясь о статьях, которые в конечном итоге появятся на украшаемых ими страницах.
Рис. 5. Е. Е. Лансере. Фронтиспис для «Мира искусства». 1902. № 1. Специальный выпуск, посвященный двухсотлетию Санкт-Петербурга. С. 55.
Бенуа работал совсем по-другому. Он четко рассматривал каждый выпуск «Художественных сокровищ России» как единое произведение искусства и организовывал текст и картинки так, чтобы произвести комплексное впечатление на читателя. С момента основания журнала Бенуа начал собирать значительные выпуски, посвященные одной теме. Китайский дворец в Ораниенбауме, коллекция голландской живописи П. П. Семенова-ТяньШанского и Строгановский дворец в Санкт-Петербурге – все это получило всестороннее освещение в 1901 году. Каждый тематический выпуск содержал впечатляющие серии репродукций и фотографий, включая снимки, сделанные в местах, часто все еще остававшихся преимущественно закрытыми для посетителей. Бенуа также, как правило, предпочитал изменять для этих специальных номеров формат своего журнала и включал в них более длинные статьи, носившие более научный характер. Например, в выпуске 1902 года, посвященном Петергофу, были опубликованы важная статья Бенуа, эссе популярного историка И. Н. Божерянова, а также статья, содержавшая информацию, собранную в Архиве Министерства двора А. И. Успенским. Для выпуска, посвященного эпохе Петра I, вышедшего в начале 1903 года, Бенуа написал короткую статью о старой гипсовой маске, которую он нашел забытой в шкафах Петровской галереи Эрмитажа. Исследования показали, утверждал он, что отливка была сделана с лица царя и что это было сделано, когда Петр I был еще жив50.
По сути, несколько раз в год Бенуа посылал своим читателям вместо обычных журнальных выпусков богато иллюстрированные книги, специальные тома, в которых часто описывались места и объекты, расположенные в Санкт-Петербурге, а иногда содержались настоящие научные открытия. Эти монографические номера пользовались большим успехом у публики и быстро начали привлекать внимание других редакторов и журналистов. К началу 1902 года казалось, что даже «Мир искусства» склонен временами подражать подходу Бенуа. Несмотря на то что Дягилев по большей части оставался приверженцем создания журнала энциклопедического характера, он в 1902 и 1903 годах подготовил несколько выпусков, где основная часть текста в разделе искусства и большинство иллюстраций были сосредоточены на одной теме51. Тематический подход в более сложной форме позже также был использован в популярном журнале «Старые годы». Каждое лето с 1907 по 1916 год у этого журнала выходил тройной выпуск, как правило, почти полностью посвященный исследованию какого-то одного аспекта русского искусства и культуры, такого как искусство XVIII века, искусство эпохи Александра I или, например, дворцово-парковый ансамбль в Гатчине52. В другое время года часто выходили одиночные и двойные тематические выпуски.
Внедрение системы Бенуа, где целые номера посвящались изучению тех или иных тем, неизбежно повлекло за собой изменения в работе художественных журналов. Составление иллюстрированной научной монографии объемом от 200 до 500 страниц, в зависимости от количества и объема выпусков, которые она должна была заменить, представляло собой сложную задачу. Писателям, фотографам и оформителям приходилось чрезвычайно тесно сотрудничать, чтобы обеспечить согласованность. Если они хотели последовать примеру Бенуа и внести научный вклад, а не просто пересказывать общепринятые факты, то им необходимо было проводить обширные исследования и знакомиться как с печатными источниками, так и с архивными записями. Писатели были особенно заинтересованы в изучении Старого Петербурга: где-то от трети до половины материалов, опубликованных в «Художественных сокровищах России» и в «Старых годах», были посвящены искусству и архитектуре Северной столицы. Авторы работали с материалами Публичной библиотеки Петербурга и в различных городских архивах, охотясь за старыми путеводителями, картами, мемуарами и описями дворцов и музеев. Были заново открыты работы Богданова, Георги, Башуцкого, Свиньина и Пыляева, и их признали важными историческими источниками.
Журналисты «Художественных сокровищ России» и «Старых годов» часто цитировали в своих статьях эти тома. Они оценили богатство фактической информации, содержавшейся в книгах, а также их остроумие и стиль. Однако они также обнаружили в них существенные недостатки. Люди, составлявшие путеводители по Санкт-Петербургу в XVIII и XIX веках, уделяли очень мало внимания художественным вопросам. История искусства и критика как дисциплины были в России до начала XX века недостаточно развиты. В результате большинство летописцев, работавших в более ранние периоды, на самом деле не понимали важности точного документирования внешнего вида архитектурных памятников. Даже если они могли оценить великолепие потрясающих панорамных видов города, им не хватало специального словаря, чтобы детально описать здания, которыми они восхищались. Их сильной стороной было изложение исторических фактов и составление списков дорогих предметов декоративного искусства, выставленных в различных дворцах и учреждениях, а не классификация и оценка произведений искусства с научной точностью. Более того, те, кто писал о городе в XVIII и XIX веках, часто не предоставляли своим читателям информацию об источниках, использованных в их исследованиях. Они не объясняли, как они датировали то или иное сооружение или откуда узнали имена владельцев и архитекторов. Как с досадой отметил И. Э. Грабарь, писатели либо вообще не утруждали себя включением в повествование каких-либо цитат, либо, как Петр Петров, они, казалось, «намеренно – чтобы не попользовались другие – заметали все следы своих источников…»53. Анекдоты, смутные воспоминания пожилых жителей города и собственные догадки автора часто смешивались с очень ценными фрагментами информации, собранной из малоизвестных и вполне надежных источников. Старые книги о городе также часто не отвечали особым потребностям различных групп современных ученых, посетителей и жителей. Удобных карманных путеводителей по многим важным местным достопримечательностям не существовало, в большинстве местных музеев не было точных и современных каталогов, доступных для специалистов, и очень существенная информация, которая давно должна была появиться в печати, часто оставалась запертой в архивах. Как заметил Бенуа в рецензии на книгу в 1904 году:
Одно из доказательств нашей малокультурности – это недостаток в порядочных путеводителях. Смешно сказать, но Петербург, этот богатейший по своим художественным сокровищам город, до сих пор не имел порядочного русского чичероне. Русский, желающий ознакомиться со своей столицей, должен был прибегать к иностранному «Бэдекеру». Но и «Бэдекер» по Петербургу далеко не так хорошо составлен, как классические путеводители того же издателя по Германии и Италии. Оно и немудрено, при скудности источников. У нас не было еще наших Наглеров, Буркхардтов, Пасаванов, Кавалькасалей – которыми так кстати умеет пользоваться «Бэдекер». В большинстве наших музеев даже нет толковых каталогов. Исключением, правда, является главный из них: Эрмитаж, но зато одни каталоги по Эрмитажу составляют целую специальную библиотеку, которой едва ли может пользоваться обыкновенный турист54.
Здесь Бенуа указывает на значение путеводителей по достопримечательностям и других, даже более важных литературных форм в процессе изучения города.
Писатели, публиковавшие свои труды в крупнейших художественных журналах Санкт-Петербурга, в своих статьях и рецензиях не просто жаловались на нехватку литературы о городе, но в значительной степени взяли на себя решение этой проблемы. Выйдя за рамки журнальных статей и тематических выпусков, они быстро начали мечтать о независимых издательских проектах и обширных программах исследований. Целое поколение молодых писателей, которые начали свои писательские карьеры в журнале Бенуа или в издании «Старые годы», – такие как В. Я. Курбатов, П. Н. Столпянский и Г. К. Лукомский, – в 1910–1920-х годах самостоятельно написали ценные монографии о Петербурге. Они опубликовали незаменимые путеводители по Северной столице и ее пригородам, существенные исследования по садово-парковому искусству и ценные аннотированные библиографии. Зачастую они стремились подчеркивать в своей работе идеи, которые активно пропагандировались в периодических изданиях по охране памятников старины: культурное наследие прошлого следует рассматривать как бесценное сокровище; значимые памятники любой ценой должны быть защищены от разрушения и ошибочных проектов реконструкции. Несмотря на свой явно европейский облик, Санкт-Петербург представляет собой уникальное российское явление огромной эстетической важности, которое до сих пор не получило должного научного внимания. Даже, казалось бы, несущественные детали, такие как выбор цвета краски или изменение – добавление или удаление небольших декоративных элементов на внешней стороне отдельного исторического здания, – могут существенно повлиять на городской район в целом и, следовательно, заслуживают тщательного рассмотрения [Курбатов 1993: 3, 8, 30, 40, 109]. Путеводители сыграли особенно важную роль в распространении взглядов и приоритетов защитников культурного наследия среди российской общественности, поскольку эта форма привлекала относительно широкую и разнообразную аудиторию.
Первые большие тематические выпуски о Старом Петербурге, собранные Бенуа в его журнале «Художественные сокровища России», открыли новую эру в изучении и описании Северной столицы. Хотя интерес к городу неуклонно рос с тех пор, как Бенуа в 1899 году впервые выступил в «Мире искусства» против вандализма, движение за сохранение наследия прошлого фактически вступило в свои права, только когда он в 1901 году занял пост редактора нового журнала Общества поощрения художеств. Бенуа и его союзники приобрели платформу, с которой они могли выражать свои взгляды на постоянной основе. Поскольку каждый месяц у них была возможность печатать новые статьи по вопросам сохранения культурного наследия, у них появился реальный стимул погрузиться в изучение города, который они любили. Стремясь предоставить российской общественности информацию о городе в удобной и доступной форме, они в конечном итоге начинали создавать новый вид путеводителя, в котором больше внимания уделялось занимающим их вопросам искусства.
Пребывание Бенуа на посту редактора «Художественных сокровищ России» резко оборвалось в начале 1903 года, вскоре после того, как он опубликовал под собственным именем в журнале «Мир искусства» крайне негативный отзыв о выставке, организованной Обществом поощрения художеств. Хотя трудовое соглашение Бенуа давало ему полную свободу печатать все, что он пожелает, в любых изданиях, кроме «Художественных сокровищ России», общество посчитало, что его предали. Члены руководящего комитета возражали против того, чтобы их сотрудник выступал с критикой в прессе, и проголосовали за то, чтобы отправить Бенуа официальное письмо с выговором, угрожая ему увольнением, если он когда-либо снова публично будет подвергать общество нападкам. Пять дней спустя Бенуа подал в отставку. Общество назначило на его место А. В. Прахова, намного более пожилого искусствоведа55.
Под руководством Прахова «Художественные сокровища России» продолжали существовать еще пять лет. В своих воспоминаниях Бенуа неоднократно критиковал свою замену, полагая, что, как только Прахов занял пост редактора, стандарты публикаций в журнале начали резко снижаться [Бенуа 1990–1993, 2: 391–392]. Хотя «Художественные сокровища России» постепенно утратили часть своего блеска, скатившись в посредственность, перемены произошли не так резко, как представлял Бенуа. По крайней мере поначалу у Прахова все шло довольно хорошо, отчасти благодаря использованию материалов, которые Бенуа оставил в редакции журнала после своего внезапного ухода. Прахов ознакомился с архивными данными, собранными Бенуа, его идеями для будущих выпусков и даже контактами, которые он приобрел за годы работы над «Художественными сокровищами России». В 1903 и 1904 годах он реализовал планы своего предшественника по тематическим выпускам о Павловске и Царском Селе.
Хотя Бенуа, возможно, реализовал бы эти проекты немного по-другому, каждый выпуск в том виде, в котором его выпустил Прахов, являлся замечательным достижением. Тематический номер о Павловске, вышедший в 1903 году, по сей день остается важным источником знаний для искусствоведов56. Помимо большой статьи Успенского и прекрасной серии фотографий, в нем содержится ряд важных документов, таких как старые каталоги и описания Большого дворца, в том числе одно, написанное в 1795 году великой княгиней Марией Федоровной ее собственным почерком. Эти записи никогда ранее не были доступны широкой публике, и, естественно, их публикация представляла собой событие большой значимости. Материал, появившийся в «Художественных сокровищах России» в следующем году и касавшийся Царского Села, был во многих отношениях не менее важен57. Старый знакомый Бенуа Успенский снова написал большую часть текста. У него был доступ к архивам Министерства двора, куда было очень трудно попасть, и в результате его статьи всегда были наполнены замечательными фактами и цитатами, взятыми из переписки императриц, архитекторов и инженеров. В последующие годы Успенский собирал информацию для Прахова о других объектах, включая такие дворцы, как Мраморный, Аничков и Зимний. Во многом благодаря его участию журнал «Художественные сокровища России» смог продолжить публикацию хороших тематических выпусков о чудесах Старого Петербурга почти до своего закрытия.
Подчеркивая важность тематических выпусков «Художественных сокровищ России» под руководством Прахова, я не хочу сказать, что журнал не пострадал от ухода Бенуа. Хотя Прахов явно старался сохранить как можно большую преемственность в первые годы своего пребывания на этом посту, многие авторы после увольнения Бенуа отказались работать в «Художественных сокровищах России», в том числе, конечно, члены кружка «Мир искусства». Такие художники, как Е. Е. Лансере, М. В. Добужинский и Л. С. Бакст, которые неоднократно охотно соглашались помогать Бенуа, не контактировали с Праховым. В. Я. Курбатов и С. П. Яремич, двое молодых людей, часто работавших над публикациями общества, также не стали сотрудничать с новым редактором58.
Покинув «Художественные сокровища России», Бенуа переключил свое внимание на другие проекты, и в первую очередь на «Мир искусства». Хотя он никогда полностью не прекращал сотрудничать с изданием Дягилева, в 1901 и 1902 годах Бенуа, вполне понятно, был занят делами своего журнала [Добужинский 1987: 198]. В 1903 и 1904 годах он большую часть времени и сил посвятил «Миру искусства», в конце концов заняв пост соредактора. По взаимному согласию 6 из 12 номеров «Мира искусства», вышедших в 1904 году, были подготовлены Дягилевым, 6 – Бенуа59. Номера, собранные Бенуа, как, наверное, следовало ожидать, в некоторых отношениях напоминали выпуски «Художественных сокровищ России»: они были посвящены искусству прошлого, а не современным произведениям, содержали мало литературных и философских материалов и носили преимущественно тематический, а не энциклопедический характер. Журнал включал блоки материалов на следующие темы: усадьба «Архангельское», недавняя историческая выставка предметов декоративного искусства, средневековые иллюстрированные рукописи, московский классицизм, патриаршая ризница в Москве и народное искусство Русского Севера.
Интересно, что ни один из выпусков журнала «Мир искусства», которые Бенуа редактировал в 1904 году, не был посвящен архитектуре Старого Петербурга. Возможно, Бенуа считал, что Прахов обошел его, или он просто чувствовал, что ему нужно перейти к новым темам после разочарований предыдущего года. Его планы описать Павловск и Царское Село, ему казалось, были у него отняты и реализованы несовершенно; он, возможно, решил, что нет смысла к ним возвращаться. Независимо от того, что мотивировало решение Бенуа, он явно отказался от идеи использовать художественные журналы и тематические выпуски в качестве средства для изучения Старого Петербурга, по крайней мере на какое-то время60.
«Мир искусства» закрылся в начале 1905 года. С началом Русско-японской войны государственные расходы на культуру резко сократились, и издание потеряло государственную субсидию. Хотя Дягилев искал альтернативные источники финансирования, в конечном счете он не смог ни с кем договориться61. В любом случае, основные авторы журнала уже начали развивать разные самостоятельные проекты. Как заявил в своих воспоминаниях Бенуа: «Мы все трое, С. Дягилев, Дмитрий Философов и я, устали возиться с журналом, нам казалось, что все, что нужно было сказать и показать, было сказано и показано, поэтому дальнейшее явилось бы только повторением, каким-то топтанием на месте, и это особенно было нам противно» [Бенуа 1990–1993, 2: 410]. В конце концов они решили, что пришло время других начинаний.
Три года спустя закрылись и «Художественные сокровища России», также частично из-за финансовых трудностей. В середине 1907 года бюджетная комиссия второй Государственной Думы проголосовала за отмену ежегодной субсидии журналу в размере 10 000 рублей. Члены комиссии утверждали, что, поскольку издание «предназначено для привилегированных классов», оно не заслуживает финансовой помощи от правительства62. Хотя в последнем номере «Художественных сокровищ России» за 1907 год Прахов оптимистично говорил о будущем журнала, утверждая, что нашел новые источники финансирования на предстоящий год, в 1908 году журнал не появился63. В любом случае, к этому моменту он уже перестал играть существенную роль в культурной жизни столицы. В январе 1907 года увидело свет новое художественное издание, которое в значительной степени вытеснило журнал Прахова, взяв на себя роль рупора движения за сохранение городских памятников.
Периодическое издание «Старые годы», которое, вероятно, больше всего способствовало популяризации культа Старого Петербурга в России начала ХХ века, было создано группой людей, по большей части не игравших заметной роли ни в «Мире искусства», ни в журнале Бенуа «Художественные сокровища России»: это В. А. Верещагин и Я. В. Ратьков-Рожнов, члены кружка любителей русских изящных изданий, С. Н. Тройницкий и А. А. Трубников, основатели недавно созданного издательства «Сириус», П. П. Вейнер, известный петербургский коллекционер, С. К. Маковский, искусствовед и поэт. Эти люди представляли вторую волну журналистов – сторонников сохранения наследия старины, поборников предыдущих кампаний Бенуа по спасению памятников России, которые после закрытия журналов «Мир искусства» и «Художественные сокровища России» решили организовать собственное высококачественное издание.
Где-то в середине 1907 года, в первый год жизни журнала «Старые годы», эта первоначальная редакционная группа немного расширилась, включив в себя барона Н. Н. Врангеля, молодого критика, который помог Дягилеву в 1905 году организовать важную выставку портретной живописи, и наконец самого Бенуа. Согласно опубликованным штатным расписаниям, Бенуа входил в редакционную коллегию «Старых лет» с середины 1907 года до закрытия журнала в 1916 году. Однако он никогда не имел решающего голоса. В своих воспоминаниях Бенуа всегда говорил о «Старых годах» как о периодическом издании, которое редактировалось сначала Верещагиным, а затем Вейнером, но в котором, возможно, интеллектуально доминировал Врангель, являвшийся, по словам Бенуа, «сердцем и душой» нового коллектива [Бенуа 1990–1993, 2: 336].
Несмотря на то что «Старыми годами» руководила группа людей, которые по большей части никогда не играли заметной роли ни в «Мире искусства», ни в «Художественных сокровищах России», журнал во многом шел по стопам своих предшественников. Он преследовал аналогичную цель в отношении культуры прошлого и принял программу, во многом напоминавшую первоначальные идеи Бенуа для «Художественных сокровищ России». В редакционных заявлениях, напечатанных в первых выпусках «Старых годов», организаторы журнала обещали, что новое периодическое издание будет знакомить своих читателей с «художественным наследием России и зарубежных стран»64. Заявление гласило, что в журнале будут писать о произведениях искусства из государственных и частных коллекций, приводить информацию о забытых архитекторах, художественных школах и техниках, регулярно публиковать бюллетени о текущей работе по сохранению памятников, о недавних музейных приобретениях и экспонатах, относящихся к культуре прошлого.
Конечно, можно отметить некоторые различия между программой, предложенной для журнала «Старые годы» зимой 1907 года, и политикой, проводимой Бенуа в «Художественных сокровищах России», но они, вероятно, отражают разницу в обстоятельствах создания обоих журналов, а не реальное расхождение их целей. «Старые годы» были свободны от многих внешних воздействий, сформировавших «Художественные сокровища России». Его организаторам не было нужно учитывать особенности другого издания, поэтому они могли позволить себе обойтись без некоторых искусственных ограничений, которые Бенуа наложил на свой журнал, чтобы он не конкурировал с «Миром искусства». Например, в «Старых годах» никогда не существовало официальной политики, ограничивавшей его деятельность освещением событий и объектов, расположенных на территории России. Хотя на практике журнал, как правило, фокусировался на таких темах, статьи о некоторых аспектах западноевропейской художественной жизни появлялись регулярно. Также редакция никогда не отказывалась от содержательных научных работ. С самого начала «Старые годы» задумывались своими организаторами как толстый журнал, где значительное место будет отдано статьям, в отличие от «Художественных сокровищ России», в которых преобладали иллюстрации.
Помимо этих различий, «Старые годы» очень напоминали журнал Бенуа как по формату, так и по подходу. Особенно бросается в глаза сходство в освещении тем, связанных с Санкт-Петербургом. Как и «Художественные сокровища России», «Старые годы» публиковали большое количество материалов о памятниках столицы и необходимости их сохранения. Восторженные описания архитектурных шедевров и сообщения о недавних актах вандализма – явно бессмысленном разрушении любимых сооружений и фасадов – появлялись каждый месяц. Авторы, писавшие эти статьи, в подавляющем большинстве стремились в своем повествовании перекликаться с Бенуа, заимствуя из его знаменитых эссе о благоустройстве столицы как основную лексику, так и идеи. Они воспевали Санкт-Петербург за его «величественный» и «великолепный» вид, отмечали значимость его ансамблей, говорили о важности того, чтобы центральные площади не были загромождены, и, возможно, самое главное – пропагандировали идеи о том, что исторический Санкт-Петербург заслуживает признания в качестве сугубо российского культурного феномена65. Как только был налажен выпуск нового периодического издания, свои статьи в него стали присылать писатели, регулярно публиковавшие эссе на исторические темы в «Мире искусства» и «Художественных сокровищах России». Курбатов, Фомин, Яремич, Грабарь и Успенский – все они время от времени представляли свои работы. Участие этих известных ученых и критиков, без сомнения, сделало «Старые годы» еще более похожими на ранее издававшиеся журналы, проводившие политику по сохранению и защите памятников старины.
Однако по крайней мере в одном отношении освещение Санкт-Петербурга в «Старых годах» можно считать поистине инновационным. Как я уже отмечала в этой главе, авторы журналов «Мир искусства» и «Художественные сокровища России», говоря о спасении Старого Петербурга, в первую очередь имели в виду памятники и районы столицы, построенные во времена правления Петра I, Елизаветы, Екатерины II, Павла и Александра I, то есть сооружения барокко, ранней классики и ампира. Примеры более поздних направлений в архитектуре – неоготические, псевдоренессансные здания и здания в стиле рококо, которые начали появляться в столице во время правления Николая I, не заслужили благосклонного внимания ни в «Мире искусства», ни в «Художественных сокровищах России». В этот ранний период и Бенуа, и его наиболее видные сторонники, как правило, не включали эти памятники в программу по сохранению наследия, поскольку они считали их примерами эклектического течения в искусстве, которое ознаменовало собой упадок и привело, по их мнению, к окончанию золотого века русской архитектуры. По этой причине данные сооружения не считались достойными сохранения. В течение десятилетия, когда существовал журнал «Старые годы», некоторые представители движения за сохранение наследия старины стали пересматривать эту оценку.
Летом 1913 года «Старые годы» сделали тройной выпуск в честь трехсотлетнего юбилея династии Романовых. В нем содержалось несколько статей, посвященных художественному наследию эпохи правления Николая I. Центральным элементом номера было длинное, вдумчивое эссе Бенуа и его старого коллеги по «Миру искусства» Н. Е. Лансере, в котором предлагался новый, всеобъемлющий подход к работе по сохранению памятников старины. Авторы отмечали в начале своей статьи:
Еще совсем недавно все, что оставила эпоха, отстоявшая от нас на 60–80 лет, казалось верхом безвкусицы, чем-то таким, что совершенно лишено художественного смысла и прелести. <…> И однако за последнее время замечается и здесь неизбежный поворот отношения. Непонятным образом то, что всего лет десять тому назад казалось отвратительным, стало теперь казаться трогательным и милым66.
Для Бенуа и Лансере этот недавний сдвиг как в их собственных личных пристрастиях, так и в преобладавшем критическом отношении свидетельствовал о важном факте: художественные стандарты неизбежно меняются с течением времени. Стили и тенденции, популярные в данном временном отрезке, в конечном итоге выходят из моды, становясь предметом насмешек и оскорблений. Однако часто через некоторое время они снова начинают привлекать поклонников. Этот процесс, по мнению Бенуа и Лансере, представляет собой своего рода естественный закон художественного развития: «Прошлое начинает становиться привлекательным только тогда, когда мы всем своим существом чувствуем, что оно действительно прошлое, что оно отошло в бездну веков и “больше не мешает”»67.
Представление о том, что перемены естественны, что красота не является абсолютной, явно подрывает основы любых попыток городского планирования и мер по «исправлению ошибок», которые строятся исключительно на симпатиях и антипатиях нынешних экспертов. Если наша оценка искусства недавнего прошлого может измениться к лучшему, то группы по сохранению памятников старины должны попытаться сохранить лучшие образцы каждого стиля и периода; они должны предвидеть пристрастия своих детей. Величайшее изменение в идеологии защитников наследия прошлого, которое можно обнаружить на страницах «Старых годов», – это отход от абсолютных оценок достоинств периодов и стилей в сторону более широкого понимания Старого Петербурга. Хотя некоторые писатели, такие как Курбатов и Лукомский, продолжали какое-то время придерживаться старых стандартов, настаивая на абсолютном превосходстве стиля ампир и выступая против эклектики, многие другие быстро приняли новый, более мягкий подход, предложенный Бенуа и Лансере в совместной статье 1913 года. Они стремились сохранить в неприкосновенности так любимые ими великие имперские ансамбли и боролись против строительства объектов, которые могли бы их заслонить, но за пределами центральных районов города спокойно терпели значительную долю эклектики68.
«Старые годы» пользовались у читающей публики значительным успехом, со временем став, по некоторым подсчетам, одним из самых популярных журналов во всей Европе. Число подписчиков выросло с 1000 в 1907 году до 5000 в 1914 году69. Во время Первой мировой войны, несмотря на задержки с публикацией и проблемы с доставкой, эти цифры продолжали расти. Однако даже в лучшие годы спонсоры журнала, похоже, не получали никаких доходов. Стоимость репродукций оставалась слишком высокой, чтобы они могли получить реальную прибыль. Вместо этого организаторы были вынуждены довольствоваться лестными отзывами и общественным признанием. Вейнер, главный финансист «Старых лет», его издатель, а с 1908 года и редактор, получил в 1911 году за свои усилия медаль Пушкина от Академии наук. В 1912 году он был избран действительным членом Академии художеств. Другие ключевые фигуры журнала также заняли видные посты в культурном мире столицы. В годы, когда издавался журнал, его главные организаторы работали в ряде художественных музеев, составляли каталоги коллекций, готовили сенсационные художественные выставки и создавали новые периодические издания70. Еще важнее для этой книги то, что они возглавили движение по созданию частных организаций, занимавшихся защитой архитектурного наследия России. Что касается, в частности, этой последней формы деятельности, петербургское движение за сохранение памятников прошлого заслуживает того, чтобы его рассматривали как часть более широкой тенденции, выявленной многими учеными в поздней имперской России: постепенного возникновения гражданского общества, по крайней мере в зачаточной форме.
Разочарованные тем, что они воспринимали как безразличие, неэффективность и консерватизм правящего дома Романовых, многие образованные жители России в конце XIX и начале XX веков для решения насущных проблем и обеспечения необходимых потребностей начали обращаться к частной инициативе. Если государство не могло или не хотело предпринимать решительные действия для улучшения условий жизни бедных, модернизации русской образовательной и медицинской систем, защиты памятников и создания музеев и библиотек, то, возможно, – склонны были полагать эти люди, – сама общественность должна вмешаться и исправить этот непорядок. Оно могло сыграть важную роль в донесении культуры и просвещения до простого народа, который спустя два столетия после петровских реформ все еще слишком очевидно прозябал во тьме и невежестве71. Создание общественных объединений различного рода было одним из важных проявлений этой тенденции к возникновению гражданского общества. Как отметил Джозеф Брэдли, после великих реформ 1860-х и 1870-х годов правила, касавшиеся неправительственных учреждений и общественных объединений, были смягчены, что со временем привело к экспоненциальному увеличению числа существующих организаций [Bradley 1991: 139]. К концу столетия в России, помимо созданных в ходе реформ местных собраний, известных как земства, существовала хорошо развитая сеть профессиональных ассоциаций, обществ любителей природы, любителей искусства, коллекционеров, а также спортивных клубов, благотворительных групп и кружков самообразования. Многие из этих организаций стремились служить не только своим собственным членам и/или единомышленникам, но и России в целом: они видели своей целью решение социальных и культурных задач, которыми долгое время пренебрегало правительство.
Если говорить о движении в защиту наследия прошлого, одна широко обсуждавшаяся законодательная неудача сыграла особенно важную роль в росте интереса к культурной активности в десятилетие, предшествовавшее Октябрьской революции: неспособность правительства принять эффективный закон о защите художественных и исторических памятников. Когда в 1907 году был основан журнал «Старые годы», правила, регулировавшие сохранение архитектурных сокровищ России, оставались довольно примитивными и, особенно в отношении сооружений XVIII и XIX веков, в значительной степени были неэффективны. Хотя теоретически и Академия художеств, и Археологическая комиссия в определенных ситуациях имели право вмешиваться и блокировать проекты, угрожавшие изуродовать или уничтожить важнейшие достопримечательности, они редко пользовались своими полномочиями72. Признавая наличие проблем, в 1901 году правительство предприняло попытку разработать более эффективный устав, но обсуждения затянулись до бесконечности. В течение 12 лет проект переходил от одного комитета к другому, постепенно меняясь, чтобы учесть целый ряд противоречивых интересов. Когда в 1912 году проект закона наконец попал в Думу, ведущие защитники культурного наследия выступили против него, утверждая, что он настолько плохо продуман, что может препятствовать усилиям по сохранению памятников прошлого. Они неодобрительно отметили, что предлагаемый устав предусматривает создание Комитета по надзору, состоящего почти полностью из бюрократов, выделяет мало средств на работу по сохранению архитектурного наследия и даже не распространяется на церковную собственность. Хотя Дума в конечном счете пересмотрела законопроект с целью решения некоторых из этих проблем, освещение закона в «Старых годах» оставалось в подавляющем большинстве случаев негативным73