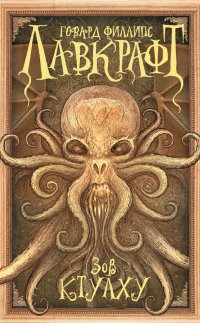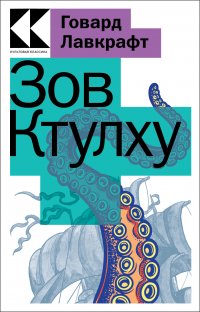Читать онлайн Крадущийся хаос бесплатно
- Все книги автора: Говард Филлипс Лавкрафт
* * *
© Оформление: ООО «Феникс», 2021
© Иллюстрации: Иванов И., 2021
* * *
Старый сумасброд
Бильярдная Шихана на одной из узких улочек, затерянных в недрах складского района Чикаго, – место не самое изысканное. Воздух этого заведения, пропитанный тысячью запахов, воспетых Кольриджем в «Кельне»[1], крайне редко дезинфицируется хоть бы и светом солнца, пропитанный едким дымом бессчетных сигар и сигарет – народ в бильярдной смолит день и ночь, так уж повелось. У непреходящей популярности местечка имеется причина, очевидная любому, кто рискнет окунуться в тамошний чад: сквозь смесь запахов и изнуряющую духоту пробивается аромат, некогда повсеместно известный, а ныне благополучно вытесненный на задворки жизни гуманным правительственным постановлением – аромат крепчайшего виски, запретного плода образца одна тысяча девятьсот пятидесятого года нашей эры[2].
Заведение Шихана – признанный центр подпольной торговли спиртным и наркотиками в Чикаго. В таком качестве оно имеет определенную славу, которая так или иначе затрагивает даже самых неказистых его посетителей. Однако до недавнего времени средь них был один тип, представлявший собой исключение из сего правила; грязи и убожества ему доставалось сполна, а вот почета – ни грамма. Прозвали его Старым Сумасбродом, и был он опустившимся среди опустившихся. Многие ломали голову, пытаясь распознать в нем человека, каким был Сумасброд прежде, ибо, наливаясь чрезмерно, красноречием своим он способен был изумить. Ну а человек, каким он был ныне, – сиречь кромешный забулдыга, – в распознании вовсе не нуждался, будучи зело очевидным.
Никто толком не знал, откуда он тут взялся. Однажды вечером он ворвался к Шихану, с пеной у рта требуя виски и гашиша. Получив желаемое под обещание все отработать, он с тех пор околачивался в бильярдной, моя полы, драя плевательницы и стаканы, выполняя разного рода мелкую работу – в обмен на алкоголь и дурман. Похоже, только они и поддерживали в нем жизнь и остатки здравомыслия.
Общался Сумасброд мало, изъяснялся на невразумительном жаргоне, характерном для социальных низов, но порой, воодушевившись чрезвычайно щедрой порцией чистого виски, мог неожиданно для всех затянуть выспренную речь, или же начать цитировать прозаические и стихотворные фрагменты, заставлявшие иных завсегдатаев бильярдной заподозрить, что старик знавал лучшие времена. Один постоянный посетитель, банкир, растративший деньги клиентов и пребывающий в бегах, регулярно вел с Сумасбродом беседы и по манере говорить заключил, что тот в свое время был учителем, или же мастером пера. Однако единственным осязаемым следом его прошлого была поблекшая фотокарточка, которую Старый Сумасброд всегда держал при себе, – фотография молодой женщины с величавыми аристократичными чертами лица. Порой он доставал ее из рваного кармана, аккуратно разворачивал обертку из тонкой тисненой бумаги и часами разглядывал с выражением, полным неописуемой печали и нежности. Само собой, завсегдатаям притона было невдомек, кто запечатлен на том снимке; это был фотопортрет леди очаровательной внешности и, несомненно, благородной крови, чей наряд нес отпечаток модных веяний тридцатилетней давности.
Старый Сумасброд и сам был наряжен по старинной моде – насколько можно было это заключить по тем неописуемым обноскам, что красовались на нем. В нем было больше шести футов росту, хоть сутулость плеч и скрадывала сей факт. Его волосы, грязные и свалявшиеся, давно не знавали расчески, узкое лицо заросло запущенной проволочно-жесткой щетиной, казалось, всегда остававшейся в одном и том же колючем состоянии – он никогда не брился и никогда не обрастал длинной бородой, ибо та лишь мешала бы порядочному глотку виски. Лик Сумасброда, возможно, когда-то имел благородные черты, но сейчас был изборожден жуткими следами упадка. Очевидно, в какой-то период – возможно, на середине жизненной дороги – был Сумасброд дороден, если не тучен; теперь же он выглядел ужасно худым, и багровые складки кожи свободно свисали мешками под бельмами глаз и на щеках. Воистину, Старый Сумасброд был не из тех людей, что услаждают взгляд.
Чудаковатость облика старца всецело гармонировала с его повадками. Ведь прозвище свое Старый Сумасброд получил отнюдь не за то, что готов был как угодно извернуться за щепоть гашиша, порцию виски или пятицентовую монету, а за совсем другие свойства своей натуры, выказываемые по случаю. И если случай благоволил, Сумасброд расправлял плечи, и тогда возвышенный огонь загорался в его впалых глазах. Его манера вести себя приобретала черты выдающейся грации и уверенности; жалкие существа вокруг него начинали ощущать в нем явное превосходство – нечто, не дававшее им оскорблять бедного служку вошедшими у иных в привычку пинками и тычками. В такие периоды он выказывал сардонический юмор и отпускал ремарки, которые народ из бильярдной считал непонятными, лишенными смысла. Но эти колдовские приступы быстро заканчивались, и Старый Сумасброд вновь возвращался к натирке полов и чистке пепельниц. Он был бы во всем образцовый работник, если бы не одно «но» – стоило молодняку впервые появиться в злачном местечке, как он сразу бросался отговаривать их, размахивать грязными руками, бормотать странные увещевания пополам с проклятиями. Та угрюмая серьезность, коей были преисполнены его слова в такие моменты, повергала в дрожь не один одурманенный ум в переполненном людьми зале. Впрочем, спустя некоторое время его отравленный алкоголем мозг терял ориентацию в мыслях, и с идиотской усмешкой он снова брался за швабру или щетку.
Думаю, нескоро еще забудется посетителями шиханова местечка тот день, когда к ним явился молодой Альфред Тревер. В самом деле, то была примечательная личность – богатый и энергичный юноша, достигавший высшего предела во всем, за что брался (по крайней мере, таково было категорическое убеждение Пита Шульца, выступавшего для Шихана кем-то на манер зазывалы; с Тревером Пит свел знакомство в Лоуренс-колледже, что в маленьком городке Эпплтон в штате Висконсин). Тревер был сыном именитых родителей. Его отец, Карл Тревер, служил прокурором округа и являлся почетным гражданином города, в то время как его мать обрела известность как поэтесса. Стихи свои она подписывала девичьим именем Элеонора Винг. Альфред, также преуспевший на поэтическом и ученом поприщах, страдал некоторой инфантильностью, делавшей его идеальной добычей для шихановского охотника за клиентурой. Он был белокурым, красивым и избалованным, страстно желавшим испытать различные формы распутства, о коих читал и слышал. В Лоуренсе он занимал видное место в шуточном братстве «Фифы, Пиво, Пиво» и слыл самым диким и веселым из диких и веселых молодых гуляк; но это незрелое студенческое легкомыслие не удовлетворяло его. Он знал о более глубоких пороках по книгам – и теперь жаждал узнать их из первых рук. Возможно, эта склонность к необузданности в какой-то мере стимулировалась ущемлениями, коим Альфред подвергался дома, ибо миссис Тревер была не из тех, кто любит легкомыслие. У нее имелись особые причины держать своего единственного ребенка под строгим контролем – на юности самой Элиноры лежала неизгладимая печать ужаса, вызванного беспутством человека, с коим она некоторое время была обручена.
Юный Хэлпин, тот самый жених, был одним из наиболее примечательных уроженцев Эпплтона. С младых ногтей отличившийся незаурядным умом, он прогремел в университете Висконсина, а к двадцати трем годам вернулся в родной город, чтобы занять профессорскую должность в Лоуренс-колледже, а затем и надеть кольцо с бриллиантом на пальчик самой очаровательной и красивой девушки Эпплтона. До поры до времени их отношения протекали безмятежно, и ничто не предвещало бури. Дурные привычки, рожденные первой выпивкой, укрылись в недрах души Хэлпина, усыпленные изолированной жизнью в окруженном лесами городке, но спустя некоторое время они все же раскрылись в молодом профессоре. Только путем поспешного отказа от кафедры Хэлпин избежал мучительного расследования того, как тлетворно влиял он на образ жизни и нравственный облик учеников. Его помолвка распалась, и он отбыл на восток, стремясь открыть новую страницу в книге жизни; но вскоре до жителей Эпплтона дошел слух о его скором увольнении из Нью-Йоркского университета, где трудился он преподавателем английского. Не упав, казалось бы, духом, все свое время Хэлпин стал посвящать библиотекам и публичным лекциям, читая яркие речи в защиту Франсуа Вийона, Эдгара По, Вердена и Оскара Уайльда. Во многом убедительности и пылкости Хэлпина как оратора способствовал его неоспоримый личный шарм, и в недолговременный расцвет славы ему даже пророчили новую помолвку с одной из особо приверженных поклонниц таланта из солидного семейства с Парк-авеню. Но и эти надежды никак не оправдались. Окончательное бесчестье, в сравнении с которым предыдущие были ничем, разбило вдребезги иллюзии тех, кто поверил в возрождение Хэлпина. Молодой ученый навсегда лишился доброго имени, да и вовсе перестал появляться на людях. Периодически возникавшие слухи ассоциировали его с загадочным «консулом Гастингсом», чьи сочинения для театра и кино неизменно привлекали внимание основательностью и глубиной авторских познаний; однако через некоторое время и этот Гастингс пропал из поля зрения публики, и Хэлпин стал символом позора в байках, что читают менторы в назидание беспечным ученикам. Элеонора Винг же вышла замуж за Карла Тревера, перспективного молодого адвоката, и об ее прежнем поклоннике остались только воспоминания, положенные в основу воспитания ее единственного сына, этого обаятельного, но безмерно упрямого юноши. Сейчас, вопреки всем нравственным руководствам, Альфред Тревер явился к Шихану, твердо намеренный предаться хмельному разгулу.
– Эге-гей, патрон! – прокричал Шульц, окунувшись вместе с Тревером в чад кутежа, что царил в бильярдной. – Будь знаком с моим другом Альфи Тревером, лучшим из всех гуляк в Лоуренс-колледже, что в Эпплтоне, штат Висконсин! Он сам из недурного общества – отец его большая шишка в адвокатском деле, а матушка – самая настоящая поэтесса! Но это ему, сам знаешь, не помешает вкусить взрослой жизни и хлебнуть самого настоящего огненного виски; так что помни – он мой друг, и обращайся с ним подобающе!
Как только были сказаны эти слова – Тревер, Лоуренс, Эпплтон, – собравшиеся в зале тунеядцы ощутили необычную перемену в атмосфере. Возможно, всему виной был какой-то необычно звонкий перестук шаров на бильярдном столе, или звон стаканов, извлеченных из тайника за стойкой, – возможно, лишь это, да еще тот альковный шелест грязных занавесок на единственном грязном окне. Так или иначе, в ту минуту многим показалось, что кто-то среди них скрежещет зубами и тяжко вздыхает.
– Рад познакомиться, Шихан, – произнес Тревер спокойным, учтивым тоном. – В этаком местечке я впервые, но жизнь хороша во всех проявлениях, и даже таким опытом пренебречь – непростительно, знаешь ли.
– Еще как знаю, дружище, – ответил хозяин. – Ежели хочешь вкусить жизни, местечко ты выбрал самое подходящее, ибо здесь есть все – и драма, и накал страстей, и славный пир человеческий. Узколобые крючкотворы, что стоят сейчас у руля власти, хотят подогнать всех под одни рамки, но им не удастся остановить парней, которые просто хотят взбодриться и развлечься. Все, что пожелаешь, дружище, любой дурман найду – только скажи.
По словам завсегдатаев бильярдной, именно в этот момент в размеренных, монотонных движениях швабры возникла пауза.
– Хочу виски! Старого доброго ржаного виски! – с энтузиазмом высказался Тревер. – Я как прочел о веселых попойках студентов былого времени – сразу тошно стало глядеть на все прочие источники утоленья жажды. Как читаю Анакреона и его подпевал[3], так одна мысль в голове – долой водицу пресную, даешь воду огненную!
– Ну и славно! А Анакреон – это кто такой, черт бы его побрал? – смущенно зароптали пьяницы, но один банкир-растратчик поспешил просветить их, что Анакреон – гуляка среди гуляк, живший в стародавние времена и писавший о своих похождениях еще тогда, когда мир был подобен бильярдной Шихана.
– Послушай-ка, Тревер, – обратился к молодому гостю этот горе-банкир, – я ведь верно услышал Шульца, твоя матушка – поэтесса?
– Так и есть, – ответил Тревер, – но как же ей далеко до Анакреона! Она ведь из числа тех нагоняющих скуку моралистов, сущих во все времена и стремящихся своей поучительной дребеденью лишить жизнь всех ярких красок! А что, слыхали о ней? Она подписывает стихи девичьим именем – Элеонора Винг.
В тот миг Старый Сумасброд выпустил метлу из рук.
– А вот и твоя выпивка, – жизнерадостно объявил Шихан, внося в зал поднос с бутылью и стаканами. – Отменный виски, крепче во всем Чикаго не сыскать!
Глаза юноши блестели, а ноздри раздувались от паров коричневатой жидкости, которую ему наливали. Это ужасно отталкивало и возмущало всю его унаследованную деликатность; но решимость вкусить жизнь в полной мере оставалась с ним, и он держался смело. Правда, прежде чем его решимость подверглась испытанию, вмешалось нечто неожиданное. Старый Сумасброд, вскочив с того места, где сидел до сих пор, прыгнул на юношу и вырвал у него из рук поднятый стакан, почти одновременно шваброй зацепив поднос с бутылками и стаканами и разбросав содержимое по полу. Кое-кто из пьянчуг, давно лишившихся всех человеческих притязаний, повалился на пол и, стараясь не зачерпнуть битого стекла, стал лакать виски из расплывшейся пахучей лужи. Но в массе своей народ остался недвижим, предпочтя следить за беспрецедентным действом издалека. Старый Сумасброд выпрямился перед изумленным Тревером и мягким, хорошо поставленным голосом сказал:
– Когда-то я был таким же, как ты, и сделал это. Теперь я – вот такой.
– Что ты такое несешь, развалина дурная? – закричал Тревер. – Какое право имеешь ты препятствовать отдыхающему джентльмену?
Шихан, оправившись от изумления, подошел и положил тяжелую руку на плечо старцу.
– Слишком долго я тебя терпел! – яростно воскликнул он. – Когда джентльмен захочет выпить здесь, клянусь богом, он это сделает без твоего вмешательства. А теперь убирайся-ка отсюда к чертовой матери, пока я тебя не вышвырнул!
Но Шихану следовало бы лучше разбираться в психопатологии и считаться с тем, как на пожилом человеке сказывается нервное перевозбуждение. Ибо старик, покрепче ухватив за черенок швабру, начал размахивать ею, как гладиатор-македонец – копьем, и ею расчистил порядочное пространство вокруг себя, покрикивая попутно:
– Разнузданны и пьяны, Велиала на улицы выходят сыновья![4]
В бильярдной воцарился поистине адский переполох. Пьянчужки скулили в ужасе пред гневным демоном, коего ненароком пробудили. Юный Тревер был ошеломлен и смятен без меры случившимся. Он медленно отползал к стене по мере того, как усиливалась заварушка.
– Не должно пьянствовать ему, не должно! – ревел Сумасброд, исчерпавший, похоже, – или утративший вовсе – запас цветистых выражений. У входа в заведение уже собирались полицейские, привлеченные шумом, но и они не торопились вмешаться. Тревер, совершенно перепуганный и уже не рвавшийся познать жизнь через возлияния, отступал в сторону синих мундиров. Если удастся слинять отсюда и успеть на поезд до Эпплтона, размышлял юноша, можно считать свое образование в области распутства успешно оконченным.
Вдруг Старый Сумасброд перестал размахивать шваброй и застыл в неподвижности – выпрямившись столь статно, каким его прежде никогда здесь не видели.
– Ave, Caesar, morituri te salutant![5] – выкрикнул он – и рухнул на залитый виски пол, уже не поднимаясь более.
Последующие впечатления никогда не покинут сознание Тревера. Их образ померкнет, расплывется, но не сотрется полностью. Полисмены шерстили толпу, расспрашивая всех, кто находился как в центре происшествия, так и рядом с мертвым телом. Шихан был подвергнут особо дотошному допросу, но и от него не удалось добиться каких-либо значимых сведений о Старом Сумасброде. Разве что давешний горе-банкир вспомнил о фотокарточке, которую с собой всегда носил покойный, и предложил приобщить ее к делу – вдруг да прольет немного света и поможет в опознании. Молодой офицер склонился с брезгливой миной над телом, чьи глаза уже остекленели, и нашел завернутую в тисненую бумагу карточку, которую передал по кругу, чтобы все рассмотрели изображение.
– Экая цыпочка! – присвистнул один пьяница, разглядывая прекрасное лицо на снимке, но те, у кого ум не был окончательно затуманен спиртными парами, смотрели с почтением и смущением. Никто не знал эту женщину, никто не понимал, откуда у юродивого отщепенца фотопортрет такой дивной красоты, и только горе-банкир, с тревогой глядящий на снующих по бильярдной блюстителей порядка, что-то да понимал. Пожалуй, только он видел немного глубже – и мог понять, что скрыто под маской крайней деградации чокнутого старикашки.
Наконец фотография перекочевала к Треверу, и юноша переменился в лице. Вздрогнув, он быстро завернул изображение в бумагу, словно хотел защитить его от грязи, царившей в бильярдной. Затем он долгим, изучающим взглядом посмотрел на тело, лежавшее на полу, отметив про себя высокий рост и аристократичность черт, которая проступила лишь сейчас, когда тусклое пламя жизни угасло.
– Нет, – поспешно бросил он в ответ на обращенный к нему вопрос, – кто эта леди на снимке, мне неизвестно. Да и потом, – добавил он, – оно такое старое, это фото, что сейчас-то вряд ли кто ее узнает…
Но Альфред Тревер солгал – и об этом догадались многие, ведь о теле умершего старца он проявил неожиданную заботу, даже вызвался организовать в Эпплтоне погребение. Само собой, Альфред узнал женщину на снимке – над каминной полкой в его домашней библиотеке висела точная копия этого фотопортрета, и всю свою жизнь он знал и любил его оригинал.
Ибо эти утонченные и благородные черты принадлежали его матери.
Западня
В один из декабрьских четвергов все началось с того необъяснимого движения, которое, как мне показалось, я уловил в старинном копенгагенском зеркале. Нечто шевельнулось или отразилось в стекле, хотя я был один в своей комнате. Я замешкался, пристально вгляделся, потом, решив, что это, должно быть, чистая иллюзия, снова принялся расчесывать волосы.
Я нашел это старое зеркало, покрытое пылью и паутиной, во флигеле заброшенного поместья на малонаселенной северной территории Санта-Круса[6] и привез его в Соединенные Штаты с Виргинских островов. Почтенное стекло потускнело от более чем двухсотлетнего пребывания в тропическом климате, а изящный орнамент на позолоченной раме рассыпался. Впрочем, мне удалось собрать все его части и привести практически в былой вид – и зеркало, несшее на себе благородно-антикварный отпечаток, пополнило мой интерьер.
Теперь, несколько лет спустя, я жил наполовину как постоялец, наполовину как учитель в частной школе моего старого друга Брауна на ветреном склоне Коннектикутского холма – занимал неиспользуемое крыло в одном из общежитий, где у меня было две комнаты и целый коридор под собственные нужды. Старое зеркало, надежно спрятанное в матрасе, было мною распаковано по прибытии в первую очередь – его я разместил в гостиной на старом столе из розового дерева, принадлежавшем моей прабабушке.
Дверь моей спальни находилась как раз напротив двери гостиной, а между ними был коридор; и я заметил, что, глядя в свое шифоньерное зеркало, могу видеть большое зеркало через два дверных проема, как бы глядя в бесконечный уменьшающийся коридор. В этот четверг утром мне показалось, что я заметил странное движение в этом обычно пустовавшем проходе, – но, как уже было сказано, вскоре я отбросил эту мысль как абсурдную.
Спустившись в столовую, я застал учеников жалующимися на холод – оказалось, что из строя вышла школьная котельная. Будучи особо чувствительным к низким температурам, я и сам решил не занимать ни одну из наверняка промерзших классных комнат, так что весь мой класс разместился в гостиной у камина – едва такое предложение прозвучало, ученики, галдя радостно, устремились в мое крыло.
Когда занятие подошло к концу, юноши и девушки разбежались кто куда – задержался один только Роберт Грандисон. Он попросил остаться, так как у него не был назначен второй утренний урок, и я разрешил. Усевшись в удобное кресло перед камином, Роберт принялся с любопытством глазеть по сторонам.
Однако прошло совсем немного времени, прежде чем он пересел в другое кресло – в то, что стояло несколько дальше от только что разожженного камина; и эта перемена привела его прямо к старинному зеркалу. Сидя в своем кресле в другой части комнаты, я заметил, как пристально он стал смотреть на мутное стекло. Дивясь тому, что так сильно заинтересовало Роберта, я вспомнил о собственном утреннем опыте. Время шло, а он продолжал смотреть, слегка нахмурив брови.
Наконец я тихо окликнул его, спросив, что привлекло его внимание. Медленно, все еще озадаченно хмурясь, он оглянулся и ответил довольно осторожно:
– Это все волнистость стекла… кажется, так это называется, мистер Каневин[7]. Там как будто бы пучок линий двигается – и все сходятся в одной точке. Я могу показать!
Мальчик вскочил, подошел к зеркалу и приложил палец к точке в левом нижнем углу.
– Здесь, сэр, – сказал он, повернувшись ко мне, не отрывая пальца от выбранного места.
Должно быть, в тот момент, когда он повернулся ко мне, его палец слишком сильно вжался в стекло, потому что он вдруг резко отдернул руку от зеркала, как будто с некоторым усилием, и уставился на стекольную гладь с явным недоумением.
– Что такое? – удивленно спросил я, поднимаясь и подходя ближе.
– Я… мне… – Он выглядел смущенным. – Такое дело, сэр… В общем, мне показалось, что кто-то… или что-то… пыталось втянуть меня за палец туда, внутрь. Конечно, это звучит как небывальщина… но клянусь, именно это я и почувствовал! – для своих пятнадцати лет он порой делал совершенно неожиданные выводы.
Я подошел и попросил его показать мне точное место, которое он имел в виду.
– Вы, конечно, сочтете меня дураком, сэр, – смущенно сказал он, – но… ну, отсюда я не смогу точно показать. А вот с того места, где сидел – вполне.
Заинтригованный, я сел в кресло, которое занимал Роберт, и посмотрел на отмеченное им место на зеркале. И правда, с этой конкретной позиции многочисленные завитки древнего стекла, казалось, сходились – как растянутые струны, перехваченные невидимой рукой.
Встав и подступив вплотную к зеркалу, я понял, что не могу больше наблюдать этот причудливый эффект. По-видимому, он был доступен только с определенных углов. Та часть зеркала, где он сильнее всего проявлялся, при прямом взгляде не давала четкого отражения – я едва мог видеть собственное лицо. И как только я не замечал ранее? Загадка.
Вскоре прозвучал школьный гонг, и Роберт убежал, оставив меня наедине с оптической аберрацией. Подняв шторы на окнах, я пересек коридор и стал искать то место в отражении в зеркале шифоньера. Довольно быстро отыскав его, я пристально всмотрелся – и опять, как мне показалось, уловил некоторое мельтешение; а когда, вытянув шею, добился нужного угла зрения, нечто будто бы прянуло на меня из глубины зеркала.
Иллюзия «движения» стала явной, оформившейся, напоминающей мимолетный, но при том интенсивный закрученный вихрь – по подобной траектории кружатся опавшие листья на крыльце поздней осенью. По кругу – и в то же время вовнутрь, в нескончаемом потоке, что устремлен к некой конкретной точке по ту сторону стекла. Я был зачарован этим оптическим феноменом. Даже понимая, что передо мной, верней всего, простая иллюзия, я все никак не мог забыть, что сказал Роберт: «Что-то пыталось втянуть меня за палец туда, внутрь», – и сам будто бы втягивался в наблюдаемый в зеркале водоворот.
Легкий холодок внезапно пробежал вверх и вниз по моей спине. Здесь явно было что-то, на что стоило обратить внимание. И когда мысль о расследовании пришла мне в голову, я вспомнил задумчивое выражение лица Роберта Грандисона перед самым гонгом. Я вспомнил, как он оглянулся через плечо, покорно выходя в коридор, и решил, что этот малый может мне изрядно помочь в распутывании «зеркальной» загадки – он наблюдателен и любопытен, что полезно в любом сыскном деле.
Однако волнующие события, связанные с Робертом, вскоре изгнали из моего сознания на время все мысли о зеркале. Я отсутствовал весь день и вернулся в школу только в пять пятнадцать – на общее собрание, непреложное для всех учащихся. Зайдя на это мероприятие с мыслью поговорить о зеркале с Робертом, я был поражен и огорчен, обнаружив, что один из самых пунктуальных учащихся школы по непонятной причине отсутствует. В тот же вечер Браун огорошил меня новостью, что мальчик действительно исчез. Обыск в его комнате, в спортзале и во всех других привычных местах оказался безрезультатным; при этом все вещи, включая верхнюю одежду, остались на своих местах. В тот день его не застали ни на льду, ни на плацу, и даже телефонные звонки в местечковые кафе не принесли результата. После того, как в четверть третьего закончился урок, никто не видел Роберта – поднявшись по лестнице в свою комнату в третьем жилом корпусе, он будто в воду канул.
Что и говорить, едва весть была в полной мере усвоена всеми, в школе стало некоторым образом неуютно. Брауну как директору пришлось взвалить на себя всю тяжесть случая – столь беспрецедентное в его безукоризненно организованном славном учреждении бедствие повергло его в полное замешательство. Стало известно, что Роберт не убежал к себе домой в Западную Пенсильванию, и ни одна из поисковых групп не нашла его следов в заснеженной сельской местности вокруг школы. Насколько можно было судить, он исчез без следа.
Родители Роберта приехали на второй день после его пропажи. Они проявили завидную стойкость, хотя, конечно же, были потрясены случившимся гораздо сильнее всех нас. Браун после разговора с ними будто на десять лет постарел. На четвертый день дело стало казаться школе неразрешимой загадкой, мистер и миссис Грандисон неохотно вернулись домой, а на следующее утро начались десятидневные рождественские каникулы.
Учащиеся и учителя разъехались по домам отнюдь не в праздничном настроении. Браун с женой и прислугой остались единственными моими соседями в огромном школьном здании – непривычно пустом, погрузившимся в слегка зловещую ауру.
В тот день я сидел перед камином, размышляя об исчезновении Роберта и продумывая всевозможные версии. К вечеру у меня сильно разболелась голова, и я, неплотно поужинав в столовой, вернулся к себе через вереницу корпусов, отрешенный от мира стеной тягостных дум.
Когда часы пробили десять, я пробудился, поняв, что сижу в кресле посреди холодной комнаты – пока я спал, огонь в камине погас. Невзирая на физическую утомленность, в душе я ощутил неожиданный прилив сил, осознав, что шансы на разгадку участи Роберта не столь ничтожны, как может показаться. Ибо из сна я вынырнул с любопытной настойчивой мыслью – Роберт, где бы он сейчас ни был, пытается отчаянно воззвать ко мне откуда-то издалека. Да, во мне жила определенная надежда на то, что мальчик жив, и его реально спасти.
Такая уверенность может показаться странной, но я многие годы провел в Вест-Индии, где доводилось не раз соприкасаться с разного рода необъяснимыми явлениями. Прежде чем заснуть во второй раз, я сознательно напрягал свой мозг, пытаясь установить нечто вроде мысленной связи с пропавшим воспитанником. Даже самые прозаически настроенные ученые утверждают, солидарно с Юнгом и Адлером, что подсознание наиболее открыто для внешних психических влияний во сне, пусть даже и полученные от них впечатления редко переносятся в целостности в бодрствующее состояние.
Если пойти еще дальше и допустить существование телепатических сил, то из этого следует, что такие силы должны действовать наиболее сильно на спящего человека; так что если я когда-нибудь и получу определенное послание от Роберта, то только в фазе глубокого сна. Конечно, я могу забыть его, проснувшись, но способность запоминать сны в моем случае была славно отточена умственными практиками, коим подвергался я в разное время в темных уголках земного шара.
Должно быть, я заснул мгновенно, и по живости моих сновидений и отсутствию промежутков бодрствования я заключаю, что мой сон был очень глубоким. Было шесть сорок пять, когда я проснулся, и в памяти все еще оставались некоторые впечатления, которые, как я знал, были перенесены из сновидческого опыта. Мой ум занял образ Роберта Грандисона – такой же, как и в жизни, с поправкой на зловещий цвет кожи, сочетавший черноту, синеву и болотную зелень. Роберт отчаянно пытался общаться со мной посредством речи, но находил в этом некоторые почти что непреодолимые трудности. Стена странного пространственного разделения, казалось, стояла между ним и мной – таинственный, незримый барьер, который полностью сбивал нас обоих с толку.
Я видел Роберта как бы издалека, но, как ни странно, он в то же время находился совсем рядом со мной. Хоть и не сразу, но я нашел тому объяснение: размеры его тела непонятным образом изменялись в прямой, а не в обратной пропорции, и чем больше было разделяющее нас расстояние, тем крупнее казался сам Роберт. Законы реальной перспективы в этом случае были поставлены с ног на голову. И все же более всего я был озадачен даже не пропорциями размеров Роберта и не туманными, расплывчатыми очертаниями его фигуры, а именно той аномальной цветовой инверсией его облика из моего сна.
В определенный момент во сне голосовые усилия Роберта наконец кристаллизовались в слышимую речь – пусть даже с трудом различимую, с небывало низким тембром. Какое-то время я ничего не понимал из того, что он говорил, и даже ломал голову, пытаясь понять, где он находится, что хочет сказать и почему его слова так неразборчивы. Затем мало-помалу я начал различать фразы – и этого хватило, чтобы активизировать мое спящее «я» и установить некую ментальную связь, которая прежде отказывалась принимать сознательную форму из-за полной невероятности того, что она подразумевала.
Не знаю, как долго я слушал эти прерывистые слова в глубоком сне, но, должно быть, прошли часы, пока невообразимо далекий собеседник вел свой рассказ. Мне открылось такое обстоятельство, в коем я не смею чаять убедить других без подтверждающих доказательств наиболее серьезного толка, но каковое я был вполне готов принять как истину – как во сне, так и после пробуждения, – из-за моих прежних контактов со сверхъестественными силами. Во всяком случае, одно обстоятельство порадовало меня – когда Роберт убедился в том, что я наконец начал понимать его речь, лицо его озарилось благодарностью и надеждой.
Переходя к попытке пересказать сообщение Роберта в том виде, в каком оно звучало в моей голове, нужно весьма тщательно подбирать слова – ведь трудно поддается определению все то, что связано с этой историей. Я уже говорил о том, что благодаря посетившему меня во сне откровению в сознании моем зафиксировалась совершенно четкая связь, природа коей не позволяла мне постичь ее ранее, – связь вихреобразных завитков старинного копенгагенского стекла, из которого было сделано зеркало, с той иллюзией завихрения, что так удивила и очаровала нас с Робертом тем декабрьским утром четверга. В итоге я решил опираться в большей степени на разум, чем на интуицию, и заключил, что фантасмагории сродни тем, что Кэрролл выписывал в сказках об Алисе, для Роберта воплотились в страшную реальность. Мое антикварное зеркало взаправду могло втянуть объект физического мира в свое внутреннее пространство, где, как следовало из объяснений явившегося мне во сне Роберта, нарушались радикальнейшим образом законы, присущие трехмерному миру. Выражаясь проще, зеркало – самая настоящая западня, проход в пространственный альков, не предназначенный жителям нашей осязаемой вселенной, определяемый исключительно положениями наисложнейшей неевклидовой геометрии. Неким совершенно неочевидным образом Роберт Грандисон вошел в такой проход – и оказался замурован в зеркальном измерении.
Примечательно также вот что: проснувшись, я не испытывал ни малейшего сомнения в реальности полученного откровения. То, что я в самом деле разговаривал с «потусторонним» Робертом, а не вообразил этот эпизод, основываясь на догадках о его исчезновении и о тех причудах зеркального отражения, что мы с ним заметили, было так же несомненно для моих сыскных инстинктов, как и любая инстинктивная догадка, признаваемая действительной по итогу следствия.
Таким образом, история, развернувшаяся передо мной, была невероятно странной. Как было ясно, в утро исчезновения Роберт был чрезвычайно очарован древним зеркалом. Все время, пока мы были в школе, он только и думал о том, чтобы вернуться в мою гостиную и осмотреть его еще раз. Он освободился от занятий примерно в двадцать минут третьего, меня не застал – я еще был в городе, – поэтому, зная, что я не стал бы возражать, вошел в комнату и направился прямо к зеркалу. Встав перед ним, он стал изучать то место, где, как мы уже заметили, сходились некие оптические линии.
Затем, совершенно неожиданно, у него возникло непреодолимое желание положить на деформированную амальгаму руку. Почти неохотно, будто бы вопреки здравому смыслу, он так и сделал; и, войдя в контакт, сразу же ощутил странное болезненное погружение, которое озадачило его тем утром. Сразу же после этого, без предупреждения, он был втянут в проход – перенос по ту сторону зеркала сопровождался сильным спазмом, который, как показалось, выворачивал и разрывал каждую кость и мышцу в его теле, растягивал и резал каждую жилу.
Но мучительно болезненное напряжение не продлилось долго. По словам Роберта, по ту сторону зеркала он чувствовал себя так, словно только что родился – и это подтверждалось всякий раз, когда он пытался что-то делать: ходить, наклоняться, поворачивать голову или говорить. Собственное тело казалось ему рассогласованным, непригодным.
Через некоторое время эти ощущения исчезли, и Роберт превратился в организованное целое, а не в набор протестующих частей. Из всех форм самовыражения речь оставалась для него самой трудной; несомненно, потому что сам процесс сложен и задействует множество различных органов, мышц и сухожилий. Ноги Роберта, с другой стороны, приспособились к новым условиям первее всего.
По пробуждении утром я стал обдумывать весь этот не поддающийся объяснению опыт, сопоставляя все, что видел и слышал, отваживая естественный скептицизм здравомыслящего человека, планируя разработать возможные планы освобождения Роберта из его невероятной тюрьмы. По мере углубления в суть проблемы ряд первоначально озадачивающих моментов становился ясным – или, по крайней мере, более ясным, – для меня.
В первую очередь удалось разрешить загадку необычной цветовой гаммы зазеркального мира. Например, лицо и руки Роберта, как я уже говорил, были окрашены в некую странную смесь болотно-зеленого и иссиня-черного цветов. Его синий пиджак норфолкского кроя стал бледно-лимонно-желтым, в то время как брюки остались нейтрально-серыми, как и прежде. Размышляя об этом после пробуждения, я обнаружил, что это обстоятельство тесно связано с изменением перспективы, которое заставляло Роберта казаться больше, когда он удалялся, и меньше, когда приближался. Здесь имел место тот же физический выверт; все цвета в западне зеркала стали инвертированными. В физике типичными цветами спектра являются синий и желтый, а также красный и зеленый. Эти пары противоположны и при смешивании дают серый цвет. Соответственно, серые брюки серыми и остались, но синий пиджак пожелтел, а кожа обрела описанный мой композитный оттенок. Для серого цвета нет противоположности – или, вернее выражаясь, он инвертируется сам в себя.
Еще один проясненный момент касался странно притуплeнной басистой речи Роберта, а также ощущений телесной рассогласованности, на которые он жаловался. Поначалу симптом казался загадкой, но после долгих размышлений ключ к разгадке пришел ко мне. Здесь снова имела место та же подмена, повлиявшая на перспективу и окраску. Если предположить, что зеркальное измерение живет по законам отражения, любой попавший в него выворачивается именно таким образом – руки и ноги, а также цвета и перспективы меняются местами. То же самое происходит и со всеми другими двойственными органами, такими как ноздри, уши и глаза. Таким образом, Роберт говорил с «перевернутыми» голосовыми связками и речевым аппаратом – тем и объяснялись все его затруднения.
Пока день клонился к закату, мое чувство суровой реальности и сводящей с ума срочности ситуации, раскрытой во сне, скорее усилилось, чем уменьшилось. Все больше и больше я чувствовал, что надо что-то предпринять, но понимал, что не могу ни у кого испросить совета или помощи. Расскажи я, что собираюсь всецело довериться образам из сна, наверняка надо мной посмеются или, того хуже, усомнятся в душевном здравии. Да и о какой конкретно помощи просить, располагая столь невеликими сведениями? Тут я понял, что мне нужно выведать больше, а пока глупо и думать о возможном плане вызволения моего ученика из западни. А выведать больше по-прежнему можно было одним лишь способом – в фазе глубокого сна воспринимая посещавшие меня видения.
Сразу после обеда, за которым мне удалось с помощью жесткого самоконтроля скрыть от Брауна и его жены бурные думы, я смог крепко заснуть – и в какой-то момент предо мной начал вырисовываться смутный мысленный образ. Вскоре я, безмерно волнуясь, понял, что он идентичен тому, что я видел раньше. Во всяком случае, теперь он был более отчетлив; и когда он начал говорить, я, казалось, смог уловить большую часть слов.
Во время этого сна я обнаружил, что большая часть утренних выводов подтвердилась, хотя беседа была таинственным образом прервана задолго до моего пробуждения. Роберт казался встревоженным как раз перед тем, как связь прервалась, но успел подтвердить, что в его странной четырехмерной тюрьме цвета и пространственные отношения действительно поменялись местами – черное стало белым, расстояние зримо увеличилось, и так далее.
Роберт также поведал мне о том, что физиологическая рутина попавшего в Зазеркалье человеческого организма коренным образом отличается от таковой в повседневной жизни. В частности, отпадала надобность в пропитании – явление действительно более необычное, чем всеобъемлющая инверсия объектов и атрибутов, которую, как я думал, все же возможно было теоретически обосновать, прибегнув к соответствующим математическим выкладкам. Еще один важный нюанс заключался в том, что единственным выходом из зеркальной западни являлся вход в нее – и что выбраться из нее без вмешательства извне невозможно.
Следующей ночью я опять встретился во сне с Робертом. Кажется, сновидческий канал связи между нами обрел должную устойчивость – хотя порой его попытки донести до меня что-то словесно терпели неудачу: усталость, волнение или страх прерывания делали его речь неуклюжей, сумбурной и малопонятной.
С таким же успехом я могу изложить все, что рассказывал мне Роберт на протяжении всей серии мимолетных ментальных контактов, возможно, дополнив его в некоторых местах фактами, непосредственно связанными с его высвобождением. Телепатическая информация была отрывочной и часто почти нечленораздельной, но я изучал ее снова и снова в течение трех напряженных дней бодрствования, классифицируя и анализируя с почти лихорадочным усердием – ведь только так я мог вернуть Роберта в мир людей.
Вопреки фантазиям сюрреалистов, универсум заточения Роберта не являлся цветистым безграничным царством, полным странных зрелищ и фантастических обитателей. На деле то была проекция некоторых ограниченных частей нашей собственной земной сферы, поданная в весьма чуждом аспекте и искаженная. Это был удивительно фрагментарный, неосязаемый и неоднородный мир – серия, казалось бы, разрозненных сцен, сливающихся одна с другой; их составные части имели явно иной статус, чем объект, втянутый в зеркальный мир, каким был Роберт. Эти сцены были подобны видениям во сне или образам калейдоскопа – неуловимым зримым впечатлениям, частью которых мальчик не был, но которые образовывали своего рода панорамный фон или эфирную среду, на фоне которой или в которой он двигался.
Он не мог коснуться ни одной из частей этих сцен – стен, деревьев, мебели и тому подобного, – но происходило ли это потому, что они были взаправду нематериальны, или потому, что они всегда отступали при его приближении, он был совершенно не в состоянии определить. Все казалось текучим, изменчивым и нереальным. При ходьбе, например, он видел поверхность, на которую опирались его ноги, будь то пол, тропинка или зеленый газон, но когда он наклонялся, чтобы потрогать рукой твердь, та непостижимым образом ускользала от него. При этом сила сопротивления поверхности независимо от ее внешнего вида всегда оставалась примерно одинаковой – это было некое давление, уравновешивающее то усилие, с которым тело воздействовало на опору своим весом. Что до перемещений с одного уровня высоты на другой, то они осуществлялись при помощи определенной балансирующей силы – когда Роберту нужно было подняться вверх, он не преодолевал ступеньку за ступенькой, как в обычном мире, а просто плавно всходил вверх по невидимому пандусу; таким же образом осуществлялось и движение вниз.
Переход от одной определенной сцены к другой включал в себя своего рода скольжение через область тени или размытого фокуса, где детали каждой сцены странно смешивались.
Все сцены отличались отсутствием переходных объектов и неопределенно-двусмысленным видом таких полупереходных объектов, как мебель или растительность. Освещение каждой сцены было рассеянным и сбивало с толку, и, конечно же, сочетание противоположностей цветового спектра – ярко-алый оттенок травы, желтизна неба с черными и серыми облаками, бледность древесных стволов и зелень кирпичных стен – придавало невероятно гротескный вид даже самым обычным пейзажам. Смена дня и ночи – привычное донельзя явление – в соответствии с обратным действием физических законов представляла чередование дневного мрака со светом ночи.
Скудное однообразие локаций Зазеркалья озадачивало Роберта поначалу – потом же он сообразил, что состояли они всего лишь из тех мест, которые длительное время отражались в зеркале. Так объяснялось и странное отсутствие переходов, довольно произвольный характер связи локаций между собой и, наконец, неизменное окаймление видов контурами оконных рам и дверных проемов. Несомненным было для меня то, что зеркало обладало способностью запечатлевать те неосязаемые сейчас картины, что были некогда отражены его поверхностью. Неосязаемыми они были потому, что зеркало поглощало внутрь своего пространства не сами объекты в их материальном качестве, а только их эфемерные образы. Роберт был захвачен им во плоти и крови, но в этом случае имел место другой, особенный процесс.
Однако самой невероятной чертой этого феномена – по крайней мере, для меня, – было то чудовищное низложение известных законов пространства, проявлявшееся при сравнении иллюзорных сцен зеркального мира с их реальными земными аналогами. Говоря о том, что магическое стекло хранит внутри себя образы земных пейзажей, я позволяю себе некоторое упрощение истинного положения вещей – на деле каждая из декораций зеркала представляла собой неискаженную квазиперманентную проекцию четвертого измерения соответствующего земного участка. Поэтому, когда я наблюдал Роберта в пределах той или иной декорации – к примеру, в рамках образа моей комнаты, где он неизменно оказывался в ходе наших сеансов телепатической связи, – он действительно пребывал именно в этом месте реального земного мира, хотя и в условиях, исключающих возможность всяческого сенсорного контакта между ним и аспектами обычного трехмерного пространства.
Теоретически заключенный в зеркале мог за несколько мгновений перенестись в любую точку нашей планеты – то есть, в любое место, которое когда-либо отражалось в зеркале. Это, вероятно, относилось даже к тем местам, где зеркало провисело недостаточно долго, чтобы создать ясную иллюзорную картину; они были представлены нечетко оформленными зонами темноты. За пределами определенных сцен простиралась кажущаяся безграничной область нейтрально-серых сумерек, в которой Роберт никогда не был уверен, не осмеливаясь далеко заходить в нее из страха безнадежно потеряться как в реальном, так и в зеркальном мирах.
Среди первых подробностей, которые сообщил Роберт, было то, что он не один в своем заключении. Вместе с ним там были и другие люди, все – в старинных одеждах: дородный джентльмен средних лет в парике и бархатных бриджах до колен, говорящий по-английски бегло, хотя и с заметным скандинавским акцентом; довольно красивая маленькая девочка с очень светлыми волосами, которые в мире зеркала выглядели влажно-синими; два немых, по всей видимости, негра, чьи крупные черты гротескно контрастировали с бледностью кожи; одна молодая женщина; очень маленький ребенок, почти младенец; и, наконец, худощавый пожилой датчанин экстравагантного облика с умным лицом – человек явно образованный, но похоже ни капли не сострадательный, а возможно, и лукавый.
Датчанина звали Аксель Холм, и по моде более чем двухсотлетней давности наряд его состоял из расклешенного сюртука, атласных панталон и пышного парика. Среди небольшой группы пленников зеркала он выделялся тем, что был ответственен за присутствие остальных – ведь именно он, одинаково искусный в чернокнижии и стеклоделии, давным-давно создал эту странную пространственную тюрьму, в которой он сам, его рабы и те, кого он пригласил или заманил туда, были замурованы навсегда – ну или по меньшей мере на тот срок, пока сохранно было зеркало.
Холм родился в самом начале семнадцатого века и с огромным знанием дела и успехом занимался ремеслом стеклодува и формовщика в Копенгагене. Изготовляемые им большие зеркала, настоящие произведения искусства, всегда были в большом почете. Но тот же самый смелый ум, который сделал Холма первым стекольщиком Европы, помог ему перенести свои интересы и амбиции далеко за пределы сугубо материального мастерства. Окружающий мир раздражал его ограниченностью человеческих знаний и возможностей. В конце концов Холм стал искать темные пути преодоления этих ограничений и достиг гораздо большего, чем дозволительно любому смертному, успеха в своих поисках.
Он стремился вкусить истинной вечности – и зеркало было его средством достижения цели. Серьезному изучению четвертого измерения положил начало далеко не Эйнштейн в нашем веке, а Холм – в семнадцатом, и именно Холм в ходе своих изысканий открыл, что в случае физического вхождения в скрытую фазу пространства можно предотвратить смерть в принципе. Заключив, что явление оптического отражения открывает универсальный вход во все измерения пространства, помимо наших обычных трех, Холм приложил нечеловеческие усилия к розыску очень редкого и древнего артефакта – хроматического отражающего стекла, или, скорее, стекольного фрагмента, в определенных трудах означенного как «Око Локи[8]». И удача, как очевидно, улыбнулась ему. Исследовав Око в соответствии с предусмотренным им методом, Холм проникся осознанием того, что жизнь в смысле сохранения формы и сознания будет продолжаться практически вечно в открывшемся ему Зазеркалье – при условии, что сам рефлектор будет бесконечно долго предохранен от поломки или порчи.
И Холм сделал великолепное зеркало, высоко оцененное и бережно хранимое, и в него ловко вплавил добытое алхимическое Око Локи. Подготовив таким образом свое убежище – и свою западню, – он начал планировать способ перехода и условия проживания. Он хотел иметь при себе как слуг, так и товарищей, и в качестве начала эксперимента послал вперед себя двух надежных негритянских рабов, привезенных из Вест-Индии. Какими должны были быть его ощущения при виде этой первой конкретной демонстрации правоты его теорий? Я могу лишь гадать.
Несомненно, человек его знаний понимал, что отсутствие во внешнем мире, если оно откладывается за предел естественной продолжительности жизни тех, кто находится внутри, должно означать мгновенный телесный распад при первой же попытке вернуться в наш мир. Но если зеркало останется целым, его пленники пребудут навсегда такими, какими они были во время входа. Они никогда не состарятся и не будут нуждаться ни в пище, ни в питье.
Чтобы сделать свою западню более сносной, Холм переправил в Зазеркалье библиотеку и письменные принадлежности, прочно сработанную мебель и другие предметы привычной ему обстановки. Он знал, что образы, которые отразит стекло, не будут осязаемыми, а просто будут простираться вокруг него, как фон сна, поэтому и провел подобную подготовку. Его собственный переход в 1687 году был знаменательным событием и сопровождался чувством триумфа, смешанного с ужасом. Если бы в планы вмешалось что-то непредвиденное, Холм мог навеки затеряться в темных и непостижимых множественных измерениях.
В течение более чем полувека ему не удавалось пополнить свою скудную компанию рабов, но позже он усовершенствовал свой телепатический метод визуализации небольших участков внешнего мира вблизи зеркала – и привлечения определенных людей в эти области посредством Ока Локи. Таким образом Роберт, под влиянием желания надавить на «проход» рукой, был заманен внутрь. Такие визуализации полностью зависели от телепатии, поскольку никто внутри зеркала не мог видеть того, что происходило за его пределами.
По правде говоря, Холм и его компания вели странную жизнь за стеклом. Поскольку зеркало простояло целое столетие, обращенное лицевой стороной к пыльной каменной стене сарая, где я его нашел, Роберт был первым существом, вошедшим в этот Лимб за предолгие годы. Его прибытие было торжественным событием, так как он принес известия из внешнего мира, которые, должно быть, произвели самое поразительное впечатление на слушателей. Да и самому мальчишке было не по себе от знакомства с людьми, жившими в семнадцатом и восемнадцатом веках.
Можно лишь весьма смутно представить себе ту убийственную монотонность, которой характеризовалась жизнь этих заключенных. Как уже упоминалось, все окружавшие их виды сводились к довольно ограниченному числу пейзажей и интерьеров, которые были когда-либо отражены старинным зеркалом за весь период его существования; многие из них из-за пагубного воздействия тропического климата на зеркальную поверхность стали размытыми и непонятными. Некоторые, однако, сохранили яркость и красоту; именно на их фоне компания любила собираться вместе. Но все же ни один из тех видов нельзя было назвать безупречным, ибо даже хорошо видимые предметы отличались безжизненной неосязаемостью и неприятно озадачивали своими подчас приводящими в недоумение свойствами. И когда мир зеркальной западни погружался в тягостный мрак, его обитатели, за неимением лучшей доли, терзались зацикленной ностальгией, предавались думам и беседам – неизменным с того самого дня, как стали невосприимчивы к влиянию хода времени во внешнем мире сами пленники.
Неодушевленные предметы в Зазеркалье можно было перечесть по пальцам – по факту, их число ограничивалось вещами, которые Холм заготовил для себя, да еще той одеждой, что была на узниках. За исключением датчанина, все они обходились без кроватей; впрочем, те не были им нужны, ибо сон и усталость были им точно так же неведомы, как голод или жажда. Неорганические вещества и изготовленные из них вещи были в одной степени с органикой предохранены от распада. Низшие формы животной жизни полностью отсутствовали.
Большинство сведений Роберт почерпнул у герра Тиле, того самого господина, который говорил по-английски со скандинавским акцентом. Дородный датчанин быстро привязался к мальчику и все свое время проводил в беседах с ним; да и другие узники полюбили Роберта всей душой, и даже сам Аксель Холм благоволил ему – именно от него мальчик узнал многое о природе западни и о способе входа в нее. И все же Роберт благоразумно не вступал со мною в телепатическую связь, если Холм находился неподалеку. Дважды во время нашего общения в поле зрения возникала фигура датчанина – и Роберт, не колеблясь, тут же замолкал.
Общаясь с Робертом, я не видел того мира, в который он попал. Его зримый образ был соткан из контуров телесной оболочки и облегавшей ее одежды и представлял, подобно акустическому рисунку его прерывистого голоса для меня и моему зрительному образу для него, типичный пример телепатической передачи информации, иного процесса в сравнении с обычным зрительным восприятием трехмерных физических тел. Если бы Роберт был таким же сильным телепатом, как Холм, он наверняка мог бы передать несколько сильных образов в отдельности от образа своей непосредственной персоны.
В течение всего этого периода откровений я отчаянно пытался найти способ спасения Роберта. На четвертый день – девятый после исчезновения мальчика – решение нашлось. С учетом всех обстоятельств разработанный мною план отличался простотой, несопоставимой с затраченными на него усилиями… и полной непредсказуемостью последствий, которые – в случае неудачи – могли быть совершенно непоправимыми. План зиждился в основном на том знании, что выхода из Зазеркалья как такового не существует. Если Холм и его пленники были навсегда запечатаны, то освобождение должно было прийти полностью извне. Другие соображения затрагивали судьбу остальных заключенных, если таковые оставались в живых при переходе, и особенно – судьбу Акселя Холма. То, что Роберт рассказал мне о нем, было далеко не обнадеживающим, и я, конечно же, не желал, чтобы он свободно разгуливал по моим покоям, вновь обретя свободу изъявлять свою волю миру. Телепатические послания не вполне прояснили эффект освобождения для тех, кто вошел в зеркало целые века назад.
Кроме того, существовала еще одна, хотя и незначительная, проблема в случае успеха – как вернуть Роберта в рутину школьной жизни без сумасбродных объяснений? Даже мне правда казалась безумной всякий раз, когда я позволял своему разуму отвлечься от картины, столь убедительно обрисованной в нескольких насыщенных сновидениях.
Обдумав план и решив, что игра всяко стоит свеч, я принес из школьной лаборатории большое увеличительное стекло и тщательно изучил каждый квадратный миллиметр центра зеркала, ответственного за вихреобразную иллюзию. По всей вероятности, центр этот и был фрагментом старинного стекла, что использовал Холм для перехода в свою западню. Но даже так я не мог поначалу выявить границу между старым и новым зеркалами. У меня ушли часы на то, чтобы отметить границу оправы Холма и обвести мягким синим карандашом – фигура, получившаяся в итоге, представляла собой почти правильный овал. После этого я съездил в Стэмфорд, где приобрел стеклорез. С его помощью я намерен был изъять колдовской участок стекла из его более позднего обрамления.
Вслед за тем я выбрал оптимальное время суток для проведения эксперимента, исход которого должен был решить судьбу Роберта, остановившись на половине третьего ночи.
Во-первых, столь поздний час был надежной гарантией моего полного уединения, а во-вторых, время это выступало «зеркальным» по отношению к половине третьего пополудни, времени предполагаемого перехода Роберта. Противоположность такого рода, вполне возможно, и не имела никакого значения, но чутье подсказывало мне, что я на верном пути.
Наконец, на одиннадцатый день после исчезновения, рано утром, задернув все шторы в гостиной и заперев дверь в прихожую, я принялся за работу. Затаив дыхание, я установил на синей карандашной отметке резец и провел пробную линию. Старое зеркало полудюймовой толщины хрустело под твердым равномерным давлением, и, завершив круг, я обошел его во второй раз, еще глубже вдавливая резец в стекло.
Затем, соблюдая предельную осторожность, я снял тяжелое зеркало со столика, где оно стояло все это время, и прислонил его лицевой стороной к стене, отодрав пару тонких узких полосок, прибитых к задней стенке. Аккуратно стукнул ручкой стеклореза по прорезанному участку – и первого же удара оказалось достаточно, чтобы овальный фрагмент вывалился из оправы на застилавший пол бухарский ковер.
Признаться, столь скорый успех застал меня врасплох. Я не знал, что может случиться, но был готов ко всему и невольно сделал глубокий вдох. В эту минуту я удобства ради стоял на коленях, приблизив лицо к только что проделанному отверстию, – и в ноздри мне ударил сильный затхлый смрад, не сравнимый ни с каким другим из всех изведанных. В глазах тут же посерело; я почувствовал, что меня подавляет невидимая сила, лишающая мои мышцы способности функционировать. Помню, как слабо и тщетно ухватился за край ближайшей оконной драпировки – та сорвалась с крючка, и я распластался на полу без сознания.
Очнувшись, я обнаружил, что лежу на бухарском ковре, а мои ноги кем-то задраны вверх. Комната была полна того отвратительного и необъяснимого запаха, и когда мои глаза начали воспринимать определенные образы, я увидел, что передо мной – Роберт Грандисон собственной персоной. Именно он – во плоти, с нормальным цветом кожи – держал меня за ноги, чтобы кровь прилила к голове, как учили его на курсах оказания первой медицинской помощи людям, потерявшим сознание. На мгновение я лишился дара речи – как от стоящего зловония, так и от растерянности, которая быстро переросла в чувство торжества; затем я обнаружил, что могу шевелиться и даже говорить.
Подняв руку, я дал Роберту слабую отмашку.
– Довольно, старина… бросай меня. Большое спасибо. Кажется, я снова в порядке. Этот запах… думаю, он меня и свалил. Открой самое дальнее окно – пошире, да, вот так. Шторы не отодвигай. Спасибо тебе.
Я тяжко поднялся на ноги, чувствуя, как мое нарушенное кровообращение понемногу восстанавливается, и выпрямился, опершись на спинку ближайшего стула. Я все еще был не в себе, но дуновение свежего, пронизывающе холодного воздуха из окна быстро привело меня в чувство. Сев в большое кресло, я посмотрел на Роберта.
– А где остальные? – спросил я. – Где сам Холм? Что с ними стало?
Роберт замер и очень серьезно посмотрел на меня.
– Их нет, мистер Каневин. Я видел, как они все исчезли. Там, в этом зеркале… ничего не осталось больше. – Поддавшись нахлынувшим чувствам, мальчишка зашмыгал носом. Тут я нашел в себе силы принести ему плед, сел рядом, успокаивающе положил руку ему на плечо.
– Все в порядке, старина, – заверил я его.
Внезапный и вполне естественный срыв миновал так же быстро, как начался, когда я заговорил с ним о своих планах относительно его спокойного возвращения в школу. Интерес к ситуации и необходимость скрыть невероятную правду под рациональным объяснением завладели его воображением, как я и ожидал, и наконец он стал поспешно пересказывать все подробности своего освобождения. Когда я ломал стекло, он находился в «проекции» моей спальни, и в тот самый момент, когда западня была разъята, оказался в реальной трехмерной комнате – не успев до конца осознать собственное освобождение. Услышав, как я падаю в гостиной, он вбежал туда – и нашел меня на коврике в обмороке.
Я не стану слишком подробно останавливаться на той инсценировке, которую устроили мы с Робертом, чтобы скрыть от общественности истинную картину его исчезновения. Скажу только, что ранним утром усадил мальчика в машину, отъехал на порядочное расстояние от школы и, повторив по пути выдуманную мною легенду, вернулся обратно, чтобы разбудить Брауна новостью о находке. Я объяснил ему, что в день исчезновения Роберт гулял один, и двое молодых людей предложили ему прокатиться на автомобиле, а потом, несмотря на все протесты и заверения в том, что он не может ехать дальше Стэмфорда, повезли его дальше. Роберту все же удалось ускользнуть от них, когда машина остановилась из-за какой-то поломки; скрывшись от похитителей, он стал ловить на дороге попутку, надеясь поспеть к вечерней перекличке, и по неосторожности попал под автомобиль. Ясный ум вернулся к нему лишь десять дней спустя – в доме того водителя, под колесами чьей машины он оказался. Тут же, посреди ночи, мальчик сделал звонок в школу, и я, будучи единственным, кто не спал в столь поздний час, не тратя время на извещения третьих лиц, приехал и забрал его.
Браун, тотчас же позвонивший родителям Роберта, принял рассказ без всяких вопросов и не стал расспрашивать мальчика из-за явного истощения последнего. Было решено, что он останется в школе на некоторое время; жена Брауна, в прошлом сестра милосердия, взялась ухаживать за ним до приезда родителей. Естественно, я часто виделся с ним во время рождественских каникул и таким образом смог заполнить некоторые пробелы в отрывочной истории, изложенной им телепатически.
Время от времени мы почти сомневались в реальности того, что произошло, задаваясь вопросом, не были ли мы оба охвачены каким-то чудовищным заблуждением, порожденным оптико-гипнотическим качеством зеркала, не была ли история о поездке и несчастном случае, в конце концов, настоящей правдой? Но всякий раз от сомнений одно чудовищно-навязчивое воспоминание возвращало нас к вере: меня – образ Роберта во сне, его хриплый голос и цвет кожи, обращенный в негатив; его – фантастическое великолепие жителей прошлых веков и безжизненных сцен, свидетелем коих он был. Ну и сверх всего – наше общее воспоминание о мертвецком смраде, хлынувшем из прореза в зеркале, сопровождавшем мгновенный распад тех, кто вошел в иное измерение столетие и более назад.
Есть, кроме того, по крайней мере две линии более убедительных свидетельств; одна из них приходит через мои исследования в датских анналах, касающихся Акселя Холма. Такой человек действительно оставил много следов в фольклоре и письменных свидетельствах; и усердные библиотечные поиски вкупе с письмами, написанными мною нескольким датским краеведам, пролили гораздо больше света на его дурную славу. Копенгагенский мастер дел стекольных, родившийся в 1612 году, слыл известным чернокнижником, чье исчезновение с лица земли служило предметом благоговейных дебатов более двух столетий назад. Он горел желанием познать все сущее и преодолеть все ограничения человечества – и с этой целью с самого детства углублялся в оккультные и запретные учения. У него были довольно странные интересы и цели, неизвестные досконально, но общепризнанные недобрыми. Известно, что два его негритянских помощника, первоначально рабы из датской Вест-Индии, стали немыми вскоре после того, как он их приобрел, и что они исчезли незадолго до того, как он сам канул незнамо куда.
К концу и без того предолгой жизни ему, видимо, пришла в голову идея о достижении «зеркального бессмертия». Откуда к нему попал ключевой компонент задуманного проекта, ходили самые разные слухи. Утверждалось даже, что он выкрал его из иностранного музея под предлогом проведения полировки и реставрации. Артефакт, согласно народному эпосу, столь же могущественный в своем роде, как более известные Эгида Минервы и Молот Тора, представлял собой овальный лист из отполированного легкоплавкого минерала и назывался Оком Локи. Ему приписывали «стандартные» магические свойства вроде способности видеть врагов владельца или предсказывать ближнее будущее, но в том, что свойства его могут быть гораздо более невероятными, не сомневался почти никто из оккультных знатоков, многих из которых всполошила весть о попытках Холма создать на основе Ока Локи зеркало большого размера. Но Холм исчез в 1687 году, и все его наследство – то, что удалось найти, ведь какая-то его часть тоже исчезла, – было распродано по всему свету. История, казалось бы, из числа небылиц, но для меня она – прямое подтверждение всех ошеломляющих чудес, что испытали на себе я и Роберт Грандисон.
Но, как я уже упомянул, в моем распоряжении имеется еще одно доказательство нашей правоты, доказательство совершенно иного характера. Через два дня, когда Роберт, заметно окрепший, сидел в моей гостиной и бросал поленца в камин, я приметил некую неловкость в его движениях – и был поражен одной догадкой. Подозвав его к своему столу, я попросил его взять чернильницу – и почти не удивился, заметив, что, несмотря на праворукость, он сделал это левой рукой. При помощи стетоскопа мисс Браун я установил, что и сердце бьется у него с правой стороны, – и некоторое время не говорил ему об этом открытии.
Он вошел в зеркало праворуким, с обычным расположением внутренних органов – но возвратился уже левшой, с «отзеркаленным» строением, и таким, думаю, и останется на всю жизнь. Очевидно, переход в другое измерение не был иллюзией – ибо физические изменения Роберта были ощутимы и безошибочны. Если бы существовал естественный выход из чрева зеркала, Роберт, вероятно, подвергся бы тщательному обратному обращению и появился бы в совершенной нормальности. Насильственный характер его освобождения сотворил парадокс своего рода, и если обратные частоты спектральных волн успели смениться на изначальные, вернув цвет кожи и одежды, то с пространственным расположением предметов этого, увы, не произошло.
Я не просто открыл западню Холма – я разрушил ее, и на какой-то определенной стадии ее краха, совпавшей с моментом выхода Роберта наружу, часть свойств инвертированного мира утратилась. Замечу, что во время выхода из зеркала Роберт не испытал тех болезненных ощущений, что сопровождали вход в Зазеркалье. Будь раскрытие западни еще более резким – меня невольно коробит мысль о том, каково было бы мальчику жить со столь жутким цветом кожи, ведь инвертированная цветовая гамма не успела бы обратиться в нормальную. Кстати, не только сердце и другие внутренние органы у Роберта сместились в противоположную сторону – то же коснулось и деталей его одежды, таких как карманы или пуговицы.
Ныне Око Локи хранится у меня дома, ибо я не стал вправлять его обратно в старинное зеркало, от которого я избавился. Оно покоится на моем письменном столе, выполняя роль пресс-папье – здесь, в Сент-Томасе, почтенной столице датской Вест-Индии, которую сейчас величают Американскими Виргинскими островами. Различные ценители старины ошибочно принимают его за причудливый образец американского стекольного антиквариата примерно вековой давности. Но мне-то известно, что Око Локи – плод искусства несоизмеримо более древнего и высокого, но не вижу абсолютно никаких причин разубеждать мою энтузиастично настроенную публику.
Йигов сглаз
В одна тысяча девятьсот двадцать пятом году я прибыл в штат Оклахома в качестве этнографа, воодушевленного культом змей; покинул же я эту местность, питая к ползучим рептилиям страх, что будет со мной до конца дней. Вся безосновательность фобии предельно ясна мне, ведь наверняка существуют разумные логические объяснения всему услышанному и увиденному мною, но даже им не под силу ее, эту фобию, устранить хотя бы частично.
Возможно, история Йигова сглаза не наложила бы на меня столь сильный отпечаток, не будь у нее определенных этнографических оснований. По природе своей работы я привык относиться к причудливым поверьям американских индейцев скептически – чего не скажешь о простых людях, куда более легковерных, чем их краснокожие собратья, в тех областях, что принято называть непознанными. Но до сих пор перед глазами у меня стоит то последнее видение – существо, запертое в палате психиатрической лечебницы в Гатри.
Стоит сказать, лечебница сразу привлекла мое внимание, так как о ней и ее обитателях ходили прелюбопытнейшие слухи у местных старожилов. Ни белые, ни индейцы ни разу не упоминали Великого Змея Йига напрямую, а ведь именно этого персонажа легенд я начал вплотную изучать. Новые поселенцы, приехавшие сюда в период нефтедобычи, разумеется, ничего не знали об этом мифе, а краснокожие и старые первопроходцы были явно напуганы моими попытками разговорить их. Но несколько человек все же упомянули лечебницу – да и то снизойдя до боязливого шепота. До моего сведения довели, что некий доктор Макнил мог бы удовлетворить мое любопытство; более того, кое-кто из пациентов представляет из себя нагляднейшее подтверждение истинности всего того, что доктор мог бы мне рассказать. По итогу двух знакомств я бы мигом понял, почему же к Йигу, Змею-и-Человеку, питают столь сложную смесь боязни и почитания в самом сердце Оклахомы, и почему первопоселенцев ввергают в дрожь традиционные индейские ритуалы, полнящие осенние дни и ночи угрюмым неумолчным барабанным боем, раскатывающимся над пустошами и полями.
Я прибыл в Гатри в приподнятом расположении духа, словно взявшая след гончая, – ибо не один трудный год ушел у меня на картографирование и прослеживание эволюционной динамики культа Великого Змея среди индейских племен. Моя теория заключалась в том, что великий и могучий Кетцалькоатль мексиканцев имеет гораздо более древнюю и не столь милостивую предтечу. В течение последних месяцев я был весьма близок к ее доказательству – тому способствовали результаты исследований, охватывавших пространство от Гватемалы до оклахомских равнин. Но чем дальше я продвигался в познании тайны, тем больше мешала мне липкая и беспросветная завесь страха и секретности. Теперь же мне намекали на новый, обнадеживающий источник информации, и я, подстегиваемый азартом и простым природным любопытством, отправился к загадочной лечебнице.
Доктор Макнил оказался обладателем почтенной лысины и невысокого роста; его речь и манеры выдавали в нем человека благородного происхождения и энциклопедического ума. Когда я сообщил о цели своего визита, на серьезном лице доктора отразилось сомнение. Но постепенно ему на смену пришло выражение задумчивости. Он изучил мое удостоверение Королевского этнографического общества и верительное письмо, любезно предоставленное одним отставным военным интендантом.
– Значит, вы исследуете легенду о Йиге? – спросил он, закончив с просмотром бумаг. – Многие этнологи-любители Оклахомы пытались породнить его с Кетцалькоатлем, да только не думаю я, что удача подбросила им все звенья связующей цепи. Вы провели солидную работу для столь молодого исследователя. Вы не похожи на простого любопытствующего, и, похоже, все эти рекомендации – не пустой звук.
Вряд ли старый майор Мур или кто-то еще мог сказать вам, кого я здесь содержу. Этой темы они по вполне понятным причинам избегают, не распространяются. Случай, конечно, трагический… но – не более. О роли чего-то сверхъестественного в произошедшем судить не мне. Пойдемте, я покажу вам то, за чем вы пришли, а потом расскажу одну историю. История – та еще небывальщина, но, признаться честно, не верю я ни в сглаз, ни в магию. Просто предрассудки оказывают на определенный тип людей слишком сильное влияние, а вера, сами знаете, иногда далеко заходит… Ну, обычно не так далеко, как в нашем случае, – потому иногда, обдумывая все это, я все же ощущаю некий подспудный сплин… Впрочем, это можно списать на шалости нервов. Увы! Я уже не молод.
Того пациента вы можете назвать жертвой Йигова сглаза – причем выжившей жертвой. Пройти к нему несложно, но подавляющее большинство местных о его существовании не догадывается. Есть только два надежных человека, которым я позволяю кормить существо и убираться в его комнате, – раньше было трое, но старина Стивене умер несколько лет назад. Я полагаю, что вскоре мне придется набрать новую группу, поскольку это существо не очень-то подвержено течению времени, чего не скажешь о нас, старцах. Может, мораль ближайшего будущего позволит нам выпустить его с Богом… но сейчас на это трудно надеяться.
Проезжая сюда, вы, надо полагать, заметили то одиночное окно с затемненным стеклом, что смотрит на восток? Это окно палаты того пациента. Идемте, посмотрим. Прошу избегать преждевременных выводов – просто поверьте глазам, а когда поверите, скажите спасибо небу за то, что мы содержим его в тусклом свете. Потом – его история; не ручаюсь за полноту, но на связность можете рассчитывать.
…Итак, мы с доктором Макнилом, храня молчание, поднялись по винтовой лестнице и прошли по безлюдному коридору, в котором звук наших шагов гулко отскакивал от скругленных стен. Доктор Макнил открыл покрашенную серой краской стальную дверь, и за ней нас встретил еще один коридор. Путь наш окончился у двери, отмеченной кодом Б-116. Доктор отодвинул щиток узкого смотрового окошка, в которое можно было заглянуть только поднявшись на цыпочки, и несколько раз ударил ладонью по окрашенному металлу, словно желая разбудить обитателя помещения, кем бы он ни являлся.
Слабый зловонный дух пополз нам навстречу, и – быть может, мне только показалось? – в ответ на шум, созданный Макнилом, из глубин палаты раздалось приглушенное шипение. Жестом доктор пригласил присоединиться к нему у смотрового окна, и шаг навстречу дался мне не без подспудной дрожи.
Затемненные стекла окна, снабженного вдобавок стальной решеткой, пропускали очень мало света, и я некоторое время напрягал глаза, чтобы различить в странно пахнущих недрах палаты хоть что-нибудь. Но как только оно зашипело снова, я прозрел – неясные очертания приобрели форму припавшего к полу в странной позе человека. Сердце мое резко ухнуло вниз. Человек – если это существо еще можно было назвать человеком! – был наг, безволос, и кожа на его спине имела странный ржаво-коричневый цвет и глянцевую фактуру, куда более напоминающую чешую рептилий. Плечи существа усыпала колония черных пятен, голова имела абсурдную вытянуто-сплюснутую форму. Когда оно с шипением взглянуло на меня, я увидел, что бусинки его маленьких черных глазок чертовски похожи на человеческие, но не решился долго смотреть в них. Тварь сама с ужасающим упорством уставилась на меня, и я резко закрыл дверцу смотровой щели, оставив тварь невидимо извиваться на своей соломе в потемках. Шатаясь, я побрел прочь, держа за руку ведущего меня доктора. Заикаясь, я вновь и вновь спрашивал его: но, ради Бога, что это?
Доктор Макнил поведал мне свою историю в кабинете, в то время как я растянулся в кресле напротив него. Золотисто-малиновые лучи позднего дня обращались в лиловое зарево ранних сумерек, но я по-прежнему сидел неподвижно, испытывая благоговейный страх. Меня раздражал всякий телефонный звонок, всякий шум с улицы, я клял медсестер и интернов, чьи вызовы то и дело вынуждали доктора покидать кабинет. Наступила ночь, и я был рад, когда Макнил зажег все лампы. Хоть и был я ученым, исследовательское рвение поутихло от гнета душащего экстатического страха, который мог бы испытывать ребенок, слушая передаваемые шепотом байки о ведьмах у камина.
Согласно доктору, Йиг, бог-змей племен с центральных равнин – предположительно, первичный источник южных легенд о Кетцалькоатле или Кукулькане, – был неким частично антропоморфным отродьем чрезвычайно произвольной и непостоянной природы; не являлся абсолютным злом и обыкновенно был весьма расположен к тем, кто выполнял обряды в честь его и его детей-змей. Но осенью он становился необычно прожорливым, и его можно было задобрить лишь посредством особых церемоний. Вот почему барабаны в Поуни, Уичито и Каддо неделями не прекращали рокотать в августе, сентябре и октябре, вот почему шаманы музицировали при помощи трещоток и свистков, похожих на те, что бывали в ходу у ацтеков и майя – народов невообразимо древних.
Главной чертой Йига была безусловная привязанность к своим детям – привязанность столь сильная, что краснокожие почти боялись защищаться от ядовитых гремучих змей, которые изобиловали в этих местах. Ужасные тайные истории намекали на его месть тем смертным, что глумились над ним или причиняли ущерб его извивающемуся народу; таких людей после жестоких мучений он превращал в пятнистых змей.
В старые времена на индейской территории, куда приехал доктор, миф о Йиге еще не был жуткой тайной. Равнинные кланы, менее осторожные, чем кочевники прерий, несколько более откровенно рассказывали о своих поверьях и ритуалах первым белым людям, позволяя распространять свою мудрость среди белых поселенцев в соседних регионах. Великий страх пришел в период активного заселения страны в одна тысяча восемьсот восемьдесят девятом году, когда череда странных происшествий пустила слух, что был впоследствии подкреплен наглядными отталкивающими доказательствами. Индейцы сетовали на то, что «эти пришлые белые люди» не знают, как ладить с Йигом, и тот преподал им суровый урок. Ныне никого из старожилов центральной Оклахомы, будь то краснокожий или белый, нельзя было убедить вымолвить хоть слово о боге змей, разве что иносказательно.
И все же подлинный кошмар, подчеркнул доктор, произошел позже – кошмар донельзя материальный и оттого еще более ошеломляющий, пусть даже и дающий огромную почву для спекуляций заключительным своим актом.
Доктор Макнил сделал паузу и прокашлялся, прежде чем перешел непосредственно к истории, и я чувствовал нарастающее волнение по мере того, как над тайной постепенно поднимался занавес. Эта история началась, когда Уокер Дэвис и его жена Одри покинули Арканзас, решив поселиться в новой земле весной восемьдесят девятого. В итоге они осели в Уичито, к северу от одноименной реки; ныне те территории причислены к округу Каддо. Есть там деревушка под названием Бинджер, и тянется к ней железнодорожная ветка, но во всем остальном это место изменилось гораздо меньше, чем иные регионы Оклахомы. На той земле по-прежнему стоит множество ферм и ранчо, процветающих и в нынешние дни – обширные нефтяные месторождения не успели пока подобраться вплотную и вытеснить их.
Уокер и Одри явились из округа Франклин, что на плато Озарк, – в крытом парусиной фургоне, с двумя мулами, старой бесполезной псиной по кличке Волк и всеми домашними пожитками. Были они типичные обитатели холмов, молодые и, возможно, несколько более амбициозные, чем большинство. Оба чаяли, что в будущем их жизнь изменится к лучшему сравнительно тяжелого арканзасского быта; оба были худощавы и жилисты. Уокер – рослый, рыжий, зеленоглазый, Одри – низенькая брюнетка с прямыми волосами до пояса и либо лишь кажущейся, либо действительно имевшей место примесью индейской крови.
В общем, в них было немного особенного, и только одна их черта была не свойственна характеру тысяч пионеров, хлынувших в ту пору в новые края, а именно – патологический страх Уокера перед змеями, то ли засевший в нем еще в утробе матери, то ли, как говаривали, происходивший от мрачного пророчества насчет его кончины, которым старая индианка его в детстве стращала. Какова бы ни была причина, эффект она давала заметный; несмотря на то, что в целом Уокер был сильным и храбрым мужчиной, одна лишь мысль о змеях заставляла его бледнеть и содрогаться, а вид самой маленькой гадины доводил до нездорового ступора и шока.
Дэвисы выехали из Арканзаса в начале года, надеясь обжить новую землю к открытию пахотного сезона. Продвигались они медленно; в Арканзасе проезды плохи, но на индейской территории повсюду лишь округлые холмы и красные песчаные дюны без всякого признака дорог. По мере того как равнина становилась все более плоской, разница нового ландшафта с их родными холмами угнетала их больше, чем они ожидали. Но они обнаружили, что жители пограничных с индейцами поселений приветливы, да и сами индейцы выглядят дружелюбно и ведут себя донельзя цивилизованно. Час от часу встречая на пути других пионеров, Дэвисы вступали в шутливые перебранки, клянясь перещеголять друг друга в фермерских успехах.
По сезону змей было немного, и Уокер не особо страдал от своей специфической фобии – и даже индейские легенды о змеях на ранних этапах путешествия не чинили препон, к тому же переселившиеся с востока племена не придерживались диких верований своих западных соседей. К краху безоблачного будущего подтолкнул рассказ одного белого мужчины родом из селения Окмугли – именно он намекнул Дэвисам о существовании традиции поклонения Йигу, и сей намек произвел небывало сильное впечатление на Уокера. Бедняга расспрашивал о нем снова и снова, вытягивая из рассказчика все больше наводящих дрожь подробностей.
Стало ясно, что Уокер сильно перепугался. Он сделался небывало осторожным во всем, что касалось обустройства лагеря на ночь, тщательно проверял кусты и заросли травы, начал по возможности избегать избыточно каменистых мест. В каждом чахлом кустике, во всякой трещине в больших плитообразных скалах ему мерещились затаившиеся змеи. К счастью, никто из встречающихся на пути людей не усиливал его невроз новыми байками.
Вскоре Дэвисы обнаружили, что становится все труднее ставить лагерь в стороне от скал. Наконец это сделалось совершенно невозможным, и бедный Уокер решился прибегнуть к совсем уж детскому средству, взявшись распевать какие-то деревенские заговоры от змей, по детству еще знакомые. Два-три раза ползучие рептилии взаправду показывались, и их вид не способствовал попыткам страдающего Уокера сохранить самообладание.
Вечером двадцать второго дня путешествия ярые порывы ветра вынудили опасавшихся за своих мулов Дэвисов искать пристанище в как можно более надежном месте. Выбор пал на утес, возвысившийся необычайно высоко над пересохшим руслом Канадской реки. Уокеру не понравилось скалистое место, но Одри удалось его уговорить, и они подвели распряженных мулов к защитному склону. Фургон подогнать у них не вышло – непроходимые колдобины в половину колеса глубиной изрыли землю, и по ним ему было никак не проехать.
Меж тем Одри, осматривавшая груды камней подле фургона, заметила, что немощный старый пес настороженно принюхивается. Взяв ружье, она двинулась за ним – и уже через несколько мгновений возблагодарила судьбу за то, что прежде мужа обнаружила жуткую находку – поскольку там, уютно разместившись в промежутке между двумя валунами, было то, чего ему явно видеть не следовало, а именно, целый копошащийся ворох новорожденных гремучих змей.
Стремясь уберечь Уокера от очередного шока, Одри решила действовать. Она крепко сжала ствол ружья и навела его на корчащихся тварей. В ее глазах они были отвратительны… но ничуть не страшны. Когда дело было сделано, Одри стала палкой засыпать змей красным песком и высохшей травой. Следовало спрятать их тела до того, как Уокер привяжет мулов и придет сюда. Старый Волк, помесь австралийской овчарки и койота, куда-то пропал, и Одри опасалась, что он отправился за хозяином.
Найденные тут же следы подтвердили ее догадку. Секунду спустя Уокер увидел все. Одри сделала движение, чтобы удержать его, в тот момент, когда он застыл на месте, но он колебался лишь мгновение. Затем выражение чистого ужаса на его бледном лице медленно сменилось трепетным гневом, и дрожащим голосом он принялся укорять жену:
– Ради Бога, Од, неужели ты пришла сюда, чтобы сделать это? Разве ты не слышала все те вещи, что нам рассказывали о Йиге? Ты должна была просто предупредить меня, и мы бы ушли отсюда. Знаешь, что сделает с нами этот дьявол за то, что ты убила его детей? Что ты думаешь насчет всех этих индейских танцев и барабанов? Эта земля проклята, говорю тебе – и каждая живая душа скажет тебе то же самое. Здесь правит Йиг, и он придет за своими жертвами и обратит их в змей. Вот почему, Од, никто из индейцев по всему Канайхину ни за какие деньги не осмелится убить змею! Только Богу ведомо, на что ты обрекла себя, убив вылупившихся детей Йига. Он прибудет рано или поздно, сколько бы я ни пытался заклясть его по советам индейских шаманов. Он придет по твою душу, Од, – проползет под покровом ночи и превратит тебя в пятнистую ползучую тварь!
Всю оставшуюся часть пути Уокер продолжал отмечать пугающие подтверждения и предсказания. Они пересекли Канадскую реку у Ньюкасла и вскоре встретились с первыми индейцами с равнины. Вождь, предварительно угостившись предложенным Уокером виски, поделился древним заклинанием против Йига, получив потом еще четверть бутылки того же вдохновляющего напитка.
К концу недели Дэвисы достигли выбранного места в земле уичита и взялись поспешно отмечать границы своих владений, начав весеннюю пахоту еще до того, как был обустроен их дом. Местность была равнинной, ветреной и скудной на естественную растительность, но обещала большое плодородие при возделывании. Редкие выступы гранита разнообразили эту почву из разложившегося красного песчаника, и тут и там вдоль поверхности земли тянулась огромная плоская скала, похожая на искусственный пол. Змей, по-видимому, тут жило мало, и Одри в конце концов убедила Уокера возвести однокомнатный домик на огромной гладкой каменной плите. С такой твердью и большим камином можно было не бояться даже самой сырой погоды, хотя вскоре стало ясно, что сырость – не самое главное качество этого района. Бревна тащили в повозке из ближайшей лесной полосы за много миль к горам Уичито.
Уокер построил дом с широкой дымовой трубой и с помощью других поселенцев кое-как соорудил сарай, хотя всего в миле отсюда находился амбар. В свою очередь он помог своим новым друзьям в возведении таких же жилищ, и у Дэвисов появилось предостаточно дружеских связей. Во всей округе не имелось ни одного городка, удостоившегося хоть бы и названия, – крупнейшим считался Эль-Рино, поселок-полустанок милях в тридцати к северо-востоку, – и потому местные жители очень скоро сплотились в своего рода общину, несмотря на разделявшие их ощутимые расстояния. Кое-кто из индейцев начал жить оседло на фермах и ранчо; были они мирными людьми и немного буянили лишь под действием горячительных напитков, которые попадали к ним в обход сухого закона и правительственных табу.
Из всех соседей Дэвисы быстрее и ближе всего сошлись с Джо и Салли Комптонами, тоже перебравшимися из Арканзаса. Салли и ныне здравствует – теперь все зовут ее Бабушка Комптон, – а ее сын Клайд, в ту пору грудной младенец, теперь один из самых влиятельных в штате людей. Одри и Салли частенько навещали друг друга, их хижины разделяла лишь пара миль – незначительное в тамошних просторах расстояние. Весной и летом долгими вечерами они рассказывали друг дружке истории о прежнем житье в Арканзасе и делились байками о своем новом доме.
К змеебоязни Уокера Салли отнеслась с должным сочувствием, но в отношении Одри – без злого умысла, скорее по простодушию, – проявила некоторую бестактность, многократно усугубив тревогу подруги, рожденную бесконечными мужниными пророчествами о Йиговом сглазе. Салли знала прорву страшных историй про змей и ввергла Одри в тягостную хандру рассказом о мужчине из округа Скотт, убитом целым выводком гремучих змей. Отравленный труп так сильно раздулся от змеиного яда, что в конечном счете его кожа натянулась, как на барабане, и с треском лопнула. Само собой, Одри не стала пересказывать эту байку мужу – и умоляла Комптонов не распространять ее в сельской округе. К чести Джо и Салли, просьба эта была исполнена.
Рано закончив с обустройством кукурузного поля, Уокер уже в середине лета пожинал с него превосходные початки. На пару с Джо Комптоном он вырыл колодезь, обеспечивающий его отменной водой, но на том не остановился, решив впоследствии обустроить полноценную артезианскую скважину. Змеи почти не встречались ему, да и землю свою он сделал для них максимально негостеприимной. Порой он верхом приезжал в главное селение уичита и долго беседовал со стариками и шаманами у ворот их соломенных лачуг – хотел вызнать, как бога змей задобрить. Индейцы всегда были готовы обменять заговор-другой на пару литров виски, но по большей части полученное не внушало Уокеру покоя.
– Йиг был великим богом. Йиг был злым волшебником. Он ничего не забыл. Осенью его дети голодны и свирепы, и Йиг также голоден и свиреп. Все племена заклинают Йига, когда поспевает урожай кукурузы. Они приносят ему часть зерна и, поднося дань, танцуют, треща, свистя и стуча в тамтамы. Бей, бей, барабан, отгоняй Йига, взывай к Тираве, чьи дети – люди, якоже дети Йига – змеи. Плохо, что жена Дэвиса убила детей Йига. Пусть Дэвис зовет Тираву много раз, когда поспеет урожай кукурузы. Йиг – это Йиг, Йиг – он великий бог, – бормотали шаманы.
Вскоре Уокер предсказуемо подвел Одри на грань истерики. Его мольбы и выменянные у индейцев обереги безмерно раздражали ее. Когда пришла пора справлять осенние обряды, ветер стал разносить по окрестностям непрестанный тревожный бой индейских тамтамов. И как только руки краснокожих не уставали творить этот глухой монотонный звук? Барабаны стучали днями и ночами, неделю за неделей, столь же напористые, сколь и равнинный ветер, разносивший кругом красноватую пыль. В то время как Уокер почитал тамтамы за хороший знак и видел в них дополнительную духовную защиту, Одри буквально сходила от них с ума.
Сборы закончились, и Уокер стал готовить дом к приходу зимы. Осень выдалась дивно теплой, и любовно сложенный камин в доме супругов простаивал без дела. Духота и облака горячей пыли досаждали всем поселенцам, но более всего – Одри и Уокеру. Мысли о сглазе змеиного покровителя и далекий пульс барабанного боя сплетались в мрачном союзе, и даже самая незначительная дурная примета прирастала стократно в силе.