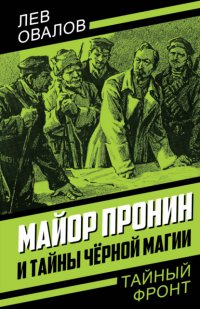Читать онлайн Медная пуговица бесплатно
- Все книги автора: Лев Овалов
© Овалов Л. С., наследники, 2022
© ООО «Издательство «Вече», 2022
* * *
Несколько слов от автора
О своем друге Иване Николаевиче Пронине, работнике органов государственной безопасности, я написал в свое время книжку рассказов («Приключения майора Пронина»), тому минуло почти два десятка лет.
Вскоре после опубликования этих рассказов началась Великая Отечественная война. Она разлучила меня с Прониным, мы оба очутились в таких обстоятельствах, что не только были лишены возможности поддерживать какую-либо связь, но просто потеряли друг друга из виду.
Наступили события столь грандиозные и величественные, что судьбы отдельных людей невольно отодвинулись в тень. Но вот война окончилась, страна перешла к мирному строительству, люди начали находить друг друга, и спустя большой, я бы сказал, очень большой промежуток времени жизнь снова столкнула меня с Прониным.
Естественно, посыпались вопросы: кто где был, чем занимался, что пережил…
Пронин никогда не любил распространяться о себе.
– Что я делал и чем занимался, рассказывать еще не пришло время, да и не обо всем вправе я говорить, – сказал он. – Но есть у меня записки одного офицера, с которым мне пришлось столкнуться в первые годы войны. Дам я их тебе, почитай. В них ты почерпнешь и некоторые сведения обо мне. Писал он их не для печати, но если они покажутся тебе любопытными, можешь опубликовать. Разумеется, в этом случае подлинные имена надо заменить вымышленными.
Прочел я эти записки и решил, что напечатать их стоит.
Править рукопись мне почти не пришлось: может быть, кое-где я чуть-чуть прибавил деталей и заменил собственные имена, но ничто существенное в ней не изменено.
1. Первое знакомство
Медная пуговица, простая медная пуговица – это все, что осталось мне на память о тех необыкновенных и трагических событиях, свидетелем и участником которых мне случилось быть…
Вот я выдвигаю ящик своего письменного стола, беру в руку эту медяшку, и передо мной возникает облик женщины, – таких не часто приходится встречать в жизни.
Множество загадочных обстоятельств сопутствовало моему знакомству с такой странной и необычной женщиной, какой была Софья Викентьевна Янковская.
Она не была красива, особенно в общепринятом понимании: черты лица ее были неправильны, фигура далеко не безупречна. И тем не менее она нравилась мужчинам, во всяком случае, многие из них шли на всякие компромиссы ради сохранения ее благосклонности…
Представьте себе женщину несколько выше среднего роста, темную шатенку, так что в сумерках волосы ее казались даже черными, с продолговатым лицом, с высоким, почти мужским лбом и с глазами какого-то монгольского рисунка, они имели неопределенный серый цвет, но иногда, особенно в минуты волнения, явственно зеленели, и при всем этом их всегда отличал неизменно холодный блеск. И если в верхней половине ее лица было что-то мужское, вся нижняя часть лица была совершенно женская. Нос ее, мало гармонировавший с продолговатым овалом лица, назвать курносым было бы слишком сильно, но сказать только, что он вздернутый, было явно недостаточно; небольшой ее подбородок был невелик и имел совершенно мягкие девические очертания. Но всего удивительнее выглядели на ее лице губы, то чувственные, по-детски пухлые и ярко-красные, чуть ли не пунцовые, а то вдруг делавшиеся злыми, узкими и бледневшими почти до белизны. Уши у нее были больше, чем следовало бы иметь женщине, но они свидетельствовали о ее музыкальности. Румянец на ее щеках появлялся только временами, гладкие волосы лишь немного вились на висках; небольшие руки казались удивительно хрупкими, зато ноги были хорошо развиты и заметно мускулисты, как у хорошо тренированных профессиональных спортсменок.
Впрочем, вполне возможно, что многие нашли бы внешность этой женщины вполне заурядной, но, повторяю, обстоятельства нашего знакомства были столь исключительны, что мне стало казаться, будто и наружностью участница описываемых событий чем-то отличается от обычных людей… Но пока что остановлюсь. Полагаю, что по ходу действия постепенно обрисуется и внешний портрет, и духовный облик этой странной и, я бы сказал, не опасаясь упреков в пристрастии к романтической терминологии, зловещей женщины.
Единственное, что мне хочется еще подчеркнуть в ее наружности, – это какую-то асимметричность в лице и фигуре.
Когда во время разговора она одним ухом слушала своего собеседника, другим ухом она, казалось, прислушивалась к какой-то неслышной и ей одной доступной музыке; если один глаз ее был внимательно устремлен на собеседника, другим она точно просверливала пустоту за его спиною; и если правой рукой поглаживала своего собеседника по руке, левая ее рука, возможно, нащупывала в это время в сумочке или муфте крохотный, но отличного качества пистолет для того, чтобы через минуту пристрелить этого же собеседника.
Однако начну по порядку.
Впрочем, для полной ясности надо еще предварительно сказать несколько слов о себе.
Сам я офицер, штабной работник; за несколько месяцев до начала войны мне пришлось выехать в один старинный большой город, находившийся как раз на условной границе между Западной и Восточной Европой, не без злого умысла выдуманной досужими европейскими политиками.
Командировка моя в этот город имела сугубо секретный характер. Возможность возникновения войны никем и никогда не исключалась, и, не распространяясь подробнее, скажу только, что целью моей командировки было изучение возможного театра военных действий и разработка дислокации некоторых специальных войсковых подразделений на случай возникновения войны и вторжения противника на северо-западные территории нашей страны.
Город, который на некоторое время стал моей резиденцией, был шумным и оживленным, с многочисленным и пестрым населением. Старинные кварталы перемежались в нем с кварталами многоэтажных доходных домов. Мне то и дело приходилось сталкиваться с не изжитыми еще контрастами богатства и бедности, и многое в нем было мне одновременно и любопытно, и чуждо.
Впрочем, теперь уже нет нужды скрывать название города – это была Рига, столица Латвии, которая тогда лишь недавно провозгласила себя Советской республикой.
Жил я по ряду деловых соображений на частной квартире, в семье рабочего крупного механического завода, старого коммуниста, партийные качества которого были проверены еще в годы тяжелого революционного подполья. В этой квартире я занимал отдельную комнату, у меня были ключи и от общего входа, и от своей комнаты, и хозяев я стеснял мало. Здесь, на отлете, я находился и как бы в тени, чего трудно было бы добиться в гостинице, и в то же время среди своих людей я мог не опасаться ни случайных посетителей, ни контроля со стороны слишком любознательной прислуги…
Впрочем, рассказ этот ведется не обо мне.
Начну по порядку, с первой моей встречи с Софьей Викентьевной Янковской.
Помню, как сейчас, поздним вечером я возвращался домой от своего начальника, которого время от времени мне приходилось посещать с докладами о ходе своей работы. Июнь шел к концу. Стояла отличная сухая погода. Выйдя из большого и ярко освещенного здания, занимаемого нашим военным ведомством, в узкий и слабо освещенный переулок, я свернул вниз и через несколько минут очутился на просторной и очень нравившейся мне набережной Даугавы.
Лето в Прибалтике отличается удивительной мягкостью, оно обволакивает вас своей теплой истомой как бы исподволь; переход от весны к лету совершается столь постепенно, что вы вместе с природой познаете всю прелесть ее расцвета, нисколько не страдая от жестокого изобилия солнца, которое так тяжело обычно ощущается нами на юге, а летняя ночь в Прибалтике является как бы естественным завершением светлого радостного дня.
На улице я словно окунулся в волну нежных запахов, поднимающихся от реки и влажных деревьев…
Было поздно и поэтому очень пустынно. Одет я был в штатское, на мне было темно-серое пальто и такая же шляпа; в темноте я должен был сливаться с гранитными стенами тянувшихся вдоль набережной тяжелых домов.
Неожиданный порыв ветра донес до меня острый речной холодок, я вздрогнул от внезапного озноба, у меня даже появилось желание поднять воротник пальто, как вдруг я услышал за своей спиной негромкий возглас:
– Послушайте, вы!
В первое мгновение у меня было мелькнула мысль, что это какая-нибудь ночная фея хочет завербовать себе случайно подвернувшегося прохожего, но тут же я решительно отверг эту мысль: в голосе, который я только что услышал, звучали такие властные и капризные нотки, какие никак не могли быть свойственны нетребовательной уличной девице.
Я обернулся. Позади меня посреди широкого тротуара стояла неизвестно откуда появившаяся дама. Она была в легком светлом пальто, руки ее были засунуты в карманы, левым локтем она прижимала к себе большую, по тогдашней моде, дамскую сумку, на голове у нее была простая и совсем не модная шляпа с небольшими полями, и с первого же взгляда на незнакомку можно было поручиться, что это очень порядочная и приличная дама.
– Простите, что я вас остановила, – сказала она, и, хотя она говорила по-русски сравнительно правильно, в ее речи звучал мягкий чужеземный акцент. – У меня к вам большая просьба… Надеюсь, вы не откажете…
Вместо ответа я молча ей поклонился.
– Я вас очень прошу, проводите меня до конца набережной, – продолжала она. – Это не так уж трудно, хотя…
Мне действительно показалось не столь уж трудным проводить ее до конца набережной, а что значило ее «хотя», я понял только в конце нашей десятиминутной прогулки.
Дама не производила впечатления неразумной трусихи, но мало ли какие фантазии приходят в голову дамам, и, так подумав, я молча предложил ей свою руку, не придав серьезного значения ее просьбе.
Мы пошли вдоль безмолвных домов, почему-то вдруг показавшихся мне суровыми и холодными. Моя спутница молчала, а у меня и подавно не было никакого намерения докучать ей своими расспросами. Нигде не было заметно ни одного прохожего. В отдалении поблескивала река. В небе тускло мерцали звезды. Еще дальше, за рекой, переливались неясные огни разбросанных на другом берегу улиц.
Внезапно тишина наполнилась шелестом скользящих по камням автомобильных шин. Я оглянулся. Издалека по направлению к нам мчался автомобиль. Должно быть, это была машина очень хорошей марки, потому что приближалась она столь стремительно и бесшумно, что не прошло и мгновения, как ее фары совершенно ослепили меня.
Но не успел я еще прийти в себя, как моя странная спутница резким рывком повернула меня к себе так, что я стал спиною к мостовой, прижалась ко мне, притянула к своему лицу мою голову – меня обдало запахом каких-то слабых и пряных духов – и прильнула своими губами к моим губам.
В эти секунды, когда она меня целовала, я услышал, как машина, поравнявшись с нами, замедлила ход, как на ходу дверца ее приоткрылась и тут же захлопнулась, а когда я отстранился от этой странной женщины, машина была уже далеко впереди и только красная лампочка, светившаяся позади кузова, мелькнула перед моими глазами, как сигнал о только что грозившей и исчезнувшей опасности.
Вероятно, я не смог скрыть удивления, с каким посмотрел на свою спутницу, потому что она коротко и мягко рассмеялась и погладила меня по рукаву.
– Вы милый, я могла бы вас полюбить, – кокетливо сказала она и торопливо добавила: – Не смущайтесь, это совершенно невозможно, я вас никогда не полюблю.
Но едва мы сделали еще несколько шагов, как полную смутных шорохов и неясных звуков тишину летней городской ночи прорезал тонкий и пронзительный и, я бы сказал, даже мелодичный и словно предупреждающий свист.
Оглянуться я не успел.
Моя спутница рванула меня за руку, толкнула к стене и по-мужски сильной рукой пригнула мою голову…
Во мне мгновенно возникло какое-то совершенно инстинктивное ощущение, что в меня сейчас выстрелят…
Но нет, выстрела я не услышал.
И, однако, я явственно ощутил какое-то движение воздуха, точно незримая птица стремительно пронеслась надо мной, почти коснувшись меня своим крылом…
Свист оборвался, выстрела не последовало, и тем не менее у меня не проходило ощущение того, что в силу каких-то загадочных обстоятельств я превратился в дичь, за которой охотятся какие-то незримые охотники.
Лишь спустя несколько секунд, когда моя спутница отвела от меня свою руку, я обернулся назад, вглядываясь в неясный сумрак, окутывающий пустынную набережную.
Мне показалось, будто вдалеке на фоне темного, свинцового неба обрисовалась какая-то тень, очертания какой-то человеческой фигуры, но видение это длилось всего один миг, тень эта тотчас исчезла, как бы растаяв среди других бесформенных ночных теней…
Я тут же подумал, что этот призрак был нарисован лишь собственным моим воображением, возбужденным всей той таинственностью, которая сопутствовала моей неожиданной спутнице.
Я никогда не имел склонности фантазировать и всегда твердо ощущал под собой реальную почву, занимался вполне прозаическими и суровыми делами и вдруг именно здесь, под свинцовым небом Прибалтики, летом 1941 года, неожиданно для самого себя стал участником происшествий, о которых раньше читал только в авантюрных романах!
Однако моя спутница как ни в чем не бывало равнодушно смотрела на меня.
Я не мог скрыть своего раздражения.
– Однако! – невольно вырвалось у меня, и я не без язвительности спросил: – Как вы думаете, это долго еще будет продолжаться?
– Что именно? – переспросила она, усмехнулась и тут же сама ответила: – Ах, это… Нет, не думаю. Скорее всего, на этом все кончилось.
– А вы не объясните мне, что все это значит? – спросил я, доискиваясь до истинного смысла всего происходящего.
– Нет, не объясню, – сухо ответила моя спутница, но тут же любезно добавила: – Во всяком случае, благодаря вам я избежала серьезных неприятностей, и мне приятно, что мой выбор был сделан правильно.
– Ну, сделать его было не так уж трудно, – угрюмо отозвался я. – Как будто я был единственным, кто попался вам на дороге.
– Напрасно вы так думаете, – возразила моя спутница, крепко опираясь на мою руку. – Я очень хорошо знала, с кем имею дело, прежде чем обратилась к вам.
– Неужели? – насмешливо произнес я. – Мужчина лет тридцати, высокого роста, прилично одетый…
– О нет! – прервала меня незнакомка. – Я знаю больше, нежели вы думаете. – Она насмешливо посмотрела на меня снизу вверх. – Хотите, я скажу, кто вы такой?
Я покровительственно посмотрел на нее сверху вниз.
– А ну, попробуйте!
Она ответила не задумываясь:
– Вы советский офицер, майор Макаров.
Мне опять пришлось удивиться.
– Однако!..
– Вы были сейчас на докладе у своего начальника, а занимаетесь здесь… – Она помолчала и опять усмехнулась: – Ну, это неважно, чем вы занимаетесь.
– А все-таки? – спросил я, желая до конца знать все, что известно обо мне этой женщине.
– Это не так важно, – по-прежнему уклонилась она от ответа и ускорила шаг.
Я шел рядом с ней и напряженно думал, что все это могло значить.
– Вот мы и пришли, – сказала она, подняв кверху подбородок и как бы указывая им вперед. – Помните: от угла наши дороги расходятся.
Мы остановились на углу – набережная шла вниз, а в сторону от набережной начиналась линия бульваров, освещенная разноцветными огнями расположенных по обеим сторонам магазинов и ресторанов.
– А все-таки кто же вы такая? – спросил я незнакомку.
Она засмеялась.
– Вы же русский, – сказал она. – А у русских есть хорошая поговорка: «Много будешь знать, скоро состаришься». А скоро состаришься – значит, скоро умрешь. А смерти я вам не желаю.
Но я не хотел ее отпустить, не разгадав ее загадок.
– Все же как вас зовут?
– Зося, – сказал она. – И все. Прощайте.
Она отпустила мою руку, но я попытался ее удержать и потянул было к себе ее сумку. Она сразу же грубо и больно ударила меня по руке, и сумка упала к ее ногам. Я наклонился, но, едва взялся за плетеный кожаный ремешок, ощутил под своими пальцами движение воздуха, и сумка повисла на оборванном ремешке.
Моя спутница выхватила ее из моей руки, а когда я, невольно посмотрев по сторонам, вновь перевел взгляд на странную незнакомку, ее уже не было, и я с досадой увидел только ее светлое пальто, мелькавшее за деревьями на довольно значительном расстоянии.
Это загадочное происшествие выбило меня из размеренной колеи моей жизни…
Стало банальным говорить, что подлинные происшествия бывают подчас удивительнее самых изощренных выдумок. В моей памяти невольно мелькнули запутанные фабулы детективных романов знаменитого Уоллеса, но то, что только что произошло со мною, превосходило фантазию Уоллеса.
Нельзя было упустить эту женщину из виду!
Ее пальто мелькало за деревьями, она быстро удалялась…
Я прибавил шагу.
За темными купами деревьев, над крышей «Рима», самого фешенебельного рижского отеля, сияли зеленые огни ресторана.
Незнакомка свернула к отелю.
Следовало догнать ее и выяснить все, что можно.
Я торопливо пересек бульвар и улицу и подошел к ярко освещенным дверям: швейцар предупредительно распахнул их передо мною.
Войдя в просторный и нарядный вестибюль ресторана, я понял, что свободное место в нем отыскать не так-то легко: весь гардероб был завешан верхней одеждой. Все же я разделся и по широкой мраморной лестнице поднялся в громадный зал, украшенный бесчисленными зеркалами в позолоченных рамах и бронзовыми люстрами с хрустальными подвесками, которые переливались всеми цветами радуги.
Зал был действительно полон, все столики были заняты. Далеко не вся буржуазная публика покинула советскую Ригу, кое-кто не успел выбраться, кое-кто чего-то выжидал, и по вечерам многие из тех, кому было не по нутру все то новое, что неожиданно ворвалось в жизнь старой Риги, коротали время в ночных ресторанах, которые еще продолжали жить своей мнимо красивой жизнью. Мужчины были преимущественно в смокингах и визитках, женщины – в вечерних туалетах; на невысокой эстраде салонный оркестрик тянул какую-то заунывную мелодию, под звуки которой редкие пары лениво шаркали по паркету несгибающимися ногами.
Я было хотел попросить разрешения присесть к чьему-либо столу, но мне повезло, и я как-то сразу наткнулся на только что освободившийся столик. Расторопный официант не заставил себя ждать, быстро принял от меня заказ, и уже через пять минут передо мной пыхтел мельхиоровый кофейник и поблескивала золотистыми искорками бутылка отличного мартеля.
Я пригубил рюмку с коньяком, отхлебнул кофе и принялся разглядывать публику…
Я скользил взором от столика к столику, от лица к лицу…
Да, я пришел сюда не зря! Я увидел свою недавнюю спутницу…
Она сидела через несколько столиков от меня.
Была она в строгом черном бархатном платье, низкий вырез подчеркивал белизну ее шеи и скрывал недостатки худощавой груди, и единственным украшением на ней был небольшой агатовый крестик, висевший на тонкой золотой цепочке… Нет, ошибиться я не мог!
Взгляд ее был обращен куда-то в пространство, она смотрела точно поверх всех голов и, казалось, ничего не замечала.
Вместе с нею за столом сидела дама постарше в лиловом шелковом платье и мужчина неопределенных лет, весьма тщательно одетый, но с таким невыразительным и скучным лицом, что о нем ничего нельзя было сказать, кроме того, что он являлся обладателем коротко подстриженных рыжеватых усиков и тщательно прилизанной шевелюры, цветом своим напоминавшей отсыревшую пеньку.
Я принялся рассматривать свою недавнюю спутницу, и она, должно быть, почувствовала мой взгляд, перевела свои устремленные в потолок глаза на меня.
Я не знал, стоило ли мне здесь, в этом ресторане, на виду у десятков людей обнаружить, что я ее знаю, и я ограничился легким полупоклоном, который свидетельствовал о моем внимании к ней и одновременно не мог быть замечен окружающими.
Но она равнодушно отвела от меня безразличные свои глаза и ни одним движением ресниц не ответила на мое приветствие, точно видела меня впервые в жизни.
Я подозвал официанта.
– Скажите, – спросил я его, кивая в сторону своей ночной спутницы, – эта дама часто бывает здесь?
– Я не знаю этой дамы, – с вежливым равнодушием ответил официант. – Но если желаете, я могу познакомить вас с другой дамой, настоящая блондинка и очень любит высоких мужчин.
Я его поблагодарил…
Тем временем моя незнакомка и ее спутники поднялись и пошли к выходу.
Они прошли мимо моего столика, и на меня снова пахнуло слабым и пряным ароматом незнакомых духов…
Очевидно, она отнюдь не мечтала о продолжении нашего знакомства.
Выждав минуту, чтобы не дать никому заметить, за кем я следую, я бросил на стол несколько бумажек и пошел из зала.
В вестибюле никого уже не было. Я вышел на улицу, но и на улице не было никого, кроме редких прохожих, которых отнюдь нельзя было спутать с интересующими меня людьми.
Я обернулся к швейцару.
– Вы не заметили дамы… в светлом пальто?..
Швейцар вежливо и даже чуть соболезнующе улыбнулся.
– Они только что уехали в машине, втроем: две дамы и один господин…
Мне не оставалось ничего другого, как пойти домой, с тем чтобы с утра поставить в известность обо всем происшедшем тех, кому следовало об этом знать.
Приняв это благоразумное решение, я сунул швейцару чаевые, спустился со ступенек на тротуар и не спеша отошел от ресторана.
Я спокойно шел по улицам сонной Риги, редким прохожим было до меня столько же дела, сколько мне до них, дошел до дома, в котором жили Цеплисы – такова была фамилия моих хозяев, – постоял у парадного, оглянулся по сторонам, открыл дверь, вошел в дом, запер дверь с внутренней стороны и с облегчением подумал, что теперь-то все странные происшествия этого вечера кончились наверняка и ничто не нарушит покоя этого большого дома, населенного простыми трудолюбивыми людьми.
Я не спеша поднимался по лестнице, и вдруг у меня опять появилось ощущение тревоги, мне почудилось, что я на лестнице не один, что кто-то притаился в окружающем меня мраке, что меня кто-то ждет и вот-вот схватит невидимыми руками…
Я замедлил шаг, потом остановился, напряженно вслушиваясь в тишину.
Внезапно вспыхнул свет, выхватив из тьмы ступеньки лестницы, серую стену…
Почти мгновенно я сообразил, что кто-то засветил надо мной электрический карманный фонарь…
Вверху, на лестничной площадке, стояла все та же незнакомка, которую я сопровождал по набережной Даугавы и не более как час назад видел в зале ночного ресторана.
Она стояла прямо передо мной, в своем светлом пальто, под которым виднелось черное бархатное платье, руки ее были заложены в карманы, а прищуренные зеленоватые глаза устремлены на меня.
Я не успел ее о чем-либо спросить: она неторопливо вытянула из кармана правую руку, подняла, и я увидел направленное на меня дуло небольшого пистолета.
– Однако… – сказал я и, прежде чем она выстрелила – это запомнилось мне совершенно отчетливо, – услышал приближающийся издалека грохот и… потерял сознание.
2. «…держите себя в руках»
Первое, что я увидел, когда пришел в себя, это лицо женщины, стрелявшей в меня из пистолета…
Я ощущал невероятную слабость, сковывающую все мое тело. Голову я не мог поднять…
Вокруг было бело и светло, и прямо над моим лицом виднелось слегка улыбающееся и скорее недоброе, чем равнодушное лицо таинственной незнакомки.
Я пошевелил губами:
– Что это… Что со мной?
– Молчите, молчите, – прошептала она повелительно и, пожалуй, даже ласково. – Ни слова по-русски. Если хотите жить, молчите. Позже я объясню…
Но мне и самому не хотелось говорить: так я был слаб. Голова закружилась опять, и я закрыл глаза, а когда открыл снова, незнакомки уже не было.
Я стал медленно приходить в себя и всматриваться в то, что меня окружало.
Бело и светло. Я находился в больничной палате. Да, несомненно, я находился в больнице. Белые стены, белые столики, никелированные кровати. Два больших окна, из которых льется ослепительный золотистый летний свет. В палате всего три койки. На одной из них, у окна, лежу я, на другой, в стороне от меня, у дверей, еще какой-то больной, третья, у противоположной стены, пустая…
И вдруг я сразу вспоминаю все, – наконец-то я совершенно очнулся! – весь этот странный вечер, непонятные события и недосказанные фразы, и точку, поставленную пулей, направленной в мое сердце…
Я с трудом поднял руку, непослушную, слабую и как будто не принадлежащую мне, и провел ладонью по груди…
Да, грудь забинтована, в меня действительно стреляли.
Сколько времени лежу я в этой больнице и почему здесь находится эта женщина?
– Товарищ… – позвал я больного, лежащего возле дверей, но он мне не ответил, даже не пошевелился. Позже я узнал, что он, к моему счастью, просто не слышал, не мог слышать мой зов.
В это время послышались голоса, двери распахнулись, и в палату вошло много людей, все они были в белых халатах и в белых шапочках, и я сообразил, что это врачебный обход.
Вошедшие были в хорошем настроении, смеялись и обменивались шутками, но почему-то все говорили по-немецки.
Прежде всего они подошли к больному, который лежал около дверей.
Один из вошедших, молодой приземистый толстяк, быстро-быстро заговорил, я с трудом разбирал его речь. Видимо, он докладывал о состоянии больного. В группе выделялся другой человек, долговязый и какой-то очень сухой, почти старик, с надменной, высоко поднятой птичьей головкой; он был центром этой медицинской группы, все остальные – и это было заметно – были подчиненными.
– Господин профессор, господин профессор, – то и дело титуловал старика толстяк, обращаясь к нему и что-то рассказывая о больном.
– Очень хорошо, – сердито произнес старик и, внезапно оборвав толстяка, поднял вверх худую, жилистую руку, показал своим спутникам четыре длинных растопыренных пальца и деловито перечислил: – Один, два, три, четыре… Все!
Только спустя четыре дня я понял, что хотел сказать этим старик, и преисполнился к нему уважением.
Затем старик повернулся в мою сторону, и все подошли ко мне.
На этот раз заговорил не толстяк, а та самая таинственная женщина, которая была виновницей моего пребывания в этой палате и все с большей и большей очевидностью начинала играть какую-то роль в моей судьбе.
Она, как и другие, была в белом халате, и голова ее была повязана белой косынкой. Не знаю уж, в качестве кого выступала она здесь, но вела она себя среди всех этих медиков совершенно свободно.
Она указала на меня.
– Это, господин профессор, ваше достижение…
Она отлично говорила по-немецки, и я хорошо ее понимал.
Старик, которого все называли профессором, снисходительно улыбнулся – не знаю, тому ли, что он действительно чего-то достиг, или просто женщине, одарившей его таким комплиментом.
– Да, в этом случае, – как бы отщелкал своим сухим языком профессор, – все идет отлично.
– Он очнулся сегодня утром, – продолжала незнакомка. – Пытался разговаривать, но я остановила, он еще слаб, и будет лучше…
– О, вы отличная сиделка! – похвалил ее профессор с любезной улыбкой, с какой не обращался ни к кому из присутствующих. – Будем надеяться, что под вашим наблюдением ничто не помешает господину… господину…
Профессор запнулся.
– Господину Августу Берзиню, – торопливо подсказала незнакомка. – Вы же знаете…
– Господину Августу Берзиню… – аккуратно повторил профессор и многозначительно ей кивнул. – Никакие силы не помешают ему скоро стать на ноги.
Он склонился ко мне, оттянул мои нижние веки и посмотрел мне в глаза.
– Молодость! – добавил он с добродушной снисходительностью. – Будь у него явления склероза, я бы не дал за его жизнь и пфеннига.
С некоторой даже доброжелательностью он притронулся к моему плечу своими длинными осторожными пальцами.
– Вы – я это читаю в ваших глазах – и не собирались умирать, – неожиданно произнес он по-английски и вдруг процитировал Шекспира:
- Cowards dies many times, before their death,
- The valiant never taste of death but once[1].
Это была похвала, я не понял, почему он отнес ее ко мне, но в данную минуту меня гораздо больше интересовало, что происходит со мной и где я нахожусь.
Затем профессор повернулся и журавлиной походкой, не сгибая ног в коленях, пошел прочь из палаты.
Все, в том числе и моя незнакомка, гуськом потянулись за ним.
Я опять остался один. Остался один и подумал: не брежу ли я? Почему меня, Андрея Семеновича Макарова, называют Августом Берзинем? Каким это образом я превратился в латыша? Почему меня лечат врачи, говорящие на немецком языке? Где я нахожусь? Почему за мной ухаживает женщина, которая пыталась меня убить?
Все эти и еще десятки других вопросов возникали в моем сознании, но я не находил на них ответа.
Я ломал себе голову, и наконец меня осенило: я похищен!
Да, такое предположение было весьма вероятно…
Офицер моего положения знает, конечно, очень много: сведения, которыми я обладал, не могут не интересовать генеральные штабы иностранных держав; чья-нибудь отчаянно смелая и безрассудная разведка могла пойти на подобную авантюру. Смелая потому, что похищение советского офицера в его собственной стране сопряжено с отчаянным риском, а безрассудная потому, что нельзя же мерить советских людей на свой, капиталистический аршин…
И несмотря на всю невероятность такого случая, я почти утвердился в подобном предположении. Да, меня похитили, говорил я себе; эта женщина не намеревалась меня убить, она только хотела лишить меня возможности сопротивляться… И затем я сам себя спрашивал: где же я нахожусь? У немцев? Да, вероятнее всего, что у немцев. Но на что они рассчитывают? Никогда и ничего они от меня не узнают, в этом я не сомневался.
Но почему в таком случае я Август Берзинь? Если им нужно было меня похитить, так именно потому, что я майор Макаров, – штабной советский офицер, а не неизвестный мне самому какой-то господин Берзинь! И почему мне нельзя говорить по-русски? Почему эта женщина ведет себя так, точно пытается меня от кого-то или от чего-то укрыть? Наконец, на что намекает этот долговязый немецкий профессор своими английскими фразами?
Я решительно терялся в своих предположениях.
Во всяком случае, ясно было одно: я нахожусь не в своем, не в советском госпитале.
В течение дня в палату не раз заходили санитары и медицинские сестры, оказывали мне разные услуги, приносили еду, интересовались, не нужно ли мне чего…
Большинство из них обращались ко мне по-немецки, некоторые говорили по-латышски.
Но я, памятуя данный мне утром совет, отвечал на все вопросы только легкими движениями головы.
Под вечер ко мне зашла моя незнакомка.
Она села возле койки, слегка улыбнулась и погладила мою руку.
Она заговорила со мной по-английски и шепотом, так что, если за дверью и подслушивали, никто ничего бы не разобрал.
– Терпение, прежде всего терпение, и вы все узнаете, – мягко, но настойчиво сказала она. – Пока что вы Август Берзинь, вы говорите по-немецки, по-английски, по-латышски, и только по-русски вам не следует говорить, вы вообще должны забыть о том, что вы русский. Позже я вам все объясню.
Я принялся ее расспрашивать, но мало что узнал из ее ответов.
– Где я?
– В немецком госпитале.
– А что все это значит?
– Узнаете.
– А сами вы кто? – Она усмехнулась.
– Не помните? Я уже вам говорила. – Подумала и добавила: – Полностью меня зовут Софья Викентьевна Янковская, и мы давно с вами знакомы, это вы должны помнить. – Она встала и заговорщически приложила палец к своим губам. – Поправляйтесь, помните мои советы, и все будет хорошо.
Она ушла и не показывалась целых два дня, в течение которых меня мучили всякого рода догадки и предположения, пока, наконец, прислушиваясь к разговорам окружающих и тщательно взвешивая каждое услышанное слово, я не догадался о том, что произошло.
Постепенно я набрался сил, смог поглядеть в окно, и версия о похищении отпала: я по-прежнему находился в Риге, улица, на которую выходили окна госпиталя, была мне хорошо знакома.
За те дни, что я лежал без сознания, произошло нечто гораздо более страшное, чем если бы я был похищен какими-нибудь дерзкими разведчиками.
Гитлеровская Германия напала на Советский Союз, а я находился в Риге, да, все в той же самой Риге, но оккупированной немецкими войсками.
Немцы заняли город в первые же дни своего наступления и являлись теперь в нем хозяевами.
На койке у дверей лежал какой-то их ас, подбитый нашими летчиками; он неудачно приземлился где-то в предместьях Риги и теперь умирал в госпитале.
Надо отдать справедливость, ухаживали они за своим асом с большой заботливостью, всячески стараясь облегчить ему последние минуты.
Но почему они так же внимательно ухаживают за пленным русским офицером – ведь фактически я находился у них в плену, – этого я понять не мог. Впрочем, я тут же вспоминал, что я – это не я, что меня теперь почему-то называют Августом Берзинем, и опять переставал что-либо понимать.
Приходилось выжидать того времени, когда я оправлюсь, все узнаю и смогу что-либо предпринять.
На третий день после того, как я пришел в сознание, в коридоре возникла какая-то суета, в палату внесли носилки с новым больным и положили его на свободную третью койку.
Я чувствовал себя уже много лучше и принялся с интересом рассматривать нового соседа.
Это был пожилой мужчина с забинтованной грудью, по всей видимости, тяжелораненый.
Вначале он произвел на меня благоприятное впечатление. Добродушное лицо, умные серые глаза, седые виски, суховатые губы; на вид ему можно было дать лет сорок пять; человек, в общем, как человек…
Но как же скоро я его возненавидел!
Через несколько часов после появления этого больного в палату пришли два немецких офицера в черных гестаповских мундирах, поверх которых были небрежно накинуты белые медицинские халаты; один из них был майор, другой лейтенант.
Офицеры искоса поглядели на меня и остановились перед новым больным.
– Хайль Гитлер! – приветствовал майор больного.
– Хайль, – отозвался тот слабым голосом, однако заметно стараясь говорить как можно бодрее.
Санитары внесли два стула и небольшой столик с письменными принадлежностями, и офицеры тотчас приступили к допросу.
– Как вас зовут? – быстро спросил больного офицер в чине майора.
– Фридрих Иоганн Гашке, – также быстро и по-солдатски четко ответил больной.
Лейтенант записал ответ.
– Вас так и звали в России? – осведомился майор.
Больной усмехнулся.
– Нет, в моем паспорте было написано Федор Иванович.
– Федор Иванович Гашке? – переспросил майор.
– Так точно, – подтвердил Гашке.
– Я рад, что вы выполнили свой долг перед фюрером и Германией, – сказал майор. – Вам трудно говорить?
– Нет, у меня достаточно сил, – негромко, но четко ответил Гашке. – Я готов…
Допрос длился часа два, майор спрашивал, лейтенант без устали писал.
Гашке оказался перебежчиком. Поволжский немец из-под Сарепты, он окончил педагогический техникум и учительствовал в Саратове; призванный в Советскую Армию, он в первые же дни войны попал на фронт и сразу начал готовиться к тому, чтобы перебежать к немцам. Как только полк, в котором он находился, вошел в соприкосновение с противником, Гашке, воспользовавшись минутным затишьем, вырвался вперед и, бросив оружие, побежал в сторону немецких позиций.
С советской стороны по перебежчику немедленно открыли огонь, немцы не стреляли, они сразу догадались, в чем дело; Гашке получил тяжелое ранение, но успел добежать до немецких позиций и только там упал. Прибежал он к немцам не с пустыми руками: перед бегством с передовой он проник в штаб полка, застрелил начальника штаба и похитил какие-то важные документы.
Как только в полевом госпитале выяснилась ценность перебежчика, было дано указание немедленно переправить его в Ригу…
Гашке, по-видимому, хорошо понимал, что словами завоевать расположение немцев нельзя, только точные и важные данные о Советской Армии могли определить истинную цену перебежчику.
И, действительно, Гашке не говорил лишних слов, но он заметил все, что следовало заметить, запомнил все, что следовало запомнить, и теперь с чувством внутреннего удовлетворения выкладывал все свои сведения и наблюдения сидевшим перед ним гестаповцам, и я, я сам, был свидетелем этого предательства.
Но гестаповцы почему-то мало обращали на меня внимания, мое присутствие их не смущало, наоборот, они даже как будто были довольны тем, что я слышу их разговор с перебежчиком, и это тоже было мне не совсем понятно.
Гашке был умным человеком, и сведения, которые он принес, представляли несомненную ценность, но разговор с ним полностью разоблачал его в моих глазах…
Ох, как он стал мне противен!
Часа через два гестаповцы ушли, пожелав Гашке скорейшего выздоровления.
Нам принесли ужин, очень приличный ужин: мясо, капусту, ягоды и даже по стакану какого-то кисленького винца.
Было совершенно очевидно, что мы находились на привилегированном положении.
Гашке с аппетитом поел; я тоже пока еще не собирался умирать, мне хотелось поскорее выздороветь и предпринять что-либо для того, чтобы вырваться на родину; одному асу было уже не до еды.
На другой день гестаповцы явились опять.
По-видимому, немцы каким-то образом сумели проверить показания Гашке об убийстве начальника штаба, а документы действительно оказались очень важными, потому что майор обещал представить Гашке к награде.
Гашке выкладывал все, что знал. Он был очень наблюдателен, этот Гашке! Он запомнил, где какие стояли артиллерийские дивизионы, какие проходили мимо него полки, мимо каких проходил он сам, где находились ближайшие аэродромы…
Его следовало бы пристрелить тут же, на месте, без промедления, чтобы лишить возможности передавать эти сведения, но у меня под рукой не было даже деревянного ножа для бумаги…
Гестаповцы принесли для Гашке газеты, и он любезно предложил их мне. Это были страшные газеты. В них сообщалось о безудержном продвижении гитлеровских полчищ на восток, о скором взятии Москвы, о расстрелах советских людей.
Я не верил напечатанному, а Гашке, наоборот, только усмехался, точно сведения эти доставляли ему удовольствие.
К концу четвертого дня ас умер, и я понял, что означали четыре профессорских пальца: профессор отпустил асу четыре дня жизни, и приговоренный к смерти ас послушно скончался в назначенный ему срок.
Мы с Гашке остались вдвоем. Это не значило, что мы все время находились наедине, в посетителях недостатка не было. Каждое утро во время обхода заходил старший врач, нам делали перевязки, приносили пищу, сестры забегали осведомиться, как мы себя чувствуем, заглядывали санитары… Но все же большую часть времени мы проводили вдвоем.
Гашке пытался со мной разговаривать, но я отмалчивался, делая вид, что еще слаб и мне трудно говорить, хотя на самом деле с каждым днем чувствовал себя все лучше и ощущал в себе достаточно сил для того, чтобы убить этого изменника.
Гестаповцы посещали Гашке ежедневно и каждый раз выуживали из него что-нибудь новое…
Наконец, он исчерпался, лейтенанту приходилось писать все меньше и меньше, Гашке выложил все, что мог заметить и запомнить, но мне казалось, что у гестаповцев и у Гашке имеются еще какие-то виды друг на друга.
Однажды вечером в палате снова появилась госпожа Янковская.
Я так и не мог понять, что она делает здесь в госпитале. Она ходила, конечно, в обычном белом халате, но медицинской практикой, по-видимому, не занималась. Иногда она отсутствовала по нескольку дней, а иногда толклась по несколько часов в палате без всякого дела, не опасаясь, что ее безделье будет замечено.
Вообще она держалась как-то особняком от всех остальных немцев, работавших в госпитале.
Она молча села возле меня и, по своему обыкновению, принялась смотреть куда-то сквозь стену.
В палату доносился уличный шум. Гашке как будто дремал. Я рассматривал Янковскую.
Было в ней что-то неуловимое и необъяснимое, чего я не встречал и не замечал в других женщинах, у меня было такое ощущение, точно она, подобно осьминогу, все время водила вокруг себя незримыми щупальцами.
– Вы знали когда-нибудь настоящую любовь? – внезапно спросила она меня по-английски. Здесь, в госпитале, она предпочитала разговаривать со мной по-английски.
– Конечно, – сказал я. – Какой же мужчина в мои годы… Мне тридцать лет, меня ждет невеста…
– Нет, я говорю не о добропорядочной, обычной любви, – настойчиво перебила меня Янковская. – Любили ли вы когда-нибудь женщину так, чтобы забыть разум, честь, совесть…
Мне подумалось, что она затевает со мной игру, в которой я неминуемо должен пасть ее жертвой… Однако ее не следовало разочаровывать.
– Не знаю, – неуверенно произнес я. – Вероятно, нет, я еще не встречал такой женщины…
Я подумал: нельзя ли будет бежать с ее помощью…
– А вы могли бы меня полюбить? – шепотом спросила она вдруг с неожиданной откровенностью. – Забыть все, если бы и я согласилась для вас…
Я повернул голову в сторону Гашке. Он сопел, должно быть, он спал.
– Он спит, – небрежно сказала Янковская. – Да он и не понимает…
– Как знать, – недоверчиво ответил я и, желая выгадать время, добавил: – Мы еще поговорим…
– Настоящие мужчины не раздумывают, когда женщины задают им такие вопросы, – недовольно произнесла Янковская.
– У меня еще не прошла лихорадка, – тихо ответил я. – Кроме того, здесь темно, и я не вижу, не смеетесь ли вы…
– Вы правы, – сказала Янковская. – Сумерки сродни лихорадке.
Она встала, подошла к двери и зажгла свет.
– Вы спите? – громко спросила она по-немецки, обращаясь к Гашке.
– Нет, – отозвался тот. – Мы еще не ужинали.
Янковская усмехнулась, достала из кармана халата плитку шоколада, разломала ее и дала каждому из нас по половинке.
– Спасибо, – поблагодарил Гашке и тут же принялся за шоколад.
– А что же вы? – спросила меня Янковская.
Я покачал головой.
– Мне не хочется сладкого.
Янковская внимательно посмотрела мне в глаза.
– Ничего, вам захочется еще сладкого, – сказала она и кивнула нам обоим. – Поправляйтесь…
И, не прощаясь, ушла из палаты.
– Такие бабы, – одобрительно сказал Гашке, – вкуснее всякого шоколада.
Утром гестаповский майор пришел к Гашке без своего помощника: записывать было уже нечего. Майор сел против Гашке.
– Как вы себя чувствуете? – спросил майор.
– Отлично, – сказал Гашке.
– Вы счастливо отделались, – сказал майор.
– Меня сохранили бог и фюрер, – ответил Гашке.
– А что вы собираетесь делать дальше? – спросил майор.
– Все, что мне прикажут фюрер и вы, господин майор, – ответил Гашке.
Майор помолчал.
– Вот что, – сказал он затем. – Мы подумали о вас, мы дадим вам возможность проявить себя настоящим немцем…
Он нарисовал перед Гашке блестящие перспективы. Хотя Гашке родился и вырос в России, он проявил себя сознательным немцем. Гестапо ему доверяет. Его решили оставить в Риге в качестве переводчика при гестапо. Для начала он получит звание ефрейтора, остальное зависит от него самого.
Я тут же подумал: стоит Гашке попасть в гестапо, он себя там проявит!
– Что вы скажете на мое предложение? – спросил майор. – Мы вас не торопим, можете подумать…
– Мне не о чем думать, господин майор, – твердо сказал Гашке. – Я благодарю за доверие и сумею его оправдать.
Майор улыбнулся и покровительственно похлопал Гашке по плечу.
– Я в вас не сомневался. Как только вас выпишут из госпиталя, вы явитесь в гестапо.
Гашке проводил своего будущего начальника и немедленно завалился спать, а я…
Я думал и час, и два, и три. Гашке безмятежно спал, а я все думал, думал…
Что мне делать?
Бежать! Разумеется, бежать. Пробраться к своим. Это, конечно, не так просто, но это единственный выход из положения. Выйти из госпиталя, набраться сил и бежать. Умирать я не собирался, но если придется, решил отдать свою жизнь подороже…
Потом в поле моих размышлений попал Гашке. Этого надлежало уничтожить. Он уже достоин казни за свое предательство, а в гестапо он будет стараться выслужиться…
Но как его убить? Я вспомнил какую-то книгу, где описывалось, как в концентрационных лагерях расправлялись с провокаторами. Набрасывали на голову подушку и держали до тех пор, пока провокатор не задыхался…
Я приговорил Гашке к смерти и успокоился.
Вскоре он проснулся. Так как я разговаривал с ним неохотно, он вполголоса принялся напевать… «Катюшу»! Перебежчик напевал нашу добрую советскую песню… Это было столь цинично, что я охотно заткнул бы ему глотку!
Наступил вечер. Принесли ужин, мы поели, посуду унесли, и мы остались одни.
Гашке вздохнул.
– Интересно, что делается сейчас там? – туманно выразился он, обращаясь куда-то в пространство.
«Завтра ты уж ничем не будешь интересоваться», – мысленно ответил я ему, но вслух не произнес ничего.
Потом он стал укладываться, он вообще много спал, и я тоже отвернулся к стенке, делая вид, будто засыпаю.
– Что-то хочется пить, – громко сказал я, если бы Гашке не спал, он обязательно бы отозвался.
Тогда я встал и выключил свет, чтобы кто-нибудь, проходя мимо палаты, случайно не заметил, что в ней происходит.
Подождал, пока глаза не привыкли к темноте. Потом подошел к Гашке.
Он мирно дышал, не подозревая, что наступили последние минуты его жизни.
Я вернулся к своей койке, взял в руки подушку, прижал к себе и опять приблизился к Гашке…
Сейчас накрою его подушкой, подумал я, и не сниму до тех пор…
Но что это?
Гашке открыл глаза – я ясно видел его внимательные серые глаза – и, не вскакивая, не поднимаясь, не делая ни одного движения, негромко и отчетливо, с холодной сдержанностью по-русски произнес:
– Не валяйте-ка, Берзинь, дурака, не поддавайтесь настроению и не совершайте неосмотрительных поступков. Идите на свое место и держите себя в руках.
3. Под сенью девушек в цвету
Приходится сознаться, услышав призыв Гашке держать себя в руках, я растерялся…
Да, растерялся и замер как вкопанный у кровати Гашке, обхватив руками свою подушку. Выглядел я, вероятно, в тот момент достаточно смешно.
А Гашке тем временем повернулся опять на бок и заснул.
Поручиться, конечно, за то, что он спал, я не могу; спал он или не спал, не знаю, но, во всяком случае, лежал на боку с закрытыми глазами, и ровное его дыхание должно было свидетельствовать, что он спит.
Я пошел обратно к своей кровати, сел и задумался.
Чего угодно мог ожидать я от Гашке, но только не этого! Я бы меньше удивился, если бы он внезапно выстрелил в меня из пистолета. Гашке, Гашке… А может быть, это вовсе и не Гашке? И даже наверняка не Гашке. Но тогда кто же?
Я не выдержал, опять подошел к нему, на этот раз, разумеется, без подушки.
– Послушайте! – позвал я его. – Господин Гашке… Или как вас там?.. Товарищ Гашке!
Но он не отозвался.
Я опять вернулся к своей кровати. Следовало лечь, но спать я не мог.
Если Гашке остановил меня, вместо того чтобы тут же на месте выдать гестаповцам, значит, он не их человек. Но все его поведение противоречило тому, что он наш…
Я решил на следующий день как следует прощупать его…
Но с утра события начали разворачиваться с кинематографической быстротой.
Не успели мы проснуться, умыться и выпить утренний кофе, как за Гашке пришел гестаповский лейтенант, который в предыдущие дни сопровождал гестаповского майора.
– Хайль!
– Хайль!
– Я за вами, господин Гашке. Мы нуждаемся в вас…
Я внимательно рассматривал господина Гашке, можно сказать, изучал его, пытаясь разглядеть, что скрывается за его внешней оболочкой, но сам господин Гашке не замечал моих взглядов, он даже ни разу не посмотрел в мою сторону.
– Я весь в вашем распоряжении, господин офицер, – ответил Гашке лейтенанту. – Надеюсь, я сумею оказаться достойным сыном нашего великого отечества…
Он прямо-таки декламировал, этот господин Гашке!
Пришел санитар и по-солдатски вытянулся перед лейтенантом.
– Все готово, господин лейтенант, – отрапортовал он. – Господин больной может идти переодеваться.
– Пошли, – сказал лейтенант.
– Мгновение. Я соберу газеты.
Гашке принялся доставать из тумбочки полученную им за время лечения всякую фашистскую макулатуру.
Он был в отличном настроении и даже принялся напевать какую-то скабрезную немецкую песенку:
- Коль через реку переплыть
- Желательно красотке.
- Ей полюбезней надо быть,
- Быть, быть с владельцем лодки…
Он собирал фашистское чтиво и со смаком пел свои куплеты:
- Пообещай отдать букет,
- Отдать букет и чувства,
- А выполнить обет иль нет —
- Зависит от искусства…
С легкой насмешливостью посмотрел он на меня и громко, с большим увлечением пропел рефрен:
- Тра-ля-ля, тра-ля-ля…
- От твоего искусства!
Не было ничего удивительного в том, что перебежчик, которому удался его побег и которого вдобавок брали еще на работу в гестапо, пребывал в отличном настроении и распевал песни, но мне, не знаю почему, показалось, что эта песенка предназначалась для меня.
Как-то слишком многозначительно взглянул на меня Гашке, слишком подчеркнуто пел он свои куплеты, в которых говорилось о том, что тому, кто хочет переплыть реку, надо быть полюбезнее с теми, кому принадлежат в данный момент средства передвижения, и что можно все обещать за то, чтобы перебраться, а выполнить обещание или нет, зависит от самого себя…
Трудно было сказать, добрый это совет или нет, но какой-то намек в песенке содержался.
Почему Гашке остановил меня ночью? Почему он меня не выдал и в то же время не сказал ничего более определенного? Или, соглашаясь на все, он и мне советовал поступить так же? Вообразил, что мы одного поля ягода?..
Я еще долго размышлял бы о поведении Гашке, но вскоре в палате появилась Янковская и заявила, что меня тоже выписывают из госпиталя.
– Я привезла ваши вещи, – сказала она. – Сейчас принесут чемодан, одевайтесь, а я подожду вас внизу.
Чемодан принесли, нарядный, дорогой чемодан из свиной кожи, но это был не мой чемодан. Я открыл его: в нем лежали белье, костюм, ботинки; все эти предметы мужского туалета отличались той изысканной простотой, которая стоит очень больших денег. Эти вещи не были моими, но выбора у меня не оставалось. Я оделся, все было по мне и не по мне, точно портной и сапожник обузили меня, все следовало сделать чуть пошире, но в общем выглядел я, должно быть, неплохо, потому что дежурная сестра, пришедшая меня проводить, воскликнула не без восхищения:
– О, господин Берзинь!..
Янковская ждала меня в вестибюле. Мы вышли на крыльцо.
Часовой в черной эсэсовской форме, стоявший у двери, отдал честь.
У подъезда стоял длинный сигарообразный автомобиль кофейного цвета – немецкая гоночная машина.
Шофера в машине не было.
– Садитесь, – пригласила меня Янковская.
Все, что сейчас происходило, плохо укладывалось в моем сознании: советский офицер находится в оккупированной фашистами Риге, и вот, вместо того чтобы быть расстрелянным или брошенным в какой-либо застенок, я находился в немецком госпитале на положении привилегированного лица, эсэсовцы отдавали мне честь, меня приглашали сесть в машину…
Я сел. Янковская заняла место за рулем, и мы двинулись в путь.
Мы ехали по улицам Риги – они были все такими же просторными и красивыми и чем-то неуловимо другими. Так же шли прохожие, но это были другие прохожие, так же мчались по улицам машины, но это были другие машины, так же сияло над нами небо, но это было другое небо…
Я испытующе посмотрел на Янковскую.
Маленькая шляпка блеклого сиреневого цвета. На лоб спускалась нежная розовая вуалетка, придавая лицу задорное выражение, глаза искрились…
Она азартно вела машину с недозволенной быстротой.
– Куда вы меня везете? – спросил я.
– Домой, – деловито отозвалась она.
– К вам?
– Нет, – ответила она чуть ли не с насмешкой. – К вам!
Я решил потерпеть: в конце концов все эти загадки должны были разъясниться. Мы ехали вдоль бульваров.
– Не глядите на деревья, – коротко бросила мне Янковская.
Но я ей не подчинился.
На деревьях висели люди, это были повешенные… Вот что другое было на улицах Риги.
Я положил свою руку на руку Янковской.
– Не торопитесь.
Она укоризненно посмотрела на меня и замедлила ход.
Прямо против меня висели двое мужчин, мне показалось, двое пожилых мужчин, хотя я мог ошибиться, глядя на окаменелые серые лица. На груди одного из них висел обрывок картона с краткой надписью «Повешен за шпионаж»…
Янковская испытующе смотрела на меня.
– Вас это очень… удручает?
Я промолчал. Что я мог ей ответить! И она опять повела машину с прежней скоростью.
– Подальше от этих… – серьезно сказала она, задумалась и добавила: – Подальше от этих деревьев.
Она свернула в какой-то переулок, еще раз свернула и еще раз, и мы выехали на одну из самых спокойных и фешенебельных улиц Риги.
Она остановилась перед большим светлым четырехэтажным домом.
– Вот мы и приехали, – сказала она.
– Куда вы меня привезли?
– Пойдемте в дом, – произнесла она вместо ответа. – Не могу же я объясняться с вами на улице.
Мы вошли в подъезд, навстречу нам поднялась привратница.
– Добрый день, господин Берзинь! – Она приветливо поклонилась.
Я не был Берзинем, но привратница назвала меня этим именем.
Мы поднялись на второй этаж. Янковская достала из сумочки ключ, открыла английский замок, и мы очутились в просторной передней.
Навстречу нам вышла немолодая светловолосая женщина в темном платье, с кружевной белой наколкой на голове.
– Здравствуйте, Марта, – поздоровалась с ней Янковская. – Вот и господин Берзинь!
Та, кого Янковская назвала Мартой, приветливо улыбнулась, и вдруг я заметил, что улыбка ее сменилась какой-то растерянностью.
– Здравствуйте, господин… – неуверенно произнесла Марта; она как-то запнулась и с напряжением добавила: – Господин Берзинь.
– Ничего, ничего, Марта, – поощрительно сказала Янковская. – Можете идти на кухню, сегодня господин Берзинь будет обедать дома, а мы пройдем в кабинет.
Мы прошли через небольшую столовую, и Янковская ввела меня в кабинет. Обе комнаты были обставлены современной мебелью, очень модной и очень удобной, доступной только состоятельным людям. В кабинете стояли гладкий полированный письменный стол, легкие кресла и шкафы с книгами. Стены украшало множество однообразных акварелей, выполненных в какой-то условно-небрежной манере.
Мы остановились посреди комнаты.
– Надеюсь, – начал было я, – теперь-то вы объясните…
Но Янковская не дала мне договорить.
– Вы могли бы быть более любезным хозяином, – упрекнула она меня. – Прежде чем задавать вопросы, следовало бы предложить мне сесть.
Я пожал плечами.
– Хозяином? Я хочу знать, где я нахожусь!
– Вы находитесь у себя дома. Это квартира Августа Берзиня, а вы, я уже вам говорила, вы и есть этот самый господин Берзинь.
Надо было запастись терпением, чтобы разобраться во всем происходящем.
Однако я попытался прикрикнуть на Янковскую.
– Хватит! – воскликнул я, повышая голос. – Вы долго намерены играть со мной в прятки? Извольте объясниться, или я немедленно покину этот дом…
– И сразу очутитесь в гестапо, – насмешливо перебила меня Янковская. – Учтите, в Риге нелегко скрыться… – Она села в кресло и кивком указала мне на другое. – Сядьте и давайте поговорим спокойно. Кстати, я хочу вас спросить: умеете ли вы рисовать?
Мой окрик не имел успеха, она была не из тех, на кого можно было воздействовать криком.
Все-таки худой мир был, по-видимому, лучше доброй ссоры…
– Рисую, – мрачно ответил я. – Мои картинки не вызовут больших восторгов у ценителей живописи, но во время занятий топографией я набрасывал иногда пейзажи.
– Это прекрасно, – сказала тогда Янковская. – Вы даже превзошли мои ожидания. Дело в том, что вы художник, господин Берзинь, вы рисовали пейзажи, которые вам удавалось иногда продавать, хотя вы не слишком нуждались в деньгах… – Плавным жестом она указала на стены: – Ведь это ваши рисунки, господин Берзинь!
Я еще раз раздраженно взглянул на акварели, украшавшие кабинет.
– Так рисовать я умею! – вызывающе сказал я. – Пятна и полоски! На топографических картах так изображают кусты и ручьи.
– Вот вы и запомните, что вы художник, – сказала Янковская. – В Риге вас знают, и вы кое-кого знаете…
– Но ведь я не Берзинь, – запротестовал я. – Вам это отлично известно…
Она подошла ко мне, небрежно села на ручку моего кресла.
– Вы милый и глупый, вы находитесь в плену представлений, которые владели вами три месяца назад, – произнесла она, и в ее голосе прозвучала театральная грусть. – В потоке времени столетия подобны мгновениям, а за истекший месяц человечество пережило столько, сколько в иные времена не переживает в течение целого столетия. Месяц назад Рига была советской, а теперь она немецкая, Москва накануне падения, и солнце восходит с запада, а не с востока. Макаров умер и никогда не воскреснет, а если вы попытаетесь его воскресить, его придется похоронить вторично.
Она встала и прошлась по комнате.
– Не стоит хоронить себя дважды, – мягко произнесла она, пытаясь примирить меня с чем-то, что еще оставалось для меня тайной. – В жизни людей происходят иногда такие повороты, что было бы просто неразумно сопротивляться судьбе. – Она остановилась передо мной, как учительница перед школьником. – Запомните: вы Август Берзинь, художник, – сказала она. – Ваши родители умерли несколько лет назад. Вы учились в Париже, не женаты и ведете несколько легкомысленный образ жизни. Марта – ее фамилия Круминьш – ваша экономка, кухарка и горничная, она живет у вас третий год, и вы ею очень довольны. Как будто все… – Она подумала. – Да, – вспомнила она, – вы не поклонник гитлеровцев, но считаете их меньшим злом по сравнению с коммунистами.
Она посмотрела в окно и как будто кому-то кивнула.
– Я пойду, – сказала она. – А вы осваивайтесь, осмотрите квартиру, проверьте, все ли у вас в порядке, и, если к вам будут заходить, не прячьтесь от своих знакомых. Вечером я вас навещу…
Она ушла, оставив в комнате запах каких-то странных, нежных и раздражающих духов.
Я остался один… Однако я не был уверен в том, что за мной не наблюдают…
Надо было выбираться из этого города, но я ощущал себя в каких-то тенетах, которыми меня оплел неизвестно кто и неизвестно зачем.
Во всяком случае следовало соблюдать и осторожность, и предусмотрительность.
Пока что я решил осмотреть свою квартиру.
Кабинет, столовая, гостиная, спальня, ванная…
Для одного человека, пожалуй, больше чем надо!
Все комнаты были обставлены с большим вкусом.
В ванной я мельком посмотрел в зеркало и… не узнал самого себя: это был я и не я. Правильнее сказать, это был, разумеется, я, но в моей внешности произошла разительная перемена: всегда, сколько я себя помню, я был темным шатеном, на меня же из зеркала глядел рыжеватый блондин…
Да, рыжеватый блондин!
Я зашел в кухню…
Марта стояла у плиты, поглощенная какими-то кулинарными таинствами.
Я молча смотрел на Марту, и она, в свою очередь, испытующе посматривала на меня.
– Извините меня, господин Берзинь, – внезапно спросила она. – Ведь вы, извините, не господин Берзинь?
Я не знал, что ей ответить.
– А почему бы мне не быть господином Берзинем? – неуверенно возразил я. – Это такая распространенная фамилия…
Я вернулся в кабинет и принялся знакомиться с его хозяином, то есть с самим собой, поскольку я теперь был Августом Берзинем, хотя в этом и сомневалась моя экономка.
Как я уже сказал, в живописи господин Берзинь всем художникам предпочитал, по-видимому, самого себя, а что касается книг, их было много и подобраны они были весьма тщательно. Господин Берзинь, судя по книгам, интересовался тремя предметами: искусством Древнего Рима, политической историей Прибалтики, особенно новейшей ее историей, и современной французской литературой. Впрочем, подбор французских авторов свидетельствовал, что господин Берзинь – большой эстет и, я бы даже сказал, сноб: в его библиотеке были отлично представлены Поль Валери, Анри де Ренье, Жюль Ромен, Марсель Пруст, Жан Жироду; из более ранних поэтов находились Малларме, Бодлер, Верлен и Рембо, а что касается старины, то из всех старых поэтов в библиотеке Берзиня нашлось место только для одного Вийона.
На столе Берзиня, или, правильнее сказать, на моем столе, лежал томик знаменитой эпопеи Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», тот самый роман этой эпопеи, который называется «Под сенью девушек в цвету».
В этот момент я представить себе не мог, как символично было это название и для жизни господина Берзиня, и для моей последующей жизни в его доме!
Вся жизнь господина Августа Берзиня в Риге, и того, который существовал в этой квартире до моего появления, и того, который появился здесь в моем лице, протекала, так сказать, именно под сенью девушек в цвету.
Но в первый день моего присутствия в этой квартире никакие девушки в ней не появлялись.
Вечером, как и пообещала, пришла Янковская.
Я сидел в кабинете и перелистывал Пруста, неотступно раздумывая о том, как мне организовать свое бегство из Риги.
Янковская появилась неожиданно – я уже говорил, что у нее был ключ от этой квартиры.
– Сидите и мечтаете о побеге? – спросила она меня с иронией.
– Вы догадливы, – ответил я.
– Напрасные мечты! Что ушло, уже не вернется, – задушевно произнесла она, – Но вы не тревожьтесь, все будет хорошо. – Она взяла из моих рук книгу и отложила ее в сторону. – Я хочу кофе. Позвоните Марте и распорядитесь…
Она сама нажала звонок, скрытый в бронзовой гирлянде, украшающей настольную лампу.
Мы перешли в столовую, и, надо сказать, кофе, приготовленный Мартой, был превосходен.
– А вы не пробовали пить кофе с обыкновенной русской водкой? – спросила меня Янковская, сама достала из буфета бутылку и налила себе водки.
Но мне было не до водки.
С какой-то мучительной остротой ощущал я всю неестественность такого времяпрепровождения в эти грозные дни.
– У меня к вам много вопросов, – сказал я своей собеседнице. – И думаю, что пришло время на них ответить.
– Позвольте мне их перечислить? – не без лукавства произнесла Янковская. – Во-первых, вас интересуют обстоятельства того странного вечера, когда состоялось наше знакомство; во-вторых, вам хочется знать, почему я в вас стреляла и затем, без всякой последовательности, спасла и ухаживала за вами в госпитале; в-третьих, каким образом вы превратились в Августа Берзиня…
Она улыбнулась.
Я тоже невольно улыбнулся.
– Правда, – сказал я. – И я надеюсь…
– Постепенно вы все узнаете, – снисходительно сказала Янковская. – В тот вечер ваше присутствие избавило меня от большой опасности, стрелять в вас меня вынудили обстоятельства, которые были сильнее меня, а спасла вас моя находчивость, и это взаимовыгодно для нас обоих…
Так ответила она, не разъяснив ни одной из загадок.
– Но, может быть, вы объясните, каким образом я превратился в блондина? – спросил я.
– Очень просто. С помощью перекиси водорода. Так поступают многие женщины, страстно желающие стать блондинками. Возможно, вам это не нравится, но вы должны меня извинить. Я вынуждена была вас обесцветить, потому что во всем остальном вы очень похожи на Августа Берзиня. Смелее вживайтесь в образ, как принято говорить у актеров, и ни у кого не появится подозрений в том, что вы не тот, за кого вам приходится себя выдавать.
– Как сказать! – возразил я, усмехаясь. – Марта, например, совсем не уверена в том, что я являюсь ее хозяином…
И я передал Янковской слова Марты, сказанные ею сегодня мне на кухне.
Янковская сразу посерьезнела, а минуту спустя я увидел, как она выпустила свои коготки.
– Марта! – резко крикнула она.
Она сразу забыла о плюшевой обезьянке, висевшей на шелковом шнурке над обеденным столом, под хвостом которой находился электрический звонок.
Марта неторопливо вошла в столовую.
– Сядьте, госпожа Круминьш, – приказала Янковская Марте, и было совершенно очевидно, что лучше всего с ней не спорить.
Марта села спокойно, не спеша, в ней было какое-то внутреннее спокойствие простой рабочей женщины. Янковская кивнула в мою сторону.
– Вы, кажется, не узнали сегодня господина Берзиня?
Марта смутилась.
– Я человек религиозный, – нерешительно сказала она. – Но я не могу поверить в воскрешение мертвых, госпожа Янковская…
Янковская усмехнулась.
– Вам придется поверить, – ответила она Марте. – Потому что, если вы умрете от моей пули, вы уж наверняка не воскреснете. – Она еще раз кивнула в мою сторону и многозначительно посмотрела на Марту: – Так кто это такой, Марта?
– Я думаю… Я думаю, что это господин Берзинь, – неуверенно произнесла Марта.
– Кто-кто, повторите еще раз! – скомандовала Янковская.
– Это господин Берзинь, – гораздо тверже повторила Марта.
– Да, это господин Берзинь, – подтвердила Янковская, властно глядя на Марту. – В этом нет никаких сомнений, и в этом вы не будете сомневаться не только в разговорах с господином Берзинем, но даже в мысленном разговоре с самим господом богом…
Марта молчала.
– Что же вы молчите? – спросила Янковская.
– Я вас понимаю, – тихо ответила Марта.
– Надо что-нибудь добавить? – спросила Янковская.
– Нет, – ответила Марта.
– Но я добавлю, – сказала Янковская. – Ваш сын и ваш брат, отправленные на работу в Германию, никогда не вернутся домой, если вы даже во сне пророните хотя бы одну неосторожную фразу…
И вдруг в руке, которая только что держала изящную голубоватую чашечку с кофе, я увидел пистолет, тоже очень изящный и небольшой, но который, однако, отнюдь не был дамской безделушкой. Он лежал на ее ладони и точно дышал, потому что она шевелила своими пальцами, – этот пистолет появился на ее ладони так, как будто Янковская была профессиональной фокусницей.
– Вы верите, что я могу вас убить? – небрежным тоном задала она вопрос Марте.
– Да, – тихо ответила та.
– Очень хорошо, – удовлетворенно сказала Янковская. – Если мне не понравится ваше поведение, я вас застрелю… – Неожиданно она улыбнулась и добавила уже совсем шутливо: – Я вас застрелю и в том случае, если господин Берзинь будет недоволен вашей стряпней… – Она улыбнулась еще приветливее и милостиво отпустила Марту: – Идите и ложитесь спать.
Но как только Марта ушла, Янковская тоже собралась уходить.
– Я устала, – сказала она. – Завтра я зайду. Хочу вас только предупредить. К вам будут приходить разные девушки. Учтите, это так и должно быть. Не оставляйте их без внимания.
Действительно, девушки стали ко мне наведываться чуть ли не ежедневно.
Сперва я было не понял истинной цели этих посещений. На следующий день после обеда Марта доложила:
– К вам какая-то девушка, господин Берзинь…
В гостиную впорхнула, именно впорхнула, хорошенькая, и даже очень хорошенькая, девушка.
На ней был синий костюм, шляпка, сумочка… Все как полагается.
– Ах, Август, я так давно тебя не видела! – воскликнула она и бесцеремонно потрепала меня по щеке.
Но как только Марта вышла из комнаты, девушка сразу посерьезнела.
– Пройдем в кабинет? – деловито предложила она. В кабинете она совсем перестала нежничать. Она порылась в сумочке и достала помятый листок бумаги.
– Гестаповцы стали бывать в «Эспланаде» реже, и, мне кажется, коммунисты устроили у нас явку, – сказала она. – Тут записаны имена офицеров, которые у нас бывают и которые мне удалось услышать. Кроме того, здесь два адреса, одного гауптштурмфюрера и начальника одной из эскадрилий…
Как я понял из разговора, девушка работала кельнершей в ресторане «Эспланада» и одновременно являлась осведомительницей…
Кого? Господина Берзиня, несомненно! Но на кого работал я, этого я не знал!
Девушки приходили иногда даже по две в день. Это были кельнерши, маникюрши, массажистки, большей частью хорошенькие, всегда входили с какой-нибудь нежной фразой, но стоило нам уединиться, как сразу делались серьезнее и вручали мне записочки с именами и адресами, которые им удалось узнать, с фразами, которые им удалось услышать и чем-то показавшимися им многозначительными…
Да, это была агентура! Конечно, она не делала чести разведывательным талантам господина Берзиня: его агентурная сеть была организована весьма примитивно. Любая контрразведка без особых затруднений могла обнаружить и взять под свое наблюдение и всех этих девиц, и самого господина Берзиня… И хотя я сам не был работником разведки и только соприкасался с ней по роду своей деятельности, думаю, что, будь я на месте господина Августа Берзиня, я бы организовал и законспирировал агентурную сеть более тщательно.
Сведения, которые приносили девушки, не имели большого значения, но хороший разведчик, разумеется, не пренебрегает ничем, поэтому даже такая поверхностная агентура имела свою ценность.
Во всяком случае, с помощью своих посетительниц я довольно хорошо представлял себе, как проводят время немецкие офицеры и всякие бесчисленные гитлеровские администраторы, чем занимаются, где бывают, с кем встречаются, и отчасти даже чем они практически интересуются.
Девушки эти, конечно, не были профессиональными агентами, служба у господина Берзиня была для них приработком. Но, как говорится, курочка по зернышку клюет да сыта живет; множество мелких фактов и фактиков создавали в общем достаточно ясное представление о жизни тех слоев общества, которые могли интересовать господина Берзиня.
Вначале, правда, меня несколько удивляло, почему агентура Берзиня состояла из одних девушек – как на подбор, все эти кельнерши, маникюрши и массажистки были миловидны и молоды, – но потом я сообразил, что это был неплохой способ маскировки подлинных взаимоотношений Берзиня и его сотрудниц; нравственные качества Берзиня могли вызывать осуждение, но зато истинные его занятия не вызывали никаких подозрений.
Впрочем, господин Берзинь, вероятно, был более внимателен к этим девушкам, чем я, потому что некоторые посетительницы покидали меня с явным разочарованием, не получив, по-видимому, всего того, на что они рассчитывали; я ограничивался лишь тем, что деловито выдавал им зарплату – этому научила меня Янковская.
На второй или третий день после моего вселения в квартиру Берзиня она поинтересовалась:
– Ваши посетительницы возобновили свои посещения?
– Да, заходят, – сказал я. – Но мне опять непонятно…
– Ничего-ничего, – оборвала она меня. – Скоро все станет на свое место. Их сведения не представляют особой ценности, но будет хуже, если они перестанут заходить. Их надо поощрять.
Она достала из моего стола, поскольку стол Берзиня считался теперь моим, связку ключей и открыла небольшой стенной сейф, скрытый за одной из акварелей; в нем хранились деньги и, как оказалось, золотые безделушки.
Запас валюты был не слишком велик, но все же в сейфе хранились и доллары, и марки, и фунты стерлингов, а всяких колечек, сережек и брошек было как в небольшом ювелирном магазине.
Я взял несколько безделушек. Зеленоватые, розовые, лиловые камешки насмешливо поблескивали на моей ладони… Заглянул в сейф: у задней стенки лежал голубой конверт, в нем находились какие-то фотографии. Я высыпал их из конверта. Это были те непристойные, гривуазные картинки, которые в газетных объявлениях туманно называются «фотографиями парижского жанра». Мне стало даже как-то неудобно оттого, что их могла увидеть Янковская.
Но они не произвели на нее никакого впечатления.
Я сунул снимки обратно в конверт и пошел было из комнаты.
– Куда это вы? – остановила меня Янковская.
– Выбросить!
– Эти… картинки? Напрасно. Господин Берзинь держал их, как я думаю, для того, чтобы развлекать своих девушек…
Я пожал плечами.
– Знаете ли…
Янковская поджала накрашенные губы.
– Допустим, что вы… ну, что вы не такой, как ваш предшественник! Однако я не советую их выбрасывать. В нашей работе годится решительно все. Нельзя предвидеть всех положений, в которых можно очутиться.
Я колебался, но в таких делах она, несомненно, была опытнее меня.
– Да-да, иногда самые неожиданные вещи приносят неоценимую пользу, – добавила она. – Поэтому положите эти карточки обратно, места они не пролежат… – Она взяла у меня конверт и сама положила его на прежнее место. – Теперь пересчитайте валюту, ее надо беречь, – деловито посоветовала Янковская. – А сережки и кольца предназначены специально для вознаграждения девушек.
И я дарил приходившим ко мне девушкам то недорогой перстенек, то брошку…
Подарки они принимали охотно, но, вероятно, не возражали бы и против более нежного внимания к их особам. Во всяком случае, Янковская, которая, должно быть, все время держала меня в поле своего зрения, как-то спросила:
– Скажите, Август, это трусость или принципиальность?
Я не понял ее.
– Вы это о чем?
– Тот, другой, на которого вы так похожи, был менее скромен, – сказала она. – Девушки на вас обижаются. Не все, но…
Меня заинтересовали ее слова, но совсем не в том смысле, какой она им придавала.
– А вы их видите?
– Не всех, – уклончиво ответила она. – Август посвящал меня не во все свои тайны…
– Но почему немцы так снисходительны к этому таинственному Августу? – спросил я ее тогда. – Контрразведка работает у них неплохо, и как это они при всей своей подозрительности не замечают этих довольно частых и, я бы сказал, весьма сомнительных посещений? Почему не обращают внимания на странное поведение Берзиня? Почему оставляют его в покое? Почему проявляют в отношении ко мне такое странное равнодушие?
– А почему вы думаете, что они к вам равнодушны? – не без усмешки вопросом на вопрос ответила мне Янковская. – Просто-напросто они отлично знают, что вы не Август Берзинь, а Дэвис Блейк.
4. Приглашение к танцам
«Час от часу не легче, – подумал я. – Из Андрея Семеновича Макарова я внезапно превратился в Августа Берзиня. И не успел выяснить, каким образом и для чего это превращение произошло, как мне сообщают, что я уже не Август Берзинь, а Дэвис Блейк!»
Было от чего прийти в недоумение.
Я, конечно, понимал, что участвую в какой-то игре, но что это за игра и для чего она ведется, мне было неясно, а особа, пытавшаяся двигать мною, как пешкой в шахматной игре, не хотела мне этого объяснить.
В эти дни я ставил перед собой лишь одну цель: добраться как-нибудь до своих. Я понимал, что сделать это непросто: я находился в городе, захваченном врагом; весь распорядок жизни в Риге был строго регламентирован, и вряд ли кто мог оказаться за пределами наблюдения придирчивой немецкой администрации.
Августа Берзиня почему-то щадили, во всяком случае, оставляли в покое, но если Август Берзинь вздумает перебраться через линию фронта, навряд ли его пощадят, да и добраться до линии фронта было не так-то легко…
Для того чтобы действовать увереннее, следовало разгадать тайну Августа Берзиня, присматриваться, выжидать, узнать все, что можно узнать. И лишь тогда…
Но внезапно тайна Августа Берзиня превратилась в тайну Дэвиса Блейка.
Жизнь, как всегда, была сложнее и запутаннее любого авантюрного романа. Герой романа, особенно романа авантюрного, принялся бы сопоставлять факты, делать всяческие предположения, строить различные гипотезы и посредством остроумных предположений в конце концов разгадал бы тайну; но я не владел методом индукции и дедукции столь совершенно, как детективы из криминальных романов, да и терпение мое, правду сказать, тоже истощалось…
Вчера Янковская сказала, что меня зовут Августом Берзинем, сегодня говорит, что я Дэвис Блейк, а завтра объявит Рабиндранатом Тагором…
Я решил заставить ее заговорить!
– Дэвис Блейк? – повторил я и добавил: – Это вы мне тоже не объясните?
– Объясню, но несколько позже, – ответила она, как обычно. – Вам надо слушаться – и все будет хорошо.
Я сделал вид, что подчинился; я позволил нашему разговору уклониться в сторону, и мы заговорили о неизвестном мне Берзине, которого Янковская знала, по-видимому, довольно хорошо. Я принялся иронизировать над его условными белесыми акварелями, наш разговор перешел на живопись вообще, Янковская сказала, что ей больше всего нравятся пуантилисты, всем художникам она предпочитала Синьяка, умеющего составлять видимый нами мир из мельчайших отдельных мазков…
Внезапно я схватил ее за руки и вывернул их назад, совсем так, как это делают мальчишки.
Янковская закричала:
– Вы с ума сошли!
Никогда ранее я так не обращался с женщиной, но меня вынуждали обстоятельства.
– Марта! – сдавленным голосом крикнула Янковская, но я бесцеремонно прикрыл ей рот ладонью.
Перевязью с портьеры я прикрутил ей руки к туловищу и насильно усадил в кресло.
По-видимому, она подумала, что я пьян, и глухо пробормотала:
– Не нужно, не нужно…
Но я уже понимал, с кем мне приходится иметь дело.
Без всяких церемоний я осмотрел ее; свой пистолет она обычно носила в сумочке или в кармане пальто, и никакая предосторожность не была с ней лишней.
Сдернутой со стола скатертью обвязал ей ноги и сел в кресло напротив.
– Поймите меня, Софья Викентьевна… – сказал я, – на этот раз вы в моих руках и будете мне отвечать. Даю слово, что в таком положении вы будете находиться до тех пор, пока не начнете говорить, а если так и не надумаете заговорить, я вас застрелю, а сам постараюсь добраться до своих, даже рискуя попасть в руки гестаповцев и…
И Янковская, еще минуту назад растерянная, подавленная, готовая во всем мне подчиниться, вдруг подняла голову и пристально посмотрела на меня своими зелеными в это мгновение, как у кошки, глазами.
– Ах, вам угодно разговаривать? – насмешливо спросила она. – Извольте!
– Кто вы такая? – спросил я ее. – Говорите.
– Вы не оригинальны, – сказала она. – Так начинают все следователи. Софья Викентьевна Янковская. Я уже говорила.
– Вы знаете, о чем я вас спрашиваю, – сказал я. – Кто вы и чем занимаетесь?
– А что, если я скажу, что работаю в подпольной коммунистической организации? – спросила она. – Что мне поручено вас спасти?
– Сначала убить, а потом спасти?
– Ну хорошо, оставим эту версию, – согласилась она. – Я, разумеется, не коммунистка и не партизанка… – Она пошевелила руками. – Мне очень неудобно, – сказала она. – Вы можете меня развязать?
– Нет, – твердо ответил я. – Вы будете находиться в таком положении до тех пор, пока я не узнаю от вас все.
– Как хотите, – покорно сказала Янковская. – Я буду отвечать, если вы так настаиваете.
– Так кто же вы? – спросил я. – Хватит нам играть в прятки!
– Я? – Янковская прищурилась. – Шпионка, – сказала она так, точно назвалась портнихой или буфетчицей.
Впервые я сталкивался с женщиной, которая так вот просто называла себя шпионкой.
– На какую же разведку вы работаете? – спросил я. Янковская пожала плечами.
– Предположим, что на английскую.
– А не на немецкую? – спросил я.
– Если бы я работала на немецкую, – резонно возразила Янковская, – вы находились бы не здесь, а в каком-нибудь лагере для комиссаров, евреев и коммунистов.
– Допустим, – согласился я. – Ну а кто ваш начальник? Он здесь?
– Да, он здесь, – многозначительно сказала Янковская.
– Кто же он? – спросил я.
– Вы, – сказала Янковская.
– Обойдемся без шуток, – сказал я. – Отвечайте серьезно.
– А я серьезно, – сказала Янковская. – Мой непосредственный начальник именно вы, вы, и никто другой.
Она действительно говорила вполне серьезно.
– Объяснитесь, – попросил я ее. – Я не понимаю вас.
– О! – снисходительно воскликнула она. – В моих объяснениях нет ничего сложного. Будь у вас в таких делах опыт, вы бы сами обо всем догадались…
Она строго посмотрела на меня, на мгновение в ее серых глазах сверкнули искорки не то насмешки, не то гнева, но она тотчас подавила эту вспышку, и на ее лице опять появилось выражение равнодушия и усталости.
– Я хотела исподволь подготовить вас к вашей новой роли, – спокойно и негромко сказала Янковская. – Но раз вы торопитесь, пусть будет по-вашему…
И она заговорила, наконец, о том, что интересовало меня не из пустого любопытства, потому что игра, в которой мне пришлось принять участие, велась на человеческие жизни, заговорила, хотя ей не очень-то хотелось говорить.
– Для того, чтобы проникнуть в самую суть вещей, надо понять меня, – произнесла она с вызывающей самоуверенностью, но таким тихим голосом, что человек, не сталкивавшийся с ней при таких обстоятельствах, как я, обязательно принял бы ее самоуверенность за искренность. – Но так как понять меня вы и не сможете, и не захотите, постараемся касаться меня поменьше…
Она усмехнулась и сразу перешла к тому, что сочла нужным довести до моего сведения.
– Дэвис Блейк появился в Риге лет пять или шесть назад, сама я приехала в Ригу позже. Назывался он Августом Берзинем. Существовал ли на свете подлинный Август Берзинь, я не знаю. Сын состоятельных родителей, художник, получивший специальное образование в Париже, он не возбуждал подозрений. Возможно, что подлинный Август Берзинь действительно существовал, действительно был художником и действительно отправился в свое время заканчивать образование в Париж. Возможно… Но из Парижа в Латвию вернулся уже другой Берзинь. Не знаю, куда делся подлинный Август Берзинь. Может быть, остался в Париже, может быть, уехал в Южную Америку, может быть, погиб при автомобильной катастрофе… Родители Августа Берзиня к тому времени умерли, и уличить Дэвиса Блейка в подлоге было некому. А если некоторым старым знакомым казалось, что Август не совсем похож на себя, этому находилось объяснение: годы отсутствия меняют многих людей, да еще годы, проведенные в таком городе, как Париж! Вам, конечно, понятен смысл этого маскарада? Дэвис Блейк, сотрудник Интеллидженс сервис, был назначен резидентом в Прибалтике. Местом своего пребывания он избрал Ригу. Этот город недаром называли ярмаркой шпионов. Географическое и политическое положение Риги сделало ее скопищем различных авантюристов, именно здесь скрещивались и расходились пути многих разведывательных служб. Блейк делал свое дело. Связи его расширялись. Меня командировали на помощь Блейку…
– И вы, позавидовав его лаврам, – вмешался я, – решили его устранить и занять освободившееся место?
Моя собеседница подарила меня взглядом, выражавшим одновременно и сострадание, и презрение: с ее точки зрения, я обнаруживал чрезмерную наивность, рассуждая о делах секретной службы.
– Вы глубоко заблуждаетесь, – снисходительно возразила она. – Было бы слишком нерасчетливо убирать с дороги тех, кто вместе с вами идет к одной цели… – Она несколько оживилась. – Мы жили достаточно дружно, – продолжила она свой рассказ. – Но чем сложнее события, тем труднее работа разведчика. Захват немцами Польши, оккупация Франции, провозглашение советской власти в прибалтийских республиках… Жизнь движется с калейдоскопической быстротой, и разведчик, никому неведомый и почти беззащитный агент секретной службы, нередко призван то ускорять, то замедлять движение истории…
– Вы неплохо поэтизируете профессию шпиона, – прервал я свою собеседницу. – Но это теория…
– Правильно, практика грубее и страшнее, – согласилась Янковская. – В тот вечер, когда вы познакомились со мной, Блейка застрелили…
– Кто? – перебил я Янковскую.
– Это не установлено, – уклончиво ответила она. – Застрелили Блейка и…
– Застрелили меня, – договорил я. – Можно догадаться, почему застрелили Блейка, но для чего было убивать меня?..
– Ах, без причины не делается ничего, – сказала Янковская. – Вы стали свидетелем происшествий, которые не должны иметь свидетелей…
– По вашей милости, – сказал я. – Я не навязывался вам в попутчики…
– Это неважно… – Она точно отмахнулась от моего упрека. – Но вы оказались счастливее Дэвиса.
– По причине вашего неумения стрелять? – спросил я.
– Нет, стрелять я умею, – возразила она. – Но в момент, когда я в вас целилась, мне пришла мысль сохранить вас и подменить вами Блейка…
– Убитого немецкой разведкой? – спросил я. – Мне ведь нужно знать, кем убит Блейк.
– Я же сказала вам, что это не установлено, – повторила Янковская. – С таким же успехом это могла сделать и советская разведка.
Я не хотел с ней спорить.
– Но для чего нужен вам я? – спросил я.
– О, это очень важно, – охотно пояснила Янковская. – Важно, чтобы англичане и немцы думали, что Блейк жив. Если Интеллидженс сервис узнает, что Блейк погиб, сюда пришлют другого резидента, и кто знает, как я еще с ним сработаюсь. А немцы, кроме того, имеют на Блейка свои виды, и в ваших интересах их не разочаровывать. Думаю, что они попытаются вас завербовать, и вам придется делать вид, что вы работаете и на англичан, и на немцев.
– А если я не буду делать вид, что на кого-то работаю? – поинтересовался я. – Что тогда?
– Тогда вы отправитесь вслед за бедным Дэвисом, – просто сказала Янковская. – В этой игре никто никому не дает форы.
– А если я все же не соглашусь? – повторил я. – Какие у вас гарантии, что я не воспользуюсь первым представившимся мне случаем и не убегу к своим?
– Привязанность к жизни, – уверенно возразила Янковская. – Вы нормальный человек и хотите жить, а в Советской России вас ждет расстрел.
– Расстрел? – удивился я. – За что?
– Не так уж сложно вызвать подозрение к человеку, – сказала Янковская. – Небольшой труд дать русским понять, что вас завербовали и перебросили обратно для шпионажа. Вы уже достаточно скомпрометированы связью со мной…
Я действительно хотел жить. Но смерть я предпочел бы бесчестию. Как бы меня ни пытались скомпрометировать, все равно я решил бежать к своим. Но сделать это надо было умно, и поэтому на какое-то время приходилось вступить в игру, которую предлагала Янковская.
– Чего же вы от меня хотите? – спросил я.
– Прежде всего, чтобы вы меня развязали, у меня затекли руки и ноги, – ответила она. – А затем, чтобы вы были Дэвисом Блейком.
Я развязал ее: убивать меня ей не было расчета, а убивать ее я не собирался, тем более что без предварительной подготовки бежать из Риги просто было невозможно.
– Но вы так и не объяснили мне всей этой истории с поцелуем, – сказал я. – Кто же все-таки находился тогда ночью в машине, и почему вы очутились на лестнице?
– Ах, это все частности! – небрежно сказала она. – Как-нибудь узнаете, не в этом суть.
– А в чем же?
– В завтрашнем дне. Надо действовать, а не оглядываться назад.
– Что же мне надо делать?
– Быть Дэвисом Блейком, я уже сказала. Для начала этого достаточно.
– А вы не думаете, что Блейк, которого вы предлагаете мне изображать, может быть изобличен? – возразил я.
– О нет, это предусмотрено, – объяснила она. – У Берзиня был свой круг знакомых, но те, кто кренил вправо, бежали из Риги в первые дни ее советизации, а те, кто кренил влево, эвакуировались вместе с советскими учреждениями, и, наконец, если ваша личность не вызывает никаких сомнений ни у вашей кухарки, ни у вашей любовницы, кто еще посмеет усомниться в том, что вы не Август Берзинь?
– Кто моя кухарка и что она думает, я уже знаю. Но что касается любовницы, дело обстоит несколько хуже: я не знаю, кто она.
– А вы не догадались? – насмешливо спросила Янковская, расправляя затекшие руки. – В противном случае вряд ли я была бы так хорошо посвящена в дела Блейка!
Янковская прошлась по комнате.
– Вот что, Август, – деловито сказала она. – Я пойду в ванную и приведу себя в порядок, а вы переоденьтесь, и мы проверим, действительно ли вы так похожи на Берзиня, как это кажется мне.
И я послушался ее, потому что мне не оставалось ничего другого.
Мы спустились вниз, знакомый автомобиль стоял у подъезда.
– Это чья машина? – спросил я. – Ваша или моя?
– Ваша, – ответила Янковская. – Но я не хочу, чтобы она находилась сейчас в вашем распоряжении.
Это было понятно.
Она опять села за руль, машину она водила хорошо.
– Куда мы едем? – спросил я. – Это не секрет?
– Нет, – ответила она. – К профессору Гренеру, кому вы в значительной степени обязаны своим выздоровлением.
– К тому самому аисту, которого мне довелось видеть в госпитале? – догадался я. – Под каким же именем я буду ему представлен?
– Он знает вас под именем Августа Берзиня. Но подозревает, что вы Дэвис Блейк.
– Не без вашей помощи? – спросил я.
– Нет, – ответила она. – Немцы и без меня знали, что под именем Августа Берзиня скрывается Дэвис Блейк.
– Но если они знают, что я английский шпион, почему бы им меня не арестовать? – поинтересовался я. – Англия находится с Германией в состоянии войны!
– Не будьте наивны, – снисходительно сказала Янковская. – Они имеют на вас далеко идущие виды. Неужели вы думаете, что они стали бы так старательно лечить какого-то там латыша?
– Так вот почему этот профессор цитировал мне Шекспира!
– Конечно, немцы уверены, что вы стали жертвой советской разведки.
– А что… этот ваш Гренер?..
– О, Гренер! Вам следует с ним подружиться. В Риге он представляет не только медицинскую службу, он влиятельная фигура в гитлеровской администрации. Видный профессор, он вступил в нацистскую партию еще до прихода Гитлера к власти. С ним лично знаком Геббельс, у него большие международные связи, и он даже выполнял какие-то специальные поручения гитлеровцев за границей…
– Аттестация что надо, – сказал я. – Только я не верю, что он хороший врач, хороший врач не пойдет на службу к этим выродкам…
– Вы опять рассуждаете по-детски, – возразила Янковская. – Неужели вы думаете, что среди гитлеровцев нет способных людей? Они бы тогда не продержались и месяца! А что касается Гренера, коллеги по партии даже упрекают его в излишней гуманности. Во всяком случае, именно такие люди, как Гренер, представляют в гитлеровской партии сдерживающее начало…
На одном из перекрестков нас задержало скопление машин и пешеходов. Янковская нетерпеливо выглянула из машины, и шуцман, – полицейские появились на улицах Риги чуть ли не на другой день после занятия города немцами, – точно отодвинув своим жезлом все прочие машины в сторону, любезно кивнул, предлагая Янковской ехать…
Она умела обвораживать даже полицейских!
– А каким образом вы сами очутились в госпитале? – поинтересовался я. – Что вы там делали?
– Ухаживала за вами, – объяснила Янковская. – Мне разрешили ухаживать за вами. Немцы знали, кто вы такой, и понимали мои опасения. Мало ли о чем вы могли проболтаться, лежа без сознания. Поэтому всегда хорошо, когда около такого больного находится осведомленный человек.
Мы остановились у дома, который занимал профессор Гренер.
Судя по тому, что немецкая администрация отвела генералу Гренеру целый этаж в большом трехэтажном доме, он считался генералом влиятельным.
Перед домом стояло несколько машин, у подъезда, разумеется, дежурил эсэсовец.
Однако он не остановил нас, когда мы подошли к двери: или он знал Янковскую, или у него вообще был наметанный глаз.
Мы поднялись по лестнице, устланной ковром, и очутились в квартире профессора.
Все выглядело так, точно Гренер жил в этой квартире десятки лет. Во всем чувствовался немецкий порядок. Мебель была аккуратно расставлена, ковры тщательно вычищены, рамы картин сверкали позолотой.
Мы вошли в гостиную. У Гренера происходило что-то вроде небольшого приема. Трудно было допустить, что все эти спокойно разговаривающие друг с другом люди находились в чужом, завоеванном и враждебном городе.
Гренер сразу увидел Янковскую и пошел к ней навстречу. В генеральском мундире он казался еще более долговязым и худым, чем в белом халате. Его грудь украшал Железный крест. Он оживленно закивал своей птичьей головкой, щелкнул каблуками и поднес к губам руку гостьи.
– Вы забываете меня, – упрекнул он Янковскую. – А старики обидчивы!
– Господин Берзинь, – назвала меня Янковская. – Он хотел лично поблагодарить вас.
– О, мы уже знакомы, и надеюсь, что подружимся! – приветливо воскликнул Гренер и выразительно посмотрел на Янковскую. – Хотя…
Он не отказал себе в удовольствии еще раз блеснуть передо мной цитатой из Шекспира:
- Friendship is constant in all other things,
- Save in the office and affairs of love.
Янковская холодно взглянула на Гренера.
– Что вы хотите этим сказать? – спросила она его.
– «Дружба тверда во всем, но только не в делах любви», – перевел я.
– Это я поняла, – сказала Янковская и посмотрела на Гренера. – Но у вас не должно быть оснований меня ревновать.
– О, если бы я знал, что вы будете уделять столько времени господину Берзиню, – пошутил Гренер, – я бы запретил его лечить…
Янковская очень свободно, так, точно она была здесь хозяйкой, познакомила меня с гостями профессора.
Преимущественно это были офицеры, составлявшие ядро гитлеровской военной администрации в Риге, были несколько полуштатских-полувоенных чиновников, двое из них с женами, были несколько женщин без мужей, и среди них какая-то артистка; женщины были в вечерних платьях, многих украшали драгоценности.
Наше появление отвлекло гостей Гренера от разговоров. На меня посматривали с интересом; вероятно, люди, находившиеся в этой аккуратной гостиной, слышали что-то обо мне. Но еще больше внимания вызывала Янковская. Ее здесь знали, и если женщины смотрели на нее с каким-то завистливым подобострастием, то многие мужчины поглядывали с откровенным вожделением.
Гренер подвел меня к какому-то мрачному субъекту в черной эсэсовской форме; на его лице смешно выделялись маленькие черные усики, такие же, как у Гитлера, и явно крашеные, потому что волосы на голове этого субъекта были рыжими, как лисий хвост.
Субъект этот почему-то сидел в кресле, хотя возле него стояла дама, и молча созерцал окружающее его общество.
– Позвольте вам представить, – сказал Гренер. – Господин обергруппенфюрер Эдингер с супругой… – И в свою очередь назвал меня: – А это господин Берзинь… – Он сделал паузу и многозначительно добавил: – Тот самый!
Я поклонился толстой бесцветной госпоже Эдингер, но господин обергруппенфюрер не дал нам поговорить.
– Сядь, Лотта, – строго сказал он жене, поднимаясь с кресла, и своими цепкими пальцами обхватил мою руку повыше кисти так энергично, будто сдавил ее наручником. – Пойдемте, господин Берзинь, – очень отчетливо сказал он. – Мы должны познакомиться короче.
Он повел меня в столовую, где несколько офицеров, стоя у стола, пили вино.
Обергруппенфюрер бесцеремонно раздвинул бутылки и поднял графин с бесцветной жидкостью.
– Мы в России и должны пить русский шнапс, – категорично сказал он, наполнил две большие рюмки и протянул одну мне. – Прозит!
Мы выпили.
– Сейчас будет музыка, – сказал обергруппенфюрер так, точно отдавал команду. – Поэтому надо наслаждаться музыкой. Идите к своей даме.
Действительно, в гостиной высокая красивая дама в розовом платье, которую называли артисткой, стояла у рояля и собиралась петь.
Я подошел к Янковской.
– Что это за тип? – спросил я ее шепотом, поведя глазами в сторону своего нового знакомого.
– Начальник гестапо Эдингер, – почти неслышно ответила Янковская. – Будьте с ним полюбезнее.
Я только вздохнул…
Мог ли я еще недавно вообразить, что мне придется очутиться в такой компании!
Тем временем дама в розовом платье запела. Она исполняла романсы Шумана. Это действительно была настоящая артистка, и успех ей был обеспечен в любой аудитории.
Она исполнила несколько романсов, ей аплодировали, негромко и недолго, как принято в светском обществе, и вдруг после Шумана, после мечтательного, мелодичного Шумана она запела «Хорста Весселя», любимую песню штурмовиков, песню гитлеровских головорезов…
Она пела со смущенным видом, отдавая дань обществу, в котором находилась, как будто конфузясь, точно делала что-то неприличное…
Да, это был не Шуман!
Лица слушателей побагровели, многие встали, кто-то начал даже подпевать…
Мне показалось, кликни кто-нибудь сейчас клич – и все устремятся на улицу грабить, жечь, резать…
После певицы, не ожидая приглашений, почти по-военному к роялю подошел сам Гренер и сел на черный полированный табурет…
Если правильно говорят, что музыка выявляет душу людей, я бы сказал, что у Гренера совсем не было души. Играл он хорошо знакомые ему произведения, потому что почти не заглядывал в ноты, каждую музыкальную фразу проигрывал очень тщательно, но никогда в жизни я еще не слышал такой сухой игры. Сначала я удивился этой необычной сухости, но потом заметил, что Гренер почти не пользуется педалью. Ударит по клавише и оборвет звук, – звук не растет, не плывет, не вступает в общение с другими. Никогда раньше я не мог себе представить, что рояль можно превратить в барабан.
Гренер уверенно сыграл увертюру к «Мейстерзингерам», две прелюдии Баха и затем «Приглашение к танцу» Вебера…
Легкое, изящное «Приглашение…». Во что он его превратил!
Клавиши защелкали под его пальцами, точно кастаньеты, гостиная наполнилась треском…
И вот в то время, когда этот интеллектуальный нацист играл Вебера, я услышал за своей спиной хриплый шепот:
– Господин Берзинь, нам с вами надо встретиться.
Я обернулся. За моей спиной стоял обергруппенфюрер Эдингер.
– Зайдите ко мне в канцелярию, – продолжал Эдингер. – Я буду ждать вас в ближайшие дни.
«Тоже „приглашение к танцам“», – подумал я, приглашение, отказаться от которого в данный момент было для меня невозможно…
Так я втягивался в игру, которая вряд ли могла окончиться чем-нибудь для меня хорошим!
После музыки нас пригласили ужинать. За столом прислуживали два денщика, выдрессированные, как хорошие лакеи.
Мне показалось, что не пил один Гренер, недаром Янковская назвала его сдерживающим началом.
Этот старый сухой человек подчеркнуто ухаживал за моей спутницей; она точно гальванизировала его, наполняя это холодное, надменное существо какими-то человеческими эмоциями.
Янковская, кажется, была единственной гостьей, которую Гренер вышел проводить в переднюю.
Она и отвезла меня домой.
Мы поднялись в мою квартиру. Марты не было видно, должно быть, она спала.
Когда я заглянул в спальню, Янковская сидела на моей кровати. У нее был какой-то понурый вид, точно она ожидала побоев.
– Хотите, я останусь у вас? – спросила она. – Вы можете стать преемником Блейка во всех отношениях.
Я покачал головой.
– Вы волевой человек, – насмешливо сказала Янковская. – Вы даже начинаете мне нравиться.
– Я вас не совсем понимаю, – сказал я. – Вероятно, вас связывало с Блейком какое-то чувство, как же вы можете искать близости с человеком, товарищи которого убили вашего любовника?
– Каких товарищей имеете вы в виду? – спросила она меня таким глухим голосом, точно разговаривала со мной откуда-то очень издалека.
– Я имею в виду советскую разведку, – сказал я. – Ведь вы говорили, что Блейка убила советская разведка?
– Ах, да при чем тут советская разведка! – устало произнесла Янковская. – Уж если на то пошло, Блейка убила я сама.
5. На собственной могиле
Пусть не посетуют на меня за то, что я почти ничего не говорю о тех грозных событиях, которые потрясали тогда весь мир. Я хочу описать всего лишь один эпизод в цепи многих событий того времени, описать так, как он сохранился в моей памяти.
Проводив Янковскую, после того как она призналась мне в убийстве Блейка, я долго раздумывал о причинах, побудивших ее убить своего любовника…
Почему она его застрелила?
Десятки раз я задавал себе этот вопрос, каждый раз отвечая на него по-другому.
Ревность? Ревность такой женщины, как Янковская, была бы, несомненно, жестоким и опасным чувством. Но я не допускал мысли, что кто-нибудь способен возбудить ее ревность, для этого она была слишком холодна и расчетлива…
Возмездие? Кому и за что? Янковская была слишком беспринципна, чтобы карать за измену каким-либо принципам, и достаточно цинична, чтобы не изображать Немезиду…
Расчет? Но какой ей был расчет убивать Блейка, если даже пришлось прибегнуть к моей помощи, чтобы создать иллюзию того, что он жив?..
Я создавал гипотезу за гипотезой и столь же решительно их отвергал…
Наступило утро. Еще одно невыносимое для меня утро. Вынужденное безделье, тягостное ожидание…
Надо представить себе человека в моем положении, чтобы понять, как сложно оно было!
Я очутился в тылу врага. Придя в себя после болезни, вызванной опасным и тяжелым ранением, я вынужден был играть роль английского разведчика, навязанную мне особой, которая одновременно являлась и моим убийцей, и спасителем. Эта особа выдавала меня за убитого ею резидента английской разведки, и немцы поэтому оставляли меня в покое. Мне же приходилось играть эту роль потому, что немцы незамедлительно меня уничтожили бы, узнай они, кем я являюсь на самом деле.
Однако главное заключалось не в сохранении жизни, а в том, чтобы принять участие в происходящей борьбе и принести наибольшую пользу Родине. С одной стороны, я очутился в очень выгодном положении, находясь среди врагов и принимаемый ими не за того, кем я был в действительности. С другой стороны, я был один, а в одиночестве бороться, как известно, неизмеримо труднее. Что же делать в этих условиях? Целесообразнее всего связаться с нашей разведкой, но это просто невозможно. Хорошо бы связаться с коммунистическим подпольем, в Риге наверняка действовали незримые народные силы, но они тоже для меня недоступны. Проще всего попытаться перебежать к своим, перейти линию фронта, но и для этого требовались величайшая предусмотрительность и осторожность. Можно не сомневаться, что хотя меня и оставляют в покое, но из виду, конечно, не теряют.
В поисках возможностей установить какие-либо связи и определить свое место в происходящей борьбе я пошел даже на безрассудный шаг и отправился на свою старую квартиру. Цеплис не мог не быть связан с антифашистским подпольем, такие люди никогда не уклонялись от выполнения своего долга. Безрассудным мое намерение было потому, что я мог привлечь внимание к нам обоим. Но желание найти в оккупированной Риге хоть одного верного человека было столь велико, что я пошел на этот риск.
Опыта в конспирации у меня никакого не было. Как обманывают бдительность сыщиков, я знал только по книгам о революционном подполье: руководствуясь ими, я долго кружил по улицам, наблюдал за прохожими и, внезапно сворачивая в переулки, напряженно ждал появления каких-либо любопытствующих личностей…
Лишь после такой подготовки я нырнул в ворота дома, в котором еще недавно обитал. Во дворе остановился, помедлил. Никто вслед за мной не появился. Через черный ход прошел на парадную лестницу и опять подождал. Все было спокойно. Тогда я поднялся на самый верх. Тишина! Спустился ниже, остановился перед своей бывшей квартирой и, не рискуя воспользоваться собственным ключом, с замиранием сердца позвонил… При гитлеровцах здесь вполне можно было нарваться на засаду!
Мне открыла дверь незнакомая, прилично одетая женщина, с тонкими поджатыми губами.
– Простите, – сказал я. – Тут, кажется, жили Цеплисы…
– Цеплисы? – переспросила она и покачала головой. – Не знаю… Не знаю никаких Цеплисов, – холодно повторила она, подозрительно посмотрев на меня, и вдруг чуточку смягчилась: – Впрочем, я живу здесь недавно… Если это жильцы, которые жили тут до прихода немцев, так вам лучше всего осведомиться о них в полиции, – решительно посоветовала она и, чуть помедлив, добавила: – Их, кажется, забрали в полицию…
Мне показалось, что она меньше всего хочет вступать со мной в разговор, потому что еще раз покачала головой и торопливо захлопнула передо мной дверь.
Однако, по существу, она сказала все, что требовалось узнать.
Я оглянулся – на лестнице не было никого – и тем же путем вернулся на улицу.
Рухнула единственная надежда!..
Впрочем, этого следовало ожидать. Трудно было предположить, что оккупанты оставят Цеплисов в покое, тем более что агенты гестапо, засланные в Прибалтику еще задолго до войны, к приходу гитлеровских войск несомненно составили проскрипционные списки всех местных жителей, подлежавших обезвреживанию и уничтожению.
Милый, скромный, молчаливый Мартын Карлович Цеплис… Можно было только догадываться, что с ним случилось.
Во всяком случае, надежда на помощь с его стороны рухнула…
Оставалась только одна возможность – стать, так сказать, мстителем-одиночкой, мстить оккупантам сколько возможно и подороже продать свою жизнь. Вполне вероятно, что я вступил бы на этот путь, если бы…
Я понимал, что действовать в одиночку следовало только в крайнем случае, лишь окончательно убедясь, что отрезаны все другие пути. Поэтому некоторое время следовало выжидать, пытаться использовать для установления связи каждый случай, а до тех пор получше ориентироваться в окружающей обстановке, узнать как можно больше секретов, и в частности, попытаться использовать Янковскую в целях, которые отнюдь не совпадали с целями самой Янковской.
Наступило еще одно мое обычное и одновременно странное утро.
Я встал, побрился, умылся, равнодушно проглотил кашу и яйца, приготовленные для меня заботливой Мартой, прошел в кабинет, взял попавшийся мне под руку том Моммзена, полистал его… Нет, римская история мало интересовала меня в моем положении!
Так я сидел, решая задачу со многими неизвестными, и ожидал появления одной из унаследованных мною девушек. Пожалуй, только посещения блейковских девиц и разнообразили мою жизнь.
Однако вместо какой-нибудь официантки или массажистки около одиннадцати часов появилась сама Янковская, свежая, бодрая и оживленная.
На ней был элегантный коричневый костюм, черная бархатная шляпа и такая же лента на шее. Она небрежно играла черными шелковыми перчатками и ни словом не упомянула о нашем вчерашнем разговоре. Впрочем, следует сказать, что больше она никогда уже не предпринимала попыток перейти границу установившихся между нами корректных и внешне даже приятельских отношений.
– Все в порядке? – спросила она.
– Если вы считаете мое безделье порядком, то в порядке.
– Как раз его-то я и хочу нарушить. – Она села поближе к письменному столу и испытующе посмотрела на меня. – Может быть, поработаем? – предложила она.
– Мне неизвестно, что вы называете работой, – нелюбезно отозвался я.
– То же, что и все, – примирительно сказала она и поинтересовалась: – Вы сегодня ждете кого-нибудь из девушек?
– Возможно, – сказал я. – Я не назначаю им времени для посещений, они приходят, когда им вздумается.
– Вы ошибаетесь, – возразила Янковская. – У каждой из них есть определенные дни и даже часы. – Она насмешливо посмотрела на меня. – Где их список?
Я удивился:
– Список?
– Ну да, не воображаете же вы, что они не состояли у Блейка на учете. Он был педантичный человек. Где ваша телефонная книжка?
Она сама нашла ее в пачке старых газет. Это была обычная узкая тетрадь в коленкоровом переплете для записи адресов и телефонов. В ней значилось много фамилий, по-видимому, друзей и знакомых, с которыми Блейк поддерживал отношения.
Янковская указала мне на эти списки:
– Вот и ваши девушки.
Их легко было выделить среди прочих адресов, около каждой из фамилий стояло прозвище или кличка: Пчелка, Лиза, Роза, Эрна, Яблочко – и уже затем адрес и место работы.
Законы конспирации были сведены здесь как будто на нет. Любой мало-мальски сообразительный человек, интересующийся деятельностью Августа Берзиня, без особого труда обнаружил бы его миловидных агентов. Но именно потому, что Блейк вербовал в число своих агентов только молодых и преимущественно хорошеньких женщин, перечень их естественнее было принять за донжуанский список художника Берзиня, чем за реестр секретных сотрудников резидента Блейка.
И все же мистер Блейк оригинальностью не отличался. Тот, кто мог догадываться об истинных занятиях Берзиня, легко догадался бы и о том, что и список, и особы, в нем перечисленные, заведены лишь в целях дезинформации. Хотя я сам не был профессиональным разведчиком, я бы сказал, что это была грубая работа, рассчитанная на наивных людей.
Что касалось подлинной, более серьезной и более действенной агентуры, наличие которой следовало предположить, я не мог обнаружить ее следов, как не могла их обнаружить даже непосредственная сотрудница Блейка Янковская, но об этом я узнал позже.
Пока что она пыталась приспособить меня к деятельности, которой занималась сама.
– Кто из девушек ходит к вам чаще других? – спросила меня Янковская.
Я задумался.
– Кажется… кажется, такая полная блондинка, – неуверенно сказал я. – Если не ошибаюсь, она служит в парикмахерской.
– Ну а теперь вспомните, когда она к вам приходила.
Я опять наморщил лоб.
– Мне кажется, она приходит раза два в неделю… Да, два раза в неделю, по утрам! По-моему, ее зовут Эрна…
– Следует быть более наблюдательным, – упрекнула меня Янковская. – Эти посещения надо как-то учитывать и отмечать получаемое девушками вознаграждение…
С наивной насмешливостью посмотрел я на своего ментора.
– Нанять бухгалтера?
– Нет, этого не нужно, – спокойно возразила Янковская. – Но ни один резидент не положится в таких делах на свою память…
Я вздохнул.
На самом деле я вел очень точный учет своим посетительницам. В спальне у меня имелось несколько коробок с пуговицами; голубая пуговка означала, например, Эрну, таких пуговок находилось в коробке семь, по числу ее посещений, а пять мелких черных брючных пуговиц свидетельствовали о том, что Инга из гостиницы «Савой» являлась всего лишь пять раз. Нет, я вел учет, который зачем-нибудь да мог пригодиться, но не хотел сообщать об этом Янковской.
– А кроме девушек, к вам никто больше не приходил? – спросила она меня затем как бы невзначай.
– Приходил, – сказал я. – Владелец какого-то дровяного склада.
– И чего он от вас хотел?
– Чтобы я приобрел у него дрова на тот случай, если в нашем доме перестанет действовать паровое отопление.
Янковская испытующе посмотрела на меня.
– И больше ничего?
– Больше ничего.
Этот посетитель и в самом деле ни о чем больше со мной не разговаривал и только в течение всего нашего разговора держал в руке почтовую открытку, на которой были изображены какие-то цветы…
Но хотя я не собирался в каждом посетителе видеть секретного агента или шпиона, визит этого торговца показался мне странным, он явно чего-то ждал от меня, это чувствовалось. Вполне логично было предположить, что он произнес какой-то пароль и что я мог вступить с ним в общение, которое помогло бы мне ближе познакомиться с практической деятельностью Блейка, но я не знал ни пароля, ни отзыва и, можно сказать, мучился от сознания своего бессилия. Однако и об этом я тоже не нашел нужным говорить Янковской.
– Вы все-таки записывайте всех, кто к вам заходит, – попросила Янковская. – Дела любят порядок, и если вы начнете ими заниматься, ваша жизнь сразу станет интереснее. – Она переменила тему разговора: – О чем вчера говорил с вами Эдингер?
– Звал в гости.
– Серьезно?
– Сказал, что нам надо встретиться, и пригласил заехать к нему в канцелярию.
– Когда же вы к нему собираетесь?
– Я не спешу.
– Напрасно. Не откладывайте этого свидания: в сегодняшней Риге это один из могущественнейших людей. Добрые отношения с ним гарантируют безопасность.
Она настаивала на том, чтобы я поехал к Эдингеру в тот же день, да я и сам понимал, что не стоит откладывать посещения.
Гестапо занимало многоквартирный шестиэтажный дом, и в комендатуре было полно штурмовиков, они пренебрежительно оглядели меня, точно я зашел туда по ошибке.
Я подошел к окошечку, где выдавались пропуска.
– Мне нужно к господину Эдингеру, – сказал я и протянул паспорт.
– Обергруппенфюрер не принимает латышей, – грубо ответил мне какой-то надменный юнец. – Проваливайте!
Это было необычно для немцев: с теми, кто был им нужен, они обращались вежливо, по-видимому, комендатура не была предупреждена обо мне.
Мне с неохотой позволили позвонить по телефону. Я попросил соединить меня с Эдингером, и его секретарь, как только я себя назвал, ответил, что все будет немедленно сделано.
Действительно, не прошло нескольких минут, как тот самый юнец, который предложил мне убираться, выскочил из-за перегородки с пропуском, отдал мне честь и предложил проводить до кабинета обергруппенфюрера.
Мы поднялись в лифте, и, когда я со своим провожатым шел по коридору, навстречу мне попались два эсэсовских офицера в сопровождении человека без знаков различия, но тоже в черном мундире, рукав которого украшала устрашающая эмблема смерти – череп и две скрещенные кости.
Человек показался мне знакомым; потом я решил, что ошибся; я посмотрел внимательнее и узнал Гашке, того самого Гашке, вместе с которым лежал в госпитале.
Он шел позади офицеров, с коричневой папкой под мышкой, важный, сосредоточенный, ни на что не обращающий внимания, настоящий самодовольный гитлеровский чиновник.
Я пристально смотрел на Гашке, меня интересовало, узнает ли он меня, но он кинул на меня равнодушный взгляд и прошел мимо с таким видом, точно мы с ним никогда до этого не встречались.
Мы вошли в приемную, мой провожатый откозырял секретарю, и меня без промедления попросили зайти к обергруппенфюреру.
Эдингер со своими рыжими прилизанными волосами и черными усиками выглядел все так же смешно, как и на вечере у профессора Гренера, в нем не было решительно ничего страшного, хотя в городе о нем рассказывали всякие ужасы, говорили, что он пытает людей на допросах и собственноручно «обезвреживает» коммунистов, что на языке гитлеровцев было синонимом слова «убивать».
Эдингер был воплощенной любезностью.
– Прошу вас… – Он указал мне на кресло. – Перед вашим приходом я читал нашего дорогого фюрера, – торжественно сообщил он. – Какая книга!
Я было подумал, что он паясничает, но на его столе действительно лежала гитлеровская «Моя борьба», и пухлое лицо Эдингера выражало самое подлинное умиление.
В течение некоторого времени он вел себя как базарный агитатор: выражал восторги по адресу фюрера, говорил о заслугах национал-социалистской партии, восхищался будущим Германии…
Но, воздав богу богово, он сразу перешел на фамильярно-деловой тон:
– Вы позволите… – Он на мгновение замялся. – Вы позволите не играть с вами в прятки?
– Прошу вас, – ответил я ему в тон. – Я сам стремлюсь к полной откровенности.
Эдингер просиял.
– О господин Блейк! – воскликнул он. – Для германской разведки не существует тайн.
Я сделал вид, что поражен его словами; человек менее самовлюбленный, чем Эдингер, возможно, заметил бы, что я даже переигрывал.
– Ничего, ничего, не огорчайтесь, – добродушно промолвил Эдингер и похлопал меня по плечу. – Мы умеем смотреть даже сквозь землю!
Я вежливо улыбнулся.
– Что ж, это делает честь германской разведке.
– Да, милейший Блейк, – самодовольно продолжал Эдингер. – Мы знали о вас в те дни, когда Латвией управлял Ульманис, наблюдали за вами, когда Латвия стала советской, и, как видите, нашли, когда сделали Латвию своей провинцией. Еще никому не удалось от нас скрыться.
На этот раз я не улыбнулся, напротив, старался смотреть на своего собеседника возможно холоднее.
– Что вы хотите всем этим сказать? – спросил я. – Допустим, вам известно, кто я, что же дальше?
– Только то, что вы в наших руках, – произнес Эдингер менее уверенным тоном. – Когда солдат попадает в плен, это на всех языках называется поражением.
– Неудача отдельного офицера не есть поражение нации, – возразил я с холодной вежливостью. – Не забывайте, что я разведчик, а разведчик всегда готов к смерти. Такова наша профессия: поражать и, увы, всегда быть готовым к тому, что могут поразить и тебя самого.
Я понимал, что все, что я говорил, было в известной степени декламацией, но я также понимал, что декламация производит впечатление не только на сцене.
– Мне приятно, что вы это понимаете, – удовлетворенно сказал Эдингер. – В таком случае поговорим о стоимости выкупа.
Я выпрямился в своем кресле.
– Я еще не продан и не куплен, господин Эдингер!
– Неужели вы не боитесь смерти? – вкрадчиво спросил меня мой собеседник. – Поверьте, смерть – это небольшое удовольствие!
– Английский офицер боится только бога и своего короля, – ответил я с достоинством. – А с вами мы, господин Эдингер, только коллеги.