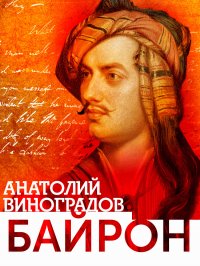Читать онлайн Осуждение Паганини бесплатно
- Все книги автора: Анатолий Виноградов
© ИП Воробьёв В.А.
© ООО ИД «СОЮЗ»
Глава первая. Город двуликого бога
Когда время прокладывает новую дорогу, когда новая морщина ложится на лицо земли, то старые дороги, как старые складки на лице, теряют свои прежние очертания. Пути, проложенные историей между странами земли, подвергаются причудливым изменениям. Одни поражают своей свежестью, шириной, полнозвучной наполненностью, движением, другие, еще надолго сохраняющие свою величавость, глохнут, погружаются в тишину. Трава пробивается между каменными плитами, и, наконец, деревья могучим потоком живой ткани выламывают камни. На этих дорогах птицы и звери забывают, что здесь когда-то шли колесницы и ступала нога человека. Пути, рассчитанные на века, сохранили свою старинную прочность, но остались без применения.
Города, лежащие на больших исторических путях, несут на себе следы всех этих перемен. Одни замирают, другие наполняются неслыханным и небывалым шумом. Одни поглощают свои пригороды, выбрасывая улицы далеко за пределы старых застав, рогаток и околиц, другие принимают в себя, на развалившуюся мостовую, семена соседних рощ и полей. Брошенные церкви окраин обрастают деревьями, колокола покрываются пылью, и от языка к стенке колокола тянется блестящая на солнце паутина.
Имена городов не случайны. Так и город, родивший Паганини, осужденного на гениальность и проклятого за талант, носит не случайно название Генуя. В средние века этот город назывался Janua. Латинское слово janua значит дверь. Не только такая створчатая дверь, которая ходит на петлях, а дверь в смысле порога и выхода, отделяющего весь открытый поднебесный мир от замкнутого жилища человека. Janua – это и не только дверь – это выход в новый день, порог к завтрашнему от вчерашнего, это взор, вперенный в будущее, и оглядка на прошлое. Janua – римский бог, охраняющий пороги домов и входы в города, какое-то воплощение геометрической химеры, определяющей черту между прошлым и будущим, там, где настоящее становится тоньше тени от паутины.
Этот римский бог нашел свое олицетворение в виде двуликого существа. Одно лицо смотрит вперед, другое – назад, хотя они являются частями одной и той же головы.
Первый месяц года назывался Януарий. Он запирал собой последние мгновения старого года, когда в зимнюю стужу, в вихрь и вьюгу уже слышались голоса наступающей весны.
Когда-то Средиземье, замкнутое в гигантский эллипс, было увенчано короной драгоценных городов На дальнем Западе, за Столбами Геракла, открывался Атлантический океан. Старинные периплы греков рассказывают о путешествии финикиян за Геркулесовы Столбы, о походе Язона за золотым руном. Платон в «Тимее» и в «Критии» повествует о том, что за Геркулесовыми Столбами когда-то была дорога в Атлантиду. Страна ушла под море. Остатки древних народов еще встречаются на лице теперешней земли. Как Архимед о песчинках, так Платон говорит о древних мирах, об их кончине и о возникновении новых. Столбами Геракла кончились достижения старинного человечества. Отважные мореплаватели, пролагавшие пути на Восток, туда, где встает солнце, на Левант, имели гораздо больший успех, чем путники, уходившие на Запад. На Восток устремлялись сердца искателей индийского золота и помыслы тех, в ком пламенело желание видеть неугасимые лампады Иерусалима. Вот венцом к этому венцу городов Средиземья, ключом к вратам земли была в те века Генуя.
Из Генуи вышел человек, пожелавший запереть двери старого мира и открыть выход в Новый Свет. В Генуе родился Колумб.
Когда американское золото наводнило Европу и Новая Индия вытеснила Старую Индию Леванта, замерли громадные дороги, выводившие Европу через Генуэзские двери на старинный Восток.
В XIV столетии Генуя потеряла Кипр. Прошло четыре века, она потеряла Корсику. Корсика – генуэзский остров. Ее захватили французы. И вот теперь корсиканский офицер с севера двигался в Италию. Бонапарт и Массена шли походом на Геную. Город пытался сохранить свою вольность. Генуэзская республика в дни Бонапарта еще избирала дожа, при нем существовали еще двенадцать гувернаторий и восемь префектур. Генуэзская аристократия в Малом совете управляла городом, богатые горожане и дворяне составляли Большой городской совет из трехсот человек…
Глава вторая. Легенда о рождении
Три грязные, обвалившиеся ступеньки сквозного – из улицы в улицу через дома – коридора вели в серый дом в Пассо ди Гатта Мора. На этих ступеньках, по преданию, поскользнулась повивальная бабка. Споткнувшись, старуха упомянула чёрта, и в это время открылась дверь и послышался сиплый мяукающий плач новорожденного Паганини.
Ребенок кричал всю ночь, ребенок кричал утром. Он плакал, словно жалуясь на произвол родителей, призвавших его к жизни в эту дождливую и бурную ночь, когда в оба генуэзских мола, как пушечные выстрелы, хлопали волны прибоя.
Паганини родился в ночь на 27 октября 1782 года.
Глава третья. Нищета
Неподалеку от Пассо ди Гатта Мора в те годы стояло длинное строение, обращавшее на себя внимание черными рамами окон, пятнами сырости, дырами в старой, позеленевшей штукатурке.
Это было убежище для бедных – «Albergo dei poveri».
В гурьбе оборванных ребятишек, высыпающих из этого здания пускать бумажные и деревянные кораблики в лужах или с гамом и криком бросающихся в уличные бои, можно было заметить маленькую обезьянку с выдающейся челюстью, широким лбом, курчавыми черными волосами и очень длинным носом. На этом уродливом лице странно выделялись огромные агатовые глаза. Необычайно красивые глаза поражали своим несоответствием всему облику длиннорукого, кривоногого ребенка с громадными ступнями, с длинными пальцами на длинных кистях. Когда эти глаза загорались любопытством, лицо выравнивалось и внезапно теряло свою уродливость. Но это мимолетное облако мгновенно таяло, и, скаля зубы, маленький человек испускал вопли и дикие ругательства, налетал вместе с товарищами на соседей, отбивал у них кораблики и лодки, быстро мчавшиеся по уличным потокам…
В узких и темных коридорах «Убежища» они играли в прятки. По воскресеньям они наблюдали, как старый инвалид, напившись после полудня, бил костылями свою старуху. Ребятишки взбирались на верхнюю площадку лестницы: стекло над дверью позволяло любоваться семейными сценами. Они осторожно подходили к дверям каморки, где нищие играли в кости, и терпеливо дожидались того момента, когда проигравшие вступят в драку с выигравшими. Под стук кулаков и грохот падающих стульев они разбегались, насладившись зрелищем и унося с собой тревожное чувство свободы от родительского авторитета.
Одно из первых потрясений – долгая и страшная болезнь. Три недели Никколо бредил, соскакивая с кровати; ему связывали руки и ноги, на голову клали полотенце, смоченное холодной водой. Болезнь совершенно истощила его. Он долгое время был оторван от компании своих сверстников. Целыми часами играл он на лютне, пока мать шила, стирала, гладила, готовила скудный обед. Он уже играл на отцовской гитаре.
Никколо рос на попечении матери. Старшего брата, Франческо, почти никогда не бывало дома, он постоянно вел какие-то таинственные переговоры со стариками, приходившими к синьору Антонио. Это был для Никколо чужой и даже неприятный человек. Синьор Антонио тоже все чаще и чаще отлучался из дому.
Однажды, проснувшись ночью, Никколо увидел мать перед распятием, она усердно молилась. Отца не было дома. Взглянув на сына, мать подошла к постели и сказала:
– Спи, спи, он еще вернется, он недалеко. Он играет и проигрывает; в надежде принести нам счастье, приносит горе…
К полудню следующего дня Антонио Паганини вернулся. Мальчик играл на лютне. Он так увлекся, что не заметил вошедшего отца. Антонио Паганини стоял с улыбающимся лицом и слушал. Позади него в дверях остановилась мать. Когда ребенок кончил играть, отец захлопал в ладоши и, подойдя к сыну, положил, – быть может, впервые, – свою большую ладонь на его чернокудрую голову. Маленькая обезьянка, открыв широко челюсти с желтыми зубками, заискивающе и трусливо поглядела вверх, на суровое лицо отца.
– Фу, какой ты урод! – сказал вдруг синьор Антонио. Ласковое выражение исчезло с его лица, он обернулся к жене. – Тереза, ну пойди купи всего, что нужно к обеду. Я голоден. Давайте сегодня повеселимся немножко.
Он взял гитару, сел против сына, кивнул ему головой:
– «Карманьолу»!
Отец играл хорошо, сын робко старался вторить. Потом, вдруг ударив по струнам, Антонио Паганини положил гитару и резкими и большими шагами вышел в соседнюю комнату. Он принес оттуда старую скрипку и объявил:
– Никколо, ты будешь учиться играть на скрипке. Я сделаю из тебя чудо, ты будешь зарабатывать деньги. Знаешь, что это такое? Эта скрипка принадлежала нашему предку, похороненному в Капуе в Аннинской церкви. То, что я проиграл на бирже, ты должен выиграть на скрипке. Сегодня хороший день. Видишь эту машину? – отец показал на картонные таблицы, лежавшие на письменном столе. – Это мое изобретение, это мое открытие. Тайна успехов в моих руках. Простые кружочки картона ворочаются и раскрывают мне тайну выигрыша…
В это время вошла синьора Паганини с корзинкой.
– Ну что ж, идти, Антонио?
– Или, иди. – Он вынул из камзола пачку кредитах билетов, выбрал билет наименьшего достоинства и вручил жене. – Вот видишь, Тереза, – сказал он, – мои дела поправились, отгадывающая машина не врет, я теперь знаю наверняка, какие номера лотереи покупать, чтобы выиграть!..
– Ну, ну! – перебила жена. – Не нужно меня обманывать, я знаю, что ты играешь в карты…
– Не лги!.. – закричал старик. – Ступай, ступай отсюда! Иди, куда тебе надо…
Начался первый урок скрипичной игры. Маленький человек с трудом понимал отца. Отец раздражался и на каждый промах сына отвечал подзатыльником. Потом взял со стола длинную квадратную линейку и стал ею пользоваться во всех случаях, когда сын делал ошибку. Он легкими и почти незаметными уларами бил его по кисти до кровоподтеков. К тому времени, когда вернулась с покупками Тереза Паганини, синьор Антонио был уже в полной ярости. Он запер мальчика в чулан и велел ему играть первое упражнение.
Дикие, раздирающие уши звуки слышались из чулана в течение целого часа, пока Антонио Паганини сидел с женой за бутылкой вина. Он хвастливо рассказывал о своих выигрышах, проклинал синьора Лоу, который разорил французские банки и наводнил всю Францию кредитными билетами вместо хорошей, добротной звонкой монеты. Он проклинал итальянских акционеров, которые вошли в соглашение с французскими купцами: в те дни, когда «эти проклятые французы захватили главную крепость Парижа, посадили в тюрьму короля, отменили бога и святую церковь», – по морям прошли ураганы, совсем не похожие на прежние бури… Но ни одна буря не нанесла столько ущерба морской торговле, сколько бунт французской черни. Англичане перехватывают французские торговые суда. Французские купцы прекратили платежи по итальянским обязательствам, биржа заглохла. За какие грехи честный старый маклер Антонио Паганини должен страдать, когда французская чернь бунтует?
– И эта проклятая чернь поет нашу генуэзскую «Карманьолу», когда идет по улицам в красных колпаках и с человеческими головами на пиках! Как им не стыдно порочить наши хорошие генуэзские песни!..
Язык старого Паганини все больше и больше заплетался, Антонио все чаше прибегал к крепким выражениям.
Он бранил всех, рассказывая о бесчестном дворянстве, о разорении купечества. Внезапно принимался восхвалять свою лотерейную машину. Он уже не обращал внимания на то, что его собеседница молчит. Он уже не видел страдальческого выражения ее лица. Расхваставшись, он ударил кулаком по столу:
– Тысяча дьяволов! Слышишь, как играет мальчишка? Из него выйдет толк!..
Тогда Тереза решилась напомнить о том, что мальчик был недавно болен, что ему опасно так долго и так сильно напрягаться, что ему пора обедать. Синьор Антонио резко перебил ее:
– Не будет есть, пока без ошибки не сыграет первого упражнения…
Глава четвертая. Война
В «Убежище» рассказывали странные вещи. Французы в городе Париже на большой площади поставили помост, на помост поставили стойки, между стойками укрепили в пазах большой стальной треугольник, который опускался в пазах и сваливался острым концом вниз. Одним словом, французы сделали миланскую машину, которой старые миланские мясники убивали быков на бойне. На этот раз они сделали машину для человеческих голов. Они вывели короля из башни, в которой держали его в плену, положили его под эту машину и опустили тяжелый стальной треугольник, а потом подняли за волосы голову, отделенную от тела, и показали собравшемуся парижскому люду со словами: «Вот истинный король Франции».
Никколо с удивлением слушал эти разговоры, передаваемые из уст в уста. Говорили, что король этот был злодеем и предателем своего народа, что казнь его – справедливое воздаяние за преступление, совершенной им перед своей страной. Говорили, что он позвал иноземные войска для того, чтобы опустошить Францию огнем и мечом. Говорили о страшных пожарах французских сел, о голоде французского простолюдина, о том, что соседние монархи объединились для спасения Людовика XVI и что они теперь ведут войну с восставшим французским народом.
– … А вы слышали? Французы поют нашу «Карманьолу»…
…Маленький Паганини играл уже хорошо. Он научился играть по нотам. А когда уходил старик, принимался сочинять сам короткие музыкальные пьесы. Он представлял себе, как французы со знаменами, в красных шапках идут на парижскую крепость. «Бастия, Бастилло», – старался вспомнить маленький Паганини, и звуки, рождавшиеся в нем внезапно, он передавал в игре на своей старой, непомерно большой скрипке. «Карманьола» выходила живая, звучная. Но это была уже другая «Карманьола», другая песня. С этой песней, воспользовавшись отъездом отца, маленький Паганини впервые вышел из дома, и с этой песней, как со своей добычей, он вошел в полутемный коридор «Убежища». Впервые играл он при большом скоплении слушавших его людей. Он испытывал особую гордость, когда к звукам его скрипки вдруг присоединились голоса поющих взрослых людей. Мужчины и женщины, обступившие его в «Убежище», пели «Карманьолу» на новый лад, с тем богатством оттенков, которое придавала ей скрипка Никколо.
Над Генуей по-прежнему сверкало яркое солнце.
По-прежнему ласково пела, набегая на мол в Дарсена Реале, морская волна, по-прежнему мерно качались цветущие деревья в городском саду, и гигантские мраморные памятники на кладбище белели под лучами солнца, неизменно спокойные, величавые, охраняя старинные могилы генуэзской знати.
Никто не знал, кроме городского совета, о том, что ураган, срывающий кровли дворцов, несется с севера на юг, с запада на восток и что не нынче завтра ясное небо Генуи покроется тучами. Носились темные слухи о том, что где-то в горах, в Западных Альпах, в горных проходах, появились красно-сине-белые мундиры, трехцветные знамена развевались перед конницей, шедшей на Кастель Франко, на крепость Бард. Но это были только слухи. Называли итальянскую фамилию, говорившую об удачливом и счастливом жребии, о хорошей участи того, кто носит эту фамилию. Буонапарте – счастливая доля, – так называли человека, шедшего с целой армией бунтовщиков с севера на юг.
– Кто он? – так рассуждал старик Паганини за столом. – Он – сын простого корсиканского синдика. Как же эта сволочь смеет носить генеральский мундир, когда он даже не дворянин Франции?! Разве они могут устоять против регулярных войск австрийского короля?..
– Близок конец мира, – говорил он, однако, допивая четвертую бутылку. – Скоро некуда будет бежать.
Два раза открывалась генуэзская биржа. Два раза синьор Паганини получал огромные выигрыши. Ему везло в карты, везло в темных лотерейных делах. Соседи шептались о том, что дело не чисто с лотерейными номерами, что колеса лотерейной машины смазаны золотым маслом… Старику сказочно везло.
Когда повеяло зимой, на улицах Генуи родилась тревога, заговорили открыто о движении с запада – от Ниццы – французских войск, Паганини, казалось, не слышал и не видел ничего вокруг себя. Он весь ушел в сложнейшие операции лотерейной игры. Счетная машина, со всеми ее картонными кругами, деревянными планшетками, стальными иглами, стрелками и указателем, уже не пользовалась прежним его вниманием. Запыленная, она валялась в углу, и кошка обращалась с ней до крайности непочтительно. Теперь уже не нужно было прибегать к этим безумным ночным подсчетам. Мышиное шарканье стальных стрелок по картону прекратилось. Часовые стрелки работали на синьора Паганини, – время работало на него.
Паганини плыл по течению. Река времени его несла. Воды этой реки замутились, и в мутной воде бывший маклер города Генуи ловил крупную рыбу. На севере было неблагополучно. Пошатнулись устойчивые и солидные предприятия городов. Корабли не выходили в море. Английские «военные пираты» сделались владыками Средиземья. Романелли и Спиро, владельцы одного из банкирских домов Генуи, вызвали маклера Антонио Паганини ранним утром к себе. Они читали прокламации генерала Бонапарта:
«Солдаты, вы плохо кормились, вы ходите почти голыми. Правительство Республики обязано вам всем, но не может сделать для вас ничего. Вам делает честь ваше терпение, ваше геройское мужество, но из этих свойств вы не сошьете себе ни славы, ни выгоды. Поэтому я принял решение вывести вас из гор в самую плодоносную долину мира. Перед вами расстилаются широкие дороги с большими городами, вы увидите прекрасную провинцию, новую страну, там вас ждет честь, слава, богатство».
– Что же! – воскликнул банкир Спиро, размахивая перед носом Паганини листом синей бумаги. – Что же, этот грубый солдат осуществляет все свои обещания армии разбойников, которую он ведет из Ниццы? – И сам отвечал: – Да! Он начисто грабит города и облагает население такой контрибуцией, которая хуже смерти!
– Мы решили закрыть банк, – продолжал компаньон, обращаясь к Антонио Паганини. – И тебе, нашему верному помощнику, делаем мы почетное предложение: ты поедешь на север и повезешь кое-какую поклажу. Это мешки с нашими бумагами, закладными, векселями, расписками, акциями, облигациями. Наличность мы вывозить не будем. Мы закроем банк и сами на время уедем из Генуи подальше. А ты отвезешь в город Кремону душу и сердце нашего предприятия.
Антонио долго молчал. Лицо его делалось все печальней и печальней. Не поднимая век, он в зеркало наблюдал за выражением лиц своих собеседников и, наконец, снова поднял глаза. Они были полны напускного страха. На лицах банкиров появилась растерянность.
– Мы тебе доверяли крупные сделки, ты был нашим посредником во всех морских делах банка. Скажи, как могли бы мы вознаградить тебя заранее?
Романелли сказал слишком много. Спиро вдруг нахмурился и заявил:
– Я могу договориться с моим братом – он собирается выехать на север, – если тебе трудно сделать это самому, синьор Паганини.
Тогда старый маклер решил нанести удар. Он знал, каковы отношения между братьями. Он был осведомлен о темном деле, после которого братья разошлись. Он знал, что синьор Спиро вовсе не из родственных чувств отказался от вмешательства австрийской полиции в отношения его с родным братом, и быстро замял дело.
Паганини посмотрел на них, сделал еще более страдальческое лицо и сказал:
– Достопочтенные синьоры, у меня жена и дети, я не могу оставить их на произвол судьбы. Покидая родной город, я должен выехать вместе с ними. Я должен купить хороший экипаж, я должен платить дороже других путешественников, чтобы беспрепятственно получать лошадей, а в то же время я должен сделать все, чтобы меня принимали за путешествующего бедняка. Вы должны согласиться со мной ради справедливости, что поручение ваше равносильно приказу прыгнуть в пасть дракона.
Наступило молчание.
Три раза повторялась эта сцена, после чего сам синьор Спиро скрепя сердце назвал сумму в пять тысяч лир. Паганини встал, держа шапку в руках, и сказал:
– Синьоры, меня ждет семья, разрешите мне уйти и поверьте, что всем сердцем…
Но тут Романелли остановил его резким движением:
– Да что ты в самом деле, ну, назови цифру, которая вполне соответствует выгодам твоей семьи. Зачем тебе брать жену и детей?
– Нет, синьоры, увольте…
Паганини направился к выходу. Синьор Спиро быстро загородил ему дорогу, подойдя к полке с банковскими книгами. Достав толстую книгу, он стал, расставив ноги, в дверях и сказал:
– Ты вот посмотри, упрямый человек, что мы можем сделать, когда мы почти разорены?
– Я не хочу вас еще больше разорять, синьоры, – сказал Паганини, – я сам живу на несчастные гроши, заработанные мною непосильным трудом в последнее время.
– Ну, скажи, что мы должны сделать для тебя?
Тогда Паганини, потупив голову, произнес:
– Проценты с морских операций банка, как только благородные синьоры возобновят эти операции. В число документов, которые я повезу в Кремону, благородные синьоры благоволят включить обязательство, делающее меня участником банковских прибылей, и двадцать тысяч лир наличными в день отъезда.
Глава пятая. Путь по земле
В городе Кремоне, на севере Италии, жил синьор Паоло Страдивари. В те дни, к которым относится наш рассказ, он вел свои записи почти ежедневно и отмечал:
«Савойя, Ницца, крепости Алессандрия, Кони, укрепления Сузы, Бунетты, Экзилья захвачены и разрушены. Какой-то безвестный французский генерал, проходимец и негодяй, обложил со всех сторон Мантую, сильнейшую крепость… Город Милан занят французскими войсками. На воротах города красуется надпись: „Слава доблестному французскому оружию!“ Женщины в цветных платьях и мужчины в праздничных камзолах встречают французов криками и песнями. Офицеров забрасывают цветами, пушки обвивают цветами и виноградными листьями. Жандармы Австрийской империи бежали на север, духовенство в страхе покидает города, и все это – под грубым напором корсиканского бандита, отменяющего католическую религию, закрывающего монастыри. Герцог Пармский за одно перемирие заплатил два миллиона. Он отдал 20 лучших картин своей галереи, лучших коней пармской конюшни и оставил Парму без провианта. Герцог Моденский отдал 10 миллионов, все картины и статуи своего дворца. Король Неаполитанский в страхе отозвал свои войска, и даже первосвященник римский заплатил 21 миллион этому бандиту. Он выдал 100 прекраснейших картин Ватикана, он выехал из Болоньи в Феррару, из Феррары уехал дальше, малодушно благословив город Анкону на принятие французского гарнизона. Даже наша Ломбардия заплатила контрибуцию в 20 миллионов. Что будет дальше? Кто сопровождает этого страшного злодея? Какой-то Мюрат, сын кабатчика, какой-то безвестный Массена, какой-то безвестный Ожеро. Ни одного имени с титулом, ни одного дворянина. Впрочем, есть разбойник с баронским титулом, полковник Марбо».
27 декабря 1797 года французский генерал Дюфо вмешался в уличную стычку между жителями Рима и солдатами и был смертельно ранен. 10 февраля 1798 года под стенами Рима появился Бертье с армией в восемнадцать тысяч человек. Пять дней спустя Вечный город, столица мира, где имел пребывание наместник Христов, вдруг провозгласил себя Римской республикой. и французская армия с музыкой и знаменами вошла в Рим. Останки французского генерала Дюфо были погребены в Капитолии, где погребали величайших мужей мировой истории, а римский первосвященник, папа Пий VIII, в качестве пленника был увезен в Валанс, в простой карете, под конвоем французских офицеров Миолиса и Раде.
Генуя голодала. Генерал Массена и верный его помощник Марбо кормили солдат клейким тестом из овса. Крахмал и бобы выдавались по воскресеньям в качестве лакомой пиши. Похлебку заправляли кожаной резкой из старых ранцев. Так жили день за днем, и так проходили месяцы. Французы голодали. С севера провиант приходил плохо. Французские транспорты, отправленные из Марселя, были перехвачены. А на горизонте появлялись все новые и новые белые точки. Громадные паруса гигантских кораблей белели на закате. Корабли бросали якоря, и длинная ограда, замыкая весь горизонт, обрамляла морскую даль Французские пикеты проходили по берегу, сверкая киверами и касками. Уличные мальчишки посмеивались, видя, как болтается на похудевших и тощих телах оборванное обмундирование, сборная одежда, в которой монашеские рясы, перешитые в походные плащи, сочетались с мундирами национальной гвардии парижской милиции, с мундирами конвента.
Французские пикеты не пропускали жителей к берегам. На оконечности мола стояли сторожевые посты. Реквизированные корабли генуэзских торговцев были приспособлены для французской военной службы. Французское командование с тревогой наблюдало за горизонтом. Лес корабельных мачт, легкие и сторожевые суда сменились огромными линейными кораблями. Это накоплялась могучая сила, эскадра английского адмирала Кейса. На мраморе набережных были укреплены батареи; длинные медные пушки, снятые с колес, и перевернутые лафеты лежали неподалеку. Ядра, бомбарды, мортиры, пороховые ящики – все это в большом беспорядке покрывало берег.
Генерал Массена должен был бы давно уйти на север, но боязнь английского десанта заставляла его держаться в этом городе, где голодающее население уже съело последних голубей и ворон, где собакам и кошкам давно стало опасно появляться на улицах, где французским солдатам приходилось превращаться в рыбаков и, отняв сети у окрестных поселян, в сумерки выплывать на лодках за пределы последних ограждений мола…
В эти дни, когда издалека доносился гул канонады, когда рвались паруса на море у Лигурийского побережья, горели палубы, валились расщепленные мачты, где-то на горных снегах горели костры, а по склонам перебегали группы кричащих людей с поднятыми вверх ружьями, – в эти дни через Комо, Бергамо, Пескьеро двигалась старая, изношенная карета, с облезлыми дверцами и разбитыми стеклами. Закутавшись от ветра, сидели в ней мужчина, женщина и мальчик. Огромные тюки были привязаны на крыше. Форейтор и кучера посвистывали и хлопали бичом, погоняя тощих кляч. Карета ежеминутно останавливалась при встрече с людьми, шедшими пешком по дороге. От встречных узнали, что дорога на Павию и Пьяченцу занята французскими отрядами. Круто повернули на юг. Путь на Кремону был тяжелый, приходилось сворачивать на кружные дороги. Пушки французской армии разбили дороги, глубокие колеи остались повсюду, где проходили французские батареи.
Путешествовавшие не называли себя синьорами Паганини. Это была простая семья бедного, напуганного войной парикмахера, который переселялся с побережья в родной город на севере Италии. Ночевали в маленьких, грязных гостиницах.
Спали в них не раздеваясь, и старый Паганини все время ворчал, упрекая жену за ее настойчивое желание бежать из Лигурии. Первоначально он делал это, как актер, ради того, чтобы скрыть истинную цель поездки. Потом он вошел во вкус.
Все выше и выше поднималась дорога. Роскошь тенистых, густо-зеленых парков; низкие поросли виноградников, золотистая зелень которых покрывала склоны; освещенные солнцем апельсинные, лимонные деревья все чаще и чаще сменялись полями тюльпанов, серыми безлюдными рощами олив, на огромном пространстве разливался зеленый свет прозрачной, напитанной солнцем листвы. При въезде в город сломалась ось кареты. Пришлось прожить здесь лишних три дня в ожидании, пока починят экипаж. Это был первый большой привал. Отягощенный трудностями пути и целой фьяской выпитого вина, синьор Паганини заснул и проспал непробудным сном двадцать восемь часов.
…Забравшись на голубятню, маленький Паганини вынул скрипку из футляра. Не раскрывая нот, он взял смычок. Мать охраняла имущество, пьяный отец спал. Внизу, под горой, кузнец раздувал горн. Еще минуту назад, корча невероятные гримасы перед зеркалом и показывая себе язык, Никколо был далек от мыслей о своей скрипке. А тут вдруг ему захотелось поведать самому себе в звуках впечатления пути, передать свое детское ощущение всего этого зеленого, буйно растущего мира.
Рыбаки, возвращавшиеся с озера, остановились и слушали скрипку. Прошел час, мальчик все играл, до тех пор, пока не увидал в окно толпу горожан, рыбаков с сетями, охотника с ружьем. Он остановился, положив скрипку, и осторожно спустился по лестнице…
…Дорога поднималась все выше и выше. Все хуже и хуже давали лошадей. Клячи едва тянули большую, широкую карету. Зачастую приходилось останавливаться, чтобы дать передышку лошадям, не перепрягая, в первом попавшемся поселке. И эти остановки были большим несчастьем для Никколо. Старый Паганини вдруг, словно одержимый бешенством, стал требовать, чтобы сын играл на каждой остановке. Он будил его по ночам, он заставлял его играть часами. Когда усталый, обессиленный скрипач ронял смычок, отец ударом ноги возвращал сына к действительности.
Так прошли четыре недели пути. Мальчик едва держался на ногах. Под дождем, на сквозном ветру он простудился и стал кашлять кровью. Но, невзирая на это, отец не скупился на побои. Ошибка в пассаже, плохо сыгранный такт, вялость в игре – все влекло за собой наказание. Виноград с вареным рисом отодвигался в дальний угол стола. Мальчик мог издали любоваться лакомым блюдом. Он водил смычком по струнам до полного изнеможения. Блюдо вареного риса превращалось в высокую снежную гору. Колени подгибались, подбородок тяжелее ложился на скрипку, мальчика начинало лихорадить, пальцы быстрее бегали по грифу. Как не похоже здесь на теплую, яркую, освещенную солнцем долину Ломбардии! Там теплые басовые звуки рассказывали его впечатления от теплой могучей зелени, а здесь – снежные поляны, высокая гора и бледные пятна лесов на вечных снегах. И вот снег, холодные искры голубого фирна передавались взлетами к тонкой, серебром звенящей шантрели. Шантрель пела, чистым высоким голосом выводила она мелодию снежных высот…
Отец уходил, и маленький Паганини осторожно расстегивал ремень, которым была перетянута корзина с едой. Потом, крадучись, убегал из дому. Он бегал по склонам гор, выпрашивая у старух кусок овечьего сыра или чашку козьего молока. Усталый, исцарапавшись об острые камни, он забирался в самые глухие места, где отец не мог его отыскать. Засыпал на ветвях деревьев, пригретый лучами солнца, проклиная скрипку, которая превращалась для него в орудие пытки.
В Генуе в старинном застенке мальчику случалось видеть деревянные голенища и колодки, напоминающие по форме деку скрипки. Это были части так называемого испанского сапога, которым стискивали ногу преступника во время пытки. Скрипка стала таким же орудием пытки для рук, сердца и мозга ребенка. Локти и плечи болели, пальцы не держали смычка, левая рука выпускала гриф, и скрипка падала на цыновку. Но помимо того неделями не проходили кровоподтеки, синяки от умелых щипков родной отцовской руки. Руки, ноги, лицо, шея – все было в синяках. Мать бросалась в ноги, упрашивая отца щадить ребенка, но ее заступничество лишь ожесточало отца. Ничто не могло сломить настойчивости старого Паганини.
– Я сделаю из тебя чудо, проклятая обезьяна!.. Ты все равно продан чёрту, – так ты или погибнешь, или обеспечишь мою старость. Я выпущу тебя, мальчишка, перед большой толпой знатных и богатых господ, когда мир опять станет на место, после ухода проклятых французских бродяг. Ты будешь вызывать восторг и умиление богатых людей, ты вызовешь у них умиление, которое заставит их забыть свою скупость…
Наступили тревожные дни. Беглецы из южных викариатов спешили покинуть Ломбардию Говорили, что весь север Италии находится во власти Франции. Старик решил укрыться в Швейцарии. Начались скитания вдоль берегов Тичино. От самого Прато, через Дацию Гранде и Киоту – извилистыми путями на Бруньяско, Альтанну и Ронно. Приехали в район озера Ритом и там остановились.
Вечером, когда семья Паганини села ужинать, послышался стук колес. К маленькой гостинице подкатил в коляске русский генерал с двумя офицерами. Четыре конных ординарца сопровождали коляску. Антонио вскочил и подбежал к окну. Значит, и тут нет покоя! Русские войска, пришедшие на помощь Австрии, идут против французской революции, быть может они свернут шею генералу Бонапарту, – но кто знает, как они отнесутся к мирным путешественникам!
Русский генерал занял весь нижний этаж Паганини с вещами выкинули в конюшню. В селении громко поговаривали о том, что неподалеку на горах расставлены русские пушки и скоро весь берег озера Ритом превратится в яму, изрытую ядрами. Перед наступлением ночи русские солдаты пели песни, пили огромными ковшами противное кислое вино, смотрели в окна, ждали кого-то.
Под утро внезапно все переменилось. На заре старый Паганини высунул голову из ворот конюшни и увидел во дворе хозяина гостиницы. Тот весело мигнул синьору Антонио и сказал:
– Господин парикмахер, медведи и казаки уехали, за ними приезжал верховой.
Снова дорога замелькала снежными склонами, поющими под ветром соснами и елями. Застывали руки, зябли ноги, лицо обдавал суровый ветер. Коляска тряслась по ухабам.
Вязкий снег сменялся каменистым грунтом, цоканье двадцати четырех подков сразу пробуждало старика Паганини, – который, как нахохлившаяся птица, сидел в углу кареты, – и он сбрасывал рукавом каплю, подмерзшую на кончике красного носа.
Глава шестая. Кремона
После страшной недели в горах – опять зелень, опять дорога, где склоны и долины чередуются с ледяным простором горных озер и необозримыми пастбищами. Воздух режут звуки пастушьего рога, доносятся звоны колоколов, вся природа наполняется огромным количеством звуков.
Наконец, показались старые крепостные стены Кремоны. Две речки и одна река Маленькая Адда, маленькая Оглио и огромная, полноводно текущая По. Крепость с замком необычайной красоты. Вот застава. Синьору Антонио приходится, разминая затекшие ноги, сутулясь вылезти из кареты, войт в маленький дом из серого камня и предъявить придирчивому вахмистру документы, удостоверяющие законность поездки синьора Антонио Паганини – теперь уже не безвестного парикмахера, возвращающегося в родной город, а человека вполне достойного и почтенного, благородной профессии, бывшего посредника Антонио Паганини, с супругой Терезой и сыном Никколо.
Потом опять удар бича, лошади рвутся вправо, в переулок, где виднеется двор мессаджера, привычное место стоянки. Несколько порывистых движений вожжами, выкриков, несколько ударов бича, и, переминаясь с ноги на ногу, усталые клячи поворачивают в противоположную сторону.
Вот уже городская площадь. Германо-ломбардские старинные дома XII столетия. Красный и розовый мрамор, высокий шпиль собора. Вот дом с островерхой крышей из красной черепицы. Низкие, но широкие двери гостеприимно открываются перед гостями. Старший брат отца, Витторио Паганини, стоит на пороге. Седой парик из собственных волос, красный нос, оловянные глаза, грубый, сухой, покрытый тончайшими морщинами подбородок с черной ямкой посредине, будто следом воткнутого гвоздя, уши маленькие, серые, как будто давно не мытые.
Глаза производят неприятное впечатление на мальчика. После взаимных приветствий дядя откидывает полу камзола, достает из кармана табакерку, нюхает табак и чихает. Слезы льются из глаз. Дядя смахивает слезы платком из зеленого шелка с вышитыми крест-накрест большими ключами. Такие платки имели только лица духовного звания или те, кто внес богатый вклад на церковь.
Прошло утро. Никколо вместе с матерью отправляется в церковь. Мать жарко молится перед фреской, на которой изображен ангел, играющий на скрипке…
Ночью у матери лихорадка. В пути держалась крепко, – вечный страх за Никколо, боязнь, что побои отца сведут ребенка в могилу, постоянное стремление сберечь лишний кусок для сына заставляли перемогаться, скрывать свои страдания. А здесь, в Кремоне, в первый же день пошла на исповедь. Внезапный обморок сломил ее силы.
Под утро, разметавшись в жару, она позвала сына. Долго смотрела на него молча, потом слабым голосом Проговорила:
– Мальчик, нынче ночью ангел, тот самый, которого мы видели на святой картине в соборе, сказал мне, что ты будешь первым скрипачом мира. Недаром мы приехали в этот город. Тут жили лучшие скрипичные мастера – Амати, Гварнери и Страдивари. Я чувствую, что здесь ты похоронишь свою мать. Обещай мне никогда не расставаться со скрипкой.
Мальчик был испуган, он бросился на колени и заплакал. Лицо стало еще более уродливым, когда по выдающимся скулам к треугольному подбородку побежали слезы. Никколо обещал матери исполнить все, что она просит. Он обещал бы в тысячу раз больше, лишь бы не слышать ее жалоб и не испытывать этого ужаса, который охватил его при мысли о том, что мать может уйти от него навеки.
Проходили дни. Никого хоронить не пришлось. Мать выздоровела.
Дядя со дня на день становился все веселей и ласковей, он все чаще заговаривал с Никколо, и легкое подозрение закралось в сердце мальчика, приобретшего первый жизненный опыт в «Убежище». Маленький Паганини насторожился, как взрослый, он почувствовал, что отец недоговаривает чего-то в беседах с дядей и дядя намеревается через него, Никколо, выведать то, что прячет так старательно отец. Но мальчик сам ничего не знал и первый раз пожалел о том, что он плохо осведомлен в делах отца. На всякий случай он делал, однако, вид, что ему кое-что известно, но что он должен молчать. Маневр удался. С этого дня дядя был почти в его руках.
– Ты раздираешь мне уши своей игрой, у тебя ужасная скрипка! – заметил однажды дядя.
Маленький Паганини чувствовал, что это только начало большого разговора, и приготовился. Он опять принял вид человека, затаившего какой-то секрет, и перешел в контратаку. Он спросил, правда ли все, что рассказывают о кремонских скрипках, о скрипичных мастерах, прославивших этот город, и, наконец, о Паоло Страдивари, который живет неподалеку от соборной площади. Дядя смотрел на него внимательно и, казалось, не понимал. Наконец, старик ответил:
– Дурачок, наш славный город всему миру известен шелковыми фабриками. Правда, сюда приезжал в прошлом году какой-то сумасшедший английский лорд и все выспрашивал и записывал сведения о синьорах Страдивари. Синьоры Страдивари – почтенные дворяне в нашем городе. Они были сенаторами и никогда не занимались ремеслом. Их отдаленный предок, правда, делал скрипки, но это был дворянин, он делал их между прочим и никогда не торговал своими изделиями.
Мальчик слушал его недоверчиво.
– Послушай, – попытался старик свернуть на интересовавшую его тему, – вы перед отъездом из Генуи как будто жили бедно?
– Нет, дядя, – коротко ответил мальчик.
– Вот как! Вы, значит, бедствовали?
– Нет, дядя, – тем же тоном ответил Никколо.
– Так что же, вы были нищими?
– Нет, дядя.
Тогда дядюшка решил сделать передышку.
– Знаешь ли, – сказал он, – синьор Паоло Страдивари жив до сих пор. Он рассказывал мне, как этот сумасшедший английский лорд осаждал его расспросами о предках синьора Паоло, делавших когда-то скрипки. Так вот я хочу тебе сказать: если дела у отца поправились и он сейчас с деньгами, то попроси его купить тебе скрипку лучше у графа Козио. Этот чудак собрал коллекцию, целых шестьсот скрипок. Синьор Паоло всегда направляет людей к нему, если кто-нибудь, как этот сумасшедший лорд, начинает надоедать ему. Сам синьор Паоло ненавидит скрипку.
Мальчика не удовлетворили эти сведения.
И вот однажды синьор Паоло Страдивари был сильно испуган, видя, что к нему в окно с дерева спрыгнул похожий на обезьяну черноволосый чертенок.
– Синьор, во имя бога, простите! – крикнул мальчик. – Уже три часа я стучу, и никто не отпирает ваших ворот.
Синьор Паоло, прихрамывая, подбежал к окну и схватил трость, намереваясь ударить мальчика, которого он принял за вора. Но маленький Паганини стал на колени.
– Умоляю, синьор, не бейте меня! Меня достаточно бьет отец, не бейте меня! Я хотел только узнать у вас, как делают скрипки господа Страдивари…
Синьор Паоло нахмурился.
– Откуда ты, безумная обезьянка, и кто тебе рассказал небылицу о скрипках? Мои предки были сенаторы, они носили красные плащи и красные шапки, Мне никакого дела нет до сплетен, которые сочиняют о нашем славном роде… Постой… – И тут синьор Страдивари схватил мальчика за шиворот. – Ты просто вор! Ты в сотый раз повторил мне вопросы, на которых помешались теперь англичане. Когда я был молод, ни один дурак не интересовался скрипичным старьем и хламом. А теперь мне прохода не дают эти английские сумасброды. Кто тебя подослал? – спросил он грубо.
– Никто, синьор! Никто меня не подсылал, я сам пришел, по собственной воле. Я играю на скрипке, которая…
– В этом городе воздух становится отравленным! – воскликнул синьор Паоло. – Это какое-то безумие! Весь город наполнен сплетнями о скрипках Страдивари. Что же, выходит, я потомок ремесленников? – Потом он смягчился. – Ну, а кто ты? – спросил он, обращаясь к мальчику. – Сколько тебе лет? Ты лжешь, что ты играешь на скрипке в твоем возрасте!
– Я из Генуи, – ответил мальчик. – Я сын синьора Антонио Паганини. Отец учил меня играть на скрипке, я люблю скрипку, хотя отец делает все, чтобы я ее разлюбил.
– А я думал, что ты воришка, – сказал синьор Паоло. – Я живу в Кремоне и записываю события. Страшные вещи надвигаются на нашу Италию… – Старик говорил иногда как будто сам с собой. – За год произошло столько вещей в мире, сколько не было за сто лет перед этим. Так ты думал, что никого нет дома, – снова обратился он к мальчику, – и хотел украсть что-нибудь?
Он снова поднял трость и снова ее опустил. Тут мальчик заметил, что синьор Паоло – совсем дряхлый старик. Моментами у старого Страдивари отваливалась челюсть. Какие-то странные знаки отличия, плохо прикрепленные к камзолу, болтались на его высохшей груди…
– По всей Европе идет какое-то сумасшествие! То свергают королей, то вдруг начинают скрипичное старье ценить дороже нынешних хороших скрипок. Это еще надо доказать, что старые скрипки лучше новых… Надо доказать, что новая политика лучше старой, – добавил он. Старческое лицо вдруг исказила свирепая гримаса. – Еще надо доказать, – закричал он, – что французская республика чего-нибудь стоит по сравнению с хорошими древними монархиями!
Веки старика закрылись, потом он вдруг, как бы насильно заставляя себя проснуться, обратился к Никколо:
– Итак, мальчик, иди к графу Козио. Этот самый дурак помешался на скрипках. Это он пускает сплетни о том, что в доме Страдивари занимались ремеслами. Не верь тому, что граф Козио будет говорить про нашу семью, он старый маньяк и выдумщик, но скрипок у него много и человек он неплохой.
Синьор Паоло взял колокольчик со стола и позвонил. Вошла женщина лет сорока, румяная, крепкая, сильная. Она недовольно посмотрела на старого синьора, с негодованием оглядела маленького Паганини и, обращаясь к синьору Паоло, резко спросила:
– Что вы тут шумите?
– Катарина, – сказал Страдивари, – проводи мальчика к выходу и готовь завтрак.
– Нет вина, – ответила Катарина. – Как этот маленький негодяй попал сюда?
Она говорила резко, с таким видом, словно желала подчеркнуть, что она хозяйка в доме и синьор Страдивари находится у нее в подчинении.
– Ключи у тебя, Катарина, – возразил Страдивари с досадой.
– А деньги у вас, – грубо отрезала Катарина.
– Деньги у тебя, – пробовал спорить старик.
– Деньги вышли все.
Синьор Страдивари зашевелил губами, хотел что-то возразить, сделал неопределенный жест и стал шарить рукой в кармане камзола, пытаясь достать ключи. Он долго искал деньги в стенном шкафу. Наконец, Катарина вырвала у него из рук мешок с серебряными монетами и, быстро обернувшись к маленькому Паганини, воскликнула:
– Идем!
– Иди на площадь святого Доминика! – крикнул вдогонку Страдивари.
– Кто тебя впустил в дом, чертенок? – грозно спросила Катарина, открывая перед Никколо дверь.
Чтобы не осложнять положения, мальчик поспешно юркнул в открытую дверь и прыгнул на мостовую…
…Он уже приближался к двухэтажному лому графа Козио, как вдруг его чуть не свалил удар в ухо. Кто-то схватил его за плечи и стал нещадно трясти. Вскинув глаза, через плечо, мальчик увидел разъяренное лицо синьора Антонио.
– Вот ты где, дьяволенок! Вот ты где, вор семейного благополучия! Какой черт носит тебя по улицам, когда я два дня, заботясь о тебе добиваюсь приема у графа Козио? Сегодня он согласился слушать твою игру, а тебя, как на грех, унесло неведомо куда. Если будешь шляться без позволения по улицам…
– Да пустите же, отец! – закричал мальчик. – Я иду к графу Козио, я все знаю!
Синьор Антонио выпустил его, с недоумением посмотрел на свою руку, только что державшую сына за шиворот, и проговорил:
– Как? Что? Что ты сказал?
– Ну да, отец, – быстро заговорил Никколо, наспех придумывая изворотливую фразу. – ну да, я иду к графу Козио, потому что… потому что… мне передали, что…
– Ты лжешь! – завопил старик. – У тебя заплетается язык.
– Это потому, что вы сдавили мне горло, – нашелся мальчик.
– Нет, совсем не потому, а потому, что ты лжешь!
Время было выиграно. Они стояли у решетчатой ограды. Синьор Антонио постучал. Привратник открыл дверь. Старик Паганини, слегка подпрыгивая и танцуя, поклонился привратнику с такой почтительностью, словно от этого человека зависело очень многое, и попросил доложить господину графу о приходе его нижайшего слуги Паганини с мальчиком, чудесным скрипачом.
Никколо вздрогнул и, как зверек, сверкнул глазами, глядя исподлобья на отца. Чудесный скрипач! Ему вдруг показалось, что забыты отцовские побои, забыты обиды, захотелось броситься к отцу, сказать, что бить его вовсе не нужно, что он сам сделает все необходимое, он сам любит музыку и скрипку, а после побоев, наоборот, каждый раз он уже совершенно не может играть… Но, увидев подобострастную и жалкую улыбку старика, мальчик понял, что для этого человека его, Никколо, страдания не существуют, старик считает сына вещью, инструментом для наживы, машиной, которая должна обеспечить безошибочный выигрыш. Сердце маленького Паганини сжалось. Никогда раньше он не видел у отца этой хитрой и подленькой улыбки.
Отец не стеснялся перед сыном. Старик даже не заметил внимательного взгляда стоявшего рядом с ним маленького человека. Никколо значил для него меньше, чем попугай для шарманщика или обезьянка для савояра. Этот попугай должен был в скором времени вытянуть шарманщику самый счастливый билет.
Через минуту отец и сын были введены в большой пустынный зал, где за маленьким столом сидел старик с орлиным носом и круглыми и необычайно живыми глазами хищной птицы. На нем был белый парик с буклями и темно-малиновый камзол с очень грязным кружевным жабо. Пожелтевшие манжеты на камзоле, обрамлявшие тонкие, сухие руки, были похожи на старые тряпки. Внимательный взгляд мог заметить, что это тончайшие и прочнейшие северные кружева. Они не износились, несмотря на то, что годами не снимались с рукавов камзола. Поникшие и смятые, они все еще сохраняли красоту своих узоров. Они как нельзя более соответствовали самому владельцу. Время изрыло его морщинами. Природные недостатки лица усугубились под давлением лет, рельефы заострились. Словно замша, без износу прочная, сохранилась кожа старческого лица. Все было потерто, все полиняло, но нисколько не ослабела прочность этого существа, при виде которого можно было спросить себя: сколько же столетий существует на свете, под дождем и солнцем итальянской погоды, этот человек?
Граф Козио осматривал своих посетителей с головы до ног, медленно переводя глаза с одного на другого. Потом он громко рассмеялся. Раскаты его сиплого хохота заполнили всю глубину и высоту огромного зала.
– Так об этом щенке мне говорил славный Менегетти? Да ведь он сам меньше ростом, чем любая из самых маленьких скрипок Амати! – Он развел руками. – Детский «Поншон» я продал на прошлой неделе сумасшедшему англичанину. Это была единственная, известная мне скрипка Страдивари, сделанная для ребенка. На чем же будет играть ваш сын, синьор Паганини?
– На чем прикажет синьор граф, – ответил мальчик, даже не взглянув на отца.
Козио подошел к стене и дернул шнур, Зашевелилась огромная малиновая занавеска, и под лучами солнца засветились в застекленных шкафах десятки желтых, зеленоватых, золотистых, коричневых, темно-вишневых скрипок со смычками, простыми и строгими, изысканными и приукрашенными, инкрустированными жемчугом и перламутром. Здесь висели толстые, пузатые виолончели, могучие, полнокровные альты, скрипки с короткими и длинными смычками, с грифами, на которых скрипичные мастера изображали причудливые группы, головки, львиные морды. И, наконец, Паганини увидел диковинную уродливую скрипку, короткую, толстую, с головой бульдога на грифе.
Маленький скрипач не отрывал взгляда от шкафов, стоявших вдоль всей громадной стены зала, как панно в полтора человеческих роста. А старый Козио глазами фанатика и влюбленного смотрел на это фантастическое собрание скрипок, на свою любимую коллекцию, сквозь золотистые потоки солнечных лучей, освещающих дымчатые и золотистые искры тончайшей комнатной пыли.
Козио подошел к маленькому Паганини. Откинул ему волосы со лба, внимательно посмотрел на брови, на лоб, на глаза и сказал:
– Мне девяносто семь лет, восемьдесят из них я потратил на собирание этих сокровищ. Мне осталось, по моему подсчету и по вычислениям моего астролога, два года жизни. Дом, в котором ты находишься, хранит первую в мире коллекцию музыкальных инструментов. Ради них существует земля, ради них творец вселенной вложил в человека безумную любовь к превращению плохой жизни в прекрасные звуки.
Произнеся эти высокопарные фразы, старик подошел вплотную к одному из шкафов. Он достал связку мельчайших ключиков и стал отпирать вереницу фигурных замочков. Когда он снял последний замок, створка с тихим пением открылась сама. Ясеневая рама отошла на шарнирах, и старик снял со стены золотистую старинную скрипку. Осторожно держа ее за гриф левой рукой и не стирая пыли, он протянул ее мальчику, потом так же осторожно, почти торжественно вручил ему смычок. Маленький скрипач заиграл.
Глава седьмая. Граф Козио
Синьор Паганини сообщил Терезе:
– Я получил от графа Козио вспомоществование в десять луидоров.
– Разве у нас нет больше своих денег? – спросила взволнованно синьора Тереза.
– Ах, опять ты со своими причудами! – гневно отозвался старик. – Не могу же я тратить на щенка деньги, которые мне доверили мои хозяева. Еще не скоро выдавишь из него хотя бы чентезими. Но его надо учить и учить! Граф Козио говорит, что из мальчишки ничего не выйдет, если он немедленно не будет брать уроков у синьора Роллы. Но ты знаешь, как дорого Ролла берет за уроки. Я думаю, что лучше вовсе не учить мальчишку за деньги, а просто отправиться путешествовать с ним по Ломбардии, как только уйдут проклятые французы. А они уйдут, поверь мне, уйдут. Здесь вчера собрались священники, приехал жандарм, из Вены под видом каноника, он привез хорошие вести. Французов бьют повсюду, их скоро не будет.
С этими словами старик достал толстый зеленый бумажник и вынул оттуда кипу каких-то билетов.
– Вот, – скачал он, – с тысяча семьсот восемьдесят девятого года эти документы перестали иметь хождение во всем мире. А после смерти французского короля нашлись короли, которые стали мешками уничтожать французские акции, вышедшие при короле. Вот теперь я их скупил во всей Кремоне. Месяца не пройдет, как я буду самым богатым человеком в Ломбардии.
– А если французы не уйдут?
– Уйдут. Здешний астролог предрекает им полное поражение, звезды и планеты предсказывают им гибель. Марс вошел в созвездие Астреи, а Астрея – это Австрия, австрийская монархия Габсбургов. Ты знаешь, я после выигрыша пожертвовал деньги на церковь. Аббат Саганелли говорил мне: «Скупайте эти акции, скупайте». Я у него купил их на две тысячи лир…
* * *
…Старый Козио рассказывал маленькому Паганини историю скрипки.
– Слышишь, мальчик, – говорил старик, расхаживая по огромному пустынному залу своего дворца, – здесь родина самой великой скрипки в мире. Это произошло потому, что здесь растет азароль – одним нам известная порода деревьев, и здесь природа делает человека таким чувствительным к звукам и таким влюбленным в высокое мастерство. Три века тому назад в нашем городе жил некий Джованни Марко дель Буссетто. Он принял в свою семью некоего Андреа Амати. Буссетто был честным ремесленником, Андреа Амати был знатным синьором. Случилось так, что оба они сошлись на одном и том же любимом деле. Старый и молодой понимали друг друга так же хорошо, как мы с тобой сегодня. Андреа Амати так и не вернулся в свою знатную семью Семья считала, что он опозорил родовой титул тем, что сделался ремесленником. До сих пор многие не понимают, что благородное искусство делать скрипки не относится к разряду черных ремесел. Вот поди к синьору Паоло Страдивари: он будет скрывать, что он происходит от скрипача, от скрипичных мастеров, хотя его купленный титул хуже, чем природный талант скрипичного мастера. Но не буду говорить о синьоре Паоло. Он хороший человек, он пишет свои хроники и летописи для отдаленных потомков, он не живет нашей жизнью… Почему Амати ушел из семьи? Смешно сказать – почему. Маленький Андреа Амати играл вместе с детьми Буссетто Детям ремесленника позволяли играть в саду Амати. Амати бывал в мастерской у Буссетто. Андреа Амати начал с игрушек. Он делал игрушечные скрипки, Буссетто ему помогал. Во время отлучки отца маленький Амати вырубил грушевые деревья в отцовском саду и подарил их Буссетто. Ты знаешь, что из груши делают деки аматиевских скрипок. Когда старик Амати вернулся домой и увидел, что делается в саду, он, не смотря на уговоры стариков, не нашел ничего лучшего, как швырнуть своего ребенка в тюрьму. Вот с этого началось. Когда мальчика выпустили из тюрьмы, он остался в семье Буссетто, и никакие уговоры отца не заставили его вернуться домой.
Старик подошел к шкафу и указал на тонкие пластинки мелкослойного золотистого дерева:
– Вот это грушевое дерево, плоды которого оказались так горьки для маленького Амати и так сладки для нас… Старики умирают раньше молодых. Отец почти всегда умирает раньше сына. Андреа Амати сделался наследником большого состояния. Но вот тебе пример благородного увлечения: он уже не мог бросить своего ремесла и сделался мастером скрипки. Может быть, правду говорят, что он получил в тюрьме повреждение ума. Он работал в каком-то лихорадочном бреду. Он так спешил, так напрягался из последних сил, что ни днем, ни ночью не знал покоя. Он ничем не занимался, кроме изготовления скрипок, и если жена забывала принести ему обед в мастерскую, он мог, не чувствуя голода, просидеть двое – трое суток, пока не кончит работы. Ему было предсказано, что он получит бессмертие после изготовления четырехсотой скрипки. Он спешил, хотя прекрасно знал, что это бессмертие не будет бессмертием его телесной оболочки. Каждая новая скрипка была лучше предыдущей. Поэтому он знал, о каком бессмертии идет речь. Руки Амати были изрезаны, с двух пальцев сорваны ногти, и эти уродливые руки, в мозолях, порезах и кровоподтеках, обладали такой гибкостью, как твои детские пальцы.
Старый Козио взял руку Паганини и, высоко подняв ее, поднес к своим слабым глазам.
– У тебя каждый палец похож на утиный нос. Уродство, да и сам ты некрасив. А такие пальцы лучше всего для игры.
Вскоре маленький Паганини научился различать породы скрипок. Он смотрел на высокие своды, на вырезанные эфы, изящные, стройные, наклоненные друг к другу, словно ангелы на картинах фьезоланского монаха.
– Это не сильная скрипка. Князья и герцоги любили слушать скрипачей в маленьких комнатах, им нужны были сладкие, нежащие и тихие звуки. Поэтому никогда не играй на скрипке Амати в больших залах. Если ты будешь играть в этой зале в том углу, где стоит мой письменный стол, тебя трудно будет услышать в середине комнаты. Мягкие и приятные тона – это неплохая вещь. Но когда наша республика боролась с поработителями, когда свора Габсбургов кинулась на Северную Италию, другим людям понадобились другие звуки. Я был в Милане, когда давали концерт огромному собранию господ офицеров. По лицам этих людей можно было видеть, что новые кондотьеры хотят найти в звуках отклики своей боевой мощи. Рыцари новых войн, они ничего не поняли в мягкой и нежной игре скрипки Амати, а вот когда Серветто, скрипач из вашей Генуи, вышел на эстраду с громадной скрипкой Страдивари и стал резать воздух звуками, от которых могли бы погибнуть стаи перелетных птиц, тогда вдруг выпрямились фигуры этих людей, откинулись плечи, расправилась грудь, и глаза загорелись… – Козио остановился, потом, как бы в раздумье, продолжал: – В Версале, под Парижем, была самая лучшая в мире коллекция инструментов Амати. Она исчезла в тысяча семьсот девяностом году бесследно. Это были шесть альтов, две виолончели и восемнадцать скрипок. Вся коллекция была заказана для струнного оркестра французского короля Карла Девятого. Теперь говорят, что остатки этой коллекции за баснословные деньги скупили англичане в европейских городах.
Паганини слушал, боясь прервать рассказчика. Козио переходил с одной темы на другую:
– У Андреа Амати было два сына, которые продолжали его дело, – Джеронимо и Антонио. Братья полюбили одну и ту же девушку. До этого несчастья они работали вместе, работали дружно, не делясь. Девушка вышла замуж за Джеронимо, и семья распалась. Братья стали работать порознь. Антонио навещал семью брата. Посещения становились все реже и реже, а потом однажды Антонио нашли повесившимся у входа в мастерскую. Джеронимо продолжал дело семьи. По его стопам пошел и его сын Никколо, самый талантливый из Амати. Никколо принимал к себе в мастерскую учеников со стороны. Так у него приютились и Андреа Гварнери и Антонио Страдивари. Оба стали знаменитыми скрипичными мастерами. Ты был у синьора Паоло, он врет, что Страдивари знатного рода, это все вздор и выдумки. Их знатность – в скрипке.
Козио показал маленькому Паганини старинный портрет Страдивари с тремя сыновьями и дочерью. Страдивари был изображен в мастерской. Он стоял в белом замшевом фартуке и в красном сафьяновом колпаке и держал кусок дерева и инструменты.
– Я сам раскрасил эту гравюру, – сказал Козио, – и, по-моему, цвета взяты верно. Я показываю тебе этот портрет, чтобы ты видел, что этот обыкновенный ремесленник – вовсе не сенатор и вовсе не патриций. Но знаешь ли, мальчик, я готов променять свой старинный графский титул на способность сделать хотя бы одну такую скрипку, какую сделал этот Страдивари, когда ему исполнилось сто шесть лет!
Старый граф повел мальчика к другому шкафу.
– Вот смотри: золотистый лак, он не закрывает ни одной черточки в рисунке древесного слоя. Смотри, дерево похоже на пятнистую шкуру леопарда, а верхняя дека – без единого сучка и пятнышка, она покрыта волосными линиями! Этому дереву не меньше трехсот пятидесяти лет. Рассказывали, что во время войны Венеции с турками Страдивари закупил огромное количество дерева, которое шло на постройку турецких кораблей. Это дерево сушили десятки лет. Потом, когда восточный берег Адриатики стал недоступным, никто уже не мог покупать этого дерева. Мелкослойная ель встречается кое-где на наших горах, но ее нужно долго выдерживать, чтобы она стала пригодной для этой тонкой и сложной работы. А за рубежом, за берегами Адриатики, на недоступной высоте растет балканская ель, как бы нарочно созданная творцом для скрипичных мастеров…
Козио показывал мальчику скрипку за скрипкой.
– Один и тот же мастер, посмотри, никогда не делал скрипок одной и той же формы. Они все разные, взгляни. Если ты возьмешь циркуль и измеришь расстояние между эфами, то заметишь, что все эфы во всех скрипках расставлены по-разному и наклон их к оси скрипки тоже разный. А что это значит? Это значит, что скрипичные мастера владели тайной дерева. Они знали, что разные породы дают разный звук, и вот по тому, как они вычерчивали эфы, ты видишь, как глубоко они проникли в тайны своего ремесла. Эфы дают у них в каждом случае особо высокое качество звука. – Он осторожно вынул еще одну скрипку. – Вот эту я снимаю очень редко. Это – «Лебединая песнь». Так называется она потому, что это – последняя скрипка, сделанная Страдивари перед смертью, на сто седьмом году жизни. Старик работал лучше, чем в молодости.
Страдивариеву скрипку старый граф называл серебряной, звуки альтов сравнивал с золотом, виолончель, по его мнению, давала бронзовый тон, а контрабас звучал медью.
Однажды, в минуту откровенности, Козио признался мальчику, что он разломал четыре скрипки Страдивари. На цыпочках, говоря шепотом, словно боясь, что его услышат посторонние люди, граф подвел мальчика к низенькой двери. Зажег свет в полутемной комнате и с видом человека, совершающего неизбежное преступление, показал на четыре деревянные пластинки, привинченные к столу. Смахнув пыль со старинного камертона, Козио ударил им о стену.
– Слышишь? – шепотом спросил старик.
Мальчик ответил:
– Да.
– А это похоже?
– Да.
– Но ты понимаешь? Поет камертон, и одинаково поет деревянная пластинка, вырезанная из скрипки Страдивари. Этот звук дает пятьсот двенадцать колебаний… Ну, а это? – старик тронул другую пластинку.
Мальчик кивнул головой. Они перепробовали все пластинки, и каждый раз маленький Паганини кивал головой:
– Это тоже! И это тоже!
Звуки были равной высоты и частоты.
– Видишь, – сказал старик, – это все – пятьсот двенадцать колебаний в секунду. У тебя хороший слух, мальчик! Так вот, смотри: это – деревянная пластинка из скрипки Страдивари, сделанной им в тысяча семьсот восьмом году, а рядом я заставил звучать кусок дерева из скрипки, сделанной тем же мастером в тысяча семьсот семнадцатом году. Это волнистый клен. А вот рядом – пластинка из ели. Скрипка сделана в тысяча шестьсот девяностом году. А вот тут – последняя пластинка: тоже из ели. Скрипка сделана в тысяча семьсот тридцатом году. Приступим к опыту.
Глаза старика загорелись молодым огнем. От тихих едва заметных ударов пластинка запела. Мальчик назвал:
– Ля диез!
– Хорошо! – сказал Козио.
Вторая пластинка дала ту же ноту. Третья и четвертая – то же. Под ударами опытной руки одновременно запели все четыре пластинки сразу.
Мальчик стоял молча и слушал, широко раскрыв глаза, не отрывая их от кусочков дерева. На лице его учителя застыла улыбка маньяка.
Наконец, старик продолжал:
– Для того чтобы получить такой серебряный звук, нужно сочетать природные свойства клена и ели. Звуки всегда живут в природе, но звук надо поймать, его надо приручить, как птицу, порхающую по этим деревьям в молчании. Ее надо приручить настолько, чтобы она запела. Заметь, мальчик, верхняя дека скрипки всегда делается из ели, нижняя – всегда из клена. И еще я высчитал, что ель обладает способностью в шестнадцать раз быстрее порождать звук, чем воздух. Звук, рожденный в скрипке из сочетаний малой скорости колебаний клена и большей чувствительности ели, получит соотношение двенадцать к шестнадцати. Но многие думают, что звук родится однотонным в верхней и нижней деках. Это два различных звука. Благозвучность природы состоит в том, что они сливаются в единый, цельный, совершенный, нераздельный звук. Однажды я заказал скрипку сплошь из клена, с деками одинаковой толщины. Эту скрипку нельзя было слушать, у нее был отвратительный глухой тон. Природа не терпит однообразия, мальчик. Верхняя и нижняя деки должны звучать по-разному, и разница должна равняться целому тону. Чистый и неделимый звук, рождающийся из этого, совершенно подобен сплаву двух благородных металлов, из которых каждый порознь слаб и мягок, а в сочетании с другим дает твердость и крепость. Из двух слабостей родится сила. Помни, что размеры скрипки нельзя ни увеличивать, ни уменьшать. Как только количество воздуха в скрипичной коробке увеличится, так шантрель начнет визжать, как собачонка, которой наступили на хвост, а звук басовых нот станет слабым, глухим и сиплым, как бред пьяного человека. Если уменьшить коробку, получится обратное явление. Заглохнет четвертая струна, а бас закричит сипло. Но не думай, что все это остается неизменным. Меняется природа, меняются люди. У каждого поколения новые уши. Камертон нынешнего века звучит иначе, нежели камертон прошлых столетий. Когда будешь играть перед большим скопищем людей, настраивай скрипку иначе, чем настраивал бы ее, играя перед семьей в пять человек. Твои дед и прадед иначе слышали звуки природы, им нравилось слушать одно и закрывать уши на другое, и это делалось невольно, без всяких ухищрений с их стороны. В этих делах человек не может лгать сам себе, нельзя уговорить нынешнее поколение настраивать музыкальные инструменты по камертону прошлого столетия. Вот старый Тартини шестьдесят лет тому назад измерил давление натянутых струн на скрипичную коробку. Тогда он получил цифру шестьдесят три фунта. Но помни, что струны тогдашнего времени были тоньше, а подставка, держащая струны, была ниже, струны тесней прилегали к верхней деке. Поколение нынешних людей предъявляет другие требования, они не слышат старой скрипки, и вот пришлось повысить камертон, колебание струн тоже увеличилось, и подставка под струнами стала выше, струны натянулись горбылем на верхней деке. Подставка поддерживает струны так, что мышь может пробежать между шантрелью и верхней декой. Знай, мальчик, что диапазон по сравнению с прошлым веком повысился на полтона, а давление струн на деку теперь не шестьдесят, а восемьдесят фунтов. Человек стал натягивать струны сильнее, и нервы людей напрягаются больше. Время летит быстро, дни сменяют другие, и непрестанно меняются люди. Что будет дальше, где остановится изменение человека? Уже теперь, я замечаю, мир меняет свои краски, ухо ловит иные звуки, и думается мне, что тускнеет солнечный свет…
Козио сел на маленький диван. Вынув платок, он порывисто вытер слезы. Потом поднялся и за руку вывел Паганини из комнаты.
– Пойдем, мальчик, – проговорил он. – Никому не рассказывай, что ты от меня слышал. Природа не любит выбалтывать свои тайны, она мстит любопытным.
Глава восьмая. Путь по звёздам
В Геную семья возвратилась в новом составе.
В Кремоне произошло неожиданное примирение синьора Антонио с дочерьми Лукрецией и Маргаритой, о существовании которых Никколо до этого даже не знал, так как в семье не принято было о них говорить. Семья Паганини увеличилась сразу вдвое, так как дочери синьора Антонио были уже замужем.
Муж старшей, Лукреции, оказался весьма беспокойным человеком. В первые же дни знакомства он успел чуть не до драки поссориться с синьором Антонио, а по приезде в Геную целые дни проводил за игрой в карты с незнакомыми людьми. Он много проигрывал, а когда ему везло, домой являлись люди, обыгранные им, и поднимался адский крик, тревоживший всю округу.
А тут еще сильно пошатнулись дела синьора Антонио.
С маниакальной настойчивостью, уподобляясь средневековому астрологу, он вглядывался в вечернее небо, наблюдая перемещение планет, и бормотал себе под нос сложные астрофизические формулы; он говорил о влиянии звезд на движение человеческой крови, о влиянии планет на судьбу его семьи. В его словах странно смешивались поиски гороскопа с выкладками предстоящих барышей. В руках этого маклера счетная машина Паскаля и Лейбница превращалась в инструмент для бухгалтерских подсчетов, логическая машина Раймунда Луллия, искавшая философскую истину, становилась лотерейным колесом, которое должно было обеспечить покупку выигрывающих номеров. Астрологические, алхимические поиски жизненного эликсира и философского камня, которые у средневековых безумцев связывались с мечтами о человеческом счастье, об устройстве человеческого общества, у старого Паганини превращались в искание средств для биржевого обмана природы, для маклерских сделок с темными силами.
Но все оказывалось напрасным.
Обязательства перед банкирами не были выполнены. Старый Паганини ссылался на кражу в дороге, на кражу в Кремоне, на неудачи вследствие военных затруднений и на многое другое, но синьоры директора, старые банкиры, видали виды. Начался длинный судебный процесс.
Синьора Антонио стали избегать прежние друзья. Если раньше он важно восседал за своим маклерским столом, то теперь сам бегал в поисках матросов, разузнавал, какие товары прибыли в порт, да и то, когда он являлся, чтобы заключить сделку, он заставал недовольных, замолкавших при его появлении купцов; сделка состоялась помимо него. Каждый день биржевой неудачи удвоенной тяжестью ложился на семью.
Вернулся после долгой отлучки старший брат. Он пришел в ужас, когда увидел маленького скрипача.
– Что все это значит? Как держится душа в этом щенке? – грубым, осиплым голосом спросил он у отца: костлявый мальчик, кашлявший кровью, едва держался на ногах.
После ужасающей сцены между Франческо и синьором Антонио, когда Франческо едва не ударил отца, мать всю ночь плакала, стоя на коленях перед маленькой постелькой Никколо. Она говорила, что все надежды семьи связаны с его прилежанием, – он должен во что бы то ни стало добиться успеха.
Отец не дал ни байокко для платежа Джованни Серветто, с которым, по совету Козио, Никколо занимался, вернувшись в Геную.
– Синьор Серветто уже дал лучшие указания, какие только можно было получить в этом мире юдоли и печали, – сказал синьор Антонио.
Серветто обиделся, и уроки пришлось прекратить, Правда, к тому времени основные трудности владения инструментом были уже преодолены, a vista [с листа (итал.)] мальчик играл уже гораздо лучше самого Серветто, – но впереди было еще столько работы!
Соседние кумушки принялись усиленно шептаться с синьорой Терезой. Откуда-то синьора Тереза раздобыла деньги. Воспользовавшись днем, когда синьор Антонио должен был задержаться в суде, она повела сына к синьору Джакомо Коста. Синьор Джакомо Коста был преподавателем генуэзской капеллы и играл первую скрипку во всех церковных оркестрах Генуи.
Синьор Коста прослушал маленького Паганини.
На следующий день Паганини играл в соборе. По окончании службы синьор Коста подозвал мальчика и приказал ему приходить пять раз в месяц к нему на дом.
После первых же занятий синьор Коста был совершенно поражен отчетливостью звука, чрезвычайной восприимчивостью своего ученика и быстротой его работы. А через полгода, когда Тереза Паганини тайком от мужа принесла деньги за тридцать уроков, синьор Коста уже прикидывал с довольной улыбкой, в каком соотношении находятся эти деньги и его выручка от церковных концертов, в которых участвовал Паганини.
Синьора Тереза удостоилась расположения высшего духовенства Генуи и перемену, происшедшую в делах семьи, приписала божественному произволению.
Синьор Антонио перестал пить. Глядя на сына, он ласково посмеивался. Особенно он был обрадован, когда при встрече с синьором Коста узнал, что синьор Джакомо не желает брать с него денег. Оба остались довольны; синьор Джакомо – своим учеником и доходами, которые давал этот ученик, синьор Антонио Паганини – великодушием синьора Коста, великодушием, которое весьма ощутимо сказывалось на бюджете семьи Паганини.
Но вскоре внезапно обнаружилось корыстолюбие синьора Коста, и синьор Антонио почувствовал себя оскорбленным и обманутым. Выпив соответствующее количество вина для бодрости духа, он отправился для переговоров. Ругань слышна была далеко за пределами скромного жилища мастера церковной капеллы. Разрыв был полный. Уроки у синьора Коста прекратились. Синьор Коста не согласился оплачивать концертные выступления своего ученика и не дал ни байокко разъяренному синьору Антонио. Дело приняло плохой оборот.
Синьор Коста собрал сведения о крещении, о детских годах своего ученика и пришел к заключению, что скрипичный талант мальчика, его необычайная музыкальная одаренность, невероятная для отрока музыкальная техника не могут быть объяснены божественным вмешательством. Тут несомненно вмешательство нечистой силы и несомненно демонское влияние. Проклятие повивальной бабки было причиной необыкновенных успехов маленького Паганини.
В день, когда произошел разрыв, Никколо Паганини еще не знал о разговоре своего отца с синьором Коста. Он, ничего не подозревая, взял скрипку и направился к учителю. Тихо и скромно постучал в дверь. Мощная оплеуха заставила его кубарем скатиться с лестницы.
Он едва не сшиб с ног высокого черноглазого человека, поднимавшегося к синьору Джакомо.
Испустив поток проклятий, незнакомец остановил мальчика.
– Откуда ты, что с тобой, куда ты летишь, чертенок?
Паганини махнул рукой, пытаясь что-то сказать, – слезы сдавили ему горло.
– Да что ты? В чем дело? – настаивал незнакомец…
– Подожди здесь, – сказал он, когда Паганини рассказал ему о своей беде.
Паганини ждал внизу все время, пока синьор Коста на верхней площадке лестницы говорил с гостем. Паганини слышал, как синьор Коста, обращаясь к незнакомцу, называл его «милый Ньекко». Из разговора было ясно, что незнакомец этот – знаменитый композитор Ньекко, оперы которого разыгрывались во всех театрах Северной Италии, в Неаполе, Венеции, Милане, Падуе, Ливорно. Паганини слышал отрывки из сочинений Ньекко в Генуе, он знал, что оперы Ньекко ставятся даже в Вечном городе.
Сладкое и томительное предчувствие охватило мальчика, когда он услышал, что разговор закончился и синьор Ньекко сходит вниз.
Синьор Ньекко прошел мимо мальчика, ничего ему не сказав. Паганини молча шел за ним. У двери старого дома на улице Архимеда синьор Ньекко заговорил:
– Я тебя слышал, дьяволенок со скрипкой. Я, конечно, не верю всякому вздору о вмешательстве нечистой силы в твою судьбу: слишком много для тебя чести. Но ты действительно какое-то маленькое чудо. А тебя бьет отец? – вдруг, без всякого перехода, спросил он.
– Сильно, – ответил Паганини с большой выразительностью.
– И, должно быть, это идет на пользу? – насмешливо щурясь, спросил синьор Ньекко, открывая перед мальчиком дверь большой, красиво убранной комнаты.
Ноты, набросанные золотыми чернилами на красные линейки, поразили маленького Паганини. На всех вещах в этой комнате лежала печать изысканности и изощренности. Клавесин, арфа, красивые серебряные трубы, флейта, фагот, гобой и набор мелких колокольчиков из цветного металла, красных, белых, синеватых, желтых; пюпитры, пульты, палочка из слоновой кости с золотым наконечником; кресла, обитые тисненой испанской кожей, этажерка с книгами и партитурами в кожаных переплетах, горка из ярко-алого венецианского стекла; серебряный стакан с красным вином и большой восточный сосуд из какого-то белого металла на столе, украшенном флорентийской мозаикой. Паганини казалось, что все это – во сне.
Синьор Ньекко открыл футляр, внимательно осмотрел скрипку маленького Паганини, отложил ее в сторону, подошел к застекленному резному шкафу, достал большую скрипку вишневого цвета, смычок и протянул Паганини. Потом подвинул к нему пюпитр и раскрыл маленькую тетрадку, мелко исписанную нотными знаками…
– Ну что же, – говорил Ньекко, когда Паганини кончил играть, – этот месяц я пробуду безвыездно здесь. Приходи каждый день. Если не застанешь меня, посиди, подожди, играй один. Впрочем, в этот час я всегда бываю дома.
Прошло всего четыре дня. Синьор Франческо Ньекко не пропустил ни одного урока. И всякий раз, с трепетом сердца приближаясь к улице Архимеда, мальчик испытывал горячее чувство благодарности судьбе, приведшей его в хоромы синьора Ньекко.
Гусиные перья, золотые чернила, красные линейки на толстой желтоватой бумаге, насмешливо прищуренные глаза, добрый голос…
– Я должен тебя поздравить, – говорил Ньекко, – я ни у кого не встречал такого слуха. – Как бы усиливая значение этих слов, синьор Ньекко кивнул головой. – Но я должен тебе сказать, что когда ты фантазировал прошлый раз, тебя было слушать приятнее, чем когда ты играл мои вещи. Ты переделываешь мои вещи, а не играешь их так, как я сыграл бы сам. Ты всегда все будешь переделывать в жизни. Ты ни на чем не остановишься удовлетворенным до тех пор, пока не переделаешь по-своему. И мой совет тебе: когда будешь выступать перед публикой, не играй пьес ныне живущих композиторов: ты оскорбишь их своим исполнением, хотя, быть может, то, что ты придашь чужому творению, будет богаче, нежели замысел его создателя. Хорошо, что ты встретил композитора с моим характером, – другой влепил бы тебе хорошую затрещину за твои фантазии, за какую-то, даже не свойственную твоему возрасту, страстность, которую ты вливаешь в звуки чужой музыки… Ну, за дело! Не бойся испугать меня фантазией: ты должен не только играть чужое, но и творить свое… Что ты краснеешь, маленькая обезьяна? – вдруг нахмурясь, прервал Ньекко самого себя. – Я ничего не сказал тебе особенного, не вздумай задирать нос!
Тогда Паганини робко и неуверенно признался синьору Ньекко, что он никак не мог примириться с требованиями синьора Коста.
– У меня никакого желания не было, – говорил мальчик, прижимая руки к груди, – перенимать у синьора Коста его способ ведения смычка. Я считал, что он применяет какое-то насилие, занимаясь со мной. Я всегда выполнял его предписания против воли. Я даже рад, что от него перешел к вам…
– Хорошо, хорошо, – возразил синьор Франческо, – я не люблю лести. Когда ты перейдешь к следующему учителю, через какой-нибудь месяц ты, вероятно, будешь говорить ему то же самое обо мне.
– Никогда в жизни! – вспыхнув, воскликнул Паганини.
– Что делает твой отец? – спросил синьор Франческо.
– Заставляет меня играть в церкви.
Синьор Ньекко кашлянул.
– Набожные итальянцы охвачены сейчас скрипичным безумием. Мальчик со скрипкой, как тебя называют, ты привлекаешь в церковь много народу, это повышает доходы святых отцов. Смотри, из тебя сделают святошу.
– Нет, – сказал Паганини. – Я не люблю тягучей музыки.
– Я думаю, что игра в капелле может только испортить музыканта, – с расстановкой произнес Ньекко.
…Странная дружба установилась между оперным композитором и «дьяволенком со скрипкой», как называл Никколо синьор Ньекко.
Однажды, когда зашла речь о путешествии в Кремону и когда маленький Паганини старался выложить все свои знания по истории инструмента, Ньекко, с особым вниманием вслушивавшийся в рассказы мальчика о французских войсках, перейдя внезапно от разговора о музыке к политической теме, впервые познакомил маленького Паганини с историей порабощения Ломбардии австрийцами. Он говорил о значении французского нашествия на Италию, говорил быстро, как бы перебивая самого себя. Он сообщил мальчику, что сам он родом из Милана. В Милане, старом вольном городе Ломбардии, чувствуется острее всего недовольство австрийским гнетом. Каковы бы ни были средства, помогающие освободить Италию от варваров, как говорил Петрарка, все эти средства хороши. Французские войска гонят австрийских жандармов, они гонят немецких попов, приехавших из Вены, а прокламации Бонапарта несут с собой освобождение от религиозного и политического гнета, и поэтому – еда, здравствует французское оружие!..»
После этого разговора Паганини почувствовал особенную привязанность к синьору Франческо. Доверчивость, с какой учитель относился к маленькому ученику, была вознаграждена.
Это чувствовал синьор Ньекко и нередко, указывая Никколо на черномазых людей на ярко освещенной мостовой, с осликами, запряженными в тележку, из которой горой поднимались кули древесного угля, осторожно кивая в их сторону, говорил:
– Погоди, дьяволенок, будет время, я расскажу тебе об иных угольщиках, несущих другой, более тяжелый груз.
Итальянское слово «карбонарии» – «угольщики» – Паганини уже слышал неоднократно в «Убежище». Раз как-то с таинственным видом сообщили ему ребята об аресте двух, живших в «Убежище», карбонариев. Паганини знал этих людей. У них были бледные лица, тонкие длинные руки. Одежда не носила никаких следов угольной пыли. И когда маленький Паганини спросил, почему же они – угольщики, ребята ответили: «Не знаем».
Подводя мальчика к раскрытию тайны, Ньекко рассказал о том, что есть лесные братья, которые добывают уголь, сжигая старые деревья. Эти лесные братья выходят из леса на рынок. Таким образом, фореста, баракка и вента постепенно входили в ряд усвоенных и привычных понятий Никколо. Но как только мальчик просил объяснить то или другое слово, синьор Ньекко прикладывал палец к губам.
Маленький Паганини сделал новую вариацию итальянской «Карманьолы» и присочинил свою собственную музыкальную тему, ту зажигательную французскую песню, которую он слышал случайно от французских матросов на берегу моря в тот день, когда красивые молодые марсельцы распевали эту песню, поднимаясь на высокий берег. Эта песня звала к восстанию всех детей родины, она говорила о том, что поднято знамя, алое от крови народа, о том, что наступили дни славы. Каждый куплет заканчивался словами: «К оружию, граждане!»
Когда Паганини, непосредственно после «Карманьолы», заиграл эту песню марсельских моряков, как он ее назвал, Ньекко взволнованно вскочил с кресла и заходил большими шагами по комнате. Никколо впервые видел его таким. Синьор Ньекко достал из стенного шкафчика и показал мальчику серые клочки французских прокламаций генерала Бонапарта, разбросанных в Северной Италии. Тайна лесных братьев раскрылась. Тяжелый груз угля, таящего пламя, стал понятен маленькому Паганини.
Работа карбонарского братства захватила воображение мальчика, а налет тайны на всех этих разговорах с учителем имел к тому же особую прелесть. У Паганини началась своя, не мальчишеская жизнь. Ему стало даже легче сносить побои и попреки отца. Он спокойно присутствовал при долгих перебранках между сестрами, старшим братом, отцом и матерью. У него появилась своя жизнь, появились свои жизненные планы.
Носовой платок Паганини, покрытый красными пятнами, внушил синьору Ньекко первые подозрения о состоянии здоровья его ученика. Через посредство друзей синьор Ньекко навел справки о семье Никколо. Осторожно, чтобы не обидеть своего ученика, он приглашал его завтракать вместе с собой, задерживая на лишний час. Однако вскоре против этих задержек маленький Паганини решительно восстал. Синьор Ньекко убедился в его правоте, как только увидел кровоподтеки на лице своего ученика: отец не разрешал удлинять уроки.
Ученику хотелось изыскать способ хоть как-нибудь растягивать время пребывания у синьора Ньекко в предчувствии скорого отъезда своего любимца. Но для этого пришлось бы обманывать зорко следившего за ним отца.
Ньекко, сам участник карбонарской конспиративной работы, имел навыки внимательного и зоркого наблюдателя. В эти годы Ньекко был единственным, кто точно представлял себе все значение бурного вторжения легенды в жизнь маленького скрипача. В то время как синьор Антонио Паганини, со всей толпой своих коммерческих друзей и врагов, и синьора Тереза, его супруга, со всей озлобленной сворой родных и двоюродных Боччарди, терялись в догадках о происхождении ранней одаренности Никколо и строили предположения о сверхъестественном вмешательстве, видя в этом вмешательстве то страшную демоническую, то благодатную ангельскую основу, Ньекко боялся за судьбу мальчика, хрупкость которого внушала ему самые серьезные опасения, Ньекко боялся, что могущество этого всеподавляюшего таланта превратится в огонь, который сожжет и очаг и дом.
Временами же ему казалось, что этот мальчик, при всей своей хрупкости, обладает железным здоровьем, если выносит колоссальную тяжесть, взваленную синьором Антонио на его плечи.
У насмешливого, веселого Ньекко туманились глаза в минуты, когда, подняв брови, Паганини без всякой аффектации рассказывал ему о долгих упражнениях в семилетнем возрасте, когда, не будучи в силах держать скрипку в обычной позитуре, ребенок изучал игру на этом инструменте, ставя его, как виолончель, между маленькими угловатыми коленями. Слушая его, Ньекко не мог смотреть в глаза мальчику. Ему казалось, что перед ним раскрывается какая-то черная яма человеческих бед.
Синьор Ньекко вздрагивал, перечитывая страницы Миланской хроники, на которых старинный повествователь рассказывал о ломбардских крестьянах, намеренно уродовавших своих детей, чтобы потом продать их в качестве придворных шутов герцогу Сфорца. «Новые птицы, новые песни, – думал Ньекко. – Это удивительное творение находится в руках чудовища, которое может изуродовать его талант, сделав из мальчика дешевого ярмарочного жонглера…»
Была еще одна тема для размышлений синьора Ньекко о судьбе Никколо. Он убеждался, что церковная музыка чужда его маленькому ученику. Ньекко наблюдал, что, покрывая соборные хоралы могучими звуками своей скрипки, маленький Паганини оставался по-прежнему незатронутым, и все навязчивые, вкрадчивые притязания католической клики оставляли холодной душу ребенка нового века. Когда же синьор Ньекко говорил с ним о свободе Италии, о живой и яркой работе карбонариев, щеки мальчика покрывались румянцем возбуждения.
Эта холодность к церковной музыке была безотчетной, вражды и неприязни к церкви не было в маленьком Паганини. И, однако, синьор Ньекко ловил себя на мысли об удобстве позднего католического причастия. Исповедь Никколо у священника в те дни могла бы принести большие неприятности синьору Ньекко. Местный кардинал-легат сурово требовал от священников, чтобы на исповеди они тщательно выпытывали образ мыслей сынов и дочерей церкви. Он сам еженедельно давал сведения представителю апостольской римской курии в городе Генуе. Оттуда эти сведения шли в Рим, а иногда и в Вену, где министр полиции его апостолического величества короля и императора делал соответствующие выводы и набрасывал на карту возможные очаги будущих восстаний.
Затаенность и молчание мальчика, его успокоенность возбудили подозрения синьора Антонио. Он переговорил об этом со своей супругой, супруга имела разговор с духовником. Но священник местной церкви благосклонно отнесся к маленькому Паганини. Он утешил синьору Терезу и сказал, что мальчик на хорошем пути, три раза в неделю он выступает в церковных концертах, его выступления привлекают толпу молящихся, молящиеся охотно отзываются на кружечный сбор, – таким образом, можно рассматривать Никколо Паганини с его скрипкой как явление, угодное богу.
После этого синьор Паганини успокоился. Он не стал возражать, когда, по инициативе синьора Ньекко, маленький скрипач был приглашен к участию в концерте светской музыки.
Италия тогдашнего времени еще увлекалась выступлениями сопранистов. Знаменитый кастрат Маркези, выступая в день своего бенефиса, в тысячный раз удивлял и восхищал простодушную генуэзскую публику серебряной чистотой своего тончайшего дисканта.
Паганини с любопытством маленького зверька украдкой смотрел на Маркези, когда тот выводил дискантовые рулады перед упоенным зрительным залом. Ни восхищения, ни удивления не вызвало у него искусство мужчины, поющего женским голосом.
Маленький Паганини играл после пения Маркези, после пения знаменитой певицы Альбертинетти. Часть публики, сидевшая в верхних ярусах, была наслышана о выступлениях маленького скрипача в церкви, но большинство собравшихся в этот день в огромном театре ничего не знало о чудесном ребенке.
Доброкачественные буржуа, офицеры, священники, жены биржевиков, купцы, нотариусы, маклеры, моряки старинных фамилий с одряхлевшими титулами, обедневшие дворяне, разорившиеся графы – все это зашумело, закивало головами, когда на авансцене появился мальчик со скрипкой. Робкой походкой, с таким видом, будто у него на ногах деревянные башмаки, вышел хилый мальчик с впалой грудью, угловатыми плечами и руками, достававшими почти до вывороченных наружу коленных чашечек. Легкий шум досады прошел по рядам, замелькали улыбки. Никколо играл впервые перед такой большой аудиторией. И если дикая легенда о маленьком скрипаче не выходила до этого за пределы родного переулка, то теперь эта легенда раскинула свои крылья и полетела по городу, над морем, по всему Лигурийскому синему заливу.
Любопытство сменилось удивлением. Мальчик извлекал из огромной для его роста скрипки непомерной силы и поразительной красоты звуки. Вот вступает оркестр, вот волны хорала покрываются звучанием сотни инструментов, но над всеми этими звуками рассыпаются колокольчики, и кажется – запела не одна, а десять скрипок. Широкая волна кантилены покрыла хор и оркестр, и вот, заканчивая последние такты, певучая, бесконечно длинная нота повисла в воздухе. Она висит и не обрывается минуту, две… Публика встает, шелест побежал по залу, головы качаются, как колосья. Зрительный зал не отрывает глаз от мальчика. Удивление уступает место восторгу, а на многих лицах можно видеть выражение, близкое к суеверному испугу.
Бледный молодой семинарист Нови, с горящими глазами, полными ненависти, шепчет что-то во втором ряду своему соседу. Это змеиное шипение слышит синьор Ньекко. Нови говорит, что здесь сказалось проявление нечистой силы, ибо без помощи дьявола не может человек, да к тому же почти еще ребенок, одержать такую победу над куском мертвого дерева.
И буря аплодисментов не заглушает отдельных голосов.
– Даже я, – восклицает священник, – всегда обращенный к небу, даже я почувствовал трепетное волнение в крови и всю прелесть этой греховной земной жизни, когда слушал звуки, извлекаемые из скрипки смычком этого одержимого ребенка.
Иезуит переглядывается многозначительно с представителем святейшей инквизиции, одетым в светское платье. Тот отвечает равнодушным взглядом. Он смотрит рыбьими глазами на эстраду, качает головой и, подойдя к священнику, говорит:
– Отец и мать – верные слуги церкви, мальчик играет в храме. Эта музыка – от бога.
Ночью у маленького Паганини началась лихорадка. Утром он так и не мог вспомнить, снилась ему или на самом деле происходила ссора между отцом и матерью. Обрывки случайных фраз, долетевших до мальчика, мучили его. Отец говорил о необходимости «хорошо питать перед дальней дорогой». Мать часто повторяла слово «рано», отец бранился и говорил: «Пора». Сопоставляя отрывки фраз, Никколо понял, что речь шла о затее отца предпринять круговую поездку по городам Лигурийского побережья с концертами маленького скрипача.
Как только отец ушел на биржу, мальчик сорвался с места, быстро оделся и побежал к синьору Ньекко. Как раз в тот момент, когда он хотел взяться за ручку двери, он увидел, как синьор Ньекко отворяет эту дверь, и под лучами солнца, падающими сквозь окна лестницы, из двери синьора Франческо со звонким смехом появляется девушка… Улыбка сбежала с ее лица, оно стало серьезным, как только она увидела маленького Паганини.
– Вот ваш маленький скрипач, – сказала она, оборачиваясь к синьору Ньекко. – Итак, я вас жду.
Стуча каблуками, она шла по лестнице, быстро, на ходу повязывая вуаль вокруг шеи. Не зная сам почему, Паганини почувствовал, как тонкая ледяная иголочка вошла к нему в сердце, сломалась и оставила в нем острие.
Синьор Ньекко поднял маленького Паганини на воздух, покружился с ним по комнате, поцеловал его в лоб и с размаху опустил на пол.
– Поздравляю! – сказал он. – Как жаль, что я не могу взять тебя с собой. Завтра я уезжаю.
Паганини бросился в кресло, слезы ручьем побежали из глаз. Весь успех вчерашнего концерта, все ликование мальчишеского самолюбия – все исчезло перед липом огромного, неожиданного горя.
Глава девятая. Отрочество
Антонио Паганини был несколько встревожен тем шумом, который поднялся вокруг концерта маленького скрипача.
Однажды утром, когда Тереза Паганини мирно спала, когда лучи солнца только что начали золотить верхушки памятников на генуэзском кладбище, а песок на морском берегу был еще закрыт тонкой пеленой быстро убегающего под утренним ветром тумана когда только чириканье птиц оглашало одинокие генуэзские улицы, маленький Паганини, с тростью, перекинутой через плечо и узелком за спиною, семенил ногами, стараясь поспеть за большими шагами отца. Старик суетливо перекладывал из кармана в карман бумажник, кошелек, билеты «Итальянского мессаджера». Через час уже были в Фоче, потом в Нерви, потом увидели на открытом морском берегу Рекко, потом ехали в гору и, когда солнце стояло уже высоко, по дороге, прибитой дождем, въехали в лес. Так доехали до Киавари. В Киавари остановились у дешевого трактира. Только здесь маленький скрипач узнал, что мать не будет тревожиться, ей оставлено письмо. Синьор Антонио был неожиданно ласков с Никколо. Он даже потрепал сына по щеке и сказал:
– Знаешь, я совсем разорен, теперь в твоих руках спасение семьи. Играй, играй всюду. Соберем деньги, тогда заживем хорошо.
Из Киавари, где Никколо впервые пришлось играть в трактире, выехали на юг. Два раза мальчик играл в Специи. Потом пошел концерт за концертом – в церквах, в трактирах, в гостиницах. Жажда наживы гнала старика из города в город. К Антонио Паганини как бы вернулись юношеские силы, бодрость; он не давал сыну ни минуты отдыха, не щадил и самого себя. Откуда-то взялась ловкость самого настоящего импрессарио. То, что не удавалось маклеру, вдруг удалось антрепренеру.
В маленькой типографии Массы, ради дешевизны работы, были заказаны афиши. Скрываясь под маской дальнего родственника, Антонио Паганини отчаянно рекламировал сына. Предметом наибольших надежд были Лукка, Пиза, Флоренция, потом он хотел ехать в Болонью, Модену, Реджио, Парму, Пьяченцу, Павию и Алессандрию, затем опять на юг, дать концерт в Нови и горной дорогой вернуться в Геную. Таким образом, все побережье Ривьеры ди Леванте сделалось ареной действий этого старого пирата.
Между выступлениями в больших городах старик не брезговал ничем, заставляя ребенка играть на постоялых дворах, выпрашивая байокки, ченттезими и сольди у погонщиков мулов, у бродячих артистов, семинаристов, сидевших за кружкой вина и уничтожавших фрутти ди маре.
Так доехали до Ливорно. Перед первым концертом в этом городке старик раскрыл самый тяжелый сверток. Там лежали серая куртка, панталоны, новые чулки и туфли, серая огромная шляпа с перьями. Все это было неуклюже, не по росту, но сделано из дорогого материала. Белый кружевной воротник стоил несколько лир, и маленький скрипач еще раз почувствовал, что для синьора Антонио его существование имеет новую, ранее неизвестную мальчику цену.
Пестрота ливорнской публики не помешала успеху концерта. Отец сам следил за выручкой и принял все меры к тому, чтобы его не обсчитали ни на один байокко. А вечером, после очень сытного ужина, старик позволил себе большую роскошь. Он поставил луидор в ливорнском ридотто и выиграл в этот же вечер тысячу франков. Выигрыш ударил ему в голову, как хмель. Старик подошел к стойке, залпом выпил бокал можжевеловой водки и вновь вернулся к игре, ни на секунду не отпуская от себя сына, словно боясь, что мальчик может выдать какой-то секрет, если останется один. А быть может, он смутно почувствовал, как тяжело переживает Никколо страшную тоску по дому, о которой намекнул отцу маленький Паганини после успешного концерта.
Через три часа все, что было выручено на концерте, и весь выигрыш этого удачного вечера – все было проиграно, и последнюю двадцатипятифранковую кредитку старик снес в морской притон на берегу.
Под утро вернулись в гостиницу. Старый Паганини брюзжал и ругался. Ложась спать, заявил, что завтра будет повторение концерта.
Утром, проснувшись, маленький скрипач заметил, что рукав новой серой куртки разорван. Он не помнил, как это случилось, но знал, что ему не миновать побоев, да и выступать вечером будет не в чем.
Отец спал. Мальчик глядел на рваную куртку с таким ощущением, как будто это была рана, разорвавшая его собственную кожу. Держа куртку в руках, он осторожно вышел из комнаты, У дверей он застал служанку и коридорного лакея. Служанка локтем отталкивала пристающего к ней усатого лакея, но как только тот заметил, что отворилась дверь, он сам отскочил в сторону. Горничная хотела убежать. Мальчик остановил ее, попросив иголку с ниткой. Заливаясь слезами, он по совету служанки пошел на чердак. Ветер гулял на чердаке. Было холодно, сквозняк поднимал тонкую едкую пыль с деревянных балок и стропил. Маленький Паганини бранил себя за то, что не хватило мужества упросить служанку заштопать куртку. Но тотчас трезвое соображение, что за это пришлось бы платить деньги, удовлетворило его.
В это время Паганини услышал громкое пение продавца овощей. Голос чистый и отчетливо ясный прорезал воздух улицы. Мальчик наклонился, опираясь на подоконник, и выглянул в окно. Порывом ветра у него вырвало куртку из рук, и пока он бежал по лестнице, куртку кто-то успел подобрать. Выбежав на улицу, Паганини встретил только удивленные взгляды.
Весь в слезах, он остановился у двери. Рука несколько раз ложилась на скобку двери, и каждый раз казалось, что руку обжигает, как огнем. Наконец, осушив слезы, вошел. Отец еще спал. Паганини осторожно, стараясь не шуметь, навесил крючок и лег на свою постель. Он хотел снять туфли и сделать вид, что он и не вставал, но вдруг увидел, что один глаз отца внимательно осматривает его с головы до ног из-под одеяла. «Видел или не видел?» – подумал мальчик и потом с внезапной решимостью сказал:
– Отец, разрешите мне признаться вам: украли куртку.
Старый Паганини вскочил, мгновенно прошли последние ощущения сна.
– Ты меня разоряешь! – завопил отец и заметался по комнате в бесплодных поисках.
«Слава мадонне, – подумал Паганини, – отец не видел». И с притворным усердием стал помогать отцу. Но искать было нетрудно, – в комнате, кроме жалкого имущества Паганини, ничего не было, меблировка была убогая, куртка завалиться никуда не могла. Через несколько минут старый Паганини уже кричал в коридоре, что он не заплатит ни копейки и сейчас же пойдет предупредить власти о том, что в этой гостинице грабят и убивают. Маленький Паганини притаился в номере.
Кто-то, очевидно предполагая, что речь идет об одежде старика, принялся уговаривать синьора Антонио.
Тот окончательно разошелся и не желал ничего слушать. Он кричал:
– Мой сын, мой знаменитый сын сегодня дает концерт, и у него украли одежду!..
– Какой ваш сын? – спросил женский голос.
Синьор Антонио открыл дверь, и Никколо увидел ту самую горничную, которая давала ему иголку и нитку.
Ложь мгновенно была изобличена.
– Вы говорите, синьор, знаменитый скрипач, а такой лгунишка не может быть знаменитым скрипачом!
Тогда отец накинулся на сына с кулаками:
– Ты дармоед, ты забываешь заповедь господню о почтении к родителям! Чтобы вывести тебя в люди, я, не щадя своих старых костей, мечусь по каменистым дорогам… Где куртка?
Маленький Паганини, стоя на коленях, протягивая к отцу руки, сбивчиво и бестолково рассказывал о случившемся.
– Лжешь! – кричал отец. – Ты ее продал! Боже мой, боже мой, такой концерт, и ни байокко денег. Ты продал! – снова закричал он, наступая на сына. – Чтобы сегодня к вечеру куртка была!
Маленький Паганини надел старую, подаренную матерью куртку и вышел на улицу. Сначала он шел медленно, думая, что отец окликнет его, но старик был. очевидно, совершенно вне себя. Он не вернул сына.
Выйдя за черты города, Никколо сел на придорожный камень, потом, почувствовав усталость, снял куртку, подложил ее под голову и прилег на траву. Заснуть ему не удалось: под щеку попал твердый кружок. Паганини вскочил от радости. Это была пятифранковая монета. Тереза Паганини была суеверна – в каждый новый костюм детям она зашивала деньги.
Первой мыслью Паганини было вернуться, но тут же он принял другое решение. Пробродив до вечера по окраинам Ливорно, голодный, он вошел, когда стало смеркаться, в морской притон близ гавани, тот самый, где вчера потерпел поражение отец. По следам старого Антонио Паганини мальчик второй раз в жизни вошел в игорный дом.
Спустившись в полутемный коридор и отсчитав ровно восемь ступенек, Паганини нащупал дверь, знакомую со вчерашнего дня, открыл ее и, не обращая внимания на то, что матросы и проститутки загораживали дорогу, потихоньку по стенке прошел в комнату.
Здесь были неудачливые капитаны, не в меру ловкие боцманы, неизвестные люди в поношенных камзолах, в долгополых сюртуках, какой-то старичок с беспокойной ласковостью взгляда, а дальше, в полутемной комнате, вповалку спали на скамьях портовые грузчики и матросы, окончательно отяжелевшие от можжевеловой водки.
Там пьяный негр яростно спорил и ругался с вербовщиком рабочих для кораблей дальнего плавания. Свинцовая кружка мерно ударяла по деревянной стойке, и каждый раз со дна выбрызгивались капли желтоватой жидкости на руки вербовщика. Негр плевался, харкал и ругался на всех известных ему языках. За столом шла игра. Ставки были мелкие. Маленький Паганини, подойдя к столу, поставил на карту свою пятифранковую монету – благословенные деньги, подаренные матерью.
Десятки глаз устремились на мальчика. Кто-то хотел что-то сказать, но запнулся. Игра шла. Кто-то спросил:
– Больше нет ставок?
К мальчику подошел старичок.
– Ну? – спросил Никколо грубо.
Сзади матрос схватил Паганини за шиворот. Мальчик огрызнулся, как собачонка, схваченная за ошейник, бессильно стремящаяся укусить схватившую ее руку.
– Что тебе нужно? Пусти! – кричал он.
– Вот я тебе сейчас покажу игру, – заговорил загорелый боцман. – У кого украл деньги?
– Свои, – ответил мальчик. – Мне надо купить одежду, без одежды я не могу вернуться к отцу.
И он показал рваную нижнюю рубашку, пожаловался на пестроту своей одежды.
– Смотри, дьяволенок, не пришлось бы тебе купить сегодня каменную одежду!
Но распорядитель игры, очевидно, иначе посмотрел на дело. Он только метнул взгляд в сторону мальчика и продолжал игру.
Поздно ночью, выходя из притона вместе с маленьким Паганини, боцман говорил:
– Тебе везет, маленькая обезьяна. Да уж если говорить прямо, то никогда и мне не везло, как сегодня. Ты родился под счастливой звездой. Но вот что я тебе скажу. Я видел, ты выиграл восемьдесят луидоров. Ты богат. У тебя столько денег, сколько у меня не было за год. Дай мне пять луидоров, я провожу тебя до дому, а то тебя зарежут в каком-нибудь переулке.
Действительно, по пятам шли двое. Боцман подтянул ремень, достал из-за пазухи тяжелый пистолет с чеканкой, изображавшей корабль, поправил пояс, на котором в ножнах висел тесак. Все это было сделано с таким внушительным видом, как будто боцман готовился отразить нападение дюжины бандитов. Но никто никого не пытался ограбить. Мальчик дошел благополучно до дому. Боцман благополучно получил пять луидоров.
Отец спал. Огромная разбитая фьяска лежала у кровати, лужа вина алела на полу. Башмаки старика плавали в вине.
Маленький Паганини всю ночь не сомкнул глаз. У него стучали зубы, бешено колотилось сердце. Старик не проснулся. Совсем под утро тихонько, чтобы не разбудить старика, мальчик, никем не замеченный, вышел из гостиницы со скрипкой под мышкой, неся в руках узелок, в котором было все его имущество: молитвенник, подарок матери, и бантик из лент – красной, зеленой и черной, который ему подарил как-то синьор Ньекко.
Впервые за все свое детство Никколо Паганини чувствовал себя легко и спокойно. Хотелось есть. Он не ел два дня. Мимо большой каменной ограды, за которой виднелась зелень и щебетали птицы, он прошел по всему побережью. Девушка звонко пела на берегу, одеваясь после купания. Медленно просыпался город. Приморская кофейная была первым местом, куда вошел скрипач-оборванец. Человек, стоявший у двери и протиравший окна, подозрительно посмотрел на маленького Паганини.
– Можешь ты заплатить? – спросил он, когда Паганини заказал себе не по возрасту обильный завтрак.
Забыв осторожность, Паганини встряхнул на ладони горсть пятифранковых монет и покосился на свои чулки, в которых были спрятаны остальные деньги. Потягивая густой горячий кофе и с жадностью уничтожая вареные яйца, мальчик вдруг вспомнил ночную игру. В конце концов чувство азарта побороло страх, внушенный притоном, голова кружилась, с какой-то сладкой тошнотой думалось о минутах неслыханного успеха, когда золото хлынуло потоком.
Внезапно его охватил животный страх перед ворами. Поспешно выйдя из кофейни, мальчик зашагал по спокойным утренним улицам. На площади он очутился как раз в тот момент, когда магазин с красивой вывеской «Венское платье» открылся и человек высокого роста принялся перетаскивать из экипажа узлы и пакеты.
Мальчик купил себе сразу два костюма. Он не узнал себя в щеголе, которого увидел в зеркале. Боязнь того, что он один ходит по магазинам в чужом и незнакомом городе, исчезла. Выйдя из магазина и стоя на углу, он, забыв, где он находится, вынул скрипку из чехла. Взял несколько аккордов, и звуки полились сами собой. Охватившие его чувства, все пережитое в этом году внезапно вылилось в урагане звуков, сбивающих все на своем пути, все покрывающих собой, рвущих нить, связывающую его с домом, с семьей. Он шатался, его бросало в жар и озноб, он играл, как одержимый, как безумный, и не понимал, где он и сколько времени он играет. Он не замечал собравшейся вокруг него толпы, не видел, как прохожий снял с него шляпу и положил ему под ноги, как в эту шляпу со всех сторон сыпались деньги. Он не чувствовал, что слезы застилают ему глаза, и только когда зашатался – опустил смычок. У него тряслись колени, плечи казались ему обремененными свинцовой тяжестью. Тут он увидел людей и услышал, как вся площадь ему рукоплескала. Извозчик, привставший на козлах, кричал и махал шляпой, приказчики в магазинах бросили свои прилавки, покупатели остановились у входа, его узнавали, о нем говорили.
Паганини с удивлением посмотрел на деньги, поднял шляпу, неуклюже набил карманы монетами и бумажками. Спрятал скрипку в чехол и пошел один, не зная, куда идти. Ноги едва повиновались ему. Постепенно таяла за ним толпа зевак и прохожих. Никто не осмеливался обратиться к нему с вопросом, видя изможденное лицо, заплаканные глаза, огромные мокрые ресницы. Мальчик все время думал, что он должен что-то сделать, и не мог ответить себе на вопрос, что именно сейчас нужно сделать. Наконец, догадался. Имея деньги, можно нанять извозчика. Когда сел в экипаж, он почувствовал, что бороться со сном стало не под силу. Держа под мышкой скрипку, он освободил правую руку и щипал себя за ухо. Доехали до почтового двора. Там он узнал, что через час отправляется поздний мальпост, и взял билет до Милана. Поздней ночью выехал из Ливорно, при звуках рожка по большой старинной дороге на север. Там когда-то проходили римские войска. На мостовой древние камни, истертые колесами римских повозок, чередовались с прокладками новой мостовой.
Старая жизнь кончилась. Первая игра в притоне оказалась куда интересней, чем игра на скрипке. «Впрочем, что я думаю, – соображал Паганини, засыпая, качая головой при каждом толчке мальпоста, – еще такая игра на площади, и я снова богат. Зачем мне возвращаться к отцу, который сосет мою кровь?»
Выехали из старинных Пизанских ворот по северной дороге.
«Хорошо сидеть в мальпосте в хорошую погоду, – пишут старые путешественники и добавляют: – Хорошо сидеть в мальпосте в декабрьский дождь, спрятавшись глубоко внутри кареты, если нет щелей в полу и в окнах, если есть крепкая смена одежды и хорошо наполненный желудок, если неподалеку из свертка торчит серебряная фляжка с крепким тягучим золотистым напитком». Но плохо оказалось путешествовать в мальпосте по северным итальянским дорогам одинокому мальчику.
Едва почтовая карета въехала в ворота мессаджера в Лукке, как два жандарма арестовали маленького Паганини.
Старик Антонио занял денег и, не поскупившись на расходы и обещания, поднял на ноги всю полицию Ливорно, а последняя гелиограммой предупредила о приезде мальчика в Лукку.
Двое суток просидел Паганини в префектуре. Его не переводили ни в тюрьму, ни в камеру, за решетки, он пользовался почти полной свободой. Ему запрещалось только выходить за пределы здания префектуры. Над ним посмеивались полицейские чиновники, его почти не опрашивали, предполагая, очевидно, что это сын богатого человека, что все решится само собой, не надо только торопиться и обострять положение. И так как полицейские чиновники не знали, как себя вести с мальчиком, который не является преступником, а, может быть, даже принадлежит к хорошей фамилии, то гостить в луккской префектуре Паганини было не так уж плохо Он выспался, был сыт.
Он несколько раз спрашивал, когда приезжает южный мальпост, и каждый раз забывал час, который ему называли. Наконец, когда он открыл двери и, обращаясь к стоящему внизу полицейскому, еще раз спросил о южном мальпосте, он услышал голос отца:
– Здесь уже, здесь.
Ни побоев, ни одного грубого слова за всю дорогу домой. Наоборот, отец проявил даже признаки несвойственной ему нежности. Мальчик украдкой смотрел на отца, когда тот засыпал в мальпосте; настороженность не покидала Никколо ни на минуту. Но, вопреки ожиданиям, старый Антонио держался ровно и спокойно, говорил мало, был задумчив. Чем дальше продвигались они на север, чем ближе они были к Левантийской Ривьере, тем быстрее работал мозг маленького Паганини. Никколо вдруг почувствовал, какое огромное значение в его детской жизни имел этот побег от отца. Он почувствовал себя отрезанным от семьи. Даже обостренная боль разлуки с матерью исчезла по мере приближения дилижанса к родному городу. Если бы Паганини был старше, он сумел бы формулировать свое отношение к отцу как ощущение удачливого педагога, ловко исправившего поведение своего воспитанника. Роли переменились. Паганини чувствовал, что отец находится у него в руках. И в то же время он боялся его.
По молчаливому уговору, отец и сын вернулись домой, как богатые и счастливые путешественники. О тяжелом происшествии они не вспоминали.
В Генуе царило веселье.
Кто-то привез слухи об успехах маленького Паганини. и маркиз ди Негро прислал письмо с приглашением выступить на вечере с знаменитейшей певицей Северной Италии Терезой Бертинотти. На этом же концерте Крейцер-старший играл на клавесине свои сочинения.
Паганини успешно выступил у ди Негро с тем спокойствием и уверенностью в себе, которые дало ему первое большое жизненное испытание.
Со своим новым положением Паганини быстро освоился. Несмотря на бранные клички, которыми награждали его сестры, на завистливые и почти ненавидящие взгляды, которые бросал на него брат, Паганини чувствовал себя центром семьи.
Старик Паганини напустил на себя удвоенную важность: чудо-ребенок, выращенный любящим отцом и самоотверженной матерью, которые все сделали для того, чтобы развернуть талант сына, – вот новая вариация, избранная старым Паганини.
Мать Никколо радовалась этой перемене, принимая все за чистую монету. Она боготворила сына за его благотворное влияние на отца.
Однажды господин Крейцер остановил свой экипаж около мрачных дверей дома в Пассо ди Гатта Мора. Богатый музыкант, артист с аристократическими манерами и внешностью французского маркиза, Крейцер зажал нос шелковым платком, когда шел по лестнице.
Господин Крейцер долго внушал синьору Антонио от имени маркиза ди Негро, что мальчика необходимо отправить в Парму, ибо в Парме живет единственный скрипач, который может завершить музыкальное образование маленького Паганини. Мальчик слышал это имя. Ди Негро и Крейцер уговаривали отца поехать к Алессандро Ролла.
Прошла неделя. Снова легкий запах горных цветов врывается в окна открытой кареты. Старик и мальчик со скрипкой едут в мальпосте по дороге на Парму.
Приехали в полдень.
Их проводят в комнату, несущую на себе отпечаток величавости и запущенности. Это – комната самозабвенного человека, заболевшего тяжелой и неизлечимой болезнью.
У окна, под горячими лучами полдня, на столе белеет большая нотная тетрадь. Свинцовым карандашом набросаны сорок восемь строк новой музыкальной пьесы.
Ролла болен. Старый Паганини упрашивает его жену показать Никколо великому Ролла «хоть на минутку».
Пока синьора Ролла в дальней комнате справляется у мужа, сможет ли он принять маленького скрипача, мальчик вынимает скрипку и уверенно с первых тактов начинает разыгрывать a vista новую пьесу Ролла. Это скрипичный концерт, еще нигде, никем, даже самим автором, не сыгранный. Не зная этого, Паганини играет, увлекшись первыми фразами концерта.
Вот пройдены первые двадцать семь строчек, вот наступает адажио, и в эту минуту распахивается дверь. и на пороге останавливается желтый, изможденный человек в голубом халате, распахнутом на груди. Седые волосы на голове и на груди, глубокие морщины, больные глаза. Не говоря ни слова, махнув длинным желтым пальцем, повелительным жестом приказав продолжать игру. Ролла подходит, еле волоча ноги, к креслу, садится, роняет голову на ладони, опершись локтями в колени, и с закрытыми глазами слушает собственный концерт.
Вот кончается кантилена. Быстрое, как искры, пиццикато, потом фермата, и мальчик кладет скрипку. Не отнимая рук от лица, Ролла откидывает голову на спинку кресла. Плечи старика вздрагивают, но слез не видно, и мальчик не понимает, что это – сдавленное рыдание старого композитора или приступ кашля, который тот хочет подавить усилием воли.
Скрипач смущен, он переводит глаза с отца на старого Ролла, от композитора к его жене. Вскинув в каком-то всплеске ладони, эта женщина стоит с выражением не то ужаса, не то восторга. Старый Паганини растерянно мнет шляпу в руках. Чтобы прервать это неловкое молчание, Никколо подходит к синьору Ролла:
– Маэстро!..
Но Ролла прерывает его:
– Я никогда не буду твоим учителем, мальчик. Как быстро шла жизнь, если дети теперь достигают того, к чему мы подходили, только истощив свои силы! Что сделалось с миром, как быстро улетает жизнь!
Старый скрипач внимательно, с ног до головы, оглядывает маленького Паганини. Выражение все большего и большего удовлетворения разливается по лицу старика, выровнялись морщины, улеглось волнение, и твердым голосом он говорит:
– Я стар, мне нечему тебя учить. Но есть в Парме человек, молодой и полный сил, он может быть тебе полезным. Ты выйдешь из дверей на Виале Ментана, там ворота из серого камня, войдешь в них, найдешь широкий внутренний двор с цветами и колоннадой, – там музыкальная школа. Ее директор – синьор Паер, к нему обратишься, и да благословит тебя бог.
Старик подобрал полы халата, быстро встал, плечи его вздрогнули, словно от озноба; не прощаясь, он ушел к себе.
Глава десятая. Карты, кости и скрипка
Полгода жизни в Парме пролетели, как один день. Паер сам руководил музыкальными занятиями маленького синьора Никколо Паганини. Теория музыки давалась легко.
Облик Паера ассоциировался у мальчика ее ртутью. Походка у синьора Паера была такая тяжелая, словно действительно в жилах его текла ртуть. Но эта тяжесть сочеталась со странной подвижностью его манер, с быстротой и блеском. И в то же время Паганини всегда чувствовал холодность этой крови. Ртуть похожа на расплавленный металл, но она холодна. Мальчика поражал этот странный человек, поражали холод и мертвящая тяжесть его зрачков, словно не видящих, с каким-то лиловым оттенком, глаз; этот фиолетовый тон и легкая лиловость, сиреневость одежды, галстука, перчаток – все это странно действовало на Паганини. Он сам удивлялся, что так часто видел его во сне. Синьор директор консерватории, важный господин Паер, всегда фигурировал в этих снах в качестве какого-то чудесного гения в лиловом хитоне; он махал рукой перед оркестром таких же, как он, лиловых людей – фиолетовых гениев, – и с каждого пальца сбрасывал не то серебряные капли, не то брызги ртути, которые, дробясь, со звоном падали на оконные стекла, и этот звон превращался в звон миллионов колокольчиков. Сыпалось разбитое стекло, звенело, превращаясь в кристаллики, искры, звездочки, градинки и снежинки, которые осыпали деревья. Вдруг становилось холодно, зима покрывала мир, как на высоких горах за Кремоной, там, где в июле месяце ребята бегают на коньках на горных озерах, а внизу пасутся стада, и золотой звон пастушеского рожка собирает овец и гонит их в узкие проходы между высокими ажурными оградами зеленых виноградников, залитых солнечным светом. Вот эти капли ртути попадают на деревья, мгновенно загораются тысячами белых огней по ночным аллеям парка. А потом ночь сменяется днем, и пармские фиалковые поля еще ярче горят от магического влияния лилового и фиалкового цветов на господине директоре консерватории города Пармы.
Проходили дни. Гарди и Нови, ученики пармской консерватории, были соперниками Паганини. Им не удалось одержать победу над ним ни по скрипичной игре, ни по классу теории, но в области композиции они оспаривали у Паганини подступы к сердцу учителя. Гарди и Нови ненавидели друг друга. Вначале каждый из этих консерваторских семинаристов стремился привлечь Паганини на свою сторону. Но Паганини не воспользовался этими предложениями дружбы с одним, для того чтобы вредить другому. Тогда оба врага объединились в общей ненависти к Паганини.
Нови был братом каноника старинной генуэзской церкви. Братья Нови писали друг другу сладкоречивые письма, исполненные взаимных уверений в преданности делам церкви. Старший передавал младшему сведения о семье и детских годах Паганини. Младший поручал старшему распространение сплетен о молодом скрипаче. И в то время, как Паганини, увлеченный работой, не щадя сил и здоровья, занимался по четырнадцати часов в сутки, в другом городе готовилось ему большое и суровое испытание.
Паганини жил в каморке у синьоры Августины. Каморка запиралась плохо. Паганини уже не удивлялся, когда, возвратясь из консерватории, замечал следы пребывания чужих людей в своей комнате. Перерыты все его веши, не исключая белья, распорота и неряшливо зашита подушка, в беспорядке сложены и связаны письма от матери и сестер. Зачастую Паганини, открывая дверь, видел, как, в довершение всего, обычная посетительница его комнаты, большая крыса, сидит на письменном столе и грызет оставленную кем-то корку хлеба. Паганини вздрагивал и останавливался. И каждый раз, презрительно глядя на музыканта, крыса медленно, не торопясь, шлепалась со стола и убегала под пол.
Правоверные католические газеты доносили о больших событиях. Но эти отголоски не колебали воздуха Пармы. В Парме тихо позванивали колокола, и толстые, заплывшие жиром аббаты гнусавили мессу. Молодые скрипачи по обязанности бывали в церкви. Совершеннолетний Гарди исповедовался и приобщался. После исповеди всякий раз он подолгу запирался с Нови для каких-то особых обсуждений. Они хвастливо заверяли товарищей по консерватории, что им поручено наблюдение за правильностью образа мыслей консерваторских студентов.
Паганини целыми часами бился над почти неразрешимыми скрипичными пассажами. Потом, измученный работой, которая все больше и больше связывалась для него с огромным физическим утомлением, он шел на другой конец города, где жил Гиретти, старый неаполитанский дирижер. Гиретти был учителем Паера. Именно ему синьор Паер поручил теоретические занятия с Паганини. Гиретти относился к ученикам с необычайной строгостью, и Паганини знал, что малейшая ошибка, малейшее ослабление внимания скажутся немедленно на отношении к нему синьора Гиоетти и синьора Паера. Гиретти был простым преподавателем консерватории, его ученик был директор. Синьор Паер был учеником Гиретти и его начальником. Но, как это часто случается в мире высокого и большого искусства, фактически положение было таково, что синьор Паер не выходил из подчинения у синьора Гиретти во всех вопросах музыкальной теории. В делах административных синьор Паер был полным господином. Синьор Гиретти просто отрицал существование каких бы то ни было административных задач и административных работ синьора Паера. Казалось, что для Гиретти не существовало вовсе практической жизни. В противоположность синьору Ньекко этот высокий, худой старик с красивым лицом в ореоле седых волос был как бы не связан с явлениями обыденной жизни. Внутреннее убранство комнат нисколько его не занимало. Беспорядок господствовал повсюду – и на полках, и на столе, и на диване, который служил синьору Гиретти одновременно и постелью. Связывала этих двух, совершенно не похожих друг на друга, дирижеров только преданность одинаково почитаемой обоими эмблеме. Паганини заметил среди вещей, разбросанных на письменном столе в комнате, куда Гиретти не впускал никого, кроме Никколо и синьора Паера, маленький черно-красно-зеленый бантик, такой же, какой однажды подарил Никколо синьор Ньекко. Это был значок лесных братьев. В полудетском сознании Никколо три цвета этого значка обозначали леса, в которых эти люди среди зелени раздувают красное пламя подземных костров и целыми курганами жгут черный уголь. Вот откуда сочетание красного, черного и зеленого. Политическое значение слов «фореста», «баракка» и «вента» Паганини почти забыл, вся эта система символов была под запретом.
Если теоретические занятия Паганини проходили под руководством Гиретти, то все очередные практические упражнения и работа по композиции велись под непосредственным руководством Паера. Другие преподаватели смотрели на маленького Паганини скорей как на младшего товарища. Паганини знал о том, как относятся к нему консерваторские педагоги. Это наполняло его мальчишеской гордостью. Но, к сожалению, это не сделало его более осторожным в отношении со студентами. Поглощенный работой, он продолжал держаться особняком. Возвращаясь от Гиретти, он, вместо того чтобы в свободный вечер веселиться с девушками Пармы, как это делали товарищи его по консерватории, снова запирался в комнате и снова играл. Он довел себя до такого истощения, что нередко скрипка падала у него из рук. Но он уже достиг той степени фанатического напряжения, когда не замечал, как тают силы, не ощущал ничего, кроме своего продвижения к поставленной им себе цели. Лишь страшные приступы кашля на целые часы выводилиего из строя. В такие промежутки Паганини оставлял скрипку и садился за стол. Мельчайшим почерком он исписывал листы графленой нотной бумаги. Это были задачи, заданные ему Паером. И к концу шести месяцев пребывания в Парме были готовы двадцать четыре фуги в четыре руки, написанные без инструмента. Паер играл их вместе с Паганини. Это был единственный ученик, которого допустили играть с директором консерватории. Невероятно трудная музыкальная форма, приданная маленьким композитором своим произведениям, исключала возможность исполнения его композиций кем-либо из шести учеников, допущенных к занятиям с синьором Паером.
По истечении четырех месяцев совместной работы с Паером Паганини получил приказание написать дуэт для скрипки и с головой ушел в разрешение этой задачи.
Пока вынашивалась эта сложная и трудная композиция, Паганини разыгрывал произведения других учеников. Он делал это с добрым чувством, а вызывало это тяжелые последствия. Его исполнение, помимо его воли, озлобляло соперников, так как он на лету, в процессе исполнения, исправлял смычком дефекты их произведений. Бездарную вещь он умел так изменить, что в его исполнении она не вызывала возмущения Паера. Но эта маленькая помощь соперникам вместо чувства признательности вызывала еще большую их ярость. Товарищи Паганини в присутствии Паера молчали, зная, что Паганини исправил их вещи, выручил их, но набрасывались на него, как только учитель уходил. Гарди гневно кричал Паганини, что тот произвольно переделал его произведение; двое других угрожали Паганини жестокими побоями за то, что он будто бы крадет целые фразы из их произведений и вставляет в свои фуги.
Паганини прекрасно знал, в чем дело. Играя пьесы своих товарищей, он облекал их в форму, в которой многое было продуктом его вдохновения. Естественно, что отдельные элементы повторялись в его собственных произведениях. И когда первая фуга была сыграна в консерваторском зале, шестеро студентов набросились на Паганини с криками: «Вор!»
Однажды вечером, когда Паганини вышел из своей комнаты отдохнуть и сидел около Пармского замка, внезапно его внимание привлек валяющийся на дорожке листок с нотами. Паганини поднял его. Это были ноты с французским текстом, с длинным витиеватым названием, с виньетками по углам, – военная песня рейнской армии, исполняемая на сценах разных театров, сочиненная инженерным офицером Руже де Лилем.
Паганини вернулся домой, зажег свечу, снова перечитал ноты. Потом, слушая, как в тишине наступающих сумерек прозвенел на отдаленной колокольне «ангелюс», он с последними звуками затихающего колокола провел смычком по струнам. Скрипка запела первые три такта «Марсельезы». В тоне колоколов, в замедленном темпе эта песнь звучала странно.
Широкий, спокойный поток церковного хорала сменился целым морем органных звуков, которые только одному Паганини удавалось воспроизвести на скрипке. Потом послышалось журчание, словно побежала по камням многоструйная речка. Сначала тихая, она становилась все более стремительной, все более мошной, и, наконец, ее шум слился с шумом рокочущего бурного прилива, многоголосого говора толпы, который приближается по отдельным улицам и выливается на площадь. Цоканье копыт, звон оружия – и только в этот момент Паганини выпустил «Марсельезу» на свободу, как птицу. Французская боевая песня, горячий призыв к борьбе захватили и самого скрипача настолько, что он не заметил, как собралась около дома толпа, не понимал, почему раздаются рукоплескания и крики, и только окончив игру, положив скрипку, он увидел в маленькое окошко, что улица полна народа.
Утром Паганини проснулся под ворохом одежды, которую он ночью, пытаясь согреться, набрасывал на себя. Его била лихорадка.
Десять дней Паганини провел в постели. Он не спускался со своего чердака. Старая привратница консерватории пришла навестить его, передала привет от синьора Паера и принесла записку:
«На тебя гневаются, ты не знаешь, безумец, как опасно смешивать церковные гимны с безбожными песнями французов. Я случайно узнал о твоей болезни. Нови явился ко мне с докладом и сообщил, что ангел явился к тебе и теперь ты лежишь с разбитой рукой, храня на себе печать божественного гнева. Я не верю этому вздору, но будь осторожен. Сожги эту записку, дорогой глупец. Барбара позаботится о том, чтобы ты скорей выздоравливал и чтобы тебя как следует кормили. Я лишен возможности навещать тебя. Приходи, я расскажу тебе о приглашении, которое я получил от венецианцев, так как не в Парме, а именно в Венеции принята к постановке написанная мною опера. Не забудь наглухо закрывать окна с вечера. Начались холодные ночи, и много людей болеют лихорадкой».
Письмо было без подписи. Старая служанка молча ждала, пока Паганини читал записку. Потом зажгла свечку и на ней предала уничтожению письмо Паера. Суровый взгляд старухи и выражение лица ее говорили, что она знает о молодом скрипаче гораздо больше, нежели он сам.
На следующий день Паганини отправился в консерваторию, чтобы сдать учителю дописанный дуэт. Выходя, он с досадой увидел, что дверь открыта: по-видимому, всю ночь после ухода служанки она оставалась незапертой.
Когда он сыграл первую строку, жгучая боль в левом глазу и виске едва не лишила его сознания. Лопнула басовая струна. Конец ее ударил скрипача в левое веко. Приобретенная выдержка не позволила в присутствии учителя обнаружить боль. Собрав все свое мужество, Паганини решил продолжать игру на трех струнах, руки дрожали, голова кружилась, тяжесть давила руки и плечи. «Опять лихорадка», – подумал Паганини, боясь глянуть в сторону Паера. Краска заливала ему щеки, казалось – песком засыпаны глаза. И вдруг учитель положил ему руку на плечо.
– Откуда ты взял эту ночную посудину? – грубо спросил Паер. – Ведь это не твоя скрипка, Паганини.
Действительно, эго была грубая деревенская скрипка, неизменный гость сельских свадебных пирушек и танцевальных вечеринок. И в довершение всего на внутренней стороне грифа были привязаны кусочки свинца. Паер зажег канделябр и принялся рассматривать ее всех сторон это грубое изделие плохого мастера. Подтащив Паганини за локоть, он молча, тонким пинцетом показал ему, что все струны надрезаны. Он бросил скрипку на стол. С жалобным звоном полопались оставшиеся струны. Паер большими шагами заходил по комнате.
Паганини стал смеяться, сначала тихо, потом смех этот перешел в хохот. Он упал на диван и, почти катаясь по дивану, смеялся. Угнетавшее его чувство неуверенности в себе, страх, что болезнь убила в нем скрипача, сменились страстным, непобедимым сознанием того, что нет на нем никакой вины перед великим искусством и что виновника сегодняшней неудачи нужно искать не в себе, а в других. От болезни не осталось и следа. Та робость, которая мгновенно охватила Паганини в присутствии Паера, вдруг исчезла.
– Ну, а где же твоя скрипка? – спросил Паер.
Паганини смолк.
– Я знаю, кто это сделал, – как бы про себя задумчиво сказал Паер.
Потом, машинально перевернув страницу нотной тетради, воскликнул:
– А! Дуэт готов, это хорошо.
Он достал из шкафа скрипку для Паганини, взял свой инструмент.
После того как дуэт был сыгран, с улыбкой большого удовлетворения Паер сдержанно сказал:
– Ни одной сшибки против требований чистого и строгого стиля Что же? Я считаю, что ты сдал экзамен. Теперь поговорим о нашем расставании.
Глава одиннадцатая. Крысы
Пармская полиция отказалась предпринимать какие бы то ни было поиски пропавшей скрипки.
После двух платных концертов, данных на скрипке, принадлежавшей Паеру, Паганини оплатил стоимость нового инструмента. Остаток денег он отослал отцу.
Странно складывалась его жизнь. В размышлениях о ней он провел немало часов, сидя у окна своей комнаты, из которого видна была вся юго-западная часть города.
Однажды его размышления были прерваны появлением в переулке двух странных людей. Вот они стоят под окнами чердака, на углу, против входа в большое здание. Они умолкают, когда мимо них проходит кто-то, и возобновляют разговор, опасливо глядя проходящему вслед. Потом один быстрыми шагами уходит в переулок. Паганини смотрит на них с чердака, и, хотя его каморка возвышается над тремя этажами старого пармского дома, он слышит весь разговор от слова до слова.
Так было всегда. Часто в ночном безмолвии Паганини ловил едва долетающие звуки: то отдаленный звон из селений к северу от Пармы, льющийся между холмами по долине, то скрип одноколок и крики погонщиков за городским валом на старинной римской дороге, то голоса пешеходов, проходящих по площади за два квартала от дома, то крики и плач больных детей, доносящиеся из подвальных помещений соседних переулков, и даже легкую перебранку хозяек у вечернего колодца за дальним переулком у городской стены. Эта необыкновенная изощренность слуха казалась Паганини естественной.
Человек, оставшийся в переулке, быстрыми шагами направился к лестнице. Прошло несколько секунд, раздались шаги по лестнице и стук в дверь. Вошел учитель.
– Вот, – сказал Паер. – Я пришел с тобой проститься. Пришел проститься только с одним учеником.
Паганини подвинул ему стул. Взволнованный и расстроенный, он смотрел на синьора Паера. На лице его учителя тревога и грусть сменились улыбкой.
– Я хочу предупредить тебя, – заговорил Паер, не садясь, – не ходи в консерваторию, уезжай как можно скорей из Пармы. Я жалею, что мне приходится бросать город, в котором я провел столько лет, но венецианцы упорны, условия, которые они предлагают, лучше, чем условия других городов.
Паер словно запнулся, он провел рукой по волосам, посмотрел на Паганини и спросил;
– Ну, ты огорчен? Ты как будто смущен чем-то?
Взяв Паганини за плечи, он повернул его лицом к окну. Паганини отвел глаза, на желтых щеках его появились красные пятна. Потом Паганини посмотрел Паеру прямо в глаза и сказал:
– Я очень виноват перед вами, я уже слышал все, что вы говорили с вашим спутником. Я знаю, что вы – карбонарий, и я знаю имя этого человека – Уго Фосколо.
Паер вздрогнул и отскочил.
– Вот за что я не люблю тебя, – сказал Паер быстро и отвернулся.
– Но я не разделяю вашей нелюбви, – ответил Паганини. – Разве я виноват, что меня не любят? Я ко всем отношусь, как к друзьям, и не виню никого за недостатки, в то время как меня бранят за мои достоинства.
– Что же ты слышал из нашего разговора? – спросил Паер.
– Очевидно, расставаясь, вы спрашивали синьора Фосколо о венецианской жизни. Синьор Фосколо рассказывал вам о постановке своей трагедии «Тиесте». Он говорил о своей ссоре с Бонапартом, говорил о том, что он никогда не увидит родной Венеции после гибели цизальпинской республики. А вы, вы говорили ему, что постараетесь связать его с Венецией снова, вы говорили, что будете жить в Венеции на острове Мурано, будете ставить там свою оперу, между вами и Фосколо будет посредник – поэт Буратти. Учитель, учитель, зачем вы говорите так громко на улицах! Если это все…
Паганини остановился. Негодование и смех душили Паера.
– Черт побери тебя с твоим слухом! Можно было бы подумать, что ты стоял за углом. Но я не сомневаюсь в честности твоего сердца. Ну, прощай, у меня нет лишней минуты. Постарайся сегодня же выехать из Пармы, в Генуе тебе будет безопасней. Не вмешивайся в политику, если играешь на скрипке…
Паер ушел. Ночью он выехал по дороге, на Гвасталлу, Мантую, Леньяно и Падую. Приехав в Венецию, он через неделю забыл своего ученика. Паер остался верным себе. Холодность, которую отметил Паганини в характере своего учителя, позволяла ему, – после того как внушенное ему чувством долга по отношению к человеку было исполнено до конца, – полностью забыть об этом человеке.
В течение последних трех дней перед отъездом в Венецию Паер разослал по городам и музыкальным центрам Италии серьезные рекомендации, где восторженно и в то же время строго сообщал о появлении Паганини как чуда в истории музыкального мастерства. Паер холодно и спокойно заявлял, что в мире музыкальных чудес Паганини открывает собой новую страницу и что жизнь и история человечества не знали таланта подобного объема и мощи.
Но втихомолку уже работали другие силы. Клевета, как подземные ручьи, по темным каналам струилась во все концы и прежде всего в родной город Паганини, куда возвращался молодой музыкант. Паганини еще не знал об этом, а Паер уже забыл. Переселившись в Венецию, он начисто выбросил из головы и из сердца мысли и воспоминания о своем ученике.
…Усталый от горной дороги, сидел Паганини за столом в маленькой комнате. Ничего неприятного сказано при встрече не было, но Паганини чувствовал себя так, словно он попал в чужую семью. Весь первый день с затаенным вниманием приглядывались родные к Никколо, словно ожидая какого-то взрыва. Но никакого взрыва не произошло.
Полная тишина и усталость были в душе молодого скрипача. Три дня он не брал в руки скрипки. Как фланер, обходил побережье. Он ступал по сырым камням ветхого мола; взяв лодку, переправлялся на Моло Дука и слушал там пение морских залов. Целыми часами он сидел на камне или стоял, скрестив руки, и смотрел, как ветер вырывает из синих валов белый пух и перья пены.
Ночами забвение не приходило. Он не разговаривал ни с кем из семьи. Незначащие вопросы, односложные ответы, скучные дни.
И только однажды вечером, вернувшись позже обыкновенного, он встретил такой грустный взгляд заплаканных глаз, увидел на лице матери выражение такой тоски, что это его испугало. Он спросил ее о причине ее слез.
Мать молча покачала головой и хотела уйти. Он осторожно взял ее за руку. Она присела и указала ему место рядом с собой.
– Зачем ты погубил себя? Неужели ты думаешь, что нам неизвестно, какой образ жизни ты вел в Парме? Отец знает, кто был развратителем, кто отнял тебя у семьи, у бога, у святой церкви…
Никколо хотел перебить ее, но мать махнула рукой и продолжала:
– Твои друзья, которые любят тебя больше жизни, писали нам о тебе письма, полные горя. Я едва не умерла от этих писем. Тебе писал отец, я тебе писала, умоляла тебя, но ты был настолько жесток, что не ответил ни на одно наше письмо. Ты сразу приехал в родной дом как человек, имеющий право попирать порог семьи, и, приехав, ты не только не раскаялся, но даже не попросил прощения за пренебрежение своими обязанностями.
Никколо вскочил.
– Так вот чем объясняется ваш странный прием! – крикнул он.
В соседней комнате раздался шум. Отец проснулся и, шаркая туфлями, появился на пороге. Он щурился от света канделябра, дрожавшего в его руке. Хмурая улыбка изуродовала и без того некрасивое лицо. Старческие губы жевали.
– Стоит ли говорить с негодяем? – обратился он к жене. – В этом черством сердце мы не найдем ни одного светлого и чистого чувства. Предоставим этой собаке издыхать в одиночестве.
Старик тяжело дышал. Никколо молчал, не мог выйти из какого-то остолбенения. Отец, приняв молчание сына за вызов, закричал с негодованием:
– Мы знаем все: знаем и то, с каким позором ты растратил здоровье в кутежах, провалился на экзаменах, как у тебя лопались струны и скрипка выпадала из рук. Помни, что все это – воздаяние господне за пренебрежение его заповедями. Мы со смирением приняли эту тяжкую кару, но не добивай свою мать упорством, нераскаявшийся негодяй! Покинь нашу семью, а если не хочешь, то согласись снова взять себя в руки, и отправимся в путешествие по Ломбардии.
Никколо отрицательно покачал головой.
– Покуда вы не скажете мне, кто клеветник, кто посеял эти чудовищные сплетни, кто очернил меня в ваших глазах, до тех пор я сам буду отвечать молчанием на все ваши обвинения. Я еще выясню, кто лжет! Вы говорите, что не получали моих писем, но ведь и я не получил ни одного вашего письма!
Он припоминал все то, что было за месяц перед этим. Он всегда отдавал письма консерваторскому привратнику; письма, которые он получал, тоже шли по адресу консерватории. Но даже при всей чудовищности отношения австрийской жандармерии к переписке итальянских граждан не было случаев, чтобы пропадали все письма, посылаемые в обе стороны. Очевидно, помимо полицейского сыска и перлюстрации, был какой-то добровольный охотник за письмами.
Паганини стал на колени перед матерью и, целуя ее руки проговорил:
– Скажите, матушка, кто этот человек, кто писал вам обо мне! Клянусь вам жизнью, что я не получил ни одного вашего письма. Я писал вам очень аккуратно каждое воскресенье. Все остальные дни недели я проводил в большой работе, я затратил много сил, но я надеюсь вернуть эти силы и обеспечить вашу старость.
Синьор Антонио закашлялся, потом, отхаркиваясь, сплюнул на пол, пренебрежительно растер туфлей и, хлопнув дверью, скрылся в соседней комнате. Тогда синьора Тереза принесла связку писем и положила на стол перед сыном. Паганини стал читать. Почерк был ему совершенно незнаком. Письма были написаны на розовой бумаге, они начинались с изъявлений любви к нему, Никколо Паганини. Они начинались с выражений безудержного восторга перед ним, как перед гением музыки, скрипачом, которого не видел свет. Они все начинались заверениями в глубочайшей и почтительнейшей любви, которые постепенно сменялись плачем и грустными сожалениями о том, что этот замечательный скрипач погибает в грязной луже разврата, что он проводит ночи в притонах, играя в азартные игры и напиваясь пьяным, с веселыми девушками и парнями. Что он, отпав от святой матери церкви, не посещает мессы и что, хотя наступило уже время, он ни разу не был на исповеди и ни разу уста его не приняли святой облатки. В этом теле, не посещаемом огнем святого причастия, огонь демонской похоти и мерзостных желаний сжигает не только великую, божественную одаренность музыкальным талантом, но и остатки простых, естественных, человеческих чувств.
Неизвестный друг писал:
«Мой лучший друг, любимый мною человек, Никколо запирается на целые сутки, связавшись с компанией злодеев и карбонариев, имеющих явное намерение отравить колодец светлой истины, действующих заодно с нечистыми франкмасонами и якобинцами, пришедшими с Севера».
Письма все как одно заканчивались мольбами о божьем милосердии: оно должно снизойти на голову страшного грешника. И вот, наконец, последнее письмо. Оно ярко живописует печальную картину окончательного падения Никколо Паганини. Растратив себя в разврате, этот скрипач не может держать скрипку в руках. Его руки дрожат, дрожит смычок, и, силясь передать смычком нездоровое напряжение своих душевных сил, этот несчастный скрипач перепиливает смычком струну за струной.
«Дражайшая и благочестивая синьора, горькими слезами плакала вся консерватория; даже синьор Паер, наш уважаемый директор, не мог не прослезиться при виде того, как варварским движением смычка ваш сын стремится извлечь глухие и сиплые звуки из запущенной, залитой вином, отсыревшей в подвалах и погребах скрипки. Синьор директор, уезжая в город Венецию, единственное место, куда не проник пока нечестивый бонапартистский атеизм, заявил на прощальном консерваторском ужине педагогам, семинаристам и студентам, что он, возлагавший большие надежды на господина Никколо Паганини, теперь окончательно в нем разочаровался и должен предать его своему учительскому проклятию».
Паганини не мог опомниться. Он перелистывал, перечитывал письма, вглядывался в отдельные строчки. Он вспоминал, как, играя по двенадцати часов подряд, он намыливал смычок, чтобы, водя по струнам своей, обреченной на эту черную работу, второй скрипки, не извлекая никаких звуков, преодолевать трудности, казавшиеся непреодолимыми. Этот намыленный смычок давал ему напряжение, которого требовали упражнения, заданные ему Паером. От этой игры у него затекали ноги, деревенели локти и плечи.
Он хотел рассказать это отцу, открыл дверь, но встретил окрик:
– Молчи, ничто не может тебя оправдать! Где деньги, которые ты заработал на своих пятидесяти концертах? Где успехи, которыми ты должен был похвалиться после полугодового проедания отцовского хлеба в Парме? Разве я думал, производя тебя на свет, что в моей семье, благочестивой, испытанной и верной, родится безбожник, развратник, карбонарий, ниспровергатель законной власти, установленной господом богом и наместником Христа в Риме! Ты бесчестный, презренный негодяй, тебе судьба послала такого друга, который, заботясь о тебе, оберегал твою подлую душу каждую минуту… и все оказалось напрасным! Даже имея такого друга и попечителя, ты остался грязным животным!
Старик захлопнул дверь Никколо едва успел откинуть голову назад. И все-таки он снова стал объяснять матери и условия своей жизни в Парме, и напряженность своей работы в консерватории. Но каждый раз, как только он заговаривал о том, что человек, написавший чти письма, клеветник и негодяй, который намеренно прикрывается дружелюбным тоном, чтобы вкрасться к ней в доверие, она качала головой и говорила:
– Я вполне понимаю твою досаду. Всякий человек, который говорит о тебе правду, кажется тебе негодяем.
Они проговорили всю ночь. Настало утро. Никколо в возбуждении ходил по комнате. Синьора Тереза не отрываясь смотрела на него, словно стремясь перелить всю силу, весь огонь материнской любви и нежности в недостойного сына.
Тяжелый храп за дверью прервался. Синьор Антонио проснулся. Мать мгновенно погасила свечу и открыла шторы Ясное, хорошее генуэзское утро смотрело в окна.
В дверь постучали.
– Здесь живет скрипач Никколо Паганини?
– Я, синьор.
– Однако вы недаром сидели под крылышком у такого орла, как синьор Паер!
В комнату вошел незнакомый Никколо старик. Внезапно выглянула бритая физиономия синьора Антонио.
– Садитесь, синьор, садитесь, – угодливо пригласил он и снова скрылся за дверью.
Пришелец оказался антрепренером большого генуэзского театра. Он пришел с предложением выступить на вечере в доме синьора Браски, а потом дать в Генуе большой скрипичный концерт. Когда синьор Антонио, приодевшись, вышел к гостю, Никколо намеренно громко произнес:
– Так, значит, синьор Фернандо Паер писал вам обо мне?
– Еще бы! – ответил импрессарио. – Он писал два раза. Он считает вас лучшим своим учеником.
– Как, как? – переспрашивал синьор Антонио.
Никколо торжествовал.
Глава двенадцатая. Львиная лапа перевернула страницу
Первые прокламации Бонапарта в Италии устанавливали равенство сословий, братство трудящихся всего мира, объединение людей, говорящих на одном и том же языке, свободу от австрийского гнета, свободу от жандармского и помещичьего произвола. Итальянская молодежь трепетным восторгом ответила на эти слова, и под штандарты наполеоновских легионов шли десятки тысяч молодых итальянских граждан.
Год за годом уносила из Италии молодые жизни воля Бонапарта, и не сразу эта воля стала понятна тем, кто отдавал ей эти жизни.
Вначале появились французские пушки, потом офицеры и солдаты, потом купцы с обозами товаров, потом аудиторы государственного совета, комиссар и интендант, налагавшие неслыханные контрибуции и обворовывавшие дворцы искусств. Во Францию увозили драгоценнейшие картины, рукописи и книги, обогатившие Париж.
Это еще можно было стерпеть, но невозможно было примириться с тем, что, сперва разорив Италию, ее предавали потом в руки прежних поработителей.
К числу тех, кто больше всего был возмущен Бонапартом, принадлежали представители итальянского карбонаризма. В ломбардо-венецианской организации первенствующую роль играл Уго Фосколо. Это был огромный рыжеволосый человек с львиной головой, автор звучных и прекрасных итальянских стихов. Венецианец, офицер бонапартовской армии, страстный почитатель французской революции, он кинулся очертя голову за французским полководцем. Вместе с Бонапартом он пошел на родной город, всей душой сочувствуя стремлениям Наполеона «разбудить старинную доблесть венецианцев». Но, увидя Венецию преданной и проданной, он возненавидел своего кумира.
На площади, около высокой колокольни, с которой видно чуть ли не оба берега Адриатического моря, высится розовая колонна, и на ней причудливый скульптор поставил на плоском помосте символ покровителя Венецианской республики, евангелиста Марка. На этой высокой колонне крылатый лев мохнатой лапой с когтями придерживает страницу бронзовой книги.
Бонапарт в Модене 18 апреля 1797 года заявил:
«Дряхлый лев святого Марка не может ожидать пощады от моих революционных солдат. Пусть я буду Аттилой для Венеции, но я всюду уничтожу гнусность инквизиции. Я не хочу ваших сенаторских тайн, и если я дал свободу друзьям народа, то сумею разбить те цепи, которые венецианский сенат сковал для своего народа и сейчас тайно выковывает в союзе с другими правительствами для народа Франции».
12 мая Большой совет Венеции собрался в последний раз, чтобы обсудить предложение о сдаче столицы. На берегу вдалеке разъезжали французские кавалеристы. Маленький генерал с бронзовым лицом и длинными волосами, в треуголке, готовился форсировать переправу. Сенаторы воздержались от голосования, разошлись молча. Дож старинной Венеции вернулся домой, вошел в свои покои, снял шапочку дожа и, вручая ее своему лакею, сказал: «Убери, она мне больше не понадобится».
Четыре дня спустя французы вошли в Венецию. Разбивая старые плиты на островах и на самой площади, венецианские кузнецы, портные, парикмахеры и рыбаки сажали тонкие деревца миндаля и лимона. Это были деревья свободы. Перед одним из таких деревьев сожгли золотую книгу венецианской знати и шапочку дожа, а на бронзовой книге, на которую опиралась лапа льва святого Марка, на месте надписи: «Мир тебе, Марк, мой благовестник», отчеканили новые слова, начинавшие собой «Декларацию прав человека и гражданина». Прекрасный, полнозвучный первый параграф «Декларации прав» высказывал лучшие чаяния многих столетий, от него веяло воздухом фернейских гор и садами Монморанси и Эрменонвиля. Мудрость Вольтера и Руссо создала эту замечательную первую страницу новой истории Франции.
Опьяненный мечтами о человеческом счастье и свободе Венецианской республики, карбонарий Уго Фосколо воскликнул: «Наконец, лев перевернул страницу бронзовой книги!»
Прошло немного времени, и Фосколо понял огромную ложь Бонапарта. Страница оказалась перевернутой не вперед, а назад. 18 января 1798 года Наполеон продал венецианскую свободу австрийцам. Белые мундиры австрийцев появились на площади святого Марка. Канаты подтянули литейщиков и слесарей на колонну святого Марка, и снова старая церковная надпись водворилась на бронзовой книге, под лапами евангельского крылатого льва.
Фосколо бежал в Парму. Вскоре в печати появились его орационы, дерзкое собрание прокламаций и речей против Бонапарта. Фосколо поднял против него всю карбонарскую Италию.
Фердинанд Паер, приехавший в Венецию, так и не смог выехать оттуда в течение всех этих бурных месяцев. А его друг Уго Фосколо начал скитальческую жизнь и все свои дни посвятил борьбе с Бонапартом.
* * *
Встречая утреннюю зарю звуками скрипки, Никколо только поздно вечером клал смычок.
Отец с настойчивой грубостью требовал денег. С той же просьбой обращалась мать, когда муж Лукреции проигрывал в карты слишком много.
Чтобы откупиться, Паганини с вечера отдавал все деньги, какие у него были, отцу и матери. Утром он запирался в комнате, которую вытребовал для себя, и не впускал никого. Но чем больше он получал денег от концертов, тем быстрее таяли эти деньги в руках семьи.
Первое время он воздерживался и не ссорился ни с кем из домашних; не потому, что нрав его был кротким и спокойным, а потому, что никогда прежде он не испытывал такого увлечения работой, никогда не был так поглощен страстным исканием новых путей скрипичной техники. То, о чем раньше он только догадывался, то, что раньше ощупью намечал как возможное, теперь он брал как достижимое, с жадностью и порывистостью, незнакомыми ему до сих пор. Он приблизился к тому состоянию упоительной дерзости поисков, той внутренней дрожи, которая всегда предвещает для ученого, для художника, для артиста момент зарождения нового открытия. В дни, когда новое столетие стучалось властно в двери старинной Европы, Паганини ощущал на себе освежающее веяние бурных ветров и весь отдавался поискам нового музыкального мира.
Он чувствовал, что ему может открыться мир неслыханный и невиданный. Он с жадностью рылся в книжных магазинах, он перечитывал горы старых и новых книг. Он тщательно изучал скрипичное мастерство и законы звука. Вместе с тем он почти судорожно схватывал суть старинной итальянской музыки, она перед ним оживляла элегические пьесы Корелли, эпику Вивальди, сладкую лирику Пуньяни и Виотти и, наконец, чарующую фантастическую музыку авантюриста и монаха, скитальца и безумца Тартини. Все это оживало под его смычком, приобретало новый смысл и значение, словно доказывало, что неумирающее большое искусство для каждого поколения несет новые, только этого поколения достойные откровения.
Когда однажды, слишком туго натянув струну, Паганини оборвал ее, он в рассеянной поспешности натянул альтовые и виолончельные струны. Заметив ошибку, он вместо того чтобы ее исправить, вдруг улыбнулся той таинственной и загадочной улыбкой, которая бывает у безумцев, у алхимиков, у ученых, открывающих после долгих поисков новое сочетание свойств в старых, давно известных веществах. Паганини решил испытать новые струны, и скрипка заиграла неизмеримо разнообразней и богаче.
С этого дня испытания скрипки продолжались без конца.
И, однако, пришлось такие усиленные занятия внезапно приостановить.
Отец и мать стали жить слишком широко в надежде на заработки сына.
Готовить большие концерты! Не к этому стремился Паганини. Оплачивать проигрыши шурина и биржевые спекуляции отца деньгами, получаемыми за выступления, вдруг показалось молодому скрипачу до того унизительным и опасным, что он стал выискивать повод к разрыву. Повод нашелся.
Прошли слухи, что город Лукка готовился к праздничной встрече нового столетия. Празднества начнутся в день святого Мартина и продлятся до 1 января.
Вот прекрасный предлог! С этого дня начались разговоры о Лукке в семье Паганини. Как бы нечаянно друзья сообщали, что в Лукку съедутся музыканты всего мира, что будет ярмарка, откроются громадные торги и что в это время Никколо может много заработать концертами именно в Лукке.
Ввиду того, что Никколо настойчиво твердил только о своей поездке, отец боязливо прислушивался к этим разговорам.
– Вы будете мною довольны, – говорил сын отцу.
Отец вставал из-за стола, ронял тарелки на пол и бокалы с вином.
Но сын был упорен, и для старика каждый следующий день не приносил ничего нового. Ноябрь месяц быстро приближался. День святого Мартина стал сниться Никколо. Скрипач решил пойти на сделку со старшим братом. План удался блестяще. При условии передачи всех денег старшему брату, который должен был выступать в качестве импрессарио, отец согласился отпустить Никколо в город Лукку на праздник нового века.
Глава тринадцатая. Carmen Saeculare
Белесоватая каменная дорога была сплошь покрыта экипажами и пешеходами. Ломбардские паломники, праздношатающиеся туристы, любители развлечений и многочисленные представители разных ярмарочных профессий, законных и незаконных, кто пешком, кто на осле, кто в многоместном экипаже, направлялись по пути в Лукку.
Если для одних это была ярмарка в день святого Мартина, а для других – празднование наступления нового века, то для Паганини к этим двум праздникам присоединялся праздник собственной свободы, праздник полного освобождения от ига отца. Голова кружилась, билось сердце, и если ничего не было сказано отцу, то самому себе была дана клятва во что бы то ни стало не возвращаться домой никогда. Побег был решен, окончательный разрыв с семьей внутренне осознан.
С одной стороны, тут были минуты тревоги неокрепшего отроческого сознания юного человека, горящего любопытством к жизни, с другой – было стремление большого, вполне созревшего артиста к освобождению от той коммерческой сделки с искусством, на которую влекла его своекорыстная воля отца. Все сильней и сильней чувствовал Паганини невозможность под родным кровом расширять свой музыкальный кругозор. И если прежде маленький Паганини страдал от побоев, от непосильной работы, то теперь это сменилось еще более острым страданием, так как оскорбляли его отношение к музыке, его чувство артиста.
Ему давно не хватало воздуха, и не будь этого путешествия в Лукку, он бежал бы юнгой на корабле, он сделался бы поваренком в английском ресторане, он на что угодно променял бы семейные будни. В минуты конфликта с самим собой, с отцом, в минуты колебаний в выборе жизненного пути Паганини чаще всего бросал скрипку и занимался гитарой. В игре на этом инструменте он достиг высокого мастерства. Это было новое чудо виртуозной техники. Но если в скрипке он облагораживал технику и заставлял ее служить себе так, чтобы она давала возможность раскрыть всю полноту переживаний большого артиста, то гитара выполняла иное назначение: здесь он выливал новое для себя озлобление. Поэтому какой-нибудь банальный танец, сыгранный на гитаре, превращался в сатирическую пародию, намеренно вульгаризованную пальцами Паганини.
И чем меньше люди понимали пародийный стиль молодого гитариста, тем больше злорадствовал Паганини. Гитара все чаще и чаще становилась для него средством издевательства над своим душевным состоянием, из которого он не находил выхода, – издевательства над людьми, которым он мстил за охватывавшее его временами недоверие к своему духовному подвигу.
Скрипка и маленький дорожный мешок. Ветер, солнце и пыль. Что может быть лучше ощущения полной свободы, когда вся жизнь впереди!
Праздники итальянских городов – едва ли не самое очаровательное зрелище в мире. Все население принимает в них участие. По воскресеньям итальянские улицы объединяются в общем веселье. Устраиваются процессии, толпы идут с оркестром, нечаянно и внезапно образовавшимся из группы соседей, владеющих разными инструментами. Идут мужчины, женщины, дети, украшенные лентами и цветами, иные – с благопристойным пением, иные – с хлопушками, с фейерверками. Крики звучат тем громче, чем южнее город. В Неаполе сотни хлопушек надевают на огромную металлическую раму, и усталый путник, приехавший в этот день и заснувший в гостинице, бывает разбужен громом и стрельбой и вскакивает, с недоумением открывая жалюзи, думая, что в городе восстание и канонада свергает представителей старой власти. В Венеции – серенады, на каналах лодки с цветными фонариками, певцы и певицы, танцы на берегу и прогулки в море. Все это всегда сопровождается непременной спутницей итальянской радости – музыкой.
Директор луккской капеллы был предупрежден письмом Паера, и Лукка приняла Паганини хорошо. Первое выступление было приурочено к ночной праздничной процессии, вечером второго дня он снова давал концерт. Это был полный успех молодого скрипача. После концерта был устроен вечер в магистрате, и столько было выпито вина с неожиданными и незнакомыми друзьями, что Паганини не помнил, как попал в гостиницу. Это была не та гостиница, где он остановился, но такая мелочь не смутила музыканта: все равно.
Вечером – новый концерт. Первый раз Паганини не готовился к концерту. Он вышел на эстраду с непонятным чувством победной уверенности, и это чувство было похоже на огонь, пробегающий по жилам новобранца, вдруг, после первых колебаний, бросившегося в атаку.
Под обстрелом сотен глаз Паганини поднял смычок. Мелодии ушедшего столетия, мелодии Люлли и Рамо, чарующие такты менуэтов и гавота сменялись звуками охотничьего рога. Торжественное звучание церковных колоколов, похоронные песни и голоса гневных псалмов постепенно уступали место вторгающимся нечаянно стеклянным перезвонам колокольчиков. Раздавалась музыка того странного десятилетия, когда в церковные хоралы вливались звуки веселых и непристойных танцев. Колокольный звон благословения переходил в набат, набат сменялся простыми солдатскими и крестьянскими песнями Франции. Опять «Dies irae» [ «День гнева» (лат.) – церковное песнопение], и, как из пропасти, раздаются глухие удары, топот конницы и вой бури врезаются в зал, наполненный праздничной, нарядной толпой. Все ускоряя всплески аккордов, Паганини рисует звуками, музыкальным вихрем колоссальную картину событий, потрясающих Европу. В финальных тактах раздаются звуки итальянской «Карманьолы» и «Марсельезы». Это была поступь нового столетия. Это была «Юбилейная песня».
Когда прошла неделя святого Мартина, миновали праздники, были выметены затоптанные букеты, конфетти, серпантин и обрывки лент, за опьянением первой недели свободы наступило отрезвление. Возникло стремление осмыслить пройденный путь. Но это стремление не увенчалось успехом. Строй, лад, ритм в музыке и в жизни – все казалось подчиненным какому-то целесообразному большому закону, управляющему всеми явлениями в мире. Паганини подходил к этому наивно, с бережливостью неофита и застенчивостью неопытного мыслителя. Он совершенно отчетливо ощущал, почти осязал значение самого себя как существа, воплощающего музыку. Паганини чувствовал себя современником нового века.
Он воспринимал всю церковную музыку как нечто враждебное тем звукам, форма которых звучала для него в «Карманьоле» и «Марсельезе». Огонь новой эпохи; пожары восстаний, их уничтожающее пламя, вихрем набегавшее на образы старого мира, – все это враждовало со спокойными церковными напевами, с гимнами католической церкви, с тем музыкальным предписанием смирения и покорности, которое было похоже на укрощение человеческого зверинца мелодиями Орфея.
Паганини любил сыпать в стакан горячей воды полные ложки соли. Он смотрел затем, как маленький сухой кристаллик, брошенный в этот перенасыщенный раствор, мгновенно вызывает бурную кристаллизацию в тяжелой, не имевшей самостоятельной формы, массе.
Паганини усматривал в этом процессе, преобразующем мертвое вещество, те же самые явления, какие он наблюдал в концертном зале, когда раздробленные, бесформенные части человеческого сознания и воли вдруг кристаллизуются и приобретают необыкновенную стройность под влиянием музыки. Он улавливал раздражение, являющееся результатом дерзкого сочетания необычайных аккордов и звуков, когда человек старается освободиться от внезапно налетающих чувств и не может, потому что дерзновенное сочетание звуков и чувств облечено в такую гармоническую форму, которая неотступно преследует человеческое сознание. И тот, кто услышал это сочетание звуков, оказывается им порабощенным, хотя знает о запретности этого сочетания.
Засыпая после концертов, Паганини просыпался внезапно как бы в бреду или в лихорадке. Ему казалось, что музыка должна перестроить весь мир вещей и строй человеческих отношений. Но какая это должна быть музыка? В поисках этой музыки он чувствовал себя все более и более утомленным, а впечатления Лукки усиливали это утомление.
Паганини устремился к другой игре. Зеленые столы, куски мела, таблички из слоновой кости, свинцовый карандаш, лопаточка крупье и горсти червонцев – все это заставило бросить скрипку надолго. Все это изменило дни и ночи, часы и минуты, мысли и чувства Паганини.
Под утро, с распухшими веками, с пожелтевшим лицом, с большими синими кругами под глазами, юноша выходил из игорного дома. Усталый, заспанный лакей подавал ему шляпу и трость. Сырой туман встречал его на пустынных улицах Лукки. Торговец овощами презрительно глядел в его сторону, девушки ночной профессии окликали его насмешливыми голосами и предлагали пройти с ними целую школу удовольствий. Паганини был утомлен и проигрышем и усиленным прохождением курса этой школы. У него появилось то отвращение к жизни, которое раньше было незнакомо мальчику, изнуренному только тяжелой работой, только той растратой сил, в которой он сам не был виновен.
Как это все случилось, Паганини не помнил. Он поклялся, что никогда этого не забудет и никогда это не повторится. Он лежал в ливорнском госпитале. Давно ли он был в Ливорно? Как он попал в Ливорно?
Его окружают люди. в больничных халатах, доктор в красной шапочке, с молоточком и со стетоскопом в руках. Паганини слышит: «…был бред».
«Быть может, все это – только страшный сон, – думает он. – Лучше никому не говорить об этом».
Что он вспомнил? Крик женщины и зарезанного ребенка!.. Идиотическую болтовню пьяных людей у костра. Темный овраг, огромные деревья где-то очень высоко. Он словно на дне колодца. Люди за кустами у костра. Страшные лица, гримасы пьяного хохота. И вот человек с огромной бородой, с синим носом, с воспаленными веками держит в руках его скрипку и словно перепиливает ее смычком Отвратительные, чудовищные, жалкие звуки. Потом опять бессознательное состояние.
– … Да, вспомнил! – вдруг громко произнес Паганини. Он скинул одеяло и сел на постели. Последний концерт он давал в Ливорно. И, как бы отвечая ему в тон, доктор сказал:
– Да, я был на вашем концерте. А после концерта, на следующий день, вас нашли неподалеку от южных ливорнских ворот. Вас ограбили начисто, очевидно: у вас не было даже вашей скрипки. Вы метались в сильном жару, а теперь, чтобы выздороветь, вам необходим полный покой.
– Сколько времени я здесь, в Ливорно? – тревожно спросил Паганини.
– Не могу вам сказать. На моем попечении вы три дня. За это время дважды к вам приходил господин Ливрон.
– Не знаю его, – сказал Паганини.
– Вот как! Это весьма уважаемый гражданин нашего города, член нашего магистрата.
– Зачем я ему нужен?
– Очевидно, вы будете иметь возможность узнать это от него лично, – заметил доктор, недоверчиво глядя на Паганини.
К вечеру действительно пришел высокий, весьма благообразный человек и попросил разрешения говорить, с синьором Паганини. Осторожно, в очень деликатной форме, Ливрон просил синьора Паганини «оказать ему высокую честь», испытать достоинства скрипки Гварнери, принадлежащей ему, Ливрону. Паганини не знал, что ответить, но быстро нашелся, поблагодарил Ливрона и сказал, что надеется испытать эту скрипку в первом концерте, который даст по выздоровлении.
Познакомившись ближе с господином Ливроном, Паганини переехал к нему. Член луккского магистрата оказался весьма гостеприимным хозяином. Он предоставил в полное распоряжение музыканта комнаты, настолько спокойные и удобные для работы, и сам так мало напоминал гостю о своем существовании, что Паганини чувствовал огромную благодарность к этому человеку. Но все эти дни были наполнены для Паганини тревогой, отравлены непонятной встречей с той страшной половиной жизни, которая существует бок о бок с обычными, светлыми и ясными днями человеческого сознания. Теперь, во время игры, Паганини чувствовал необходимость сорвать голубую пелену с черного, нависающего над миром неба. Он говорил самому себе, что кошмар за воротами города раскрыл для него незнакомый ему доселе ужас.
Это чувство прорывалось у него потоком демонических, разорванных, уничтожающих друг друга мелодий. Он видел, как дрожь пробегает по рядам концертного дала, когда эти ноющие, меланхолические и страшные звуки врываются в кантилену. Он видел страдание на человеческих лицах, он чувствовал мольбу о прекращении этих страданий. Он наблюдал то неосознанное чувство самосохранения, которое вдруг заставляет человека мгновенно накинуть покрывало на тайну смерти, тайну несчастия, тайну уничтожения и страдания. И Паганини чувствовал себя на огромной высоте, когда ему удавалось касаться этого покрова лишь настолько, чтобы придать ему, этому покрову, этому миражу благополучия, спасительное значение реальности, гораздо большей, чем реальность человеческих мук и страданий. Жизнь торжествовала над этим случайно приоткрытым, страшным и близким миром.
Скрипка Гварнери была настолько звучным, настолько послушным инструментом, что она вполне заменяла ему прежнюю. Он помнил эту скрипку по литомонографии, виденной у графа Козио. Она значилась под номером триста и называлась «Гварнери дель Джезу».
После концерта Паганини, рассыпаясь в похвалах этому инструменту, бережно вручил его Ливрону, пришедшему за кулисы. Ливрон покачал головой.
– Не осмелюсь прикоснуться к инструменту, на котором играл божественный Паганини, – произнес он, очевидно, давно приготовленную фразу.
Мечта Паганини осуществилась – «Дель Джезу» принадлежала ему.
Широкая, с эфами, слегка выщербленными временем, с потеками полустертого лака, с квадратным надрезом на верхней деке над левым эфом, эта скрипка носила следы принадлежности многим владельцам. Но ее звуки поражали Паганини.
– Это звуки самой природы, это живые голоса! – восторгался он.
На третий день после первого концерта Паганини сделал опыт. Он натянул на эту скрипку виолончельные струны и дал заказ мастерской Рокеджани из двух смычков Турта сделать смычок необыкновенной длины.
– Козио, – говорил Паганини, – с ужасом относится к надвигающемуся времени, а я его приветствую. Я с ужасом отношусь к тому прошлому, которое вторгается в нынешний день, но я прав, натягивая новые струны на старинную скрипку и беззаконно удлиняя смычок великого мастера Турта. Во Франции новые люди открывают новые законы устройства человеческого общества. Кто запретит человеку открывать новые свойства в мире звуков? Вот виолончельные струны на скрипке открывают бесчисленные возможности и увеличивают диапазон, а удлинение смычка – такая простая вещь – наилучшее средство дать звук необходимой протяженности.
Как-то случилось, что никто не заметил внешних перемен в инструменте синьора Паганини. Четыре концерта прошли блестяще. Это был успех, какого Паганини не мог ожидать, фанатическое ликование огромной массы людей.
И, однако, Паганини ждал беды. Самый успех концертов был преодолением того сопротивления, той враждебной настроенности, которые все чаще ощущались музыкантом. Огромное количество сплетен ходило по городу. Они доползали до слуха Паганини:
«Паганини проиграл скрипку в карты и потому не дает концерта. Паганини заразился дурной болезнью, потому он лежит в госпитале». Толстый каноник соборной церкви говорил купцам, собравшимся на крещение новорожденного в семье ливорнского портового маклера:
– Я знаю этого скрипача. Это дьявольская скрипка, это проклятые богом звуки, это нечистая музыка, которую не должны слушать верные сыны церкви.
На седьмой концерт съехались музыканты со всех концов Северной Италии. Одни слушали Паганини с ненавистью и завистью, другие – с религиозным благоговением и энтузиазмом. Сливаясь, их голоса возглашали ему неслыханную славу.
В это время Паганини впервые пришлось узнать, что такое анонимные письма.
Ему прислали по почте пасквиль, в котором называли его исчадием дьявола, грозили ему вечными муками, издевались над ним, говоря, что он натянул воловьи жилы на скрипку, украденную у купца Ливрона, и что стыдно итальянскому скрипачу в почтенном концертном зале честного города шарлатанить и издеваться над публикой, играя смычком, равным по длине мосту через реку Арно.
В одном анонимном письме автор усердно расхваливал свой рогатый скот, как наиболее жилистый, и предлагал Паганини купить целое стадо волов для изготовления струн. Письмо кончалось выражением уверенности, что самая большая, самая рогатая скотина есть сам скрипач Паганини.
Другое письмо, по-видимому согласованное с первым, предлагало самые высокие деревья ливорнского парка для изготовления смычка. К письму был приложен рисунок, изображавший артель Паганини: Паганини руками и ногами давит на струны, в то время как десять здоровенных молодцов на каждом конце смычка тянут этот необычной длины инструмент, как пилу на лесопилке. Первые щипки и укусы не произвели на Паганини никакого впечатления.
– Я становлюсь знаменит, – говорил он Ливрону, – а если так, то по пятам за мной будут бегать собаки и кусать за пятки.
Ливрон, которому Паганини показал эти письма, качал головой с выражением досады и недоумения.
* * *
Венеция была отдана Австрии, а в 1798 году римский папа внезапно оказался лишенным светской власти. Из старой Романьи была выкроена Римская республика. 15 декабря 1798 года Рим был занят французами. Не выступая против Франции открыто, римская церковь, в лице сотен тысяч попов, начала свою деятельность тайно и придала ей характер широкого народного движения. Как только попы увидели, что французская армия намеревается посягнуть на благосостояние церкви, так по всем церквам статуи и изображения святых, богоматери и Христа стали источать слезы. В Риме Христос, полагаемый в плащаницу, за ночь раскрыл глаза и смотрел широкими зрачками на бесчинства французской армии. По городу двигались процессии босых людей, намеренно одетых в рубища. Как искры, пробегали в толпе слухи о том, что какая-то статуя дважды открывала глаза и гневно исказила свой лик. Па площади Поларола икона мадонны делье Сапонаро стала «источать молоко». Этим молоком налили двести лампад, которые «зажглись сами собой». Священники в облачениях, орарях и ризах за недорогую плату окунали четки, приносимые простонародьем, в эту маслянистую беловатую жидкость.
Однако находилась молодежь, которая шла во французскую национальную гвардию, и в день празднования федерации было немало людей, нарядившихся в античные костюмы и с венками на головах прошедших в республиканской процессии, чтобы потом на площади святого Петра принять участие в большом торжественном обеде, где римское население браталось с французской гвардией. Были пущены слухи о том, что этот «праздник привлек тысячи демонов, которые отомстят нечестивому Риму за участие в празднике федерации».
И вот, когда римской курии казалось, что новое столетие принесет для римской церкви неисчислимые беды, все изменилось.
Бонапарт чувствовал необходимость замирения с римским папой. Но в это время умер Пий VI. Рим был занят, но заключать какое бы то ни было соглашение было не с кем. Тайком, в чужих одеждах, пробравшись по северным дорогам, кардиналы римской апостольской курии собрались в Санто-Джорджо, близ Венеции, под крылом австрийских жандармов, и тринадцатого числа третьего месяца нового столетия собрали тайный конклав и приступили к избранию нового папы. Так возник Пий VII, первоначально в роли активного врага Франции.
Однако Пий VII решился на все, для того чтобы удержать могущество римской церкви. Потеря Франции очень чувствительно пошатнула доходы римской церкви. Он признал отчуждение духовных имений. Это стоило ему четырехсот миллионов франков. Он согласился на новую организацию французского духовенства, с тем чтобы правительство имело право назначать на должности и платить жалованье; он выговорил себе только одну уступку – римскому папе по-прежнему предоставлялось право канонического утверждения.