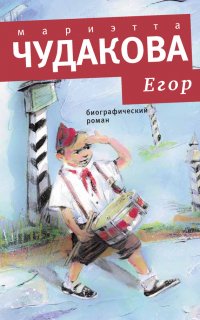Читать онлайн Жизнеописание Михаила Булгакова бесплатно
- Все книги автора: Мариэтта Чудакова
Издательство признательно ГБУК г. Москвы «Музей М. А. Булгакова» и Российскому государственному архиву литературы и искусства (Russian State Archives of Literature and Art) за предоставление иллюстративных материалов.
© М. О. Чудакова (наследник), 2022
© РГАЛИ, иллюстрации, 2023
© Музей М. А. Булгакова, иллюстрации, 2023
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство КоЛибри®
Пролог
1. Явление Булгакова
Когда в 1966–1967 годах в журнале «Москва» появился роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» и вызвал неслыханный читательский интерес, оказалось, что биография автора практически так же мало известна его восторженным читателям, как биография безымянного героя его романа Мастера.
Булгакова в тогдашней советской России узнали через 20 с лишним лет, после его смерти…
До этого его имя связывалось только с пьесой «Дни Турбиных», имевшей в 1926–1928 годах огромный и скандальный успех на сцене МХАТа (по решению власти, пьеса могла идти в одном-единственном советском театре). В 1954 году, после тринадцатилетнего перерыва, пьеса снова оказалась на сцене – не МХАТа, а театра Станиславского, – но того успеха уже не имела.
Узкому кругу читателей советского самиздата Булгаков был известен еще и как автор неопубликованной повести «Собачье сердце».
Широкому советскому читателю этот писатель, пожалуй, был неизвестен вовсе (если только в семье не было бабушки, помнившей мхатовские спектакли).
Ситуация изменилась за несколько лет – с 1962-го по 1967-й.
В 1962 году в «ЖЗЛ» вышла «Жизнь господина де Мольера» (авторское заглавие – «Мольер») – с огромными купюрами, сделанными Е. С. Булгаковой: мотив кровосмесительства для советской цензуры был неприемлем.
Через год была издана совсем тонкая книжечка в бумажном переплете – «Записки юного врача» (печатались только в специальном журнале «Медицинский работник» в 1925–1927 годах).
Затем, в 1965 году, в № 8 «Нового мира», после двухлетней борьбы главного редактора журнала А. Т. Твардовского с цензурой, появилось не законченное автором и совсем не известное сочинение под названием «Театральный роман». Это было черновое заглавие. Окончательное же заглавие – «Записки покойника» – было совершенно «непроходимым» для советской печати: покойники не могли помещать в ней своих записок. Блестящее, окрашенное неподражаемым комизмом повествование, где за главными героями угадывались неприкасаемые в позднесоветские годы «родоначальники» МХАТа Станиславский и Немирович-Данченко, пленило читателей популярного в те годы журнала.
И в том же году были опубликованы «Драмы и комедии» Булгакова. Счастливые обладатели небольшого томика могли впервые прочитать пьесы «Бег», «Кабала святош», «Иван Васильевич», так и не попавшие на сцену – ни при жизни автора, ни после его смерти.
А осенью 1966 года появился том «Избранной прозы» Булгакова. Но где именно «появился»? Купить его в советских книжных магазинах было невозможно – только «достать». Советская власть, не желая, чтобы книгу читали все желающие в нашей стране, продавала ее за валюту иностранцам – за границей в магазинах русской книги – и дома – в тогдашних магазинах «Березка»[19]. Заезжие иностранцы там ее и покупали в подарок советским знакомым – или привозили ее нам из-за границы. В этом томе впервые после 1925 года и в полном объеме[20] был напечатан роман «Белая гвардия». Сюда вошли также «Театральный роман» (под журнальным названием), роман о Мольере (без купюр) и «Записки юного врача».
Но никакие симпатии, возбужденные всеми этими сочинениями, не сравнимы с тем, что произошло с читателями первой части романа «Мастер и Маргарита» поздней осенью 1966 года. Перед ними неожиданно возникло совершенно необычное сочинение, резко выбивавшееся из советского литературного контекста.
«Мастер и Маргарита» показался нам всем явившимся из какой-то иной, несоветской реальности. Достаточно было дискуссии между персонажами о бытии Божьем – в первой же главе! К тому же сам автор явно не сомневался в существовании Высшего Промысла… Ничего подобного в советской печати невозможно было себе представить.
К тому же быстро выяснилась биографическая подробность, которая шла вразрез с легальным, официальным представлением о жизни и творчестве советского писателя: рукопись пленительного романа пролежала в столе автора четверть века после его смерти – как и рукопись романа о Мольере и неоконченные «Записки покойника»!.. То есть писатель, живший в советской стране, создавал замечательные произведения, а их почему-то не печатали – четверть века и того более! Не упоминаемое в советском публичном пространстве слово «цензура» материализовалось. Цензурные запреты стали очевидными.
Однако советская власть все-таки дотянулась до текста писателя, вырвавшегося из-под ее контроля и чудом проникшего в советскую печать. Роман вышел в свет с большими сокращениями[21] – стараниями цензуры, а также личными усилиями члена редколлегии журнала «Москва» Б. Евгеньева[22].
После выхода обеих журнальных книжек Елена Сергеевна добросовестно, с большой точностью перепечатала все выброшенные фрагменты текста, указала их места на журнальной странице и стала раздавать эти машинописные страницы поклонникам Булгакова. Иными словами – пустила в самиздат. И сегодня еще можно встретить в некоторых российских домах пухлые журнальные книжки «Москвы» с аккуратно вклеенными купюрами…
2. «Русский писатель не может жить без родины…»
(Официозный камертон биографии Булгакова)
Незадолго до выхода романа был сделан первый печатный шаг к знакомству советского читателя с неведомой ему биографией Булгакова. Официозным камертоном для последующих биографов стала одна журнальная публикация 1966 года[23].
Автор публикации, С. Ляндрес, был самым деятельным членом Комиссии по литературному наследию Булгакова и с недавних пор – очень близким другом Е. С. Булгаковой.
Эту публикацию смело можно назвать памятником эпохи «раннего Брежнева»: по ней можно изучать ту эпоху. Когда сопоставляешь препарированные в ней документы с их полными текстами – становится отчетливо ясно, как осознанная, продиктованная условиями времени фальсификация биографии Булгакова опережала и тормозила реальное воссоздание этой биографии.
Публикация готовила вхождение в советский контекст конца 1960-х годов романа, полностью, повторим, выпадающего из этого контекста[24]. Автор публикации – несомненно, в тесном контакте с Е. С. Булгаковой – сочинял текст, который устроил бы всех.
Во-первых, за полтора месяца до публикации романа «Мастер и Маргарита» ни словом не упоминалось о существовании такого романа в творческом наследии писателя.
Во-вторых, в изобилии давались, так сказать, «основополагающие» (если воспользоваться советизмом) формулировки, на которые должны были в дальнейшем ориентироваться пишущие о Булгакове: «Всякое пришлось испытать и М. Булгакову. Однако это никак не повлияло на его позицию, на отношение к Советскому государству и строю, – он считал, что художник обязан быть во всех случаях прежде всего гражданином»[25]. Эти слова не имели отношения к реальному самоощущению Булгакова. Это видно и по его дневнику 1920-х годов (тогда еще неизвестному), имеющему авторское название «Под пятой» (!), и по «Письму правительству СССР» 1930 года – с настоятельной просьбой «отпустить на свободу». Вряд ли эти слова говорят нам о желании оставаться гражданином несвободной страны. Но непременное приписывание гонимым авторам мазохистского комплекса давно было частью официозной догмы.
О советской обработке биографии Булгакова свидетельствуют несколько опубликованных фрагментов из писем к жившему в Париже брату Николаю и ответных. Булгаков просит брата вести его дела, связанные с переводом на французский язык пьесы «Зойкина квартира», и проследить за тем, чтобы были внесены его замечания по тексту.
Советский читатель, не имея тогда возможности обратиться ни к какой биографии писателя, не представлял, почему и каким образом младший брат писателя (на самом деле – оба его младших брата) оказался в Париже, – поскольку решительно ничего не знал о том, какое отношение имели Булгаков и его брат к Белой армии; не узнавал он этого ни от С. Ляндреса, ни от автора предисловия к «Избранной прозе» Булгакова, вышедшей почти одновременно с журнальной книжкой. Там В. Лакшин кратко писал о «большой дружной семье профессора Киевской духовной академии Афанасия Ивановича Булгакова», сообщал, что будущий писатель был в ней старшим сыном, и резюмировал: «Детство четверых сестер и троих братьев было счастливым, беспечальным»[26]. Но о том, куда они все подевались в годы революции и Гражданской войны, упомянуто не было – и, конечно, не по беспечности автора предисловия: так было принято дозировать информацию о писателе, и без того внесшем огромную сумятицу в умы советских людей.
Фрагменты писем создавали ложно-благополучное впечатление: все нормально, пьесы Булгакова идут в Европе, он спокойно переписывается с братом, который сообщает, что все поправки внесены…
В публикации впервые в советской печати упоминается письмо Булгакова к правительству. Первой из цитируемых его строк была такая: «Мой литературный портрет закончен, и он же есть политический портрет».
Неискушенный читатель мог только изумиться – как закончен? Ведь обрисовка этого портрета в пределах данной публикации и не начиналась!.. Ни слова из той, пожалуй, в те годы единственной по резкости противостояния официальному идеологическому стандарту характеристики личной политической позиции, которая была дана в письме Булгакова: «…яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противупоставление ему излюбленной и Великой Эволюции…»
Письмо правительству СССР – яркий и редкий образец непечатной публицистики советского времени – оставалось неизвестным отечественному читателю вплоть до Перестройки. Ни слова о сформулированном в письме трагическом итоге десятилетней литературной деятельности писателя – после запрета на постановки всех его пьес («Ныне я уничтожен» и т. д.), а также о выраженном в нескольких вариантах настойчивом желании «в срочном порядке покинуть пределы СССР».
В статье же Ляндреса, безо всякого упоминания об отъезде за границу, излагалась просьба Булгакова назначить его на любую должность в МХАТ. То есть та самая просьба, которая в неопубликованной части письма предварялась следующими жесткими словами: «Если же и то, что я написал, неубедительно и меня обрекут на пожизненное молчание в СССР (курсив наш. – М. Ч.), я прошу Советское правительство дать мне работу по специальности и командировать меня в театр…»
«…Мы не можем не видеть, – обобщал С. Ляндрес содержание умело скомпонованных им фрагментов письма, – стремления служить родине».
Далее цитировался, со слов Булгакова (зафиксированных в дневнике Е. С. Булгаковой 26 лет спустя), телефонный разговор с ним Сталина:
«– …А может быть, правда, пустить вас за границу? Что, мы вам очень надоели?»
И впервые приводилась ответная реплика Булгакова, многозначительно вынесенная в заголовок всей публикации:
«– Я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне Родины, и мне кажется, что не может».
Далее следовало резюме публикатора: «„Русский писатель не может жить без Родины“ – так раз и навсегда определил свою гражданскую и творческую позицию М. Булгаков. Его творчество было сложно и противоречиво».
Два слова, выделенные нами курсивом, в ту эпоху давно перешли в разряд шаблонных определений, которые навязывались разветвленной советской редакторско-цензурной структурой всем писавшим о творчестве «неудобных» для власти писателей.
Идейно-стилистические, можно сказать, требования (помимо чисто идеологических) предъявлялись к любому печатному тексту о Булгакове. Выбиться из-под них было трудно. Подчиниться же – для кого-то, во всяком случае для автора данной книги, – внутренне невозможно.
3. Е. С. Булгакова
…Когда я начинала обрабатывать архив Булгакова, проданный Еленой Сергеевной Булгаковой во второй половине 1960-х годов Отделу рукописей Государственной библиотеки им. Ленина (ныне РГБ – Российская государственная библиотека; я была тогда старшим научным сотрудником Отдела рукописей), о биографии Булгакова мне было известно немногое. Родился в Киеве, в семье преподавателя Духовной академии; учился на медицинском факультете Киевского университета; был земским врачом в глухом углу Смоленской губернии; каким-то образом попал на Северный Кавказ; потом поздней осенью 1921 года приехал в Москву. То, что первым его жилищем в Москве была коммунальная квартира в доме № 10 по Большой Садовой – в центре Москвы, – тогда и знать никто не знал…
В те годы живы были все три жены Булгакова, а также его сестры Вера и Надежда. Все они молчали о хорошо известных им важнейших фактах биографии писателя, относящихся к 1917–1921 годам. Молчание всех посвященных было прямо мотивировано условиями советского времени. Издательства решались публиковать только и исключительно писателя с «хорошей» биографией – того, кто заслужил это право своим лояльным отношением к советской власти на всех ее этапах и, уж во всяком случае, никогда не находился в рядах тех, кто поднимал против нее оружие.
28 октября 1968 года я познакомилась с Е. С. Булгаковой.
В ту первую нашу долгую беседу в ее квартире на Никитском (тогда Суворовском) бульваре она рассказывала о том, как они с Булгаковым встретились и полюбили друг друга, каким образом возникла тетрадка, озаглавленная «Тайному Другу», и о многом другом.
Я задала ей вопрос о двух тетрадках странного вида – с вырванными наполовину или на две трети листами. Она ответила: «Это ранние редакции „Мастера“». И стала рассказывать, как Булгаков диктовал ей на машинку письмо правительству; он видел в нем последний шаг перед возможным самоубийством – в том случае, если на письмо не ответит никто из семи адресатов.
«Продиктовав строки „я сжег свой роман…“ (или, как в тексте письма, „я бросил в печку“. – М. Ч.), он остановился и сказал: „Ну, раз это уже написано – это должно быть и сделано“. В комнате пылала большая круглая печка. Он стал тут же выдирать страницы и бросать их в печь» (наша запись, сделанная по памяти тем же вечером).
Отвечая на мой вопрос о странном виде тетрадок, Е. С. пояснила, что тогда же спросила Булгакова: почему он не сжигает все, оставляет часть страниц у корешка?.. Он ответил: «Но если я сожгу все – мне никто не поверит, что роман был».
Этот устный рассказ – единственный источник сведений об истории двух тетрадей (сохранилось еще несколько отдельных обрывков из третьей тетради). Мне казалось важным зафиксировать его в печати. Сделать это в советское время было почти невозможно. Подобно тому как советский журнал не мог печатать сочинение под названием «Записки покойника», так у советского писателя не могло быть причин сжигать свои рукописи… Я писала, что сожжение было литературным жестом: Булгаков «танцевал от печки Гоголя», передавая впоследствии этот важный для него жест своему герою Мастеру. Из-за этого издательство выкидывало мою статью «Булгаков и Гоголь», целиком, из посвященного Гоголю сборника, ощущая ее «опасность»; я впихивала ее обратно, имитируя сокращение.
Во время первой встречи с вдовой Булгакова мне уяснились несколько вещей. Во-первых, она может рассказать очень много никому не известного. Во-вторых, какую-то часть биографии писателя и своей она не расскажет никогда. В-третьих, очевидно, что она прикладывает немало усилий к выстраиванию собственной легенды о Булгакове – на том месте в общественном сознании, которое пока еще пустовало.
В этой легенде учитывался в какой-то степени взгляд самого писателя на свою биографию, его обостренное – даже во время смертельной болезни – отношение к возможному появлению бытового (то есть обытовленного) ее варианта. Именно такое отношение зафиксировано Н. А. Земской, сестрой Булгакова, осенью 1939 года: «Мое замечание о том, что я хочу писать воспоминания о семье. Он недоволен. „Неинтересно читать, что вот приехал в гости дядя и игрушек привез… Надо уметь написать. Надо писать человеку, знающему журнальный стиль и законы журналистики, законы создания произведения“»[27]. Под «журналистикой» подразумевается ни в коем случае не советская – скорее то, что выходило в свое время из-под пера журналистов «Русского слова», высоко им ценимых. За этими опасениями проступает, на наш взгляд, надежда на будущую легенду о себе – нечто близкое к истории Мастера.
И действительно, легенда, строившаяся Е. С. Булгаковой исподволь, безо всяких деклараций, главным образом в частных беседах с многочисленными после публикации «Мастера и Маргариты» визитерами, приближалась к истории Мастера в романе. В то же время легенда в немногих точках соприкасалась с официальной версией биографии Булгакова – той, которая формировалась с косвенной помощью Е. С. (с единственной целью – издать Булгакова в специфических советских условиях). Эта версия призвана была утвердить некую не противоречащую советской догматике квазиисторико-литературную оценку творчества писателя, «закатный» роман которого полностью противоречил и социальному, и литературному контексту второй половины 1960-х годов. Задача, сильно напоминающая квадратуру круга.
С конца октября 1969 года, в течение почти полутора месяцев ежедневно (за редкими исключениями), с 11 до 22:30–23 часов я проводила время в квартире Е. С., помогая ей разбирать оставшуюся часть архива. Очень живой, общительный человек, увлеченный задачей передать людям свое представление о человеке, с которым связала ее судьба, разбору бумаг она явно предпочитала наши беседы – вернее, свои рассказы о Булгакове, об их совместной жизни, друзьях, родных и знакомых. Я понимала необходимость фиксации бесценных сведений. О том, чтобы обзавестись магнитофоном и включать его, не могло быть и речи: ее поколение имело полную идиосинкразию к этому техническому устройству (да у меня, надо сказать, и не было магнитофона). Я делала заметки по ходу разговоров и, благодаря хорошей так называемой «короткой памяти» (позволяющей в течение суток дословно помнить сказанное), приехав в первом часу ночи домой, всякий раз часа полтора-два записывала услышанное.
Это были, собственно говоря, первые шаги к будущему жизнеописанию писателя.
Именно Е. С. пролагала начальные пути для воссоздания биографии Булгакова – В. Лакшину, с которым в процессе печатания в «Новом мире» «Записок покойника» у нее установились очень теплые отношения, Л. М. Яновской, А. М. Смелянскому и в 1968–1970 годах – мне.
В ее рассказах прояснялись главным образом обстоятельства последнего десятилетия его жизни: 1930–1940 годы. Годы Гражданской войны не упоминались.
В архиве Булгакова – и в той его части, что была передана Е. С. еще в 1958 году в Пушкинский Дом, и в основной его части, принятой на вечное хранение Отделом рукописей ГБЛ, – время до конца 1920-х годов было почти не задокументировано. Поиски в других архивах были малоэффективны, хотя кое-что найти удавалось. Главным источником биографии писателя были встречи со знавшими его людьми. При ежедневном восьмичасовом рабочем дне и семейных обязанностях не так легко получалось встретиться с большим числом людей. А торопиться по понятным причинам было необходимо.
Мало зная круг его знакомых периода жизни на Большой Садовой, вдова писателя зато очень хорошо знала всех «пречистенцев» (собственно говоря, Е. С. и пояснила мне феномен «Пречистенки», сформированный Булгаковым) и, конечно, мхатовцев – не только потому, что ее сестра О. С. Бокшанская была секретарем Немировича-Данченко, но и по личным с ним (да и другими людьми МХАТа) связям. С теплотой говорила о первой жене писателя Татьяне Николаевне; рассказывая малоприятные вещи о второй жене – Любови Евгеньевне Белозерской, – советовала мне, однако, непременно к ней пойти, снабдила телефоном. Рассказывала о неожиданном визите дочери Листовничего Инны Васильевны – именно от нее Е. С. узнала о несчастной судьбе прототипа Василисы в «Белой гвардии».
4. Сталин – «покровитель» Булгакова
Булгаков, напомним, практически не существовал в официальной (другой в СССР не было) истории советской литературы. О нем можно было разыскать лишь оголтелую журнальную ругань конца 1920-х годов. Добросовестной биографии также не существовало. Но свято место пусто не бывает – конъюнктурная «советская» биография писателя понемногу создавалась.
Отсутствие доброкачественного биографического материала, незнакомство со всем наследием Булгакова, а также понятное желание «протолкнуть» сами тексты Булгакова через советские заслоны приводило булгаковедов (и это в лучшем случае!..) к тщательному затушевыванию подозрительных мест и белых пятен биографии при помощи изощренно-туманной метафорики: «И мне не кажется случайностью, что вчерашний „лекарь с отличием“, не имевший как будто основания жаловаться на свою профессию, вдруг, будто ни с того ни с сего, бросил частную практику в Киеве, сел в поезд и покатил невесть куда через измученную войной и голодом страну…»[28]
С 1969-го открылась особая ветвь булгаковедения – противостоящая и умеренно-либеральной, бегло очерченной нами, и даже не сложившейся во что-то определенное официозной.
Несколько литераторов, осторожно прокладывая особое национал-сталинистское идеологическое русло, поставили себе задачей доказать, что Сталин всей душой готов был помочь талантливому русскому писателю, но не мог справиться с противодействием критиков-евреев. Это не объявлялось, разумеется, прямо, но читатель сам должен был прийти к этой мысли, прочитав в небольшой статье, как часто Сталин ходил смотреть «Дни Турбиных», а затем ознакомившись с длинным списком еврейских фамилий критиков – яростных врагов Булгакова. В. Петелин писал в тогдашнем сверхофициозном (в отличие от «перестроечного») журнале «Огонек»: «Сейчас настало время трезвого, объективного анализа творческого портрета Михаила Булгакова…» «Объективный» же анализ давал следующую историко-литературную и историко-общественную картину: «Авербах, Гроссман-Рощин, Мустангова, Блюм, Нусинов и многие другие планомерно и сознательно травили Булгакова. 〈…〉 И писатель вынужден был обратиться с письмом в правительство». Цитировался телефонный разговор со Сталиным, после чего резюмировалось:
«Этот телефонный звонок вернул Булгакова к творческой жизни.
Булгаков стал заниматься любимым делом, служил во МХАТе режиссером-ассистентом, заново писал роман „Мастер и Маргарита“, рукопись которого сжег в минуту отчаяния, работал над „Театральным романом“.
Когда Сталин приезжал смотреть „Дни Турбиных“ (в Музее МХАТа запротоколировано 15 посещений Сталиным этого спектакля), он всегда спрашивал: „А как Булгаков? Что делает? Очень талантливый человек…“»
Не говоря уже про хармсовское звучание последнего абзаца («Пушкин очень любил Жуковского и звал его просто Жуковым»), нестерпимым лицемерием окрашены слова о возвращении «к творческой жизни» писателя, ни строки которого с того телефонного разговора и до самой смерти не напечатали, о занятиях блестящего драматурга «любимым делом» – в качестве режиссера-ассистента МХАТа и автора инсценировки…
Классическим в своем роде образцом квазибиографической работы стал финальный пассаж из той же статьи:
«За рубежом, да и у нас в некоторых кругах распространяется мнение, будто Булгакова „репрессировали“, а потом „реабилитировали“, некоторые даже называют точную дату „реабилитации“ – 1962 год. Ничего не может быть вздорнее подобных утверждений. В 30-е годы шли его пьесы „Дни Турбиных“ и „Мертвые души“ (по Гоголю), весной 1941 года (напомним, что автор умер в марте 1940-го. – М. Ч.) состоялись две премьеры „Дон Кихота“ (по Сервантесу), с 1943 года шла его драма „Пушкин“, в 1957 году поставили „Бег“. Над романом „Мастер и Маргарита“ он работал до конца своих дней, а „Театральный роман“ так и остался незаконченным. М. А. Булгаков умер в 1940 году, похоронен на Новодевичьем кладбище»[29].
Последняя фраза в особенности, по-видимому, должна была убедить читателя, что для Булгакова все кончилось хорошо.
…Елена Сергеевна старалась, чтоб посетители не сталкивались в ее доме, – она любила общение один на один. Так столкнулись однажды и мы с В. Петелиным, выпускником одного со мной филфака. Ходили слухи, что он, намеревается выпустить собрание сочинений Булгакова в «Библиотеке „Огонька“» – книжным приложением к журналу. Пока Е. С. варила на кухне кофе, я успела сказать ему колкость (именно в связи с его статьей о Сталине – покровителе Булгакова). Когда она вернулась – мы оба не подали и виду о напряженности в наших отношениях. Но на другой день Е. С. спросила меня (далее цитирую свой дневник, поскольку уверена в важности этой записи):
«– Быть может, мой вопрос бестактный. Вы не любите Петелина?
– Да, не люблю. Простите, если я вела себя невоспитанно.
– Наоборот, вы показались мне прекрасно воспитанной. Он был вам неприятен, я видела, а вы так выдержанно вели себя. Знаете, он ведь мне тоже неприятен. Но когда умер Миша, я думала – если б кто предложил мне издать его вещи и чтоб я расплатилась своим телом – я б согласилась» (запись от 6 ноября 1969 года).
5. Большая Садовая. Пречистенский круг. Родные и близкие
Мои встречи с обозначенным Еленой Сергеевной приятельским кругом Булгакова начались в ту же осень 1969 года, после завершения ежедневных встреч с нею самой (которые не оставляли времени для иных встреч).
Важным было знакомство и многочисленные последующие беседы с киносценаристом С. А. Ермолинским, ставшим после возвращения из лагеря близким другом Е. С. Булгаковой. Его воспоминания, напечатанные в журнале «Театр» (1966, № 9) в том же году и том же месяце, что и сочинение С. Ляндреса, дали фигуре Булгакова совершенно новое измерение, придали иной масштаб.
Мне же необходимо было прежде всего восстановить контекст первых московских лет – жизнь в «квартире № 50», служба в Лито и затем в «Гудке». По «Запискам на манжетах» удалось восстановить два реальных прототипа персонажей – Г. П. Шторма (встретилась и записала его воспоминания) и поэта И. Старцева, ставшего известным библиографом (говорила с его родными)… Ю. Слезкин, Д. Стонов, В. Катаев, Ю. Олеша, Ильф и Петров, С. Ауслендер, П. Зайцев, члены кружка «Зеленая лампа»… Я разыскивала их родных, их письма в архивах, встречалась с В. Коморским (прототипом одного из ранних рассказов). Беседы с В. Катаевым (через год он весело сообщил мне, что я так активизировала его воспоминания о том времени, что он написал «Алмазный мой венец») прояснили очень многое. Детали взаимоотношений Булгакова с его главными издателями – Н. С. Ангарским (альманах «Недра») и И. Лежневым (журнал «Россия») – стали известны благодаря встречам с дочерью Ангарского и племянником жены Лежнева.
С 1925 года в окружении Булгакова – «дети старой Москвы», как они сами себя называли (жители Остоженки и Пречистенки), и люди театра.
26 ноября 1969 года я впервые встретилась с Натальей Казимировной Шапошниковой (поразившей и очаровавшей меня своим ясным и острым умом) и милейшей Марикой Артемьевной Чимишкиан (первой женой С. А. Ермолинского) – в двух крохотных комнатах Левшинского переулка. Там Наталья Казимировна прожила 40 лет, переехав в комнату для прислуги, когда осенью 1929-го забрали ее мужа, профессора ГАХНа Бориса Валентиновича Шапошникова. В том же доме, где они жили, на втором этаже помещалась разогнанная в 1929 году ГАХН (оттуда Шапошников спускался к себе на первый этаж обедать) – Государственная академия художественных наук, многие преподаватели которой были близкими знакомыми Булгакова «пречистенского» периода его жизни.
От Н. К. Шапошниковой я немало узнала о С. С. Заяицком (как и о Наталье Венкстерн и многих других знакомых Булгакова тех лет). «Это был маленький горбатый человек, – рассказывала она, – в боку у него был незаживающий свищ от костного туберкулеза, но более жизнерадостного человека я не знаю». (Впоследствии я познакомилась с сыном писателя и невесткой, получила от них немало материалов – это еще один немаловажный шаг к расширению биографического контекста.)
Встречи с М. А. Чимишкиан продолжались в течение двадцати лет и всегда прибавляли новые штрихи к биографии Булгакова и к фону его московской жизни (например, о его отношении к Маяковскому хорошенькая Марика, дружившая с обоими, знала лучше других). Как и встречи с женой Н. Н. Лямина – художницей Натальей Абрамовной Ушаковой: начались они 2 марта 1970 года, в доме № 12 по Савельевскому переулку, где не раз бывал Булгаков, он даже описал эту квартиру в «Мастере и Маргарите». По словам Натальи Абрамовны, в начале 1924 года Заяицкий позвал их с мужем слушать авторское чтение неопубликованного романа «Белая гвардия» («Заяицкие жили в Ваганьковском, – пояснила она, – у самого угла на Знаменку»). Там все «пречистенцы» и познакомились с Булгаковым. Продолжение романа он читал уже у Ляминых.
Беседы с очень многими людьми из московского окружения Булгакова (думаю, 70–80 человек; помимо уже упомянутых – М. В. Вахтерева, С. В. Шервинский, Б. В. Горнунг, Л. В. Горнунг, М. Г. Нестеренко, а также дети и племянники А. Г. Габричевского, Б. В. Шапошникова, С. С. Заяицкого, В. М. Авилова и многих других) помогали мне воссоздавать детали биографии писателя 1924–1931 годов. Но встречи с ними, а также с первой женой Булгакова Татьяной Николаевной происходили главным образом после публикации в 1976 году обзора архива Булгакова – первого наброска биографии писателя, и давали материал уже для будущего «Жизнеописания…».
Вернусь к концу 1960-х – началу 1970-х.
4 декабря 1969 года я познакомилась с Л. Е. Белозерской; 11 февраля 1970 года впервые разговаривала по телефону с одной из двух московских племянниц Булгакова – Варварой Михайловной Светлаевой, дочерью любимой младшей сестры Булгакова Елены (Лёли). (Я знала, что именно Елена Афанасьевна ухаживала за Булгаковым во время смертельной болезни.) В разговоре она назвала среди прочих двоюродную сестру, живущую в Новосибирске, – Ирину Леонидовну Карум, дочь сестры Булгакова Варвары. В. М. Светлаева была уверена, что «никаких материалов» у той нет. Но это оказалось не так. Спустя двадцать лет (уже после выхода в свет «Жизнеописания…») я получила от Ирины Леонидовны по почте (!) для ознакомления неопубликованные воспоминания ее отца Л. С. Карума, содержащие богатый материал о жизни семьи Булгаковых и самого Булгакова в 1910–1920-е годы[30].
Весьма много дали беседы поздней осени 1969 года с сестрой писателя Надеждой Афанасьевной Земской (1893–1971) – о детстве и о первых московских годах. Сохраненные ею письма брата к ней, а также два письма к кузену К. П. Булгакову оказались поистине бесценными источниками биографии Булгакова начала 1920-х годов[31]. Бесценными, но недостаточными – хотя бы потому, что несколько писем были переданы не в оригиналах, а в машинописных копиях с купюрами: близкие (Н. А. Земская и ее дочь, доктор филологических наук Е. А. Земская) явно не хотели мешать изданиям Булгакова, открывая страницы его нелояльной биографии.
6. Булгаков: российская монархия и две революции 1917 года
Купированы были (как выяснилось позже) – и оставались неизвестными до конца Перестройки, – в частности, ключевые для понимания ранней духовной зрелости Булгакова фрагменты в письме от 31 декабря 1917 года:
«Настоящее таково, что я стараюсь жить, не замечая его… не видеть, не слышать!
Недавно в поездке в Москву и Саратов мне пришлось все видеть воочию, и больше я не хотел бы видеть.
Я видел, как серые толпы с гиканьем и гнусной руганью бьют стекла в поездах, видел, как бьют людей. 〈…〉 видел газетные листки, где пишут, в сущности, об одном: о крови, которая льется и на юге, и на западе, и на востоке, и о тюрьмах. Все воочию видел и понял окончательно, что произошло» (курсив наш. – М. Ч.).
Среди его современников тех, кто понял это, как он, сразу после Октября, еще до разгона большевиками Учредительного собрания в январе 1918 года, можно было бы пересчитать на пальцах.
Умонастроение Булгакова тех лет прочитывалось и в романе «Белая гвардия». Политические воззрения любимого героя Булгакова – несомненно, близкого ему по взглядам Алексея Турбина – описываются в романе всего несколькими фразами, но весьма значимыми: Турбин, «постаревший и мрачный с 25 октября 1917 года»; его реплика в разговоре с полковником Малышевым: «Я 〈…〉 к сожалению, не социалист, а…монархист». Однако исследователи Булгакова еще много лет упорно продолжали твердить: «Важно отметить, что монархизм героев не автобиографичен. К семье Булгаковых все это никакого отношения не имеет»[32], не понимая или делая вид, что не понимают, что к одному-то члену семьи монархизм, во всяком случае, имел прямое отношение. Легендарная реплика Ильфа в компании сотрудников газеты «Гудок» – «Что вы хотите от Миши? Он только-только смирился с отменой крепостного права, а вы хотите, чтобы он принял советскую власть!» – была много ближе к правде, чем, возможно, казалось самому автору шутки.
Для меня это «открытие» было очень важным. Потому что монархизм не был только системой политических взглядов Булгакова (материала для построения этой системы и сегодня немного) – он был частью его художественного мира. Мир «Записок юного врача» выстроен не по горизонтали демократического мироустройства, а по вертикали монархического. Наверху – дипломированный врач. Ниже – акушерки и фельдшеры: они подчиняются ему как врачу с дипломом, радуются его первым практическим успехам («А вы, доктор, хорошо сделали поворот, уверенно так»); он руководит, уважая при этом их практический опыт, считаясь с их советами. Следующий, еще более нижний уровень – работающие при больнице сторож, кучер и т. д. Еще ниже – народ, та «тьма египетская», которой трудно объяснить, почему и как именно надо принимать медикаменты… Они обязаны подчиняться дипломированному врачу беспрекословно, он же, относясь к ним трезво, как и сам Булгаков[33], обязан только их лечить и просвещать. В этом – пафос его жизни.
Система монархического умозрения очевидна и в романе «Мольер». И мы, напечатав в свое время в «Русской мысли» письмо А. Н. Тихонова с отказом в публикации «Мольера», подробно анализировали глубоко запрятанный в подтексте письма ужас старого социалиста перед представленной ему рукописью убежденного монархиста – совершенно экзотической фигуры для слоя советских литераторов 1920–1930-х годов[34]. Не только официоз противился признанию этого факта – подспудное сопротивление ему российской либеральной среды ощущалось долгие годы.
Много позже моя уверенность подтвердилась: во-первых, Е. Б. Букреев, встреча с которым была крайне важной для понимания духовной биографии Булгакова, рассказал мне об умонастроении Булгакова-гимназиста; во-вторых, в 1987 году я увидела первую публикацию Булгакова в «добровольческой» газете осени 1919 года, где шла речь о «безумстве дней мартовских» 1917 года. Так что монархизм героев «Белой гвардии» оказался все-таки «автобиографичен».
7. Печатный обзор архива Булгакова: 1976 год
В 1971 году, заканчивая обработку архива писателя, составившего 69 архивных «картонов», я приступила к подготовке обзорной статьи – непременной завершающей части обработки новопоступившего архива. Обзор предназначался для ежегодника «Записки Отдела рукописей». Это был достаточно строгий жанр, имевший главной целью описание рукописей – рассказ о содержимом архива, ставшего обработанным фондом. Если речь шла об архиве писателя, писать о его творчестве и биографии не предполагалось: достаточно было отсылок к соответствующим монографиям. Мне отсылать было не к чему. Статья под названием «Архив М. А. Булгакова: материалы для творческой биографии писателя» (посвященная «Памяти Елены Сергеевны Булгаковой», скончавшейся в августе 1970 года) начиналась так: «Историко-литературное изучение творчества М. А. Булгакова (1891–1940) находится сейчас на начальном своем этапе; не воссоздана даже в самом общем виде хронологическая канва жизни и литературной работы писателя, неизвестна творческая история его произведений; нет сколько-нибудь полной библиографии». Часть этих задач пришлось решать в рамках обзорной статьи; она получилась в четыре раза больше стандартного объема. Не менее важной задачей представлялось полное отсутствие официозных оговорок, уже укоренявшихся, – о писателе, «не сумевшем понять» и т. п.
31 января 1974 года коллегия главной редакции общественно-политической литературы Госкомиздата вынесла решение «О содержании „Записок Отдела рукописей ГБЛ“». Рукопись 35 выпуска, в состав которого входила моя статья, была оценена как подготовленная «без надлежащей идеологической оценки архивных материалов». Среди пунктов решения был и такой: «Признать идейный уровень рукописи М. Чудаковой „Архив М. А. Булгакова“ неудовлетворительным и не соответствующим характеру данного издания». Издательству было «предложено» (в ту эвфемистическую эпоху уже только „предлагали“ – что вполне равносильно было приказу) вернуть рукопись в Библиотеку на доработку. Подписал решение В. С. Молдаван, должность которого называлась так – «Главный редактор Главной редакции…».
В своих замечательных мемуарах ответственный редактор «Записок» С. В. Житомирская, вызванная на заседание коллегии, вспоминала: «Не тем занимаетесь! – негодовал Молдаван, – пропагандируете антисоветского писателя! 〈…〉 В статье Чудаковой есть многое, что мы никогда, слышите, никогда печатать не будем!» Советские начальники очень любили слово «никогда». История не учила их: в свое время они или их предшественники были уверены, что никогда не будут снесены – почти в одночасье, под покровом ночи! – памятники Сталину по всему необъятному пространству страны…
Четырехлетнюю мучительную историю попыток напечатать эту работу мы оставляем за пределами нашего «Пролога». Дело в конце концов увенчалось полным успехом. Статья, ставшая первым опытом биографии Булгакова и творческой истории его главных сочинений, была опубликована в 1976 году в 37-м выпуске «Записок» – все на том же самом неудовлетворительном идейном уровне, с указанием шифров рукописей абсолютно неупоминаемой в советской печати повести «Собачье сердце» и т. п.
8. Татьяна Николаевна Кисельгоф (урожд. Лаппа)
Весной 1970 года я написала в Туапсе первой жене Булгакова письмо с просьбой принять меня; понятно, что никто не обладал такой информацией о важнейшем десятилетии в жизни Булгакова – 1913–1923, – как она. И вскоре получила ответ: Татьяна Николаевна писала, что мало что помнит и, главное, не хочет волновать себя воспоминаниями об этом тяжелом времени. Тем летом я приехала в Туапсе – только вручить ей цветы через порог, не нарушая ее воли. Однако она пригласила меня войти, мы долго говорили. И хотя тема Булгакова старательно обходилась, я что-то узнала и поняла.
В 1977 году, уже после смерти мужа, Т. Н. захотела со мной встретиться. Я несколько раз прилетала к ней, жила в ее однокомнатной квартире, задавала вопросы, пытаясь оживить ее вытесненные тяготами последующей жизни и многолетней обидой воспоминания. Она вспоминала – старательно и охотно. У нее не было к Булгакову злого чувства. Она по-прежнему жалела и любила его. Именно беседы с ней помогли восстановить атмосферу дореволюционной киевской юности Булгакова, узнать о его участии в мировой войне – в качестве хирурга в прифронтовых госпиталях, воссоздать в какой-то степени образ жизни и круг общения земского врача в смоленской глуши в 1916–1917 годах, детали «необыкновенных приключений доктора» в 1918–1921 годах, множество важнейших подробностей первых московских лет (1921–1924) в доме № 10 по Большой Садовой. Подтвердилась и моя давняя догадка о том, что фрагмент газеты с частью названия «…розн…» – это первая публикация в газете «Грозный» в ноябре 1919 года, той осенью, когда Северный Кавказ еще оставался под Белой армией. Т. Н. рассказала: «Я приехала к нему поздней осенью… Он сказал: „Знаешь – я печатаюсь“. Я говорю: „Ну хорошо – ты же всегда этого хотел“».
В мае 1981 года, к 90-летию Булгакова, в «Литературную газету» с большими усилиями, при активной помощи тогдашней сотрудницы газеты Аллы Латыниной, удалось «протащить» записанные мною воспоминания Т. Н. «Годы молодости», где впервые в отечественной печати было сказано и о морфинизме, и о Белой армии. Мне было важно, чтобы публикация шла под именем Татьяны Николаевны (а «Запись М. Чудаковой» – внизу, мелким шрифтом) и чтобы ей выслали весь скромный гонорар. Она, живущая на очень маленькую пенсию, была рада ему. Вскоре я прилетела к ней уже с экземплярами газеты: «Вот, Татьяна Николаевна, теперь вы можете сказать ему: „Знаешь – я печатаюсь…“»
Мне удалось узнать в наших беседах и частично обнародовать (впервые в советской печати) важнейшие факты жизни Булгакова:
– существеннейшее обстоятельство, относящееся ко времени его деятельности в качестве земского врача в Смоленской губернии (1916–1917) и затем частного врача в Киеве (1918),
– морфинизм;
– служба будущего писателя и двух его младших братьев в Добровольческой армии;
– начало литературной деятельности в «белой» печати;
– непримиримое отношение к обеим революциям 1917 года, четко сформулированное в первом печатном выступлении в ноябре 1919 года;
– не сознательный выбор, а стечение обстоятельств (возвратный тиф, приковавший его к постели в дни ухода из Владикавказа Белой армии) привело к тому, что он остался в марте 1920 года на территории, занятой красными, и до конца дней был гражданином СССР;
– готовность эмигрировать (из Батума) летом 1921 года.
Объем собранной информации только к началу 1980-х оказался достаточным для начала работы над биографией писателя – хотя нельзя было представить, чтобы книгу, написанную без фальсификации, удалось напечатать. Но я решила ее все-таки писать.
Началась Перестройка, и в 1986 году издательство «Книга» заключило со мной договор. Они ждали книгу не ранее чем через год. Я принесла им первый экземпляр готовой машинописи на другой день. В 1988 году книга вышла в свет.
〈2013 г.〉
Жизнеописание Михаила Булгакова
Памяти родившихся в девяностые годы XIX столетия
Предисловие автора
Начиная с середины 1960-х годов, когда была издана бо́льшая часть драматургического наследия Булгакова и вышел однотомник, включивший значительную часть его прозы, имя писателя, хорошо известное до этой поры главным образом историкам литературы и зрителям пьесы «Дни Турбиных», привлекло интерес широкого отечественного читателя. Когда же в конце 1966 – начале 1967 года был опубликован и вслед за тем переведен на многие языки его последний роман «Мастер и Маргарита», творчество Булгакова получило мировой резонанс, изменив в определенной степени представление о русской прозе 1930-х годов.
В те самые годы, когда выходил роман, у вдовы писателя Е. С. Булгаковой был приобретен государством архив Булгакова, сохраняемый ею более четверти века после смерти мужа, и силою вещей автору данного жизнеописания выпала задача разбирать этот архив и делать его научное описание. Творческая работа писателя открылась тогда в ее неизвестной до этого времени полноте, многие биографические и литературные факты были в процессе разбора и описания рукописей и иных документов впервые введены в культурный обиход.
Весьма важными для уяснения особенностей личности и биографии писателя были беседы с Еленой Сергеевной Булгаковой во время наших многочисленных встреч 1968–1970 годов в ее квартире в Москве, на Суворовском бульваре, столь памятной исследователям и почитателям Булгакова.
Стремясь пополнить и архив писателя, и знание его биографии, в то время страдавшее очень существенными пропусками, мы разыскивали его родственников и друзей, постепенно расширяя круг поисков. Так были записаны сотни страниц бесед с современниками писателя, очевидцами его жизни.
Конечно, воспоминания современников, записываемые во время устных бесед, нередко бывают осложнены многими дополнительными факторами, вольно или невольно деформирующими информацию, в том числе, скажем, осторожностью в высказывании религиозных или иных убеждений, в освещении тех или иных событий и их восприятия. Эта столь характерная для соотечественников старших поколений, столь понятная (и оттого не менее печальная) осторожность, даже в отношении своих воззрений очень далекого времени, изменившихся в течение жизни мемуариста, сказывалась и в том, как очерчивалась личность Булгакова. Между тем кажутся важными любые штрихи портрета столь замечательного человека, каким является наш герой: ведь только живая, подвижная, меняющаяся в течение жизни совокупность этих штрихов, в том числе утрированность одних качеств и притушенность других, поможет нам выпукло представить себе личность автора «Мастера и Маргариты». Здесь мы следуем за тем, кто еще в середине прошлого века разработал новый для своего времени и актуальный и плодотворный и сегодня подход к биографии, – за Павлом Васильевичем Анненковым (которого читал и любил Булгаков), остающимся до сей поры лучшим биографом не только Пушкина, но и Гоголя, Белинского, Тургенева – всех, о ком оставил он свои воспоминания. «Прежде всего хотелось бы нам, чтобы навсегда отвергнута была система отдельного изъяснения и отдельного оправдания всех частностей в жизни человека, – писал он, – а также система горевания и покаяния, приносимого автором за своего героя, когда, несмотря на все усилия, не находится более слов к изъяснению и оправданию некоторых явлений». Иными словами, П. Анненков предостерегал от изолированных объяснений и оправданий отдельных поступков и качеств, призывая исходить из целостного характера творца и творческого итога жизни, не замещая «старание понять и представить живое лицо легкой работой вычисления – насколько лицо подошло к известным общепринятым понятиям о приличии и благовидности и насколько выступило из них. При этой работе случается, что автор видит прореху между условным правилом и героем своим там, где ее совсем нет, а иногда принимается подводить героя под правило без всякой нужды, только из ложного соображения, что герою лучше стоять на почетном, чем на свободном и просторном месте» (курсив наш. – М. Ч.). Мы стремились, во всяком случае, не подводить нашего героя под правило, а понять по возможности его «живое лицо».
В этой книге широко использованы записанные нами неопубликованные воспоминания вдовы писателя Е. С. Булгаковой (1893–1970), первой его жены Татьяны Николаевны Кисельгоф (1889–1982), сестры Надежды Афанасьевны Земской (урожд. Булгаковой; 1893–1971), двоюродной его сестры Александры Андреевны Ткаченко, а также материалы многочисленных бесед с друзьями и знакомыми писателя начиная с гимназических лет до последних дней его жизни. О многих фактах жизни и творчества Булгакова здесь рассказывается впервые. Разумеется, для целей данного жизнеописания были важны и полезны работы советских и зарубежных исследователей, число которых за двадцать лет достигло весьма внушительной цифры.
Следует пояснить: мы пишем о человеке, который почти не оставил прямых высказываний на важные для каждого биографа темы – от политических до религиозных. Это не исключительный, но достаточно редкий случай; мы хотели бы, чтобы наш читатель отдавал себе в этом отчет. Все, что относится к тому, что называют взглядами человека, биографом Булгакова должно реконструироваться только по косвенным данным. В этом смысле особенно драгоценны были материалы, связанные с детством и отрочеством – временем формирования личности. Здесь важны были и самые косвенные свидетельства – такие, например, как присланные нам в 1977 году Екатериной Петровной Кудрявцевой ее воспоминания об отце, Петре Павловиче Кудрявцеве, с 1897 года занимавшего кафедру истории философии в Киевской духовной академии. Она писала нам, что в ее мемуарах «нет даже упоминания о писателе или его родителях», она справедливо поясняла, однако, что ею охарактеризован не столько «быт профессорской среды того времени (а писатель рос как раз в семье профессора Духовной академии), как – в основном – та культурная, интеллектуальная, моральная обстановка, которая и способствовала до известной степени формированию его „внутреннего“ образа. Ведь Булгаков не только большой художник, но и писатель редкой широты, какой-то „раскрепощенности мысли“, если можно так выразиться, а ведь все это формируется у человека – в его сознательной или подсознательной сфере – с детства».
Нам всегда казалось, что исследователь литературы и общества нашего времени должен порываться к пониманию истинной картины, независимой от плюсов и минусов, расставленных задним числом, и что только в этом может выразиться дань уважения биографа к большому писателю, над жизнью которого он берется размышлять и решается сообщать читателю результаты своих размышлений.
Булгаков предстал перед своими читателями четверть века спустя после смерти, в середине 1960-х годов. Он входил в отечественную культуру на излете общественного подъема, уже переходившего в те годы в некую судорогу; отсюда – и некоторая судорожность в тогдашнем этапе освоения его биографии и творчества, чувствующаяся до сего времени. Перед многими Булгаков предстал как вожделенный, давно искомый образец, объект веры и поклонения. При этом разные слои общественности приписывали ему собственные ценности, им в его лице и поклонялись.
Общество нуждалось в легенде – и получило или сформировало ее. Отсутствие даже первоначального очерка биографии и при этом свойства самих произведений, впервые прочитанных, – подчеркнутая автобиографичность «Театрального романа», простор для прямых и косвенных биографических отождествлений, открытый автором в романе «Мастер и Маргарита», – к этому толкали.
Готовые оценки шли с разных сторон. Уже вне всякой веры и поклонения, а в сугубо прагматических целях они формировались и навязывались и официальными инстанциями, задачи которых были сдерживающие: требовалось притушить разгоравшееся общественное чувство, очевидное предпочтение «нового» писателя 1920–1930-х годов – тем его современникам, чей авторитет был давно узаконен и поддерживался специальными усилиями. Булгакова стремились посмертно усыновить – по уже сложившемуся обряду или сценарию; его биографии придавали удобные в обращении очертания, мало имевшие отношения к действительным фактам. Навстречу этому, в соответствии со структурой социальной ситуации, в немалой мере шла и общественность, в том числе литературная и научная среда. Биография писателя, еще только формируемая, тут же деформировалась – ее приспосабливали к нуждам издания его наследия, приближение которого к читателю шло с огромными трудностями. Возобладал утилитарный подход к биографическому факту. Слово о писателе получало значение какого-то рычага, при помощи которого двигались некие косвенные по отношению к его биографии дела.
Эта общественная привычка к доопытным суждениям о биографии и личности писателя и сегодня создает для его биографа некоторые трудности. Читающие и любящие Булгакова свыклись не только с легендарным представлением о нем, но и с косвенным, двусмысленным способом изложения его биографии – вполне в соответствии, впрочем, со сложившимся за минувшую четверть века аллюзионным способом повествования об отечественной истории. Поэтому считаем необходимым и в то же время возможным для себя предупредить читателя этой книги – он не должен искать в ней аллюзий, не должен пытаться читать за текстом. Автор этой книги пытался воплотить в прямом слове то, что хотел предъявить своему читателю.
Это относится и к свидетельствам современников о тех или иных чертах личности или убеждений писателя на разных этапах его жизни – независимо от того, «нравятся» ли эти черты автору книги или ее читателю, – да и ко всему остальному. Там, где не удавалось достигнуть ясности для уверенных суждений об отношении писателя к тем или иным проблемам, – там и оставлена эта неясность, не восполняемая биографом искусственно.
Вообще в книге не участвует вымысел, давно завоевавший себе широкие права в повествованиях о биографии писателя. Автор этой книги полагает, что повествования промежуточного жанра, строящиеся по типу «Жизни замечательных людей» между беллетристикой и наукой, в немалой мере себя исчерпали. Мы считали необходимым строить биографию только на фактах, четко обозначая границу между ними и гипотезой, стремясь и тут всякий раз не скрывать от читателя бо́льшую или меньшую степень ее обоснованности. Без догадок не обойтись, да и не нужно, – важно не выдавать их за нечто уже доказанное или само собой разумеющееся.
Герой этой книги – человек, не только думавший о своей посмертной биографии, но – говоривший о ней с друзьями и близкими, размышлявший о ней вслух, ее готовивший; человек, немало думавший о соотношении легенды, вымысла и факта в биографиях исторических личностей. Е. С. Булгакова любила повторять его слова, что о каждом крупном человеке складываются легенды, но о каждом – своя, особенная, не похожая на другие. Бытование этих легенд – непременная часть культуры, и смешон был бы тот, кто вознамерился бы с ними покончить.
Однако тот, кто берется писать биографию, обязан делать источниковедческие усилия, чтобы отделить легендарное от фактического.
За двадцать лет все мы много лучше узнали биографию Булгакова, чем в год печатания главного его романа. Но что мы знаем о его личности?
Каким он был? Веселый. Артистичный. Блестящий. Его повседневность, его домашняя жизнь не была похожа в своих внешних формах на житие строгого и замкнутого подвижника – подвижническим был внутренний смысл этой жизни.
Веселясь, играя, перемещал он черты повседневности в создаваемые им художественные миры. «Вслед за дамой в комнату входил развинченной походкой, в матросской шапке, малый лет семи с необыкновенно надменной физиономией, вымазанной соевым шоколадом…» («Театральный роман»). Домашние смеялись – это был верный портрет младшего сына Елены Сергеевны. «Старший, Женечка, обижался, – рассказывала она нам в один из ноябрьских дней 1969 года, – что Сережка есть в книгах Михаила Афанасьевича, а его нет. – Знаешь, Женя, это можно, – серьезно отвечал Булгаков, – но денег стоит! Если, например, я напишу: „Мимо скамейки, где сидела Маргарита, прошел молодой человек“, – про тебя напишу, то это будет стоить три рубля. Если напишу – „красивый молодой человек“ – это уже на пять рублей. А если – „какой красивый! – подумала Маргарита“, то это – десять рублей!»
Каким он был? Замкнутый. Закрытый. Не терпящий фамильярности. Высоко ценил дистанцию в общении, умел ее поддерживать. Раскрывался, и то, видимо, не очень, только узкому кругу ближайших друзей.
«…Порою мнительный в мелких обстоятельствах жизни, раздираемый противоречиями, он в серьезном, в моменты кризиса не терял самообладания и брызжущих из него жизненных сил, – писал в 1940 году П. С. Попов в первом, оставшемся неопубликованным очерке биографии писателя, – ирония у него неизменно сливалась с большим чувством, остроты его были метки, порой язвительны и колки, но никогда не коробили. Он презирал не людей, он ненавидел только человеческое высокомерие, тупость, однообразие, повседневность, карьеризм, неискренность и ложь, в чем бы последние ни выражались: в поступках, искательстве, словах, даже жестах. Сам он был смел и неуклонно прямолинеен в своих взглядах. Кривда для него никогда не могла стать правдой. Мужественно и самоотверженно шел он по избранному пути».
Автор этой книги глубоко благодарен близким, родным, друзьям и современникам Булгакова, беседы с которыми только и давали возможность хотя бы в какой-то степени почувствовать личность того человека, который мог быть нашим современником, но, однако, его облик, пластику не запечатлел, кажется, ни один кинокадр.
Личность эта могла появиться в книге (если все-таки появилась) только на пересечении разных свидетельств о ней – и это не скрыто в самом построении нашего повествования.
«Жизнь и творчество» – привычное сочетание слов скорее обозначает проблему, чем предлагает ее решение.
Автором этой книги избран путь последовательного жизнеописания – о творчестве говорится лишь в той мере, в какой возможным оказывалось увидеть и проследить его более или менее непосредственно явленные связи с биографическими фактами.
Глава первая
Киевские годы: семья; гимназия и университет. Война. Медицина. Революция
1
И отец, и мать Булгакова были родом из Орловской губернии. «Мы были колокольные дворяне, – вспоминала сестра писателя Надежда Афанасьевна Земская, – оба деда – священники; у одного было девять детей, у другого – десять».
Дед со стороны матери, Михаил Васильевич Покровский, сын дьячка, был протоиереем, настоятелем собора в городе Карачеве Орловской губернии. На сохранившейся фотографии 1880-х годов он смотрит на нас прямым, открытым взглядом. Лицо молодое, как и у попадьи Анфисы Ивановны (урожденной Турбиной). На фотографии она, как и муж ее, сидит, но и так видно, что женщина статная, с гордо посаженной головой, обвитой косой. Здесь же и все девять детей – старший сын Василий, студент Военно-хирургической академии в Петербурге, рано умерший, старшая дочь Ольга стоит, положив руку на плечо брата; гимназисты Иван и Захар. Здесь же мальчик лет девяти – будущий известный московский врач Николай Михайлович Покровский – с ним впоследствии многие годы будет поддерживать племянник-писатель родственные отношения и даже сделает его героем одной своей повести… И рядом, еще младше, Михаил – тоже будущий врач, чье лицо мы не раз увидим на фотографиях семьи Булгаковых в Киеве; и маленький Митрофан – будущий статистик. А на руках у няньки – Александра, в замужестве Бархатова, и тут же – девочка лет двенадцати, с очень серьезным личиком, будущая мать писателя.
Дед со стороны отца, Иван Авраамович Булгаков, был много лет сельским священником, а ко времени рождения внука Михаила – священником Сергиевской кладбищенской церкви в Орле. Бабушка Олимпиада Ферапонтовна стала крестной матерью Михаила Булгакова.
Отец писателя Афанасий Иванович Булгаков родился 17 апреля 1859 года, учился сначала в Орловской духовной семинарии, а потом в Киевской духовной академии (1881–1885); затем два года учительствовал – преподавал греческий язык в Новочеркасском духовном училище. С осени 1887 года – доцент Киевской духовной академии, сначала – по кафедре древней гражданской истории, а спустя год с небольшим – по кафедре истории и разбора западных исповеданий; в 1890–1892 годах одновременно преподавал в Институте благородных девиц, а с осени 1893 года исполнял должность киевского отдельного цензора – цензуровал книги на французском, английском и немецком языках. В 1890 году А. И. Булгаков женился на учительнице Карачевской прогимназии Варваре Михайловне Покровской. 3 мая 1891 года у них родился первенец. При крещении, происходившем 18 мая в Киево-Подольской Крестовоздвиженской церкви – ее можно увидеть и сегодня, если, спускаясь на Подол, свернуть на Воздвиженскую, – ему дали имя Михаил – скорее всего, в честь хранителя города Киева архангела Михаила. Это подтверждается тем, что в семье Булгаковых его именины отмечали не в один из нескольких возможных по святцам дней, более близких к началу мая (скажем, 7 (20) мая – день рождения Михаила Улумбийского), а 8 (21) ноября, в день архангела Михаила.
Единственным ребенком Михаил себя не запомнил, сразу – старшим братом: ему не было и трех лет, а у него было уже две сестры – в 1892 году родилась Вера, в 1893-м – Надежда. В 1895 году родилась и третья сестра – Варя. А в октябре 1898 года появился Николка. И в год, когда Михаил отправился в приготовительный класс, – Ваня (1900).
В это лето родители стали строить дачу. Надежда Афанасьевна Земская рассказывала нам в 1969 году семейные предания: «Когда родители поженились, долго колебались, как поступить с маминым приданым – покупать ли дом в Киеве (может быть, в Лукьяновке) или дачу». В 1899 или 1900 году были куплены две десятины леса – в Буче, в 29 верстах от Киева по Юго-Западной дороге. Решили строить там дом – «снимать для такой семьи было и дорого, и трудно…». В первое лето 1900 года на дачу ездили через Пущу-Водицу: последняя остановка трамвая, потом на лошади или пешком. На следующий год туда провели железную дорогу; следующая станция после Бучи – Ворзель. От станции до дачи было около двух верст… Выстроили одноэтажный дом в пять комнат, с большой кладовой, с двумя верандами. Было много посуды, ее оставляли на зиму, в город не возили. Летом отец приезжал из Академии, снимал сюртук, надевал косоворотку и соломенную шляпу и шел корчевать пни на участке, который отвели под огород и фруктовый сад, – посадили только хорошие сорта яблок, слив; груш сажали мало. «…На пруду была плотина, стояла мельница и рядом жили четыре брата-украинца. Они были мельники. И хутор их так и назывался „Мельники́“, с ударением на конце; около версты от Бучи. Туда ходили купаться – к Мельника́м…»
В памяти детства – той, которая опускается на самое дно человеческой личности, которая и не память уже, а некое неделимое ядро этой личности, – осталась и просторная дача в Буче, где не было тесноты, всем доставало места, где царило родственное и дружеское единение и согласие, осталась и залитая солнцем роскошная зелень украинского лета. (Не потому ли впоследствии никогда не любил подмосковной дачной жизни? Зелень, наверное, казалась пыльной, и любое обиталище – тесным, убогим.)
18 августа 1900 года девятилетнего Михаила зачислили в приготовительный класс Второй гимназии; в гимназии этой учителем пения и регентом был младший (на 14 лет моложе) брат отца, Сергей Иванович Булгаков, крестный отец младшего брата Михаила – Николая.
…Спустя восемьдесят лет, осенью 1980 года, нам посчастливилось познакомиться и беседовать с тогдашним соучеником Булгакова Евгением Борисовичем Букреевым. (Имя врача-кардиолога, лечившего несколько поколений киевлян, хорошо известно в городе, как и имя его отца, профессора математики Бориса Яковлевича Букреева, прожившего 104 года и в столетнем возрасте продолжавшего читать лекции в университете.) Невысокий, одетый со старомодной тщательностью, с серьезным лицом практикующего врача, Евгений Борисович начинал разговор с сомнений.
– Не знаю, чем я могу быть вам полезен. В друзьях я с Булгаковым не был – ни в Первой гимназии, ни в университете. Учились мы на одном факультете, но он ведь медицину забросил, как вы знаете, – говорил старый доктор с едва заметным оттенком неодобрения.
– Но некоторое время практиковал…
– Да, он был сифилидологом, а меня это совершенно не интересовало. Я с ним и в университете и позже совершенно не контагиировал…
Сама речь нашего собеседника уже восстанавливала связь с далекой эпохой, хотя он настойчиво повторял: «Вообще передать дух такого далекого времени – невозможно».
Единственный год, когда Булгаков с Букреевым были близки, – именно приготовительный класс Второй гимназии. Память старого доктора об этом времени – источник уникальный, и оттого любые мелочи приобретают ценность.
– Дружили ли? Да, мы были приятелями – шалили вместе. Он меня дразнил – Букрешка-терешка-орешка… Вот почему-то так. Вообще он был невероятный дразнилка, всем придумывал прозвища. В приготовительном у нас был учитель Ярослав Степанович, мы его звали за глаза «Вирослав». Он был, верно, болен туберкулезом – длинный, худой, часто кашлял. Тогда как-то не придавали этому значения – допускали к преподаванию в гимназиях даже с открытой формой… Преподаватель рисования был Борис Яковлевич. Мы звали его – Барбос Яковлевич. Тех, кто грязно пишет и плохо рисует, он называл – Марало Маралович!..
Так из полной тьмы, окутывающей для нас тот год, когда приготовишка Миша Булгаков с ранцем за плечами бежит утром во Вторую гимназию («Его водил кто-нибудь в гимназию? Вы видели его родных, прислугу?» – «Нет, никогда не видел. Мы все ходили одни»), начинают доноситься какие-то звуки, различаются отдельные слова и словечки.
Ровесник Булгакова Илья Эренбург, который тоже родился в Киеве, но детство провел в Москве, а в Киев лишь приезжал, вспоминал о городе: «В Киеве были огромные сады, и там росли каштаны; для московского мальчика они были экзотическими, как пальмы». Для мальчика, который жил в Киеве с рождения, каштаны были привычны, как тополя для москвича; для Булгакова, надо думать, отсутствие их в городах, где пришлось ему жить, ощущалось как пустота.
Писчебумажный магазин Чернухи на Крещатике («там продавали школьные тетради в блестящих цветных обложках; в такой тетради даже задача на проценты выглядела веселее»), кондитерский магазин Балабухи – в нем продавали сухое варенье («в коробке лежала конфета, похожая на розу, она пахла духами»). «Прохожие на улицах улыбались. Летом на Крещатике в кафе сидели люди – прямо на улице, – вспоминал Эренбург, – пили кофе или ели мороженое»[35]. Этот городской облик сохранился до самого начала войны, возможно, и позже – почти теми же словами описывала его в одном из наших разговоров первая жена Булгакова Татьяна Николаевна: «Киев тогда был веселый город, кафе прямо на улицах, открытые, много людей…»
…Веселые, беспечные лица киевлян первого десятилетия века потом вспоминались Булгакову; он все не мог привыкнуть к хмурой озабоченной московской толпе 1920-х – начала 1930-х годов и, начиная пьесу о будущем – «Блаженство», – передал это ощущение намечавшейся было, исчезнувшей в окончательном тексте героине: «…Ваши глаза успокаивают меня. Меня поражает выражение лиц здешних людей. В них безмятежность. Родоманов. Разве у тогдашних людей были иные лица? Мария. Ах, что вы спрашиваете. Они отличаются от ваших так резко… Ужасные глаза».
22 августа 1901 года Михаила Булгакова приняли в первый класс Первой гимназии, прекрасное здание которой на Бибиковском бульваре, описанное потом в «Белой гвардии», сохранилось до сего дня в неизменном виде. Гимназисту Булгакову повезло – время благоприятствовало основательности обучения. Вспоминая об этом, Е. Б. Букреев, поступивший в ту же гимназию и в тот же год, но на другое отделение (сегодня мы сказали бы – в параллельный класс), писал нам 4 ноября 1980 года: «Прежде, чем отвечать на поставленные вами вопросы, разрешите ознакомить вас с общими изменениями, которые произошли в жизни средней школы около 1900 года. В девяностых годах решили произвести ряд перемен в Министерстве народного просвещения, и министром был назначен генерал Ванновский, который предложил органам просвещения проявлять в своей работе попечение и „нежное“ отношение к ученикам средней школы, а также поднять уровень образования на более высокую ступень путем приглашения в среднюю школу преподавателей более высокой квалификации – профессоров университета».
Память не подвела гимназиста девятисотых годов. Действительно, в середине минувшего учебного года умер от раны, нанесенной 14 февраля 1901 года киевским студентом Карповичем, министр просвещения Н. П. Боголепов, жестоко подавлявший студенческие беспорядки (незадолго до покушения 183 киевских студента были сданы в солдаты). На смену ему и пришел П. С. Ванновский (которому еще в 1899 году были поручены расследование студенческих волнений и выработка предложений по их предотвращению) – ему принадлежали широко известные в ту пору слова о необходимости «сердечного попечения о школе».
Е. Б. Букреев прекрасно помнил, что «в Киеве для такого эксперимента была избрана Первая гимназия. И с 1900 года туда были приглашены для преподавания профессора из Киевского политехнического института и университета. Так, например, естествоведение (совершенно новый предмет, ранее никогда не преподававшийся в средней школе) вел профессор Добровлянский, преподававший в Политехническом институте. Зав. кафедрой психологии и логики Киевского университета Челпанов преподавал в седьмых и восьмых классах психологию и логику (Г. И. Челпанов – профессор психологии и философии в Киевском университете с 1902 по 1906 год, позже – основатель и директор Московского психологического института. – М. Ч.). Его сменил доцент университета Селиханович…» Таким образом, преподавание было поставлено на университетский уровень; значение этого в последующей жизни выпускников гимназии трудно переоценить[36].
Булгаков учился на втором отделении, Букреев на первом, учителя у них были разные, но учитель пения и классный надзиратель был общий для всех классов – Платон Григорьевич Кожич. «Кожич, „Платоша“, был регент церковного хора, – вспоминает Букреев, – очень милый, порядочный человек…» Это по меньшей мере второй (считая дядю Сергея Ивановича) уже регент в жизни мальчика Миши. Можно вообразить себе, как слово сначала слышится в доме, многократно произносится, потом персонифицируется в одном, другом человеке, – чтобы через много лет «вылепился из жирного зноя» тот, кто укажет Берлиозу на злосчастный турникет: «…Прямо, и выйдете куда надо. С вас бы за указание на четверть литра… поправиться… бывшему регенту! – кривляясь, субъект наотмашь снял жокейский свой картузик»[37].
Но будем слушать дальше Евгения Борисовича Букреева: «Латинистом был Субоч, мы пели ему:
- Владимир Фаддевич,
- Выпьемте, выпьемте!
Это потому, что он всем говорил – „Никогда не пейте!“.
После революции, когда латынь стала не нужна, он быстро переквалифицировался на преподавателя арифметики.
В гимназиях был институт классных надзирателей. Это были полуинтеллигентные люди зрелого возраста. Один из них – лет под шестьдесят, голова, как яйцо… не то Лукьян, не то Лукьянович – был порядочный человек, как мы говорили, – не ставил под часы и вообще относился либерально. Брюнет, два верхних резца выбиты… Миша почему-то назвал его Жеребцом». Это был, несомненно, Яков Павлович Лукианов, прослуживший надзирателем с 1876 по 1910 год (возможно, и позже!); на фотографии преподавательского состава гимназии 1910 года хорошо видна его «голова, как яйцо».
Так коридоры Первой гимназии заполняются призрачными, но все же в какой-то степени видимыми фигурами («Говорил Селиханович очень плохо, шепелявил. Всегда являлся на занятия в помятом, плохо вычищенном сюртуке. Брюки были бутылками, всегда взъерошен – небрежно причесан…»), озвучиваются фрагментами гимназического фольклора.
«Самый неприятный в гимназии был педель Максим. Какой-то выпуск пригласил его на прогулку и выкупал в Днепре. С тех пор его дразнили: „Максим-с, холодна ли вода в Днепре-с?“ Он любил говорить на „-с“. Булгаков, впрочем, тоже любил словоер: „виноват-с“, „благодарю-с“… (Дальше мы узнаем, впрочем, о том, как в 1919 году Максим сыграет благородную роль в жизни одного из братьев Булгаковых… – М. Ч.)
Был еще Василий, швейцар, борец атлетического сложения. В праздничные дни он стоял у дверей гимназии в ливрее из синего сукна, расшитой галунами, в треуголке с булавой».
И двадцать лет спустя в «Белой гвардии» возникнет «четырехэтажным громадным покоем» гимназия уже иного времени – зимы 1918 года, и, свесясь с балюстрады, Алексей Турбин увидит внизу «белоголовую фигурку» на «разъезжающихся больных ногах». «Пустая тоска овладела Турбиным. Тут же, у холодной балюстрады, с исключительной ясностью перед ним прошло воспоминание.
…Толпа гимназистов всех возрастов в полном восхищении валила по этому самому коридору. Коренастый Максим, старший педель, стремительно увлекал две черные фигурки, открывая чудное шествие.
– Пущай, пущай, пущай, пущай, – бормотал он, – пущай, по случаю радостного приезда господина попечителя, господин инспектор полюбуется на господина Турбина с господином Мышлаевским. Это им будет удовольствие. Прямо-таки замечательное удовольствие!
Надо думать, что последние слова Максима заключали в себе злейшую иронию. Лишь человеку с извращенным вкусом созерцание господ Турбина и Мышлаевского могло доставить удовольствие, да еще в радостный час приезда попечителя.
У господина Мышлаевского, ущемленного в левой руке Максима, была наискось рассечена верхняя губа, и левый рукав висел на нитке. На господине Турбине, увлекаемом правою, не было пояса, и все пуговицы отлетели не только на блузе, но даже на разрезе брюк спереди, так что собственное тело и белье господина Турбина безобразнейшим образом было открыто для взоров.
– Пустите нас, миленький Максим, дорогой, – молили Турбин и Мышлаевский, обращая по очереди к Максиму угасающие взоры на окровавленных лицах.
– Ура! Волоки его, Макс Преподобный! – кричали сзади взволнованные гимназисты. – Нет такого закону, чтобы второклассников безнаказанно уродовать!
Ах, боже мой, боже мой! Тогда было солнце, шум и грохот. И Максим тогда был не такой, как теперь, – белый, скорбный и голодный. У Максима на голове была черная сапожная щетка, лишь кое-где тронутая нитями проседи, у Максима железные клещи вместо рук и на шее медаль величиною с колесо на экипаже…»
И эти же драки ребяческих лет живут в памяти другого бывшего гимназиста Первой гимназии. «Кишата – так называли гимназистов младших классов. Мы однажды избили двух восьмиклассников-братьев. Нас было человек восемьдесят… Все равно, когда один из братьев двинул как следует, – мы с него так и посыпались. На драку эту нас Михаил подбил». Но вот Паустовский (он учился в той же гимназии, но двумя классами позже. – М. Ч.) написал в своих воспоминаниях: «Где появлялся Булгаков – там была победа». «Это преувеличение, – с точностью естественника замечает Евгений Борисович Букреев. – Он участвовал в драках, но каким-то особенным он не был. Вот был у нас такой гимназист Ипат. Патька – небольшого роста, но невероятной физической силы. Вот его всегда звали при драках, кричали: Патька, Патька! – и он действительно всегда обеспечивал победу… Но Булгаков был непременный участник драк».
Дрались на школьном дворе, часто устраивалась «конница», – те, кто послабей, забирались на плечи тех, что посильней. Один из сыновей профессора Духовной академии Голубева всегда был «конем», за что и получил постоянное прозвище «конинхен»…
Впрочем, после четвертого класса все это отступало на второй план.
«Переходя из четвертого класса гимназии в пятый, мы, можно сказать, начинали жить общественной жизнью. В четвертом классе, например (т. е. в 13–14 лет), полагалось непременно прочесть Бекля (так произносит наш собеседник. – М. Ч.) и Дреппера. В пятом классе мы начинали участвовать в разнообразных кружках – экономических, философских, религиозно-богословских. Булгаков никогда не участвовал ни в одном из них, – определенно утверждает его соученик. – В пятом классе гимназии мы контагиировали уже с шестым, седьмым, восьмым. Кружки были общие для всех этих классов. В них участвовало обычно по 5–8 человек из класса. Но все это – вне стен гимназии, собирались только на дому. Кружками руководили непременно преподаватели гимназии. В кружке Селихановича разбирались литературные и философские вопросы – нужно было, например, в пятом классе изучать учебник по философии Виндельбанда. Булгаков не участвовал и в этом кружке, он был инертен в этом отношении… В пятом классе нас застал 1905 год. Мы, конечно, били стекла, швырялись чернильницами; Булгаков в этом участвовал – как во всех такого именно рода коллективных действиях… Конечно, было очень интересно забаррикадироваться и не пускать учителей на уроки! Мы выбирали также общественный совет гимназии – 1–2 человека от класса. Помню собрания на каких-то квартирах, валялись на постелях, курили… произносили зажигательные речи, – на этом все кончалось… Булгаков ни в каких советах, митингах, собраниях никогда не участвовал. Три-четыре недели в гимназии царило полное безвластие, полный хаос, потом все наладилось. Благодаря директору, Е. А. Бессмертному, никто из учеников не пострадал».
(Это немало, заметим в скобках. Не каждое среднее учебное заведение и не в каждую эпоху отечественной истории могло бы похвастаться таким поведением своего руководства по отношению к воспитанникам – и это при нажиме вышестоящих организаций[38].)
Предшественником Бессмертного был Посадский-Духовской – «чрезвычайно масляная улыбка, масляные глазки», по определению Е. Б. Букреева; он был математик, а также автор печатных трудов по школьной гигиене, составитель сборников «Памяти Пушкина» (в трех томах; Киев, 1900) и «Памяти Гоголя» (Киев, 1902). Бессмертный, преподававший в гимназии древние языки, «был чрезвычайно точный человек. Про безобразия любил говорить „кавардак“ и „верхоглядство“. После 1905 года его заменили Немолодышевым, по странной случайности тоже преподавателем математики. Довольно угрюмый человек, медвежьей складки – широкоплечий, кривоногий. Миша его назвал Волкодав, и это прозвище за ним и осталось – жестковатый был». Новый директор, автор учебных курсов и задачников по геометрии, был почти на десять лет старше своего предшественника, перемещенного в августе 1907 года в Саратовскую гимназию.
Продолжим этот рассказ соученика и ровесника Булгакова, человека, резко отличного от него в ту пору по своим, хотя еще и полудетским, убеждениям.
– Я в 1905 году в пятом классе был убежденным анархистом, – рассказывает Е. Б. Букреев, – (каковым остаюсь, впрочем, и по сей день). У меня была лучшая библиотека в Киеве по анархизму, был весь Кропоткин. Тогда на Крещатике, недалеко от угла Фундуклеевской и Крещатика, на втором этаже была квартира зубного врача Лурье, и гостиная ее была отдана анархистам – там на столах везде лежала анархистская литература, и каждый мог приходить и читать.
Каков же был в те же самые годы гимназист Булгаков? Мы знаем уже – участник всех драк, не участник любых общественных сборищ.
– Вы должны знать, – продолжает Евгений Борисович, человек трезвого ума и очень ясной памяти, – что Булгаков в гимназические годы был совершенно бескомпромиссный монархист – квасной монархист. Да-да, так говорилось тогда – не только «квасной патриот», но и – «квасной монархист». (Напомним здесь, с какой прямотой говорит о своих убеждениях в 1918 году столь симпатичный автору герой «Белой гвардии»: «Я, – вдруг бухнул Турбин, дернув щекой, – к сожалению, не социалист, а… монархист. И даже, должен сказать, не могу выносить самого слова „социалист“. А из всех социалистов больше всех ненавижу Александра Федоровича Керенского». И когда пишущие о Булгакове комментируют эти слова так: «Важно отметить, что монархизм героев не автобиографичен. К семье Булгаковых все это никакого отношения не имеет» – здесь не позиция биографа, а энтузиазм поклонницы, желающей сказать как можно больше хорошего о любимом писателе).
Уже в гимназии, и не только в старших классах, а и раньше, под воздействием многих обстоятельств – семьи, круга лиц, бывающих в доме, наличия или отсутствия такого человека, авторитет которого сможет перебороть в глазах подростка авторитет родительский, – закладывались различия в убеждениях, надолго определявшие миросозерцание и социальное поведение ровесников-соотечественников. Какие же убеждения преобладали в Первой гимназии – той, где учился и Булгаков, и – не случайно – будущий герой его первого романа?
– На сорок человек гимназистов в классе было обычно двенадцать—пятнадцать казеннокоштных: было много всяких стипендий – и государственных, и частных, – вспоминал Е. Б. Букреев. – Казеннокоштные, конечно, составляли более демократически настроенную среду… Вообще же сложение характера человека происходит в совершенно особых условиях. Восстановить обстановку этого процесса невозможно. Вам остается неизвестно множество мелочей. Но жизнь состоит именно из мелочей. Поэтому восстановить дух этого времени, приблизиться к той обстановке невозможно. Булгаков, например, в гимназические годы избегал евреев, но тут надо учитывать условия воспитания, семейную обстановку. Это очень трудно понять на таком временном расстоянии… В нашем отделении на сорок человек было шесть евреев. Священники относились к ним по-разному, некоторые более разумно… Когда дежурный докладывал: «Батюшка, Гинзбург остался на Закон Божий», один законоучитель говорил: «Что же, пусть послушает, Христос проповедовал и для иноверцев». (Нельзя не отметить некоторой исторической неточности в этом высказывании, вернее, его стилистической модернизованности; имеются в виду, среди прочего, известные слова в Послании к римлянам апостола Павла о благовествовании, «во-первых, иудею, потом и эллину» (1, 16); позднейший смысл слова «иноверцы» не вполне применим к ситуации ранних веков христианства. – М. Ч.). Вообще же к выкрестам относились хуже, чем к иудеям.
Евгений Борисович стремится возможно точнее определить и оценить умонастроения Булгакова – подростка и юноши, в конкретном времени, в конкретной обстановке – внутри стен Первой гимназии.
– Если говорить о семье Булгакова, то вообще профессорская среда считалась не зажиточной. Монархистами были дети из очень богатых, чаще помещичьих семей или городских низов – уже с черносотенным оттенком. У Булгакова такого грубого оттенка, конечно, не было, но вообще наша гимназия была известна более либеральным по сравнению с другими заведениями уровнем, поэтому даже таких, как он, все же было не так много… Вообще в Первой гимназии сконцентрировались противоположные взгляды. Например, там учился Пятаков – значительно старше нас…
(Леонид Леонидович Пятаков – тремя годами старше Булгакова и Букреева – был, как и его брат Георгий, одним из руководителей борьбы за советскую власть в Киеве, убит гайдамаками в начале 1918 года.)
– В то же время у нас учились Лелявские – дети очень зажиточных киевских помещиков, учились дети крупных чиновников, а также два брата Голубевы – сыновья невероятно черносотенного профессора Духовной академии. Конечно, Булгаков не был с такими ярыми черносотенцами. Можно сказать, что он придерживался правых взглядов, но умеренного порядка.
Как можно было понять из бесед с Букреевым, выражалась такая ориентация главным образом пассивно – нелюбовью к каким угодно сборищам, выступлениям, публичному объявлению своих взглядов и соображений. Когда много позже в «Белой гвардии» Алексей Турбин заговорит про гетмана: «Да ведь если бы с апреля месяца он начал бы формирование офицерских корпусов, мы бы взяли теперь Москву. 〈…〉 Самый момент: ведь там, говорят, кошек жрут. Он бы, сукин сын, Россию спас», – обратим внимание на реплики хорошо знающих его слушателей: «– Ты… ты… тебе бы, знаешь, не врачом, а министром быть обороны, право, – заговорил Карась. Он иронически улыбался, но речь Турбина ему нравилась и зажигала его.
– Алексей на митинге незаменимый человек, оратор, – сказал Николка.
– Николка, я тебе два раза уже говорил, что ты никакой остряк», – обрывает его старший брат. Из иронических реплик слушателей явствует, что Турбин – не оратор, эта роль для него непривычна. В этой же степени, по-видимому, непривычна она была для молодого Булгакова. На этом соображении настаивает, по крайней мере, наш собеседник, не раз к нему возвращаясь: «Повторяю, он был совершенно аполитичен… В гимназических скандалах участвовал, сидел потом в классах после занятий по два-три часа, это он все проделывал, как и все. Но от любых форм общественной жизни совершенно уклонялся…»
…Итак, «правее» среднелиберального большинства гимназистов… Мальчик, в котором, видимо, заметна была домашняя, семейная закваска – сдержанное отношение к иноверцам, естественный для семьи преподавателя Духовной академии консерватизм – то есть спокойное приятие существующего порядка, нежелание колебать устои. Нежелание это оказалось таким стойким качеством, что и спустя два десятилетия с лишним, наполненные потрясениями, находясь в иной, в сущности, действительности, чем та, в которой прошли его юношеские годы, Булгаков сам упрямо назовет в решающем для его судьбы письме к правительству важную черту своего творчества – «глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противупоставление ему излюбленной и Великой Эволюции…».
Говоря о национальной самоориентации Булгакова-подростка и юноши, нужно иметь в виду не только, скажем, избирательность дружеских домашних связей, естественным для семьи преподавателя Духовной академии образом завязывавшихся в основном в кругу людей одного с ним вероисповедания. Нужно знать и специфическую ситуацию Киева начала XX века – города, в котором и вокруг которого жили люди нескольких национальностей, сохраняя не только замкнутость своего круга, но и взаимные претензии, уходящие в далекое и не очень далекое историческое прошлое. Один пример: в 1903 году известный киевский театральный критик Н. И. Николаев публикует статью о столетнем юбилее киевского театра – и весь его запал обращен на перипетии борьбы между польской и русской администрациями театра в первой половине минувшего века. Межнациональное напряжение в годы киевской юности Булгакова очень велико, оно побуждает к национальному самоограничению, к подчеркнутому отождествлению себя с определенной этнической общностью, нередко доводя этот процесс до уровня почти болезненной остроты. Это отличало родной город Булгакова от многих других областей и городов тогдашней России, где пестрота местного населения могла оставаться фактом преимущественно бытового порядка. Здесь же именно национальная принадлежность (в соединении с конфессиональным признаком) выступала нередко на первый план – когда, например, вставал вопрос о необходимости каких-либо групповых действий в общественно-политической сфере.
Описывая ситуацию, сложившуюся в Киеве в 1906 году в момент подготовки к выборам во II Думу, В. В. Шульгин, земляк Булгакова, пишет в своей последней, вышедшей в 1979 году в Москве книге «Годы. Воспоминания бывшего члена Государственной думы»: «Самой многочисленной группой были крестьяне… Второй по численности была группа польских помещиков, третьей – русских помещиков. Четвертая группа – горожан, которые почти все были евреи. Пятая – священников, русских по национальности. Наконец, шестая группа – чехи и немцы, колонисты». Шульгин показывает, что объединиться могли по-разному, в том числе и по социальному признаку («по классовому признаку мог быть блок всех помещиков без различия национальности, то есть союз русских и поляков. Если бы к этому союзу примкнули евреи-горожане, то такой блок имел бы большинство» – речь шла о количестве мест в Думе). Но ситуация сложилась так, что вместе выступили «помещики, батюшки и крестьяне» – то есть, как комментирует эти события Шульгин, «идея национального единства, поддержанная церковью, одержала верх». Все это (в том числе и комментарий Шульгина) очень характерно для настроений в Киеве 1900–1910-х годов. К моменту выборов Булгаков был еще несовершеннолетним, но, возможно, интересовался их ходом, а позже – деятельностью и II, а затем и III Думы, на которую возлагались надежды умиротворения. Может быть, именно здесь уместно будет, несколько забегая вперед, отметить, что Булгаков не только сознавал тюркское происхождение своей фамилии, но и считал необходимым подчеркивать это начало в своем роду. Об этом говорят по меньшей мере два факта. Один относится к 1929 году, и к нему мы обратимся в свое время, другой – к 1936-му, когда писался роман «Записки покойника». Герою этого романа, подчеркнуто близкому к автору, Булгаков дает фамилию Максудов, «татарская» окраска которой еще очевидней, чем его собственной, – хотя образована она от арабского по происхождению имени. Возможно, память писателя вынесла эту фамилию почти два десятилетия спустя как раз из юношеских впечатлений от газетных отчетов о заседаниях III Думы. На одном из этих заседаний, в январе 1909 года, В. В. Шульгин говорил о смертной казни. В русском народе, сказал он, «есть инстинктивное отвращение к смертной казни и к жестокостям правосудия вообще». Это явление «составляет нашу национальную гордость и наше национальное утешение, и оно крепко поддерживает нашу веру, когда мы говорим, что хозяином в этой огромной империи должен быть русский народ, потому что мы верим в то, что только он будет владыкой кротким и милостивым. (Рукоплескания справа, С. Н. Максудов, с места: „А кто русский народ?“)». Комментируя впоследствии этот эпизод, сам выступавший пояснял: «Сатретдин Назмутдинович Максудов по происхождению чистокровный татарин, образованный человек, окончивший в 1906 году в Париже юридический факультет. Он, вероятно, хотел сказать, что в составе русского народа достаточно „инородцев“, в том числе и татар». Не исключено, впрочем, что Булгаков мог встретить в печати эту фамилию и позже, в Москве, – в тот самый год, когда делался первый набросок будущего романа: в № 12 журнала «Печать и революция» за 1929 год сообщалось, что секцией литературы, искусства и языка Комакадемии намечен на 1930 год доклад Максудова «О состоянии марксистской критики в Татарии»…
Национальное самоотождествление не всегда и не везде является одинаково простым и естественным делом. В городе, где проходила юность Булгакова, этническое пересекалось с социально-политическим, исторически-традиционное, вероисповедное – со злободневными сословными и иными интересами. В. В. Шульгин, например, говоря о крестьянах, живших в это время вокруг Киева, определял их так: «По национальному признаку они были русские или, как тогда называли, малороссияне, по нынешней терминологии, украинцы». Для него важно и значимо лишь давнее общее прошлое – Киевская Русь; позднейшие процессы национального формирования во внимание не принимаются, как бы не существуют. Такая избирательность исторического взгляда, особенно рискованная для политического деятеля, была нередкой в предреволюционные годы в среде киевской русской интеллигенции. Отпечаток этой избирательности лежит и на некоторых страницах «Белой гвардии», что помогает реконструировать в какой-то степени взгляд на национальные проблемы молодого Булгакова. Но примечательно, что даже в семье Булгаковых его тогдашние умонастроения разделялись не всеми. В одну из наших встреч 1969 года, показывая семейные фотографии, Надежда Афанасьевна Земская, сестра писателя, сказала: «А это М. Ф. Книпович, мой тогдашний жених. Он был щирый украинец, как тогда говорили, то есть настроенный очень определенно; я тоже была за то, что Украина имеет право на свой язык. Михаил был против украинизации, но, конечно, принимал Книповича как друга дома…» (Через несколько лет Надежда Афанасьевна вышла замуж за филолога-русиста Андрея Михайловича Земского.) Небезразличен для биографа и тот факт, что близким к семье – особенно при жизни ее главы – человеком был профессор Духовной академии, автор трудов по истории украинской литературы XVIII–XIX веков Н. И. Петров, крестный отец М. А. Булгакова.
Один из слушателей Академии (принятый в нее в 1910 году), М. Я. Старокадомский, в своих неопубликованных воспоминаниях (любезно предоставленных нам в 1977 году Е. П. Кудрявцевой) свидетельствует, что в «Киевской академии неофициально существовал украинский „гурто́к“, воодушевленный идеями украинского национального движения. Члены его представляли собой одну из наиболее активных групп студенчества. Они посещали украинский клуб „Просвiта“, украинский театр, на своих собраниях ставили доклады на исторические и литературные темы и хором распевали мелодичные украинские песни. Через этот гурток я оказался вхожим в дом историка проф. Н. И. Петрова, 〈…〉 большого знатока украинской старины. У проф. Петрова в определенные дни (на „журфиксы“) собиралась прогрессивная профессура: 〈…〉 Кудрявцев, Рыбинский, Экземплярский, Завитневич…».
Вообще в среде петербургской профессуры еще в 1900-е годы бытовало мнение, что «Киевская академия по свежести и прогрессивности теперь у нас первая», это прямо связывалось с тем, что «она находится в руках такого человека, как Кудрявцев, который, не будучи членом Совета, держит последний в руках. Я просто испугался этого распространяющегося мнения, – писал Кудрявцеву в декабре 1906 года его петербургский корреспондент К. М. Агеев. – Вспомнились выпады против тебя Голубева…». Внутреннее движение в Академии, столкновение мнений, видимо, нарастало с начала века, и можно думать, что А. И. Булгаков занимал позицию умеренную, серединную, возможно, и примиряющую. Именно ее, нам кажется, будет впоследствии со всей осторожностью, требуемой условленным языком некролога, стремиться очертить Вл. Рыбинский: «Когда в Киеве несколько лет тому назад образовался кружок духовных и светских лиц, имевший целью обсуждение церковных вопросов и уяснение основ назревшей церковной реформы, Афанасий Иванович был одним из усерднейших членов этого кружка и принимал самое горячее участие в спорах». И пояснит специально, что «почивший профессор был очень далек от того поверхностного либерализма, который с легкостью все критикует и отрицает; но в то же время он был противником и того неумеренного консерватизма, который не умеет различать между вечным и временным, между буквой и духом и ведет к косности церковной жизни и церковных форм». Такого рода душевный склад и интеллектуальное поведение, авторитетное для сына при жизни отца, быть может, еще более глубоко было продумано им впоследствии.
После ревизии, проведенной в Академии в 1908 году архиепископом волынским Антонием (который, среди прочего, назвал П. П. Кудрявцева «русским Вольтером»), после написанной прогрессивным крылом Академии в ответ на итоги ревизии «Правды о Киевской духовной академии», введения нового устава и уже определившегося раскола академической корпорации на «левых» и «правых» прогрессивные веяния продолжали витать и на кафедрах, и, видимо, еще более – на домашних «журфиксах». В свои юные годы Булгаков всегда имел прямую возможность встать ближе к этим веяниям – хотя бы по семейным связям с Н. И. Петровым, В. И. Экземплярским, В. З. Завитневичем, – но пока нет фактов, которые позволили бы утверждать, что этой возможностью он воспользовался. Мы спрашивали, например, Татьяну Николаевну (первую жену Булгакова), ходил ли он к зданию суда в дни процесса по делу Бейлиса (в 1913 году, когда Булгаков был уже студентом). Нет, она уверенно отвечала, что не ходил, они только проходили мимо суда, направляясь по своим делам, в момент объявления приговора и видели, как обнимались и целовали друг друга люди. О том же говорит Е. Букреев: «Я уверен, что он не был на суде». Сравним с этими свидетельствами воспоминания дочери П. П. Кудрявцева: «Активно, горячо боролся отец с юдофобскими настроениями в дореволюционном Киеве. Помню нашумевший в 1913 году процесс Бейлиса. Была я тогда в VI классе гимназии, было мне, следовательно, лет 15–16. Мама решила в одно из воскресений устроить вечеринку, собрать молодежь, наших сверстников. Вышло так, что это было как раз накануне объявленного уже суда над Бейлисом. Помню, как взволновался папа, узнав о готовящемся на завтра вечере: „Как, – говорил он маме, – Бейлиса завтра осудят, а вы танцевать будете?“ Вечеринка была, конечно, отменена».
Давно уже стало наивным представление о том, что большой писатель всегда, в любой момент своей жизни тяготеет к «левому» краю общественных умонастроений. Биографии великих предшественников Булгакова, русских писателей XIX века, показывают, что нередко дело обстояло далеко не так (еще более наивно, впрочем, делать отсюда вывод, что всякий, кто тяготеет к малопочтенным предрассудкам, тотчас оказывается под защитой великих авторитетов). Но Булгаков, в отличие от них, все еще никак не завоюет в нашем общественном сознании право иметь свою собственную, а не чью-нибудь чужую биографию. Его современники нередко старались ухудшить его анкету, сегодняшние поклонники стремятся ее «улучшить».
Современному читателю, пожалуй, особенно трудно понять (и потому тяжело принять), что быть в стороне от общественно-политической активности вовсе не означало сразу оказаться на некоем противоположном этой активности полюсе, застыть на какой-то одной, заранее определенной точке. Спектр возможностей при таком отстранении был достаточно широк, и одной из них была жизнь частного лица, оберегающего свою независимость и при этом отнюдь не стремящегося противопоставить или навязать свой способ существования тем, кто живет и действует иначе. Желание противопоставить являлось лишь в моменты обострений, когда такое жизнеповедение уже нуждалось в защите. В последующие десятилетия эта защита становилась невыполнимой задачей.
2
Биографов знаменитых людей привычно занимает вопрос – выделялись ли эти люди в отрочестве? Возлагали ли на них особые надежды учителя и однокашники? Что думали о Булгакове его гимназические учителя, мы уже вряд ли узнаем – учителя редко доживают до славы своих питомцев, тем более когда она так сильно запаздывает.
Положение в толпе ровесников говорит немало – не о степени таланта, а о типе личности.
Каким же был или, верней сказать, каким слыл Булгаков в годы учебы? Е. Букреев: «В первых классах был шалун из шалунов. Потом – из заурядных гимназеров. Его формирование никак не было видно. Вот Кожичи – в классе на год нас старше, – они формировались уже в гимназии…» – Речь шла о сыновьях П. Кожича, будущих режиссерах В. П. Кожиче и И. П. Кожиче (Чужом).
«Была ли неожиданностью для однокашников его литературная карьера?
– Совершенной неожиданностью! Про него никто бы не мог сказать: „О, этот будет!..“ – как, знаете ли, говорили в гимназиях обычно про каких-то гимназистов, известных своими литературными или другими способностями. Он никаких особенных способностей не обнаруживал…»
(Напомним свидетельство современницы Гоголя, С. В. Скалон, провожавшей его, девятнадцатилетнего, в Петербург: «В то время мы ничего особенного в нем не видели».)
Центр его жизни был не в гимназии, не в кружках по склонностям, а в семейном кругу и в домах близких товарищей. Аттестат зрелости, выданный 8 июня 1909 года, свидетельствует, что «при отличном поведении» сын статского советника Булгаков обнаружил знания отличные лишь по двум предметам – Закону Божьему и географии, по остальным же – хорошие и удовлетворительные.
Заканчивал гимназию Михаил Булгаков, однако, совсем в другой семейной ситуации, чем начинал.
В 1906 году заболел отец. «Уже весной 1906 года, – напишет потом автор некролога, – Афанасий Иванович стал чувствовать какое-то подозрительное недомогание. В течение лета болезнь, которой сначала покойный не придавал значения, усилилась и к началу текущего учебного года резко выразилась потерей зрения и общим сильным ослаблением организма. Произведенными врачебными исследованиями скоро констатирована была наличность у Афанасия Ивановича серьезной хронической болезни почек. Началось энергическое лечение. Но все усилия врачей киевских, а потом и московских сломить болезнь не привели ни к каким результатам. Болезнь так быстро прогрессировала, что близость печального исхода ее была ясна уже для всех». Через много лет судьба заставит Михаила Булгакова вспомнить весь скорый ход болезни отца…
Сохранились последние фотографии Афанасия Ивановича тем летом в Буче, в окружении всех детей, с самой младшей – четырехлетней Лелей, единственной из детей похожей на отца, воспринявшей его темный цвет волос, круглый овал лица.
Последняя дочь Афанасия Ивановича родилась в 1902 году, и принимала ее жена его младшего брата Сергея Ивановича, акушерка по профессии. В том же 1902 году скоропостижно умер двадцатидевятилетний Сергей Иванович. Это была, по-видимому, первая смерть близкого родственника в жизни одиннадцатилетнего Михаила. Вдову брата Ирину Лукиничну Афанасий Иванович посчитал долгом пригласить жить в свой дом. Все последующие годы она прожила в доме Булгаковых, главным образом занимаясь Лелей – своей любимицей.
В 1906 году был снят тот самый дом № 13 на Андреевском спуске, которому суждено было надолго стать пристанищем семьи и прообразом места действия романа «Белая гвардия».
Начались тяжелые для семьи осень и зима 1906–1907 годов. Михаил и старшие сестры, Вера и Надя, знали, что отец умирает. «Его лечили от болезни глаз, а это было только следствие, – рассказывала нам Надежда Афанасьевна. – Отец очень исхудал. Когда он уже не мог читать сам – я читала ему статьи на чешском языке, и он был недоволен моим произношением. Сам он прекрасно знал латынь, греческий, французский, западнославянские языки (читал также на немецком и английском – просматривал, как уже говорилось, поступившие в цензуру книги и на этих языках)…» Одни языки Афанасий Иванович, видимо, знал лучше, другие хуже, но живой этот пример остался в памяти Булгакова навсегда и через много лет отозвался в ответе Мастера Ивану, окрашенном авторской, почти детски-простодушной гордостью за своего героя: «Я знаю пять языков, кроме родного, – ответил гость, – английский, французский, немецкий, латинский и греческий. Ну, немножко еще читаю по-итальянски», еще более – в реплике Ивана: «– Ишь ты! – завистливо шепнул Иван».
11 декабря 1906 года Афанасий Иванович был удостоен советом Духовной академии степени доктора богословия. Совет возбудил также ходатайство перед Синодом, как повествует некрологист, «об удостоении Афанасия Ивановича звания ординарного профессора, с присвоенным сему званию содержанием. 8 февраля 1907 г. Св. синод удовлетворил это ходатайство. На получение ординатуры Афанасий Иванович возлагал большие надежды…»
Действительно, служба в Академии доставляла А. И. Булгакову 1200 рублей годовых и ровно столько же – служба цензора. Постоянная необходимость в дополнительной работе для заработка, видимо мучившая его и по жестокой иронии судьбы отпавшая лишь в последний месяц жизни, осталась, нам кажется, устойчивым представлением в памяти Булгакова; это могло усугублять раздражение от возникшей в начале 1930-х годов и не оставлявшей его уже до смерти подобной же необходимости.
«9 марта Афанасий Иванович подал прошение об увольнении по болезни от службы в Академии, – сообщалось далее в некрологе. – 11 марта он приобщился св. Тайн и с великим благоговением принял св. Елеосвящение. 14 марта, около десяти часов утра, Афанасия Ивановича не стало… В тот же день, в 4 часа пополудни, была отслужена академическим духовенством у гроба почившего панихида, на которой присутствовали профессора Академии и студенты. 15 марта гроб с останками почившего был перенесен в Св. Духовскую церковь Братского монастыря, а 16-го в великой Братской церкви состоялось отпевание». В надгробной речи один из сотоварищей А. И. Булгакова, Д. И. Богдашевский, вспоминал о его последних днях: «Беседовали мы с тобою о разных явлениях современной жизни. Взор твой был такой ясный, спокойный и в то же время такой глубокий, как бы испытующий. „Как хорошо было бы, – говорил ты, – если бы все было мирно! Как хорошо было бы!.. Нужно всячески содействовать миру“. И ныне Господь послал тебе полный мир… „Отпусти“ – вот последнее твое предсмертное слово своей горячо любящей тебя и горячо любимой тобой супруге. „Отпусти!..“ И ты отошел с миром! Ты мог сказать: „Ныне отпущаеши раба твоего, Владыко, по глаголу твоему с миром“ (Лук. II, 29)». Через тридцать с лишним лет последнее слово умирающего найдет отзыв в последней главе последнего романа его сына: «– Отпустите его, – вдруг пронзительно крикнула Маргарита…»
Так в марте 1907 года Михаил, которому не было еще шестнадцати, стал старшим сыном в семье, оставшейся без отца.
Давно овдовевшая бабушка Анфиса Ивановна, каждое лето приезжавшая на дачу к Булгаковым из Карачева, сказала ему: «Ты, Миша, уже взрослый, тебе пора маму звать на вы». С этого времени он так и обращался к матери.
Академия хлопотала о возможно большей пенсии – и семья получила содержание большее, чем Афанасий Иванович зарабатывал на двух должностях.
В судьбе семьи умершего профессора принимали участие его сослуживцы, среди них – Василий Ильич Экземплярский, профессор нравственного богословия; вместе с А. И. Булгаковым он был деятельным членом Религиозно-философского общества им. Владимира Соловьева (председателем общества был П. П. Кудрявцев), а в 1916 году стал основателем журнала «Христианская мысль».
…Если следовать от дома Булгаковых вниз к церкви Николы Доброго, в те годы еще целой, то по левую руку окажется улица Боричев Ток. На правой стороне улицы, в доме не совсем обычной архитектуры, в два с половиной этажа, и проживал профессор. Осенью 1980 года невестка о. Александра, 75-летняя, уже смертельно больная Татьяна Павловна Глаголева, когда-то – в пореволюционные годы – ходившая к Экземплярскому вместе со своей сверстницей Лелей Булгаковой, водившая его под руку гулять, сказала нам с невыразимой убежденностью: «Самый умный и самый изумительный человек, которого я встречала в своей жизни». И она показала хранившуюся у нее собранную им огромную коллекцию, о которой еще в апреле 1975 года сообщили нам киевские поклонницы творчества Булгакова Н. Елшанская и М. Л. Кондратьева – со слов священника о. Георгия, ученика Экземплярского.
Это была коллекция фоторепродукций с изображением Христа. Прекрасный фотограф (лучшие фотографии семьи Булгаковых сделаны им), В. И. Экземплярский делал эти фотографии с определенной целью. «Он ставил себе цель – написать работу „Лик Христа в изображениях“», – сказала Татьяна Павловна.
Это были фотографии в основном одного и того же формата, большей частью коричневого тона, наклеенные на серые паспарту. На обороте Экземплярский помечал синим карандашом имя художника, название картины или гравюры и ставил порядковый номер. Судя по некоторым из этих номеров, коллекция состояла из более чем десятка тысяч воспроизведений… Коллекцию эту помогала впоследствии разбирать ослепшему профессору Леля Булгакова, но старший брат, несомненно, видел ее, и, можно думать, не раз, гораздо раньше. Отроческие и юношеские впечатления от множества собранных вместе изображений евангельских эпизодов, возможно, остались в зрительной памяти и воздействовали на будущие замыслы писателя – вместе с росписями стен киевских соборов, вместе с панорамой «Голгофа» на Владимирской горке.
Летом по-прежнему выезжали на дачу. Появлялись, как рассказывала нам Надежда Афанасьевна, привычные лица – Корней Лукьянович Стрельцов, жена его Авдотья Ивановна. (В 1923 году фамилия эта вспомнится Булгакову – он присвоит ее персонажу рассказа «Налет».) Зимой он был истопником при Религиозно-философском обществе, а летом – дворником на даче Булгаковых; жена его была у них кухаркой. В саду Корней устроил купальню, вода туда была проведена из колодца. «Идите, мальчики, скорее умываться, Вера в купальню собирается!» – кричали сестры. Старшая из сестер была копуша.
Вместе с Булгаковым переезжала на дачу жившая в их доме тетка Ирина Лукинична – прислуга звала ее «черная барыня»: в отличие от Варвары Михайловны она была брюнетка. Каждое лето на даче гостила бабушка Анфиса Ивановна. (Умерла она в 1910 году в Москве, у сына – врача Николая Михайловича Покровского.) По свидетельству Надежды Афанасьевны, была она «не очень грамотная, но любознательная, с живым умом. Вдруг взялась читать Достоевского и все время читала. А на мой вопрос сказала: „Надечка, ты пойми, мне ведь мало осталось жить – не могу же я не знать такого писателя!“ Переезжали и племянники Афанасия Ивановича, Константин и Николай, также постоянно жившие у Булгаковых дети его брата Петра, священника русской миссии в Японии (в Токио). Когда в 1915 году единственная их дочь умерла в Токио от менингита – после мгновенной скарлатины, жена Петра Ивановича, по рассказу Надежды Афанасьевны, приезжала и просила у матери: „Отдайте мне Лелечку! У вас семеро, а у нас теперь никого нет“. Было очень много волнений по этому поводу. Братья и сестры не отдали». В Буче, как и в городе, жила у Булгаковых и Иллария, Лиля, дочь брата Афанасия Ивановича, Михаила Ивановича, постоянно проживавшего в городе Холм Люблинской губернии – он преподавал там в семинарии. В 1909 году из Карачева приехала на лето младшая сестра Варвары Михайловны Александра Михайловна Бархатова (урожденная Покровская) с семилетним Алексеем и четырехлетней Александрой, приезжали они и в 1912 году. Спустя более чем полвека Александра Андреевна Ткаченко (урожденная Бархатова), двоюродная сестра писателя, вспомнит в первую очередь это многолюдство и общее впечатление веселья, радостной доброжелательности.
Понятно, что чем более все это удалялось в невозвратное прошлое, тем более, по контрасту с новым бытом, разрасталось, укрупнялось впоследствии в памяти писателя.
К 16 августа по старому стилю – к началу занятий в гимназии – семья возвращалась в город. Старшие задерживались, ездили в гимназию по железной дороге.
Друзьями гимназических лет Булгакова были Платон и Саша Гдешинские, младшие из пятерых сыновей Петра Степановича Гдешинского, помощника библиотекаря Духовной академии. Семья эта была очень близкой Булгаковым, почему и скажем о ней несколько подробней. Старшие сыновья (от первого брака Петра Степановича), Поликарп и Николай, в те годы были уже священниками под Киевом.
Киевлянин С. А. Касьянюк сообщил нам 15 октября 1987 года некоторые свидетельства о юноше Булгакове своей родственницы, Нины Поликарповны Гдешинской, по мужу Мошковской (1900–1986). Когда в середине 1960-х годов ей прочли вслух отрывок из романа «Мастер и Маргарита», она, не зная автора, будто бы угадала Булгакова. Старшая из четырех (Нина, Зина, Лида, Наталья) дочерей Поликарпа Петровича (р. 1876), учениц епархиального училища, она, оказывается, бывала вместе с сестрами в доме Булгаковых по воскресным дням.
«Мишка любил играть с нами. Шутил. Разыгрывал. Начинал словами: „Поедем в эваку“. План эвакуации у всех будоражил воображение. И начинались фантазии – куда и как будем ехать.
Любил всякую чертовщину. Спиритические сеансы. Рассказывал всякие чудасии…»
Как справедливо написал наш корреспондент, «глубокое знание „чертовщины“» и обыгрывание ее в 1910–1915-е годы М. Булгаковым, «вызревание» этой темы издавна – «штрихи к биографии» писателя.
Впоследствии сестра Соня (р. 1898), чьи воспоминания мы будем цитировать, стала, по словам вдовы Александра Гдешинского, «страшнейшая атеистка. Когда она в селе учительствовала (с 1916 года), то читала лекции об атеизме и говорила: „Если я даже не совсем могла убедить – мне важно было заронить искру сомнения“. Такой же была и сестра Катя, намного ее старше. А их старший брат Гриша очень страдал от этого и даже ездил к сестрам из Одессы, где был священником, – убеждать их. Но Соня мне сказала: „Пожалуйста, передайте ему, что я в эти сказки не верю и пусть меня оставят в покое“».
Пока же, в описываемое нами время, младшие сыновья Петра Гдешинского, как в свое время старшие, учатся в духовной семинарии. Но долго учиться им там не придется. «Миша часто иронизировал над их семинарским званием, – вспоминает одна из сестер, Софья Петрушевская, в письме к Ларисе Николаевне Гдешинской от 10 декабря 1971 года. – Как-то он приехал на новеньком велосипеде. Саша и Тоня стали тоже учиться ездить, и когда у них плохо получалось, Миша садился на велосипед, выделывал невозможные зигзаги и утверждал, что так ездить могут только семинаристы». «Невероятный дразнилка» (Е. Букреев)… Уже в мальчишеских проделках – та страсть к «показу», к театрализации, которая сохранится на всю жизнь и пронижет и домашний уклад (мы не раз еще обратимся к эпизодам этого рода), и литературу. И эти самые велосипедные зигзаги по меньшей мере дважды станут предметом изображения в его романах: «Патрикеев взгромоздился на машину 〈…〉 тронул педали и нетвердо поехал вокруг кресла, одним глазом косясь на суфлерскую будку, в которую боялся свалиться, а другим на актрису 〈…〉 Патрикеев поехал снова, на этот раз оба глаза скосив на актрису, повернуть не сумел и уехал за кулисы» («Театральный роман»). Это было, так сказать, воспоминание о том, «как ездят семинаристы», – в отличие от той залихватской, виртуозной езды, к которой стремился, видимо, в юности он сам, и в память об этом стремлении в «Мастере и Маргарите» выезжает на сцену варьете маленький человек на обыкновенном двухколесном велосипеде. «Проехавшись на одном заднем колесе, человечек перевернулся вверх ногами, ухитрился на ходу отвинтить переднее колесо и пустить его за кулисы, а затем продолжал путь на одном колесе, вертя педали руками…»
Другая сестра, Катя, пишет Ларисе Николаевне 22 ноября 1971 года: «Влияние Миши на моих братьев сказалось прежде всего в том, что мои братья, которые учились тогда в духовной семинарии, стали готовиться к поступлению в институт». Об этом же слышала от своего мужа Лариса Николаевна: «Саша говорил, что по светской дороге они пошли под влиянием Миши – оказали свое действие вечера в „открытом доме“ Булгаковых, с музыкой. Он их ввел, так сказать, в светскую жизнь – заставил полюбить все это. И, по-моему, уговаривал их уйти из семинарии – хотя это было трудно, везде в других заведениях уже надо было платить за обучение». Из семинарии братья один за другим ушли из четвертого класса – сначала тайком от отца и, кажется, сами зарабатывали на свое обучение.
Любовь Михайловна Скабалланович, дочь профессора Скабаллановича, рассказывала нам 10 октября 1987 года: «Мой отец был очень далек от политики. Когда в Академии проводили ревизию, архиепископ сказал: „Тут всех надо поразгонять, кроме Скабаллановича. Он предан душой и телом религии“. Когда мой отец в 1906 году перевелся из Мариуполя в Киев, он занял кафедру богословия. Мы жили на Подоле, рядом с Академией, в трехэтажном старинном академическом доме, в огромной квартире из девяти комнат, предназначенной для ректора… К нам заходил доктор Иван Павлович Воскресенский, лечивший в тот год А. И. Булгакова. Он приходил к нам всегда поздно, меня мать будила, чтобы он осмотрел; он говорил мне: „Вы простите, Любочка, что я так поздно, – был у Булгаковых“. Скоро пришло время мне идти в приготовительный класс – в знаменитую немецкую гимназию на Лютеранской улице, рядом с немецкой кирхой, и я увидела девочек Булгаковых, оканчивающих гимназию в тот год, как я в нее поступила. Леля, младшая, пришла к сестрам – там мы познакомились, она стала у нас бывать. В нашем доме жил помощник библиотекаря Академии. Одна из его дочерей, Соня, была старше меня на два-три года, но мне не очень-то позволяли к ней ходить. Мать моя находила, что это испорченная девочка. Помощник библиотекаря – это считалось неподходящая компания. – А в чем видели эту „испорченность“? – Ну, она не слушалась родителей, грубила… После революции ее мать, простая добрая женщина, сказала: „Я теперь стара, помирать скоро буду, не знаю, куда деваться. У Сони я жить не могу, потому что меня там похоронят, как собаку, без отпевания“. Гдешинские была семья малочитающая, малоинтеллигентная. А девочки Булгаковы были более начитанные. Как-то однажды я была у них (меня из дому мало отпускали). Мне было лет 10 или около того. И вышел брат их; ему было лет 20. Он с нами почти не разговаривал – так только, для приличия, ведь мы были намного моложе. Запомнился человек совершенно замкнутый, уединенный. Довольно плотный, не очень тонкий – Гдешинские по сравнению с ним были довольно тонкие. Лицо самое заурядное, ничем не примечательное. Я взглянула на него – так, без интереса…»
Над семьей Скабаллановичей жила семья профессора Кудрявцева. «Академическая корпорация жила очень замкнуто… В семье Кудрявцевых тоже были две девочки». Одна из них, Екатерина Петровна, передавала нам свои впечатления давних лет (дочери преподавателей Академии учились в одной гимназии, основанной группой немцев-колонистов в Липках – аристократическом квартале; полное ее название было – женская гимназия при Киевском евангелическом обществе св. Екатерины. «Перед глазами стоит обычная картина – Надя Булгакова с сосредоточенным видом ходит по коридору со старшей Френкель, и они говорят на философские темы. Мы жили потом на Боричевом Токе, в одном доме с профессором Экземплярским. И вот я сижу в гостиной в нашем доме, и горничная доложила, что кто-то пришел. Пришел Михаил Афанасьевич за Лелей, она у нас играла – ей было лет 10. Помню, пока она собиралась, молодой человек беседовал с моей мамой. Помню его слова: „Знаете, а я женился“. И мне показалось, что он сказал – сегодня».
…Летом 1908 года в жизни Михаила Булгакова завязалась романическая история.
В то лето в Киев приехала саратовская гимназистка Татьяна Лаппа, дочь тамошнего управляющего казенной палатой. В Киеве жили ее бабушка и тетка по отцу – Софья Николаевна, она дружила с Варварой Михайловной Булгаковой – кажется, на почве общих занятий в образовавшемся в тот год в Киеве Фребелевском обществе (объединявшем деятелей дошкольного воспитания).
Спустя семьдесят лет без малого Татьяна Николаевна, урожденная Лаппа, рассказывала:
«Тетка сказала: „Я познакомлю тебя с мальчиком. Он покажет тебе Киев“.
Познакомились. Гуляли почти все время одни; были в Киево-Печерской лавре. Потом переписывались. Я должна была приехать в тот год на Рождество, но родители не пустили почему-то – в Киев послали брата Женю, а меня в Москву, к бабушке. А в это время Мишин друг, Саша Гдешинский, прислал телеграмму: „Телеграфируйте обманом приезд Миша стреляется“. Отец сложил телеграмму и отослал в письме сестре: „Передай телеграмму своей приятельнице Варе“…» Михаил кончал гимназию, сильнейшим образом увлеченный. Препятствия к встречам обостряли роман.
Трудно судить, по своей ли воле или повинуясь воле матери (на этом настаивает только сестра Гдешинских в своих воспоминаниях) выбрал он летом 1909 года, заканчивая гимназию, профессию врача. Иван Павлович Воскресенский, ставший вторым мужем матери, был врачом-педиатром. Врачами были несколько братьев матери. У юной подруги Михаила Татьяны Лаппа не сохранилось в памяти впечатления о каких-либо его колебаниях по поводу этого выбора.
В тот год, когда он окончил Первую гимназию, готовился поступать в приготовительный класс его младший брат Ваня (в первом классе он будет учиться – на разных отделениях – с будущим поэтом Николаем Ушаковым), а в первый – брат Николай (вместе с Виктором Сынгаевским, на год моложе его). Два года до гимназии оставалось будущему режиссеру В. В. Кузе, с которым столкнет судьба Булгакова в Москве; в третий класс перейдет будущий драматург и будущий сосед по лестничной площадке Борис Ромашов; в шестой класс пойдет кузен и любимый друг Костя Булгаков (на три года младше Михаила).
Итак, с гимназией было покончено. «О восемь лет учения! Сколько в них было нелепого и грустного и отчаянного для мальчишеской души, но сколько было радостного. Серый день, серый день, серый день, ут консекутивум. Кай Юлий Цезарь, кол по космографии и вечная ненависть к астрономии со дня этого кола. Но зато и весна, весна и грохот в залах, гимназистки в зеленых передниках на бульваре, каштаны и май, и, главное, вечный маяк впереди – университет, значит, жизнь свободная, – понимаете ли вы, что значит университет? Закат на Днепре, воля, деньги, сила, слава.
И вот он все это прошел…»
…Не осталось ни дневника, ни писем восемнадцатилетнего Михаила Булгакова. У нас почти нет достоверных свидетельств о круге его мыслей, чаяний, о его жизненных целях. Воспоминания Алексея Турбина в «Белой гвардии» – едва ли не наиболее убеждающие для наших задач. И можно, не сомневаясь, описать это время в жизни юноши Булгакова как время надежд – надежд на обретение уверенности, силы, славы. Какой именно славы? Тогда, видимо, именно славы врача. Многие атрибуты этой профессии были притягательны для юноши Булгакова. Впоследствии он признается своему биографу, что работа врача казалась ему «блестящей». Это слово важное, значащее, почти символическое. Оно не раз отзовется в его прозе, где работа врача или биолога-экспериментатора всегда будет нарисована в ореоле таинственности, притягательности, и блестящий в буквальном смысле инструментарий будет немаловажным ее аксессуаром. И брату своему, окончившему медицинский факультет уже не в России, уже навсегда расставшись с матерью, братом и сестрами, он пожелает в письме: «Будь блестящ в своих исследованиях».
В начале 1910-х годов (точнее: 1909–1913), когда Булгаков начал осваивать избранную им специальность, занятия в университете пошли неровно, прерываясь студенческими волнениями. 9 ноября 1910 года известие о смерти Льва Толстого вызвало демонстрации, и за беспорядки несколько студентов университета были арестованы. Можно с равной степенью уверенности предположить, что смерть Толстого произвела на Михаила Булгакова глубокое личное впечатление и что к каким-либо общественным выступлениям по этому поводу он не был причастен. Вообще пока не обнаружено следов участия Булгакова в студенческих волнениях 1910–1911 годов (хотя предприняты, как можно видеть по печатным работам, настойчивые поиски документов этого именно рода); напротив – есть основания предполагать, что он остался от них в стороне, что довольно бурная политическая жизнь киевского студенчества тех лет оставалась не более чем фоном его собственной жизни. Но мы предполагаем, что фактом его биографии ранних студенческих лет стало переломное событие в жизни друга их семьи В. И. Экземплярского, связанное с именем Толстого. Ранней осенью 1911 года он издал брошюру под названием «Гр. Л. Н. Толстой и св. Иоанн Златоуст и их взгляды на жизненное значение заповедей Христовых», где писал: «Толстой не учитель церкви. Та „часть истины“, которая прошла через его сознание, уже с первых веков христианства заключена в творениях великого церковного учения, заключена во всей полноте… Но гр. Л. Н. Толстой – это живой укор нашему христианскому быту и будитель христианской совести… усыпляется совесть этим мнимо христианским бытом, и сладко сознание, что можно считать себя последователем Христа, сделав его Крест украшением своей жизни, но не нося на себе тяжести этого Креста».
За эту брошюру об отлученном от церкви писателе Экземплярский был уволен из Академии[39]. Об этом в кругу родных и близких Булгакова, разумеется, велись разговоры. Обсуждалось, скорее всего, и содержание брошюры, которая, надо полагать, была Булгаковым прочитана. А если так, то мысль автора могла стать одним из первых толчков к размышлению Булгакова вообще о роли писателя в оценке соответствия современного ему быта христианским заповедям, об огромности возможного масштаба взятой на себя писателем широкой учительской задачи. Пример Толстого, многосторонне важный для него в последующей литературной жизни, возможно, уяснялся еще при чтении брошюры Экземплярского.
В январе 1911 года Совет министров ликвидировал автономию высших учебных заведений, запретив студенческие сходки в стенах университета. В ответ 1 февраля началась забастовка, длившаяся до начала апреля 1911 года. Занятия в университете почти прекратились. Этому противодействовала партия академического порядка студентов университета; она стремилась к сохранению непрерывности занятий, и профессорам по ее просьбам разрешено было читать лекции, даже если на них присутствовал только один студент. Опять-таки с немалой долей вероятия можно предполагать, что сочувствие Михаила Булгакова было на стороне именно этой, «академической». Им владело желание скорее получить специальность, диплом врача, стать свободным…
«…За восемью годами гимназии, уже вне всяких бассейнов, трупы анатомического театра, белые палаты, стеклянное молчание операционных…»
Весь 1911 год был неспокойным. Весной – суд над студентом Крыжановским. В сентябре – в городском театре убийство на глазах всей публики председателя Совета министров П. А. Столыпина.
Незадолго до этого события, всколыхнувшего город и всю Россию, в конце июля 1911 года, приехала в Киев Татьяна Лаппа, окончившая в Саратове гимназию. Некоторое время она гостила у Булгаковых – на даче. Хотела остаться в Киеве, у бабушки и тетки, но отец не разрешил: «Поработай год – тогда поедешь в Киев!» – и в начале сентября пришлось уехать в Саратов (начинались занятия в училище, куда Татьяна поступила классной дамой). В доме Булгаковых царило то молодежное оживление, которое установилось после смерти отца, при жизни которого домашний уклад был иным, более строгим, когда каждое воскресенье у них читали вслух Евангелие. Для понимания формировавшихся в молодые годы умозрений Булгакова по вопросам основным, онтологическим, биограф располагает, в сущности, двумя основными источниками: общее представление об историко-культурном контексте 1900-х годов, складывающееся из множества данных, и единичные свидетельства современников. К ним мы должны быть особенно внимательны. «Евангелие читал вслух, видимо, сам отец, – вспоминает Е. Б. Букреев в нашу последнюю встречу 8 сентября 1983 года. – Семья была богобоязненная. Но дети все отнюдь не были религиозны. Атмосфера в доме после отца была иная… Поклонники Варвары… Она была очень похожа на Мишу. Некрасивая, но чрезвычайно женственная. Вообще студенты в те годы были совершенно индифферентны к религии. Еще медики, знаете. Они вообще этим не интересуются». Смерть отца, занятия на медицинском факультете, новые и сильные впечатления от знакомства с дарвиновской теорией происхождения человека, воздействие отчима-врача, влияния времени, поставившие под вопрос то, что было незыблемым для отца Булгакова, – все это оказало свое действие. «С благоговением вспоминаем, – говорит над гробом А. И. Булгакова один из его учеников по Академии, – что на свое христианское звание – я – прежде всего христианин! – покойный всегда указывал в частной своей жизни», что «его высший религиозный интерес, соединявший в себе и церковность, и настроение, был для него не одним из многих интересов его жизни, а как бы самым существом его жизни», что он верил – «и теперь, когда, кажется, кругом вас все возмутилось против вас и ваших верований, возможно наивно-чистое, религиозно-цельное христианское мировоззрение…»[40]. Для старшего сына Афанасия Ивановича это было уже невозможно.
В марте 1910 года в дневнике сестры Булгакова Надежды Афанасьевны засвидетельствован отход старшего брата от обрядов (он не хочет соблюдать пост перед Пасхой, не говеет) и его решение религиозных вопросов в пользу неверия[41].
Десятилетие спустя, пережив роковые события века, Булгаков заново вернется к этим решенным в юности вопросам.
Вернемся еще раз к нашей беседе с невесткой священника церкви Николы Доброго А. А. Глаголева, послужившего прототипом о. Александра в «Белой гвардии». Она была женой его старшего сына, также священника, о. Алексея. После смерти А. И. Булгакова о. Александр предложил Варваре Михайловне давать уроки его маленькому сыну – «его возили к ней на саночках». Были еще дочь Варвара, Вава, еще один сын. Дружили ли они, когда подросли, с молодыми Булгаковыми? «Нет, – возразила сразу же Татьяна Павловна и пояснила: – Булгаковы все же были такие вольнодумные…» Но это – подчеркнем! – на взгляд жены и невестки священника. Тому, кто размышляет над биографией и творчеством Булгакова, всегда надо иметь в виду: что бы ни происходило со старшим сыном доктора богословия в первые годы после смерти отца и в последующие десятилетия – все это воздвигалось на фундаменте, заложенном в детстве: он был уже невынимаем.
Итак, в доме на Андреевском спуске в университетские годы Михаила Булгакова было оживленно, весело. По «нечетным субботам» устраивались «журфиксы» – собиралась молодежь, танцевали, пели, Коля и Ваня играли на балалайке, на гитаре… В эти вечера, вспоминает Софья Петрушевская-Гдешинская, братья ее шли на Андреевский спуск; Саша играл там на скрипке под аккомпанемент сестры Михаила Вари – она училась, так же как Саша Гдешинский, в консерватории, по классу рояля; «Саша играл тогда Первый концерт Вьётана, „Колыбельную“ Эрнефельда, „Цыганские напевы“ Сарасате, Гайдна и Крейслера». Музыка окружает в то время Булгакова, заполняет его жизнь, будит уже и личные надежды. Музыкальная жизнь Киева в те годы и роль этих впечатлений в его последующем творчестве – особая и важная, еще совсем не исследованная тема. Он постоянно ходит в оперу, не пропускает гастролей оперных певцов и сам едва ли не всерьез задумывается над такой карьерой. Это увлечение со временем прошло, но исключительная любовь к оперному пению сохранилась навсегда, как и пристрастное отношение к пению вообще (пошло еще с юности – пущено было им про сестру, певшую после гимназии в хоре: «Голосок у Веры маленький, но противный»).
Первые литературные попытки относятся к этому же времени. Сестра писателя Н. А. Земская в письме к Е. С. Булгаковой (от 18–25 апреля 1964 года) сообщала: «Я помню, что очень давно (в 1912–1913 годах), когда Миша был еще студентом, а я – первокурсницей-курсисткой, он дал мне прочитать рассказ „Огненный змей“ – об алкоголике, допившемся до белой горячки и погибшем во время ее приступа: его задушил (или сжег) вползший к нему в комнату змей (галлюцинация)…» Пока это были скорее мечты о писательстве (как еще недавно – о карьере оперного певца), чем тот выбор, который становится бесповоротным.
В доме № 13 у Булгаковых появились между тем новые соседи – дом купил инженер Василий Павлович Листовничий и поселился в нижнем этаже с женой, полькой Ядвигой Викторовной, и маленькой дочерью Инной. «Мы покупали дом вместе с жильцами, – рассказывает его дочь Инна Васильевна Кончаковская. – Варвара Михайловна пришла к отцу и очень умно с ним говорила. „Я вдова, у меня семь детей…“ – в общем, уговорила его не трогать их, обещая, что они не хлопотный народ». В это время Михаил уже имел в квартире свою комнату – угловую с балконом. Дочь Листовничего рассказывает о размолвке Михаила с ее отцом из-за этой комнаты: перевезли из Чернигова больную открытой формой туберкулеза мать Листовничего, и он, боясь заразить жену и дочь, попросил у Варвары Михайловны во временное пользование комнату Михаила: «Там был сделан отдельный вход, с улицы, так что с Булгаковыми бабушка не общалась совершенно. В июле она к нам переехала, а в октябре уже умерла… Варвара Михайловна дала согласие, а Мишка наговорил дерзостей» (запись Я. Б. Вольфсона).
Если бы ситуацию излагал кто-либо из членов семьи Булгаковых, она, видимо, выглядела бы иначе: внизу в семи комнатах жили четверо (с горничной), вверху в семи – видимо, не менее одиннадцати человек (включая двух двоюродных братьев и Ирину Лукиничну, жившую в одной комнате с Лелей). Даже временная потеря комнаты была очень чувствительна.
Отношения с Листовничим у старшего из Булгаковых сразу же стали складываться напряженно. Смягчались они лишь тем, что все переговоры с домохозяином брала на себя Варвара Михайловна.
Булгаков прожил около десяти лет бок о бок с этим человеком, и его биографии должно найтись хотя бы малое место в нашем повествовании (само собой ясно, что биограф не может подменять Василисой из «Белой гвардии» представление о реальной личности, послужившей возможным импульсом к работе романиста; между тем такая подмена стала привычной для обихода поклонников Булгакова, как и множество других подмен).
В. П. Листовничий был уроженцем Киева (р. 1876), происходил из купцов I гильдии; у них «была скобяная лавка и шорная торговля на Подоле, – сообщает дочь И. В. Кончаковской, Ирина Николаевна. – Потом Листовничие обанкротились и, когда рос Василий Павлович, это была уже очень бедная семья 〈…〉 Материальное благополучие В. П. заработал себе сам, своими силами, и не торговлей, а инженерным трудом». Кончил Киевское реальное училище, затем Институт гражданских инженеров в Петербурге; с 1911 года был архитектором Киевского учебного округа, строил гимназии, училища. Память о банкротстве семьи, видимо, осталась навсегда. Внук В. П. Листовничего, врач Валерий Николаевич Кончаковский, приводит такой рассказ: «Мама спросила раз: „Папа, зачем ты так много работаешь?“, а дед ей: „Кто много трудился в детстве и юности, в том всегда живет внутренний страх перед нуждой, а я хочу спокойно нянчить внуков“. Видимо, голос предков-купцов звучал и в нем, ставшем уже дворянином (и почетным гражданином г. Киева): на старости мечтал открыть букинистический магазин (был знатоком книги)»[42]. В том же письме, адресованном автору этой книги, корреспондент стремится наметить возможные пункты взаимного раздражения соседей:
«– Дед мой купил дом в 1909 г., когда Булгаковы были там почти старожилы. Пришел молодой 33-летний новый хозяин, очень энергичный и деятельный. Завел во дворе конюшню, каретный сарай, держал пару лошадей.
– Вскоре раскопал двор, вывез десятки кубометров грунта и устроил под двором кирпичное помещение. Работы велись вручную, землю вывозили подводами (грабарками), в т. ч. все лето ни пройти ни проехать. Вообще, стал устанавливать свои порядки.
– Забрал у Булгаковых часть веранды и устроил там пожарную лестницу на чердак, на год отобрал угловую комнату с балконом!..
– Очень много зарабатывал, держал горничную, кухарку, дворника, кучера. Булгаковы жили скромно (хотя имели прислугу), отсюда м. б. недоброе „буржуй“ (что тоже вполне по-человечески понятно, многим из нас свойственно).
– Во время войны имел в своем распоряжении служебный автомобиль – длинный открытый „Линкольн“, который постоянно маячил под окнами дома. А тогда на весь провинциальный тихий Киев было м. б. несколько таких автомобилей…»
«На Рождество, – вспоминает Татьяна Лаппа, – Михаил приехал в Саратов: привез к нам из Киева мою бабушку, Елизавету Николаевну Лаппа… Была елка, мы танцевали, но больше сидели, болтали…» Булгаков познакомился с родителями – Николаем Николаевичем и Евгенией Викторовной. Было ясно, что Татьяна скоро уедет в Киев. Пока она продолжала служить классной дамой в женском училище, чувствовала себя в этой роли неуютно. «Там девушки были в два раза больше и толще меня. Преподаватель Закона Божьего спрашивает однажды: „Где ваша классная дама? – Вот она. – Ну, вы скажете! Ха-ха-ха!“… Домой я после занятий приходила совсем без голоса…»
Семья, с которой он сближался в этот год, была совсем иной, чем его родная семья.
Татьяна Лаппа родилась в Рязани, где отец служил податным инспектором: потом на такой же службе жил он в Екатеринославе, затем назначен был управляющим казенной палатой в Омске; там Татьяна училась в прогимназии. «Отец выстроил здание казенной палаты в Омске; когда перевели в Саратов – и здесь выстроил». И в Омске и Саратове собирались съезды податных инспекторов – и в доме Николая Николаевича давались обеды. «Стол накрывали на 100 человек – нам, детям, было раздолье! В Омске преподнесли отцу две дорогих китайских вазы. На следующем съезде – серебряный самовар, потом – столовое серебро на 12 персон… Когда мы познакомились с Михаилом, отец дослужился уже до действительного статского советника. У отца был курьер; в доме были горничная, кухарка, бонна. Семья была тоже большая – шесть детей, я старшая. Лакея не было: на стол подавала горничная. Закусок к столу не подавали – у отца были больные почки, так что в гостях мы любили консервы… Михаилу наш стол нравился». Вообще ему нравилось в этом богатом, но, видимо, не чопорном, не холодном доме. Через много лет в пьесе «Дни Турбиных» Лариосик будет рассказывать: «…Я говорил речи, и не однажды… в обществе сослуживцев моего покойного папы… в Житомире… Ну, там податные инспектора…» В то время уже нет с Булгаковым Татьяны Николаевны, и отец ее, принимавший Булгакова за своим столом, – уже несколько лет как покойный, и вот, по тем законам, по которым литература рождается изо всего решительно, с чем сталкивается писатель – и не знает в этом ограничений, – потревожена его тень и сказалась, может быть, та легкая ирония, с которой воспринимались Михаилом рассказы Татьяны про сослуживцев отца, про съезды с обильной едой и многословными речами…
Детей в их семьях воспитывали по-разному. У Варвары Михайловны, как рассказывала Надежда Афанасьевна, «была идея, что дети должны быть заняты», и по этому поводу были даже как-то сложены Михаилом шуточные стихи – о том, как мать с утра всем задает работу: «Ты иди песок сыпь в яму, ты из ям песок таскай…»
Эти характерные для определенных слоев русской интеллигенции подчеркнуто демократические традиции семейного обихода, диктующие «трудовое воспитание» детей и т. п., семье Лаппа не были свойственны. «Я приходила из гимназии, бросала верхнее платье на пол, мать говорила: „Не подбирай, горничная уберет; неизвестно, как сложится жизнь, пока позволяют обстоятельства – ничего не делай!“ Нас ни к чему не готовили… Что я думала о своем будущем? Я жила сегодняшним днем, и мысли о будущем не было!» При этом сами родители детей не баловали. «Когда отец уезжал куда-нибудь – он привозил подарки, вещи только матери, нам не полагалось ничего. Одевали нас просто. Но я была плохая дочь, непокорная! Папа меня не пускает на концерт или куда-нибудь – все равно убегу с черного хода. Сколько раз он приходил за мной на каток… Я училась музыке; отец любил, когда я играла; ложился на диван, слушал…»
Старшая, любимая, своенравная дочь в семье богатой, с обычными традициями хлебосольного русского губернского дворянства… Читая своего любимого – в юношеские годы особенно – писателя Салтыкова-Щедрина, Булгаков узнавал теперь черты служилой аристократии, с которой, видимо, впервые соприкоснулся так близко.
Конец зимы и весну 1912 года двадцатилетний Михаил провел в тоске, в метаниях; заброшены были академические занятия; текущие экзамены он сдавать не стал. Обучение затягивалось по меньшей мере на лишний год… (Можно представить себе настороженность, озабоченность матери.) И снова он приехал летом 1912 года в Саратов. И в Киев в августе уехали уже вместе. «Я уехала под предлогом поступления на Историко-филологические курсы… И поступила на эти курсы, на романо-германское отделение, но некогда было учиться – все гуляли… Я снимала комнату у какого-то черносотенца… На Андреевском спуске у Листовничих во дворе была собака, я ее ужасно боялась. И говорю Михаилу: „Как хочешь, я через двор к тебе не пойду“. – „Ну, тогда звони с улицы, я тебе открою“. Все к ним, конечно, ходили через двор – лестница из их квартиры к парадному входу была довольно крутая, не будешь всем ходить открывать. Они ее обычно держали закрытой». («Три двери вели в квартиру Турбиных. Первая из передней на лестницу, вторая стеклянная, замыкавшая собственное владение Турбиных. Внизу за стеклянной дверью темный холодный парадный ход, в который выходила сбоку дверь Лисовичей, а коридор замыкала уже последняя дверь на улицу». Описание в «Белой гвардии» досконально точно.) В этом парадном братья Булгаковы курили тайком от матери…
Осень и зиму 1912–1913 годов Булгаков и Татьяна Лаппа почти не расставались. «Что делали? Ходили в театр, „Фауста“ слушали, наверно, раз десять… Мать Михаила вызвала меня к себе: „Не женитесь, ему рано“. Но мы все-таки повенчались в апреле 1913 года.
Мать Михаила велела нам говеть перед свадьбой.
Вообще у Булгаковых последнюю неделю перед Пасхой всегда был пост, а мы с Михаилом пообедаем у них, а потом идем в ресторан… у нас в семье (в Саратове) обряды не соблюдались, а у них всегда был пасхальный стол, о. Александр приходил, освящал.
Фаты у меня, конечно, никакой не было, подвенечного платья тоже – я куда-то дела все деньги, которые отец прислал. Мама приехала на венчанье – пришла в ужас. У меня была полотняная юбка в складку, мама купила блузку. Венчал нас о. Александр.
…Почему-то хохотали под венцом ужасно. Домой после церкви ехали в карете. На обеде гостей было немного. Помню, много было цветов, больше всего – нарциссов…»
Документы архива Н. А. Земской показывают, каким болезненным было для матери решение сына. Ему грозило отчисление из университета из-за несдачи экзаменов; она, возможно, догадывалась, как далеко зашли их отношения (Татьяна Николаевна рассказывала нам, что деньги, присланные ей отцом, были истрачены на врачебное вмешательство)[1]; в такой напряженной ситуации готовились молодые к свадьбе.
Шаферы молодых Булгаковых – Борис Богданов, Константин Булгаков, Платон и Александр Гдешинские – это и есть самый близкий круг их тогдашних друзей. «Борис часто приходил, приносил мне соломку от Балабухи (были такие конфеты в коробках): „Ты, Тася, ешь конфеты, а мы с Мишей пойдем поиграем в бильярд“». Бильярд любил и двоюродный брат Константин Булгаков.
«…Но в чем он истинный гений, что занимает целый день его тоскующую лень, это – карамбольный бильярд у Штифлера, и, право, студенту прежнего времени похвала Грановского или Пирогова не доставляла столько гордого и стыдливого удовольствия, как современному студенту-драгуну – брошенное вскользь одобрение всегда полупьяного маркера Якова: „Вот этого шара вы – ничего, чисто сделали“. Другое его развлечение – винт…» Это – отрывок из очерка Куприна «Студент-драгун», вошедшего в первую его книжку «Киевские типы» (несомненно, с детства читанная Булгаковым, она многократно, как и вообще творчество Куприна, отзовется в его прозе) и, по отзывам критики, особенно нашумевшего, рисует только формирующийся тогда тип студента-белоподкладочника. От этой среды Булгаков был, видимо, достаточно далек (хотя бы по имущественному положению), но игре в бильярд предавался с жаром.
Е. Б. Букреев рассказывал, как в их студенческие годы «был выстроен такой флигель… Поляк Голомбек открыл бильярдный зал. Там было восемь бильярдов. А рядом пивная – студенты весьма охотно ее посещали. Ее хозяин был такой Федор Иванович… С залысинами, с зализанными височками, с острым носиком… Винт – это серьезная игра, в которую играют люди почтенные. А студенты играли в железку…». Пристрастие и к бильярду, и к винту (в него играли друзья отца, старшее поколение) Булгаков сохранит и в последующей своей жизни, столь отличной от киевской юности.
Но занятиями в университете Булгаков после свадьбы уже не манкировал[43]. «Ходил на все лекции, не пропускал, – рассказывала Татьяна Николаевна. – В библиотеку ходил – в конце Крещатика, у Купеческого сада открылась тогда новая общественная библиотека. Читальный зал очень хороший. Он эту библиотеку очень любил. Меня брал с собой, я читала какую-нибудь книжку, пока он занимался. Разговора про литературу тогда никакого не было. Он собирался быть врачом, и, я думаю, он бы хорошим был врачом. Мы с ним много говорили о музыке, о театре. Еще когда познакомились, Михаил удивлялся, как я хорошо знаю оперу. А я в Саратове прослушала все оперы, какие шли в театре Очкина, – у падчерицы Очкина, моей подруги, была закрытая ложа, и я могла пойти в театр в любой момент, прямо в чем была дома… В Киеве мы с ним слушали „Кармен“, „Гугенотов“, „Севильского цирюльника“ с итальянцами. Ходили в Купеческий сад на каждый симфонический концерт. Михаил очень любил увертюру к „Руслану и Людмиле“, любил „Аиду“, напевал „Милая Аида… Рая созданье“. Больше же всего любил „Фауста“ и чаще всего пел „На земле весь род людской“ и ариозо Валентина – „Я за сестру тебя молю…“.
…Мы ходили с ним в кафе на углу Фундуклеевской, в ресторан „Ротце“. Вообще к деньгам он так относился: если есть деньги – надо их сразу использовать. Если последний рубль и стои́т тут лихач – сядем и поедем! Или один скажет: „Так хочется прокатиться на авто!“ – тут же другой говорит: „Так в чем дело – давай поедем!“ Мать ругала за легкомыслие. Придем к ней обедать, она видит – ни колец, ни цепи моей. „Ну, значит, все в ломбарде!“ – „Зато мы никому не должны!“… В Киеве был такой магазин „Дизель“ – там сосиски продавались и колбаса. Купишь московской колбасы полкило – и сыт.
На что жили? Михаил давал уроки… А мне отец присылал 50 рублей в месяц. 10–15 рублей платили за квартиру, а остальное все сразу тратили…»[2]
Опера, концерты. В близких молодым Булгаковым домах, как и на Андреевском спуске, – тон «детской», тон дома, где много детей разного возраста, тон беспечного семейного веселья. Музыкальные вечера, танцы, домашние спектакли, «море волнуется», «испорченный телефон», журфиксы, ужины, именины, поклонники сестер с ежедневными букетами (Надежда Афанасьевна: «Миша приехал как-то в Бучу, прошел по даче: – Что такое – букеты, как веники стоят!» Остается гадать – то ли память родных подвергалась воздействию творчества Булгакова, которое стало разворачиваться перед ними беспрерывной чередой произведений с начала 1920-х годов, то ли собственные его давние реплики впечатывались в пьесу, где Николка объясняет Лариосику про сестру: «Прямо несчастье! Оттого всем и нравится, что рыжая. Как кто увидит, сейчас букеты начинает таскать. Так что у нас все время в квартире букеты, как веники, стояли»[44]).
Бильярд, кафе, кинематограф…
«…Это были времена легендарные, те времена, когда в садах самого прекрасного города нашей родины жило беспечальное юное поколение. Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно: зори, закаты. Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой – не холодный, не жесткий – крупный, ласковый снег…
…И вышло совершенно наоборот.
Легендарные времена оборвались, и внезапно и грозно наступила история»[45].
Спустя десятилетие в очерке «Киев-город» Булгаков точно укажет «момент ее появления» – «10 часов утра 2 марта 1917 года». Но первые признаки этого появления обнаружились уже не менее чем на три года раньше.
Летом 1914 года семья Булгаковых, как всегда, оказалась в Буче. Одна из фотографий запечатлела картину, освещенную солнцем и окрашенную весельем и беззаботностью. На фото взрослые – гостящие у родных дядьки – врачи Николай Михайлович и Михаил Михайлович Покровские, Иван Павлович Воскресенский, Ирина Лукинична и дети, уже ставшие взрослыми, но этого еще не сознающие, – Вера, Надя, Варя, их подруга Мария Лисянская…
Михаил с женой поехали в это лето в Саратов. Там застало их начало войны, ставшей мировой.
3
Евгения Викторовна Лаппа, мать Татьяны, организовала госпиталь при казенной палате. С фронта стали привозить раненых. «Михаил стал работать в госпитале, – рассказывает Татьяна Николаевна. – Мы оставались в Саратове до начала университетских занятий». Студент-медик Булгаков среди персонала госпиталя и раненых – одна из лучших его юношеских фотографий.
«Когда осенью возвращались в Киев, отец предложил забрать серебро (это было ее приданое), а я отказалась – тяжесть, я об этом и не задумалась!» Продолжалась молодость, беспечность.
Оставалось еще два университетских года. Многие товарищи уже были на фронте. Ушел Платон Гдешинский, Борис Богданов стал вольноопределяющимся.
Отправилась на фронт и сестра Татьяны Софья. Шла Галицийская битва; поздняя осень 1914 года была благоприятной для русской армии, и фронт показался далеким. «Сестра приехала в Киев, – вспоминает Татьяна Николаевна, – привезла шоколад „Гала-Петэр“, горьковатый, и печенье „Каплетэн“ – кругленькое, с солью и тмином, рассыпчатое».
Продолжалась та же жизнь, что и до войны.
В начале 1915 года Булгаков испытал второе после смерти отца сильное потрясение, след которого протянется далеко.
В доме Булгаковых по-прежнему бывал Борис Богданов, уже мобилизованный, но еще не уехавший на фронт. В это время он посватался к Варе Булгаковой, но получил отказ и на другой день пришел к ним в дом почему-то со сбритыми усами… Надежда Афанасьевна рассказывала: «Я спросила у Бориса: – Что это?! – А Миша ответил за него: – La petite démonstration (небольшая демонстрация)».
О том, что случилось далее, мы знаем из рассказов Надежды Афанасьевны и Татьяны Николаевны, совпавших до деталей.
Борис Богданов долго не появлялся в доме Булгаковых и вдруг прислал записку – просил Михаила зайти.
Когда Михаил вошел, тот лежал в постели, – видимо, раздетый. Михаил хотел закурить. Борис сказал:
– Ну, папиросы можешь взять у меня в шинели.
Михаил полез в карманы шинели, стал искать и со словами «Только тепейка (так называли они на гимназическом, видимо, еще жаргоне копейку) одна осталась» повернулся к Борису. В этот момент раздался выстрел.
Много раз всплывет позже в его памяти увиденная картина. Описание ее можно найти в одном из его рассказов: «Поляков вдруг шевельнул ртом, криво, как сонный, когда хочет согнать липнущую муху, а затем его нижняя челюсть стала двигаться, как будто он давился комочком и хотел его проглотить. Ах, тому, кто видел скверные револьверные или ружейные раны, хорошо знакомо это движение!» («Морфий»).
Представим себе, как метался студент-медик у постели, возле залитого кровью человека, с которым он несколько лет сидел на одной гимназической парте, который держал венец на его венчании, который сватался к его сестре…
На папиросной коробке осталась записка: «В смерти моей никого не винить». Михаила вызывали к следователю, поскольку он был единственным свидетелем самоубийства.
Татьяна Николаевна вспоминает, что они с Варварой Михайловной и с Михаилом ездили по всем делам, связанным с похоронами, – кажется, и в морг. Варвара Михайловна тяжело переживала эту смерть, она любила Бориса. Матери у него не было. На могиле сына отец благодарил Варвару Михайловну за то, что она относилась к его сыновьям по-матерински.
О причине самоубийства говорили, как и почти всегда, разное: отец объяснял, что сын не поладил с начальством; брат Петр говорил, что это из-за того, что кто-то назвал Бориса трусом (быть может, кому-то показалось, что он медлит идти на фронт); по городу гуляла романтическая версия – вольноопределяющийся Богданов покончил с собой из-за Вари Булгаковой.
Для Булгакова мысли о причинах были, можно думать, оттеснены на задний план кружащимися на одном месте мыслями о том, что его медицинских познаний оказалось недостаточно для спасения умиравшего товарища.
И навязчивый мотив самоубийства из револьвера (или браунинга), с которым мы не раз столкнемся в его прозе, поведет свое начало, возможно, именно от этой биографической коллизии. (Заметим здесь, что и еще одно самоубийство близко коснулось в те годы молодых Булгаковых, – накануне войны в Саратове застрелился по причине, так и оставшейся неизвестной, младший брат Татьяны, гимназист.
…До государственных экзаменов было еще не меньше года.
В августе положение на Юго-Западном фронте стало катастрофическим. Немцы заняли Луцк, открыв себе прямую дорогу на Киев. Подумывали о сдаче Киева и отводе войск за Днепр.
Киев был заполнен беженцами, а между тем из самого города многие уже отправляли детей. Варвара Михайловна отправила к сестре Александре Михайловне в Карачев троих младших, и родственники, как рассказывала А. А. Ткаченко, шутя называли их беженцами.
«В Киеве паника, – записывала 24 августа 1915 года двадцатилетняя барышня, правнучка фельдмаршала Витгенштейна, дочь одного из владельцев южнорусских имений. – Все укладываются, собираются, бегут. На улицах и в трамваях все озабочены, только и слышны разговоры – куда бежать и как достать билеты. А эта последняя вещь трудная: у городской станции чуть ли не трое суток ждут очереди. С другой стороны, весь вокзал завален беженцами, начиная с перронов и всех залов и коридоров и кончая ступеньками подъездов. Завален в полном смысле этого слова, т. е. вся бесчисленная толпа этих стариков, детей и женщин лежит вповалку на своих узлах и просто на полу. 〈…〉 В день нашего приезда их прибыло 10 000 человек! Это беженцы из района действующей армии: из Ровно, Владимира-Волынского, Каменца, Проскурова…» Все это наблюдает и Булгаков, не предвидя, наверное, что в ближайшие годы он увидит в родном городе картины гораздо более страшные. «Влиятельные лица и военные», как записывает автор дневника, говорят, «что „кажется“ будет неизбежно отдать весь Юго-Западный край и Киев. Я думаю, что „кажется“ – только чтобы смягчить такое ужасное решение.
Отдать Киев – матерь русских городов, со всеми его святынями, с Печерской Лаврой, со всем, что дорого русскому сердцу, первый русский город, святой Киев! 〈…〉 Пусть разрушат наши имения, пусть сделают нас и тысячи людей нищими, но пусть защищают Киев! Разве после такого удара, который потрясет всю Россию, разве можно во что-нибудь верить, на что-нибудь еще надеяться?»[46]
У Булгаковых не было имения, но это отношение к Киеву им было, видимо, очень близко.
Осенью 1915 года в Саратов были эвакуированы некоторые факультеты университета; медицинский остался в Киеве – он готовил врачей для нужд фронта. Еще в конце декабря 1914 года было досрочно выпущено несколько десятков врачей – из тех, с кем вместе Булгаков поступал на первый курс (в том числе и Е. Букреев – «Букрешка-терешка-орешка» приготовительного класса Второй гимназии) и от которых отстал во время своего романа с Татьяной Лаппа. Ясно было, что и его курс будут выпускать досрочно.
Многие студенты – не только пятого, но и младших курсов – уже находились на фронте, в санитарных отрядах ЮЗОЗО (Юго-западной областной земской организации); Булгаков еще в 1915 году был признан «негодным для несения походной службы», но было очевидно, что его ожидают госпитали[47].
Обычно государственные экзамены на медицинском факультете, состоявшие из 22 предметов, тянулись (вместе с временем, дававшимся на подготовку) в течение четырех месяцев – с июня по сентябрь. В 1916 году испытания уложились в пределы февраля—марта и завершились к 6 апреля. Университет был окончен[48].
«Михаил никогда не бывал пьян, пил мало. Один только раз я видела его пьяным – пили со студентами после окончания университета. Он пришел и сказал: „Знаешь, я пьян. – Ну, ложись. – Нет, пойдем гулять“. Мы прошли немного вверх по Владимирской, потом вернулись. Это было уже на рассвете».
Можно вообразить себе, что испытывали в эту ночь студенты-медики, досрочно ставшие врачами. В ту весну фронт трещал. На́рочская операция, начатая 5 марта, не дала успеха русской армии. Военный министр Сухомлинов был арестован по обвинению в противозаконном бездействии и других преступлениях – вплоть до государственной измены. Дальнейшее течение войны, ее продолжительность – все это терялось в тумане совершенно неясного будущего. И уж во всяком случае, окончательно потерялось в тумане то, с чем связывался когда-то университет в мечтах гимназиста, – «воля, деньги, сила, слава»…
Закончив испытания (но еще не получив диплома), Булгаков, как рассказывает Татьяна Николаевна, «записался в Красный Крест» – то есть добровольно пошел работать в киевский госпиталь, находящийся в ведении Красного Креста. Вскоре госпиталь перевели в Каменец-Подольский, ближе к театру военных действий.
Представить себе атмосферу, в которой работал молодой врач, поможет в какой-то степени рассуждение одного из персонажей (занимавшего видную должность в Красном Кресте) уже цитированной нами книги воспоминаний В. В. Шульгина «Годы»: «В смысле возможностей Красный Крест куда слабее военного ведомства. Оно оборудовано куда сильнее. Много врачей, санитаров, госпиталей всяких. Способы передвижения, то есть санитарные обозы для вывоза раненых и больных, не сравнимы со средствами Красного Креста. 〈…〉 Но значение Красного Креста совершенно не соответствует слабости его материальных возможностей. Оно гораздо выше. И я им твержу: „Помните, что вы – совесть военных врачей!“ Да, совесть, потому что, это надо признать, военные врачи часто бывают бессовестны! 〈…〉 Трудно даже объяснить, отчего это происходит. Казенщина? Но вся армия казенщина. Однако бойцам доступно истинное геройство. Они не только убивают, они и сами умирают. А врачи нет. Их обязанность прежде всего самим уцелеть. И это порождает какую-то иную, более низменную психологию. А впрочем, может быть, и не так. Но, во всяком случае, Красный Крест хранит какую-то высокую традицию человечности. И он может и должен быть примером для опустившихся врачей военного ведомства. В этом наше значение!»[49]
Легко предположить, что молодой, досрочно выпущенный врач именно этими идеями и воодушевлялся, работая в госпиталях Красного Креста.
Готовилось то наступление русских войск, которое впоследствии получило название брусиловского – по имени генерала А. А. Брусилова, ставшего недавно главнокомандующим армии Юго-Западного фронта. Совсем недавно, в конце марта, в Каменец-Подольском был государь, он посещал госпиталь, раздавал кресты.
22 мая началось наступление. Каменец-Подольский находился не более чем в 50 километрах от линии фронта; с этого момента у хирургов госпиталя работы все прибавлялось.
25 мая был взят Луцк; австрийцы в панике отступали; за первые три дня наступления войска достигли значительного, уже забытого на русском фронте успеха.
В начале июня русские войска форсировали Прут и захватили Черновицы. Поскольку наступление развивалось, госпитали подтягивались к фронту. Вместе со своим госпиталем Булгаков оказался в Черновицах. К началу июля линия фронта отодвинулась от Черновиц благодаря успешным действиям войск под командованием Брусилова не менее чем на 80 километров.
Волею судеб Булгаков оказался близ театра военных действий в момент, быть может, наиболее успешный для русской армии.
«Я тоже приехала туда, – рассказывает Татьяна Николаевна. – Вдруг объявили, чтоб жены уезжали в 24 часа». (По-видимому, это был один из опасных моментов наступления, когда линия фронта заколебалась.) «Я уехала, но не прошло, наверное, и двух недель, как пришла от него телеграмма. Я опять к нему приехала. Михаил приехал за мной в Орш, в машине. Солдаты спросили пропуск, он протянул рецепт – они были неграмотные. Нас пропустили. Перед отъездом Надежда (сестра Булгакова) – она тогда увлекалась агитацией, хождением в народ – насовала мне прокламаций, чтобы разбрасывать, и я – такая дура! – взяла. Потом ужасно боялась, что Михаил увидит, – он бы меня убил! Когда приехали – сожгла в камине…
В Черновицах в госпитале я работала сестрой, держала ноги, которые он ампутировал. Первый раз стало дурно, потом ничего… Он был там хирургом, все время делал ампутации… Очень уставал после госпиталя, приходил – ложился, читал. В боях он не участвовал, на позиции, насколько я знаю, не выезжал.
Неожиданно Михаила срочно вызвали в Москву – за новым назначением. Поехали, не заезжая в Киев; он поехал прямо в военной форме.
В Москве его срочно направили в Смоленск; мы даже к дядьке не зашли (Николаю Михайловичу Покровскому)…»
Это был, по-видимому, конец лета 1916 года. Булгаков ехал на новую службу, даже не получив диплома врача (диплом датирован 31 октября 1916 года).
Сестра писателя, Н. Земская, вспоминала позже (в письме к Е. С. Булгаковой): «Весь выпуск при окончании получил звание ратников ополчения 2-го разряда – именно с той целью, чтобы они не были призваны на военную службу, а использовались в земствах: опытные земские врачи были взяты на фронт, в полевые госпитали, а молодые выпускники заменили их в тылу, в земских больницах… Но назначение киевских выпускников в земства состоялось не сразу, и Михаил Булгаков получил возможность все лето 1916 года проработать в прифронтовых госпиталях на Юго-Западном фронте, куда он поехал добровольно, поступив в Красный Крест».
Призыв Булгакова на военную службу с зачислением его в резерв чинов Московского окружного военно-санитарного управления («сверх штатного состава чинов резерва»), а конкретно – с направлением в Смоленскую губернию состоялся еще 16 июля.
Выпускники 1916 года призывались на действительную военную службу – но значительная их часть сразу по призыве была зачислена в резерв нескольких окружных военно-санитарных управлений, сверх штата этих управлений. Молодые врачи числились на военной службе и считались командированными в земства. Эта ситуация описана будет позже в дневнике героя рассказа «Морфий» доктора Полякова: «Весь мой выпуск, не подлежащий призыву на войну (ратники ополчения 2-го разряда выпуска 1916 года), разместили в земствах»[50].
Шестьдесят лет спустя Татьяна Николаевна рассказывала, как, переночевав в Смоленске, они отправились поездом в Сычевку, маленький уездный городишко, – там находилось управление земскими больницами. Был сентябрь, но стояла уже настоящая осень, холодная и дождливая. Среднерусский пейзаж открылся взору человека, только что расставшегося с теплом, солнцем, разнообразием красок и плодов позднего киевского лета, в пугающей неприглядности.
«Службу врача Булгакова в Сычевском уезде Губернская управа будет считать с 27 сентября»[51], – сообщалось в письме губернской управы, пошедшем, видимо, одновременно с движением молодого врача к месту назначения.
«По-видимому, мы пошли в управу… нам дали пару лошадей и пролетку – как она называлась, – довольно удобная. Была жуткая грязь, 40 верст ехали весь день. В Никольское приехали поздно, никто, конечно, не встречал. Там был двухэтажный дом врачей. Дом этот был закрыт; фельдшер пришел, принес ключи, показывает – „вот ваш дом“…» Дом состоял из двух половин с отдельными входами: рассчитан он был на двух врачей, необходимых больнице. Но второго врача не было.
«Наверху была спальня, кабинет, внизу столовая и кухня. Мы заняли две комнаты, стали устраиваться. И в первую же ночь привезли роженицу! Я пошла в больницу вместе с Михаилом. Роженица была в операционной; конечно, страшные боли; ребенок шел неправильно. Я видела роженицу, она теряла сознание. Я сидела в отдалении, искала в учебнике медицинском нужные места, а Михаил отходил от нее, смотрел, говорил мне: „Открой такую-то страницу!“ А муж ее сказал, когда привез: „Если умрет, и тебе не жить – убью“. И все время потом ему там грозили.
В следующие дни сразу стали приезжать больные, сначала немного, потом до ста человек в день…»
Отношения с крестьянами не были идилличными.
Больница в это время имела 24 койки (и еще 8 коек для острых инфекций и две родильных), операционную, аптеку, библиотеку, телефон… Был отличный инструментарий, выписанный стараниями предшественника Булгакова – Леопольда Леопольдовича Смрчека, чеха, выпускника Московского университета, проработавшего в Никольском более десяти лет[52]. «Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что инструментарий в ней богатейший… – расскажет позже Булгаков в „Записках юного врача“. – Гм, – очень многозначительно промычал я, – однако у вас инструментарий прелестный. Гм… – Как же-с, – сладко заметил Демьян Лукич, – это все стараниями вашего предшественника Леопольда Леопольдовича. Он ведь с утра до вечера оперировал. Тут я облился прохладным потом и тоскливо поглядел на зеркальные сияющие шкафчики». Внизу, в аптеке, «не было только птичьего молока. В темноватых двух комнатах крепко пахло травами, и на полках стояло все что угодно. Были даже патентованные заграничные средства, и нужно ли добавлять, что я никогда не слыхал о них ничего». И наконец, в кабинете герой рассказа «как зачарованный глядел на третье достижение легендарного Леопольда: шкаф был битком набит книгами. Одних руководств по хирургии на русском и немецком языках я насчитал бегло около тридцати томов…» («Полотенце с петухом»)[53].
Размещалась больница в бывшем помещичьем доме, проданном его последним владельцем земству. Белый двухэтажный дом смотрел фасадом на озеро: оно образовалось, когда протекавшую близ больницы речку перегородили плотиной. Больницу окружал лиственничный парк (несколько уцелевших огромных лиственниц местные жители и сегодня называют «немецкими елками»). На том берегу речки, дугой огибавшей территорию больницы, находился заповедник. («…Однажды, это было в светлом апреле, я разложил все эти английские прелести в косом золотистом луче и только что отделал до глянца правую щеку, как ворвался, топоча, как лошадь, Егорыч в рваных сапожищах и доложил, что роды происходят в кустах у заповедника над речушкой». – «Пропавший глаз»[54].)
С трех сторон больницу окружал лес, а с четвертой лес быстро кончался, и за лугом в версте видна была деревня Никольское. С другой стороны, за заповедником, в полутора верстах, – имение Муравишники и деревня Муравишниково.
Потомок хозяев имения Алексей Леонидович Расторгуев рассказал нам подробности, которые несколько меняют представление об одинокой, замкнутой жизни, которую вел на 3-м Никольском пункте молодой врач.
У владельца имения Василия Осиповича Герасимова, которого не раз посещал Булгаков, нередко гостил его родственник, известный историк Николай Иванович Кареев. Жена владельца имения, умершая несколько лет назад, хорошо помнила Булгакова. Летом в имении бывали с семьями художники Фаворский и Верейский, с которыми также мог, как выяснилось, встречаться Булгаков…
Один из сыновей владельца имения, Михаил Васильевич Герасимов, был в то время председателем Сычевской уездной земской управы (с ним, несомненно, познакомился Булгаков, получая в Сычевке назначение в Никольское)[3], второй сын, Владимир Васильевич, врач, был хорошо знаком с Булгаковым.
«Напротив больницы, – вспоминает Татьяна Николаевна, – стоял полуразвалившийся помещичий дом. В доме жила разорившаяся помещица, еще довольно молодая вдова. Михаил слегка ухаживал за ней…»
Обнаружился и письменный источник, проливающий некоторый свет на обстановку тогдашней жизни Булгакова, – это неопубликованные воспоминания Н. И. Кареева, написанные им в июле 1923 года[55]. Он вспоминает Муравишники как имение своего деда со стороны матери, Осипа Ивановича Герасимова: «Я помню Муравишники и при деде, и при младшем его сыне, которому досталось это имение, „дяде Васе“, и при его сыновьях Коле, Мише и Володе, умерших один за другим в молодых годах уже в начале XX века. Здесь перед моими глазами, в этом „дворянском гнезде“, жили и сошли со сцены три поколения…» В этом доме Булгаков бывал, видимо, до зимы 1916/17 года у В. О. Герасимова (который охарактеризован Кареевым как «человек добрый, слабохарактерный и ленивый», «выпивоха»), когда, по свидетельству Кареева, за несколько дней до Февральской революции «тамошний дом сгорел со всем содержимым по неосторожности сторожа». (Воспоминание о пожаре, очевидцем которого Булгаков, живший в полутора километрах, вполне мог быть, возможно, нашло впоследствии отражение в описании пожара большого усадебного дома в рассказе «Ханский огонь».) С обитателями же его Булгаков, конечно, общался и позже.
Татьяна Николаевна рассказывала:
«Примерно в феврале 17 года Михаилу дали отпуск. Мы поехали в Саратов. Там нас застало известие о революции; прислуга сказала: „Я вас буду называть Татьяна Николаевна, а вы меня теперь зовите Агафья Ивановна“. Жили мы в отцовской казенной квартире. Плохо помню то время, помню только, что отец с Михаилом все время играли в шахматы… Возвращались через Москву. Видимо, был уже март – перед Никольским верхом на лошадях перебирались через озеро – оно уже оттаяло; другой возможности добраться домой не было». (И Кареев описывает, как едва ли не в тот же год, собираясь в Сычевку «на масленицу, провалились в ручей по грудь».) В марте 1917 года Булгаков съездил в Киев. Вернувшись, участвовал, видимо, в чрезвычайных уездных земских собраниях в Сычевке. И конечно, горячо обсуждал происшедшие события и возможности будущего их развития с теми немногими собеседниками, которых предоставляла ему жизнь в Никольском. Их тоже можно в какой-то степени вычислить по воспоминаниям Кареева. «Взрослых сыновей у муравишниковского дедушки было двое – Петр и Василий. Петр – становой пристав. Старший его сын Ося, кончивший историко-филологический факультет», не только двоюродный брат, но и свояк Кареева, был, по его словам, «превосходный педагог»; после Февральской революции он вновь стал товарищем министра народного просвещения и вскоре приехал в деревню «с большим запасом наблюдений и с очень определенными предсказаниями, которыми и стал делиться со мною. Герасимов не верил в то, что соберется Учредительное собрание, настаивал на возможности гражданской войны и т. п., хотя в то же время был уверен почему-то, что крестьяне останутся спокойными»; «за первые четыре месяца после революции, которые я провел в Петербурге, Герасимов был, пожалуй, единственный человек из тех, с кем я встречался, который знал, что у нас делается не по газетам только да по слухам». Мы предполагаем, что О. П. Герасимов был одним из тех немногих людей, чьи свидетельства и умозаключения мог с жадностью слушать и обдумывать двадцатипятилетний Булгаков, оторванный в Никольском от событий, происходивших главным образом в столицах.
И вновь обратимся к свидетельствам той, что делила труды и дни молодого земского врача. «Летом 17 года моя мама гостила у нас в Никольском с младшими братьями, Колей и Вовой. В это время, после воззвания Керенского, старшего из братьев, Евгения (он учился в Петербурге в военном училище), направили на фронт и в первом же бою его убили, денщик привез вещи». (Возможно, это произошло во время июньского наступления на Юго-Западном фронте.) «Папа прислал об этом письмо, мама сразу уехала, а братья оставались с нами еще около месяца…»
В то время, когда они жили в Никольском, произошло, как рассказывала нам Татьяна Николаевна, следующее: отсасывая через трубку дифтеритные пленки из горла больного ребенка, Булгаков случайно инфицировался и вынужден был ввести себе противодифтерийную сыворотку. От сыворотки начался зуд, выступила сыпь, распухло лицо. От зуда, болей он не мог спать и попросил впрыснуть себе морфий. На второй и третий день он снова попросил жену вызвать сестру, боясь нового приступа зуда и связанной с ним бессонницы. Повторение инъекций в течение нескольких дней привело к эффекту, которого он, медик, не предусмотрел из-за тяжелого физического самочувствия: возникло привыкание…[56] Болезнь развивалась; борясь с ней, он нередко впадал в угнетенное состояние. «Я целыми днями ревела», – вспоминала Татьяна Николаевна. Она вновь забеременела (первый раз это было до свадьбы); муж сказал: «„Если хочешь – рожай, тогда останешься в земстве“. – „Ни за что!“ – и я поехала в Москву, к дядьке… Конечно, мне было ясно, что с ребенком никуда не денешься в такое время. Но он не заставлял меня, нет. Я сама не хотела… Папа мой очень хотел внуков… Если б Михаил хотел детей – конечно, я бы родила! Но он не запрещал – но и не хотел, это было ясно как божий день… Потом он еще боялся, что ребенок будет больной…»
18 сентября 1917 года Булгаков добился перевода в Вяземскую городскую земскую больницу.
В этот день ему выдано было Сычевской уездной земской управой удостоверение, в котором перечислялись проделанные им за год операции, среди которых – одна ампутация бедра (вспомним рассказ «Полотенце с петухом» – о красавице, попавшей в мялку), поворот на ножку («Крещение поворотом»), трахеотомия («Стальное горло»), – операция, приведшая, как уже говорилось, к тяжелым личным последствиям для самого врача… Указано было также, что «1 раз произведено под хлороформным наркозом удаление осколков раздробленных ребер после огнестрельного ранения», – отсюда и персонаж, у которого «было видно легкое и мясо груди висело клоками» и который через полтора месяца «ушел у меня из больницы живой» («Пропавший глаз»)… В справке указано, что за год в стационаре перебывало 211 человек, а на амбулаторном приеме – 15 361 (то есть в среднем по 40 с лишним человек за день, считая все праздники).
20 сентября Смоленская губернская земская управа командировала Булгакова в распоряжение Вяземской уездной земской управы. В Вязьме поселились на Московской улице, в трех комнатах рядом с больницей. (В 1981 году краевед А. Бурмистров опубликовал письмо Булгакова[57]: «Г. Смоленск. Губернская Земская Управа. Г-ну бухгалтеру. Покорнейше прошу мое военное жалование высылать мне теперь по адресу: Вязьма. Городская земская больница. С почтением. Д-р Булгаков. 10 октября 1917 года».) Условия здесь были совершенно иные – на меньшее количество населения, чем было в Никольском, приходилось три врача! «Тяжкое бремя соскользнуло с моей души, – писал впоследствии автор рассказа „Морфий“, вспоминая, несомненно, свои впечатления этого времени. – Я больше не нес на себе роковой ответственности за все, что бы ни случилось на свете. Я не был виноват в ущемленной грыже и не вздрагивал, когда приезжали сани и привозили женщину с поперечным положением плода, меня не касались гнойные плевриты, требовавшие операции… Я почувствовал себя впервые человеком, объем ответственности которого ограничен какими-то рамками».
Булгаков заведовал в больнице инфекционным и венерическим отделениями.
Именно в Вязьме, по воспоминаниям Татьяны Николаевны, он начал более или менее систематически писать – в Никольском это удавалось только урывками. «Я спросила его как-то: „Что ты пишешь? – Я не хочу тебе читать. Ты очень впечатлительная, скажешь, что я болен“. Я знала только название – „Зеленый змий“, а читать он мне не дал…» Возможно, речь шла о том рассказе «Огненный змей», который, по воспоминаниям сестры, был начат еще в Киеве, либо – о набросках будущего «Морфия».
В Вязьме же застали Булгакова октябрьские события, сведения о которых дошли не сразу. 30 октября Татьяна Николаевна писала Наде Земской: «Милая Надюша, напиши, пожалуйста, немедленно, что делается в Москве. Мы живем в полной неизвестности, вот уже четыре дня ниоткуда не получаем никаких известий. Очень беспокоимся и состояние ужасное»[58].
Мы не знаем, какие мысли занимали в эти дни героя нашего повествования, но пройдет несколько лет, и настроение, владевшее доктором Булгаковым, всплывет и найдет отражение в его прозе, преломившись в герое «Белой гвардии» докторе Турбине: «Старший Турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрачный с 25 октября 1917 года…» Тогдашние знакомые Булгакова относились к происходившему по-разному. Об О. П. Герасимове, например, Кареев вспоминает, что «после октябрьского переворота он остался жить у себя в деревне и, уезжая оттуда по делам в Москву в начале декабря, убеждал свою жену и гостившую у них мою дочь, что „ничего не будет“. Потом, однако, все-таки было, и О. П. уже не возвратился в свое поместье и умер в одной из московских тюремных больниц…»; сам Кареев, живя в тех местах летом 1917 и 1918 годов, «не отказывался от чтения лекций, ездя для этого в находящееся в четырех верстах от Амосова село Воскресенское, где был просторный народный дом, выстроенный по инициативе моего брата». Читал он и лекции в зайцевской школе – для крестьян. Многие ощущали, что дело идет к гражданской войне. Уцелевшие документы жизни Булгакова зимы 1917/18 года свидетельствуют о том, что он прежде всего поставил себе целью освободиться от военной службы – чтобы покинуть Вязьму и, по-видимому, вернуться в Киев. Возможно, он думал и о том, чтобы не подпасть под грядущие непредвиденные мобилизации. С этой целью он едет в начале декабря из Вязьмы в Москву. Выскажем в связи с этой поездкой одно предположение.
По-видимому, еще в Вязьме он писал сочинение под названием «Недуг». В 1978 году Татьяна Николаевна, рассказывая нам о тяжелых проявлениях болезни, пик которой пришелся на 1918 год, сказала: «„Недуг“ – это, по-моему, про морфий…» В 1973 году, до бесед с нею на эту тему, мы высказывали в печати предположение, что название «Недуг» ближе всего подводит, кажется, к рассказу «Красная корона» (1922), подзаголовок которого – «Historia morbi» (история болезни). Таким образом, то, что мы знаем сегодня как большой рассказ «Морфий», начато было даже не по следам пережитого, а в процессе тяжело переживаемой болезни. Вряд ли верно поэтому утверждение, минующее уже давно известный исследователям факт несомненной автобиографической подоплеки рассказа: «Дело в том, что Булгакова никогда не интересовала патология сама по себе»[59], – в этом случае как раз интересовала и была проанализирована с медицинской тщательностью. В рассказе «Морфий» доктор Поляков, страдающий морфинизмом, осенью 1917 года в Москве добровольно ложится в психиатрическую лечебницу, чтобы пройти курс лечения. Октябрьские бои он воспринимает сквозь дымку болезни: «14 ноября 1917 г. Итак, после побега из Москвы из лечебницы доктора… (фамилия тщательно зачеркнута) я вновь дома. Дождь сеет пеленой и скрывает от меня мир. И пусть скроет его от меня. Он не нужен мне, как и я никому не нужен в мире. Стрельбу и переворот я пережил еще в лечебнице. Но мысль бросить это лечение воровски созрела у меня еще до боя на улицах Москвы. Спасибо морфию за то, что он сделал меня храбрым. Никакая стрельба мне не страшна. Да и что вообще может испугать человека, который думает только об одном – о чудных божественных кристаллах».
Мы предполагаем, во-первых, что Булгаков мог поехать в Москву тайно от родных – ранее даты, сообщенной им впоследствии, – с тем чтобы попытаться провести какое-то время в клинике у коллеги-врача или, во всяком случае, проконсультироваться. Сложилось так, что события, переворачивающие российскую жизнь, совпали с тяжелейшей личной коллизией. Его состояние тех дней было, по-видимому, близко к состоянию доктора Полякова. Во-вторых, разделяя вполне обоснованное предположение Л. Яновской о том, что «Морфий», напечатанный в 1927 году, – это поздняя редакция того романа, который писал Булгаков через несколько лет после Вязьмы «по канве», как он сам обозначил, «Недуга», мы думаем, однако, что в тетради доктора Полякова вырезано в 1927 году «два десятка страниц» («Морфий») не потому, что «автору „Бега“ не могли не казаться наивными его ранние страницы о гражданской войне»[60]. Это был, несомненно, жгучий документ тогдашнего самоощущения потрясенного роковыми событиями и личной катастрофой доктора Булгакова. Он не мог существовать на страницах печати 1927 года: в 1921 году автор писал его свободно, имея в виду, как будет ясно из дальнейшего, и возможную публикацию за границей.
После Москвы он побывал в Саратове, – как написала позже Н. Земская в комментариях к письмам брата, «он проехал дальше на восток, в родной город его жены, чтобы повидаться с ее семьей и выполнить ее поручения к отцу и матери. Поездка была крайне трудна – транспорт был разрушен, с фронта хлынули толпы солдат, поезда осаждались толпами солдат и пассажиров».
31 декабря 1917 года Булгаков писал сестре Наде (в это время она была в Царском Селе), что в Москву «с чем приехал, с тем и уехал» (т. е. освободиться от военной службы не удалось) и «вновь тяну лямку в Вязьме». Он писал: «Недавно в поездке в Москву и в Саратов мне пришлось видеть воочию то, что больше я не хотел бы видеть. Я видел, как толпы бьют стекла в поездах, видел, как бьют людей. Видел разрушенные и обгоревшие дома в Москве. Видел голодные хвосты у лавок, затравленных и жалких офицеров… 〈…〉
Я живу в полном одиночестве. Зато у меня есть широкое поле для размышлений. И я размышляю. Единственным моим утешением является работа и чтение по вечерам. Я с умилением читаю старых авторов (что попадется, т. к. книг здесь мало) и упиваюсь картинами старого времени. Ах, отчего я опоздал родиться! Отчего я не родился сто лет назад. Но, конечно, это исправить невозможно! Мучительно тянет меня вон отсюда в Москву или Киев, туда, где хоть и замирая, но все же еще идет жизнь. В особенности мне хотелось бы быть в Киеве! Через два часа придет новый год. Что принесет мне он?»
Его волновали судьбы младших братьев в обстановке, становившейся все более сложной: он, несомненно, уже знал, что в конце октября 1917 года Николай поступил в юнкерское училище.
19 февраля 1918 года (по новому стилю) сестра Варя пишет Наде из Москвы: «У нас Миша. Его комиссия по болезни освободила от военной службы». 22 февраля Вяземская уездная земская управа выдает ему удостоверение в том, что Булгаков, врач резерва, командированный 20 сентября 1917 года. Смоленской городской управой, в Вяземской больнице «выполнял свои обязанности безупречно».
Отъезд был, пожалуй, своевременным. Летом 1918 года в Зайцеве, как вспоминает Кареев, был получен приказ из уездного города об аресте «всех б. помещиков, их управляющих или доверенных лиц, а также и прочих паразитов». Под «прочих» вполне можно было подпасть по недомыслию местных властей, а то и по чьему-то злому умыслу. Такой трагической оказалась судьба уже упоминавшегося знакомца Булгакова М. В. Герасимова. Кончивший курс в Дерптском ветеринарном институте, он, по воспоминаниям Кареева, «скоро забросил свою профессию и занял и потом долго занимал должность председателя уездной земской управы в Сычевке, где потом его выбрали в городские головы». Он погиб в 1918 году «во время, как ее звали на месте, еремеевской ночи (по личной, думают, мести)».
Итак, два трудных года кончились. Но возвращался Булгаков из российской глубинки, которой была в те годы Смоленская губерния, совсем в другой мир, нежели был тот, который он оставил два года назад.
Только что, в начале января, было распущено Учредительное собрание, и тем была подведена черта под любыми иллюзиями. В феврале Германия предъявила свой ультиматум, одновременно продолжая наступление по всему фронту.
Все это не помогало Булгакову понять, каков был этот мир, в который он теперь возвращался. Но все больше уяснялось: этот мир меняется, катастрофически и неостановимо. Догадывался ли 26-летний врач, отдавший два года каторжному труду, насколько большие трудности, чем уже пережитые, ожидают его впереди?
Его физическое состояние, так же как и душевное, было ужасным: он все еще оставался во власти наркомании. Повторялись периоды тяжелой душевной депрессии, когда ему казалось, что он сходит с ума, и он просил, молил жену: «Ведь ты не отдашь меня в больницу?» Панически боялся, что его состояние станет известным окружающим, – и, не в силах справиться с собой, гнал жену в аптеку за новой порцией, не слушая ее увещеваний. Измученная всеми обстоятельствами последнего года, она также мечтала скорее попасть в Киев.
«Ехали мы через Москву. Оставили часть вещей у дядьки, пообедали в „Праге“ и сразу же поехали на вокзал – в Киев из Москвы уходил последний поезд, позже уже нельзя было бы выехать. Мы потому еще ехали в Киев, что не было выхода, – в Москве оставаться было негде…»
Напряжение момента обусловлено было тем, что в эти самые дни заключался Брестский мир; реально Украина уже стала зависимым от Германии государством. Для Булгакова не менее значимым и болезненным было то обстоятельство, что родной город, в который он возвращался, не являлся больше частью России.
4
«…B Киеве, помнится, никто не встречал. Взяли извозчика, поехали к дому Булгаковых на Андреевском спуске. В городе везде немцы». Был март 1918 года.
Надо было обживаться, зарабатывать на жизнь.
В первые дни возвращения в родной город после почти двухлетней выключенности из жизни было выслушано все, что могли рассказать друзья и близкие о виденном и пережитом. В марте 1917 года власть в городе перешла к Исполнительному комитету, избранному общественными организациями (одним из трех товарищей председателя стал – представителем от офицерства – Л. С. Карум[61], новый родственник Булгаковых). В апреле была избрана Центральная Украинская рада, вскоре противопоставившая себя комитету – в качестве власти, выражающей волю большинства населения края.
…В ноябре 1917 года на улицах Киева шли ожесточенные бои. В них естественным образом участвовал один из младших братьев Булгакова, Николай, молодой юнкер. Если вновь воспользоваться дневником юной аристократки, которая живет в это время на Украине, в Бронницах, и взгляд которой на события в определенных точках должен быть близок семье Булгаковых, то события эти в неофициальном их изложении выглядели так: «В Киеве казачий съезд решил наводить порядок, но, кажется, Центральная Рада хочет объявить себя на стороне большевиков. В городе 〈…〉 артиллерийский и пулеметный огонь. Везде все перевернулось и рушится» (3 ноября 1917); «В Киеве всем правит полковник Павленко (украинец) и товарищ Пятаков (большевик). Одного поля ягода. Рада захватила всю власть. Петлюра объявил себя командующим всеми вооруженными силами Украины…» (6 ноября), «…9 ноября Украина объявила себя свободной демократической республикой. Ее пошлый, напыщенный „Третий Универсал“ (декрет, изданный Центральной радой во главе с М. С. Грушевским с марта 1917-го, объединившимся с украинскими эсерами. – М. Ч.) произвел должное впечатление на украинскую демократию, потому что дал ей сразу то, чего она желала: землю, восьмичасовой рабочий день, отмену смертной казни, амнистию за все политические преступления (а „контрреволюционерам“ будет амнистия?) 〈…〉 „Универсал“, конечно, отменяет дворянское достоинство, титулы, ордена и пр. Тут же он прибавляет, что Украина спасет Россию. Уж не при деятельной ли помощи Австрии наш Грушевский будет спасать Россию? (Опережая на несколько месяцев переговоры в Бресте, Грушевский повел сепаратные переговоры Украины с Австрией. – М. Ч.). У меня сердце обливается кровью, когда я думаю, каким позором покрыла себя Россия перед лицом всей Европы, всего мира, из-за политики товарища Троцкого-Бронштейна! 〈…〉 Русская Россия погибнет! Она опозорена, она жить дальше не может! Но пускай и мы умрем с нею, чтобы не видеть ее позора, не видеть презрение всего мира 〈…〉 Сейчас все настоящие русские пусть спрячутся подальше, чтобы те союзники, которые раньше уважали их родину, а теперь презирают ее, не слышали их стона»[62]. Булгаков далек, надо думать, от такой женской экзальтации, но, не поняв, до какой высокой степени накала могло подниматься национально-сословное чувство в тот роковой год, мы не сумеем понять и мироощущения Булгакова того времени, которое стало преддверием его вступления в литературу[63].
12 декабря 1911 года в Харькове на I Всеукраинском съезде Советов Центральная рада была объявлена вне закона, Совнарком России признал новообразованное Советское правительство Украины единственным законным правительством, постановив оказать ему немедленную помощь. На Украину были направлены войска. В ночь на 16 (29) января в Киеве поднялось восстание, организованное большевиками. Но перевес войск Рады был слишком велик, а красные войска еще не подошли к городу. Как пишут авторы «Истории гражданской войны в СССР», у стен завода «Арсенал» «убили и замучили около полутора тысяч рабочих».
Восстание было заведомо обречено и подавлено, но вскоре украинские социалисты Рады не смогли противостоять наступлению красных войск. 26 января (8 февраля) Киев был ими взят; в последующие недели жизнь в городе была дезорганизована; усилились грабежи.
Петроградские газеты писали: «Шаг за шагом наши войска выбивали сторонников Рады артиллерией и штыками, и наконец Киев взят. Кое-где еще держатся кучки офицеров и юнкеров, но весь город в руках советских войск» («Голос труда», 28 января (10 февраля) 1918 года). 30 января (12 февраля) в Киев приехало Советское правительство (но менее чем через три недели оно вынуждено будет, по условиям Брестского мира, покинуть город). 1 марта в Киев возвратилась Центральная рада – вместе с вошедшими в него австро-германскими войсками; 29 апреля Рада будет смещена немецким командованием: социализация Украины не входила в его экономические планы.
14 февраля было объявлено первым днем нового стиля в России.
15 февраля пришло известие о самоубийстве генерала Каледина.
20 февраля Германия начала военные действия, 22 февраля Петроград был объявлен на осадном положении и выдвинут лозунг – «Социалистическое отечество в опасности».
Политическая жизнь Киева истекшего года, реконструированная Булгаковым по газетам и рассказам очевидцев, нашла впоследствии отражение на страницах «Белой гвардии», где за кратким перечнем основных событий года, приправленным значительной долей иронии по отношению к гибко реагирующему на все перемены Тальбергу, можно попытаться различить – хотя и со всей осторожностью, необходимой при «биографическом» подходе к художественному тексту, – черты тогдашнего отношения к происходящему самого Булгакова. «В марте 1917 года Тальберг был первый – поймите, первый, – кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда все еще офицеры в Городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то, в темные коридоры, чтобы ничего не слышать. 〈…〉 К концу знаменитого года в Городе произошло уже много чудесных и странных событий и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае из Города на фронт, потому что на фронте им делать нечего…» Далее – о событиях, относящихся к концу января 1918 года (тех самых, о которых осталось несколько надписей на печке в доме Турбиных. «Замечательная печь на своей ослепительной поверхности несла следующие исторические записи и рисунки, сделанные в разное время восемнадцатого года рукою Николки тушью и полные самого глубокого смысла и значения», среди них
- Слухи грозные, ужасные,
- Наступают банды красные! —
и печатными буквами, рукою того же Николки: «Я-таки приказываю посторонних вещей на печке не писать под угрозой расстрела всякого товарища с лишением прав. Комиссар Подольского райкома. Дамский, мужской и женский портной Абрам Пружинер. 1918 года. 30-го января»): «Людей в шароварах в два счета выгнали из Города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из-за лесов, с равнины, ведущей к Москве. Тальберг сказал, что те, в шароварах, – авантюристы, а корни в Москве, хотя эти корни и большевистские». Речь идет о конце существования Центральной рады[64], о смене власти – до заключения Брестского мира, вновь изменившего обстановку: «Но однажды, в марте, пришли в Город серыми шеренгами немцы, и на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль, а гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни. После нескольких тяжелых ударов германских пушек под Городом московские смылись куда-то за сизые леса есть дохлятину, а люди в шароварах притащились обратно, вслед за немцами».
В апреле в Киеве готовились к выборам гетмана. Основная власть в городе перешла с этого времени в руки немцев.
18 апреля (1 мая по новому стилю) Вера Афанасьевна Булгакова писала в Москву сестре Варе: «…в Бучу поедут только мама и Леля, да, может быть, Ваня с Колей, но едва ли: у них какие-то дела в городе. Половину дачи, две комнаты с большой верандой, мама сдала Гробинским, а для себя и для гостей оставила 3 комнаты с малой верандой. Миша, Тася, Костя и я остаемся в городе. Мне компания педагогов предложила принять участие в открытии частной великорусской гимназии, смешанной, нового типа, это очень интересно, я с удовольствием буду работать. У нас весна в полном разгаре, сирень в бутонах, на Пасху будет цвести».
В письме приписка дядьке, Николаю Михайловичу Покровскому: «Поздравляю тебя с днем твоего ангела, желаю тебе всего хорошего, а главное, чтобы мы поскорее зажили опять по-человечески. Сейчас у нас в доме царит утомление до последней степени. Мы 2 месяца без прислуги. Готовим по очереди, по дежурствам. Мама дошла до последней степени утомления физического и нервного. Финансовый вопрос совсем заел».
Младших братьев Булгакова, как и его самого, держали в городе, несомненно, события политические, которые должны были определить судьбу Киева и всей Украины.
Через несколько дней происходило событие, также отразившееся в «Белой гвардии»: «В апреле восемнадцатого, на пасхе, в цирке весело гудели матовые электрические шары и было черно до купола народом. Тальберг стоял на арене веселой, боевой колонной и вел счет рук – шароварам крышка, будет Украина, но Украина „гетьманская“, – выбирали „гетьмана всея Украины“» (им был избран бывший царский свитский генерал Павел Петрович Скоропадский).