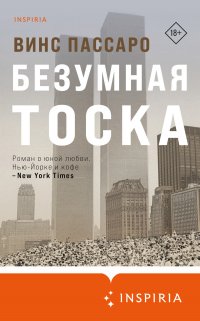
Читать онлайн Безумная тоска бесплатно
- Все книги автора: Винс Пассаро
Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? И ни одна из них не забыта у Бога.
А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь: вы дороже многих малых птиц.
От Матфея, 10:29–31
Vince Passaro
Crazy Sorrow
Copyright © 2021 Vince Passaro
Simon & Schuster, Inc., is the original publisher
© Чарный В., перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
Часть первая. Если бы сегодняшняя ночь не была кривой тропой
1
4 июля 1976-го: в ту ночь они повстречались. Всего лишь дети, но не душой. В ночь празднества миллион людей маршировал от метро к реке, Джордж был среди них, и Анна тоже – впервые он увидел ее в тесном вагоне подземки. Они вышли на улицу, и толпа растеклась, люди, подобно пилигримам, тем, что вам доводилось видеть на картинках, одурманенные верой, разбредались вниз по Кортленду и Ректор-стрит, вверх по Уотер-стрит и Уолл-стрит, множеством верующих в нравственную силу, стоявшую за основанием республики. Потемневшая история нации легкой ношей лежала на их плечах – все же они были на празднике ее двухсотлетия, и в разгаре были спасительные выборы. Страна еще не выжала надежду из всех, кроме богатейших граждан, и это грандиозное шоу было их официальным развлечением в серебристой тьме, требуя лишь полдолларового жетона на проезд. Они собрались здесь ради фейерверков, что должны были стать кульминацией этого долгого дня, и неизвестно было, достойно ли он завершится, так как все знали об убийствах, и ложь стала привычной – в день, когда по реке шли парусники, а на ее берегах пили пиво и готовили барбекю. А сейчас они все шли и шли, пока не оказались у водной преграды – на востоке за спинами вздымались исполинские башни, а на западе чернел Гудзон – толпа была готова смотреть на фейерверки, фейерверки, каких, как говорили, еще не бывало, пылающие в размытом сумеречном небе над гаванью, где собрались парусники со всего света. Все корабли стояли на якорях, с убранными парусами, и на морской глади раскинулся лес долговязых мачт, подобно крестам, что ждали воров, фанатиков или искупителя.
У Джорджа был особый интерес к кораблям, он три года проработал на лодочной станции Коннектикута и был умелым моряком. Днем по Гудзону проплывали суда, подобных которым он еще не видел: две дюжины гигантских кораблей восемнадцатого века. Лишь в Ньюпорте можно было ступить на борт хотя бы отдаленно похожего судна. Малых судов – малых условно, лишь в сравнении – было больше сотни.
Толпа собралась на свалке – лунном ландшафте песчаных дюн, нырявших в реку за башнями Центра торговли, за готическими останками старого Вестсайдского шоссе, под которыми они прошли, чтобы прийти сюда и неожиданно оказаться на сером пляже; здесь были американцы разного рода, в основном молодежь – не каждый выдержит подобный путь – всех сортов, местные и туристы, богатые и бедные, всех цветов и рас, не теснились, но все были вместе. Джорджу Лэнгленду еще суждено было узнать, что в жизни каждого города есть миг, объединяющий всех, сливая их воедино в полуединодушном эмоциональном переживании. Подобное он испытывал впервые; в ноябре ему, парню из восточного Коннектикута, должно было исполниться двадцать, и он, обычно отрешенный, откровенный циник, был потрясен, не веря в то, что здесь могло собраться такое количество людей, хаотически разбитых на группы, бездумно, словно бизон, пересекавших это песчаное ничто. Сколько в этом было добра! Каждый день город превращался в карту военных действий, где безопасные зоны чередовались с захваченными территориями, где царили враждебность и насилие, но только не здесь. Полуукуренное, жизнерадостное стадо в молочно-белом свете напоминало новых лунных колонистов – Луну покорили семь лет назад, и казалось, что с тех пор минуло целых три века. Джорджу тогда было двенадцать, и мать еще была жива. Она разбудила его в два часа ночи, чтобы он посидел с ней на диване, пока она курила «Раули», поджав голые ноги, чтобы наблюдать за нелепо выглядевшими мужчинами, одетыми, как Дайвер Дэн[1], и двигавшимися так же медленно – подпрыгивая, тяжело шагая по серой пустыне, они устанавливали в грунте неподвижные алюминиевые флаги США, заявляя права своего королевства. Он вспомнил, что сказала мать: «Вся эта затея с флагами всегда была хорошей идеей, ни разу в истории не приносила проблем, и для сопричастных ей все кончалось хорошо». На следующий день парни из NASA играли там в гольф и засеяли «Тайтлистом»[2] лунный ландшафт – помехи, треск, помехи, «вас понял, Хьюстон», помехи, «это было э-э-э-э», помехи, помехи, «около э-э-э», помехи, «пятнадцати сотен ярдов»[3], помехи, треск – электрические волны, и белый шум, и свист, и гул двух сотен тысяч душераздирающих миль. «Да уж, вот бы нам», помехи, помехи, помехи, «так бить», помехи, «там, на большой голубой, перехожу на прием», помехи, помехи, помехи. «Так… вас понял, Орел». NASA не обучали сотрудников наземного комплекса управления жизнерадостной болтовне. На человеческий дружелюбным тоном переводил Кронкайт[4], сверкая неуверенной улыбкой – со дня убийства Джона Кеннеди по его бровям можно было угадать настроение всей нации, – объясняя, как благодаря пониженной гравитации астронавт способен подпрыгнуть на десять футов, даже в столь тяжелом костюме, и запустить мяч, как ракету (одна шестая той силы, подчеркивал он, что притягивает нас к Земле). И кто? кто бы мог подумать, что они сумеют запихать клюшки, мячи, метки и всякую всячину в крохотную, тесную кабинку упакованного в фольгу модуля с паучьими лапками, на котором они прибыли? Ребята, хоть тресните, но не вздумайте забыть клюшки для гольфа, как отправитесь на эту чертову Луну.
Семь лет спустя, почти день в день, здесь поднимались и опускались маленькие нью-йоркские дюны, и гравитация была точно такой же, как на уровне моря на всем Восточном побережье. Песок на свалке был плотный, слежавшийся, казался темноватым, неприятно хрустел под сандалиями и кроссовками и был необъяснимо влажным, с нездоровым маслянистым блеском. Кое-кто из завзятых хиппи топтал его босиком, что казалось Джорджу слегка… неразумным? Перегнули с идеологией. Он попытался представить, откуда руководство нью-йоркской инфраструктуры достало весь этот грязный, мокрый песок, что за гадость могла в нем водиться и как он вообще здесь оказался. Плотные фрагменты – сланец, камни и земля – явно свезли сюда, к реке, когда заложили башни там, за спиной. Но откуда песок, брат? И вот, в эту ночь здесь стоит так много людей: подземку забили до отказа, до самого предела, и здесь были Джордж, на лето оставшийся в кампусе (в сентябре ему предстоял второй курс в Колумбии), и его друзья – большинство из них покинули город в мае, но вернулись ради общенационального парада. Днем в Риверсайд-парке все они курили траву, следя за идущими на всех парусах кораблями, потрясающими и романтичными. Вокруг, в плотной духоте на закрытом вестсайдском шоссе манхэттенские пуэрториканцы и доминиканцы устроили пикник, принеся складные стулья и хибати, а их одеяла, обувь и детские игрушки чудесным образом распределились прямо на горячем асфальте.
Трава уже отпустила, а головная боль еще не пришла, и Джордж, чьи чувства обострились, ощущал лишь пустоту внутри. Сейчас его интересовала лишь девушка, он все еще не знал, как ее зовут. Она была невысокой, смуглой, с изящными формами, а за зелеными глазами, казалось, скрывалась череда тихих, печальных комнат. Небрежная челка, каштановые волосы спадают на плечи. Красная клетчатая хлопковая рубашка, старая и мягкая, немного расстегнулась и тянулась назад под своим собственным весом, открывая шею и спину больше, чем грудь. Лифчика на ней не было, грудь была прелестной. Его влекло к определенным женщинам, с живым и опасным складом ума; проворным, игривым, с озорным взглядом. Перед глазами вновь мелькнул образ матери. Даже после смерти она не покидала его. Особенно после смерти. Кроме рубашки на девушке были обрезанные шорты Levi’s. Кеды, шнурки навыпуск. Патриотичный, чисто американский прикид. Подружка Гейста, перевод: спала с ним, этим богатеньким принстонским плейбоем, но если верить Майклу, встретившему ее и пригласившему сюда, сейчас с Гейстом она не спала.
Джордж нес полуоткрытый мини-холодильник, откуда торчало горлышко уже откупоренного и весьма неплохого шабли, плюс потертый, похожий на треску чехольчик в кармане шорт, где покоилась четверть унции годного колумбийского: темно-желтая трава с крупными, липкими шишками и три уже скрученных косяка. Он, и она, и все остальные тащились по дюнам, вверх-вниз, как миллион тупых исследователей, все, как один, решивших отправиться на южный полюс одновременно; серовато-коричневый песок пылил под сандалиями, конверсами и пумами, зелеными, как лес: толпа знала, что еще не видимой целью был мыс на юго-востоке.
Ее звали Анна. Анна Гофф.
Кто-то из друзей шел впереди, кто-то – слева, кто-то – справа, а в их небольшой группе рядом с Джорджем и Анной был Робби, учившийся курсом старше и курировавший Джорджа в «Очевидце», ежедневнике кампуса, где тот был корреспондентом, а Робби – новостным менеджером; в нескольких футах позади брел скрупулезный гениальный-укурок-с-математическим-уклоном Логан, прилетевший с Гавайских островов – когда он не курил, в особенности с полуночи до пяти утра, то сидел за компьютером в мэйнфрейм-бункере под корпусом физиков. Сегодня был один из тех редких случаев, когда при нем не было кипы бежевых перфокарт, стянутых резинкой.
Наконец они уселись на вонючем, грязном песке. Начался салют, сопровождаемый аханьем и одобрительными возгласами. По кругу передали косяк, и вскоре все снова обдолбались. Джордж откинулся на спину и прямо над собой видел не столько бесконечные фейерверки, но отблески света в небе, призрачной краской заливавшие угольно-черную небесную ткань.
Он поднялся, хлебнул из бутылки, передал ее девушке. Вино было что надо. Он вновь распластался на песке.
– Вино что надо, – проговорил он.
– Да, – согласилась она. – Хорошее.
– Жаль, что мы не в Испании и это не рассказ Хемингуэя с печальным, но неубедительным концом. Такой, где что-то хорошо, а что-то – нет, и нам известно, что в нем хорошо, а что плохо, а другим – нет, и они путаются в хорошем и плохом. И это нехорошо. Но мы-то знаем. И это делает нас хорошими.
Она наблюдала за фейерверками, словно за цветами из красочного света. Логан и Робби сидели чуть поодаль, курили жирный косяк и обсуждали выборы.
– Мы, конечно же, обречены, – говорила она. – Мы не можем быть вместе. Тебя же ранило на войне, ну, туда. А я нимфоманка.
– Чего? – удивился Логан. – Это чё еще такое?
– Из Хемингуэя[5], – ответил Джордж. – Не возбуждайся.
– Я никогда не возбуждаюсь, – возразил Логан.
– Ну разве только когда на своем Фортране напрограммируешь «блядь» на мониторе, – вставил Робби.
– Да делал я так, – бросил Логан.
– И чёй-то я не удивлен? – сказал Робби.
Джордж воспользовался случаем, и пока Анна любовалась сверкающим небом, он предпочел любоваться ею. Ее лицо было непередаваемо чувственным. Рот, скулы, подбородок. Глаза сияли интеллектом, способным буквально сбить с ног – если, конечно, вас, в отличие от Джорджа, не привлекали умницы, и причиной тому была его мать. Он перевел взгляд на мини-холодильник и горлышко бутылки. Вино скоро кончится. Надо оставить этот дебильный холодильник здесь. Пусть станет частью фундамента.
Эндрю и Робби снова раскурили косяк. Робби затянулся: взорвалось семечко, а с ним и весь косяк, как сигара фокусника.
– Бля-я-я-ядь, – протянул Робби.
– Кое-кто хреново лист очистил, – сказал Эндрю.
– Некогда было, – откликнулся Джордж. – Учил наизусть Декларацию независимости.
– Ага, и похерил мои поиски счастья, – проворчал Робби. – Мне почти в глаз попало. И зовут тебя Джордж – плохой знак в дни революции.
– Джордж Вашингтон, – сказал Джордж.
– Быть тебе, мудила, Георгом Третьим[6], если такое повторится, – огрызнулся Робби.
Он снова скрутил косяк, раскурил его и передал через неофициальное пространство, отделявшее Джорджа и Анну от остальных. Время растянулось, словно скатерть на траве. Позади, словно волшебные ящики, стояли две башни, отражая огни гавани и фейерверков длинными, геометрически правильными рядами тонких колонн – словно невероятная фреска, вырезанная узкими полосками. Абстракция. Джордж тронул ее за плечо, чтобы она посмотрела туда, и они обернулись, глядя на плоские фрагменты беспорядочных цветов на грозных громадах. Миллион людей в это время смотрели не в ту сторону. Через несколько минут они лежали ближе друг к другу, соприкасаясь телами. Плечо к плечу, касаясь головами.
– Будет ли отсылка к черному монолиту из «Одиссеи» Кубрика считаться клише? – спросил Джордж.
– Да, будет, – ответила она.
– Тогда я воздержусь. Видела, как тот француз прошел по канату между башнями? Петит?[7]
– Нет, не видела. «Т» не произносится.
– Чего?
– Пети. «Т» на конце не читается. Пе-ти, ударение на последний слог.
– Спасибо. Пе-тИИ. Я по телевизору видел, не мог поверить, что это правда. И он так долго был там, наверху! Танцевал, над копами глумился. Ветер сорок миль в час, сотня этажей. Наверху, в небе, кружат вертолеты. На фотографиях, сделанных с земли, он такой крошечный со своим шестом, как насекомое. Просто невероятно.
Какое-то время она смотрела в никуда, словно пытаясь представить это.
– Каким отрешенным, должно быть, он себя чувствовал. Или был способен чувствовать. Не могу представить, что творилось у него в душе.
– Так далеко я не заходил, – ответил Джордж. – Просто думал об этой высоте, чистое безумие.
– Быть может, ты бы и не заметил этой высоты, если бы полностью ушел в себя, в свой волшебный внутренний мир.
Снова стало тихо. Затем она нарушила молчание:
– Не могу понять, как к этим башням относиться. Сейчас они мне нравятся, но иногда я терпеть их не могу.
– А мне они всегда нравились. Мой дядя работал над ними.
– Сегодня мы лежим прямо под ними. – Она остановилась. Он хмыкнул, приглашая ее продолжить:
– Ммм?
– Они прекрасны.
Сказывалось действие травы. В ее словах Джордж слышал, что она в самом деле чувствовала, как они прекрасны. Они действительно были прекрасны. Отчасти из-за их размеров, издалека этого не ощутить. И они были близнецами. Их цвет тоже был тому причиной: стекло и сталь в переменчивом свете дней и ночей, закатов и рассветов, серого или розового неба, а иногда божественного, прозрачно-голубого.
Косяк потух, и, когда за их спинами вновь грянул салют, он снова раскурил его. Они легли на песок, отвечая друг другу на вопросы о собственной жизни. Студентка Барнарда на том же курсе, что и он, изучала компаративистику, испанский и политологию (это было ближе всего к исследованию культуры Латинской Америки, чем в Барнарде не занимались); она пыталась извлечь как можно больше из доступных ей в Колумбии предметов, но вся учеба была сплошным головняком, и, по ее словам, женщин там ненавидели. «На кафедре английского женщины тоже не в почете», – сказал он. Да, она об этом слышала. Он хотел прикоснуться к ней, прижать к себе, почувствовать, как пахнет ее шея и спина меж лопатками – в метро, всего в нескольких дюймах от нее, он видел там темный пушок – гордый изгиб шеи с ямочкой, ее кожа… Но сколько они были вместе? Полтора часа? Она из Пенсильвании. Откуда? Не хотела говорить. Почему? Не хотела, и все. «Сентралия, – наконец, сказала она, – недалеко от Гаррисберга». – «О’кей». Наконец шоу закончилось; гулкое буханье, резкие хлопки, бессмысленный восторг толпы, учитывая число собравшихся, напоминал жидкие аплодисменты среди влажной ночи. Он предпочитал естественный цвет неба, раньше он не сознавал этого, но фейерверки его совершенно не трогали, наоборот – раздражали. Вот и еще одна особенность взросления: он все еще пробовал его на вкус, свое собственное, автономное творение, взрослую версию самого себя, сбрасывая кожу пропаганды детства, семейных легенд и ложные догматы веры родного города. Будучи ребенком и подростком он всегда жаждал свободы. И вот он получил ее, и вкус ее был столь же сладок, как в его мечтах. Теперь он понял, что всей душой ненавидел фейерверки. Если ты примитивный, да ты, блядь, будешь на них молиться, но ведь уже придумали кино, книги, секс до брака, так почему все стоят, разинув рты, и пялятся в небо? У-у-у. А-а-а. По всей гавани и в устье Гудзона на якоре стоят дюжины шедевров инженерной мысли: искусные мачты, спущенные паруса на гиках, остроносые иглы корпусов, чудесное скопление произведений столярного искусства. Все поднялись, собрались, встряхнулись, и разношерстная толпа с неохотой потащилась прочь со свалки, в сторону Уэст-стрит.
– Холодильник забыл! – крикнул ему вслед Робби.
– Оставлю на потом, – ответил Джордж.
Вместе с Анной они направились на север, а Робби и Эндрю затерялись где-то позади. Все снялись с места, и толпа стала пугающе огромной, подобно ночному отступлению из растерзанной войной земли на юге Манхэттена. Его внимание было приковано к стальным углам башен – трудно представить себе, насколько они колоссальны, пока не окажешься рядом, и сохранить этот образ в мыслях, пока не вернешься сюда. Сейчас, когда шоу закончилось, они почти полностью погрузились во мрак, и казалось, что это два черных туннеля, ведущих на темный чердак вселенной.
Они продолжали идти вперед вдоль северного края толпы, вышли на Чемберс-стрит, сумев попасть на экспресс до пригорода. Состав был полностью забит, и все молчали. Празднество длиною в день и шум салютов лишили всю толпу голоса. В вагоне было сорок с лишним градусов. По лицам струился пот, от него же темнели рубашки. От Четырнадцатой и до Пенн-Стейшн Джордж и Анна ехали в центре вагона без какой-либо опоры: он был достаточно высок, чтобы упереться кулаком в потолок, а она схватилась за его ремень. Это сводило его с ума. Несколько раз их взгляды пересеклись, мгновение они смотрели друг на друга, но были невыносимо близко, это было слишком, и они отводили глаза. На 96-й с толпой они изверглись из вагона. Здесь была станция пересадки на пригородные поезда, где им нужно было сесть в тот, что шел дальше по Бродвею в сторону кампуса. Несколько экспрессов уже прибыли сюда, и на станции скопилось столько людей, ожидающих пересадки, что явившиеся последними подвергались опасности упасть с платформы на пути, рискуя попасть под состав или быть съеденными крысами размером с баклажан. Там, внизу, грызуны кишели, словно аллигаторы. Джордж взял Анну за руку, втянув в ряды идущих на выход. Еще двадцать кварталов им предстояло преодолеть пешком.
– Я здесь не хожу, – сказала она.
Здесь означало пространство от 110-й до 79-й улицы, полное сутенеров, шлюх, наркоманов и пьяни, сумасшедших ветеранов Вьетнама и поехавших всех сортов, только что выписанных из психушек и снимавших комнаты в отелях, что стояли на боковых улицах.
Джордж протянул ей руку, она взялась за нее.
– Но мне нравится на это смотреть.
Все на Бродвее: магазины на углу, бары и прочее – излучало зловещий неоновый свет. Здесь было шумно. Отовсюду слышалась одна сальса – к востоку и западу, на улицах и в школьных дворах, на стихийных вечеринках и танцах. Когда они добрались до Морнингсайд-Хайтс, все стихло; как обычно, на скамейках разделительной полосы спали алкаши, студенты возвращались домой группами или поодиночке, медсестры спешили на ночную смену в больницу. Они вошли на территорию университета на 114-й. У него была комната с двуспальной кроватью в общаге первокурсников, на лето ее сдавали за наличные как одноместную для студентов, приезжавших в гости. За комнату он платил из своей социальной страховки.
– Что собираешься делать? – спросил он.
– Что-то в сон клонит, – ответила она.
Было уже за полночь. Она жила в здании Барнарда на углу 116-й и Клэрмонт.
– Можем музыку послушать. Дунем.
– Мы и так уже накурились. А что потом?
– Потом? Кто знает. Поговорим о Ницше. Читала «Заратустру»?
Она засмеялась приятным, мелодичным смехом:
– Читала, да. А что за музыка?
Он сразу понял, что за этим вопросом последует дюжина других.
– Любая, которая тебе нравится.
– Любая?
– Ну да. У меня, знаешь ли, ее целая куча. Что предпочитаешь?
– Смотрю на тебя и знаю, что у тебя точно есть Дилан. Джони Митчелл, и наверняка Doors. Какое-нибудь обывательское дерьмо. Ставлю на то, что у тебя полным-полно The Who.
– Ладно, все угадала. То есть у меня три альбома The Who, не так уж много.
– Многовато. А еще у тебя есть Kind of Blue Майлза. Его покупка стала для тебя важным событием.
– Эй, притормози!
– Извини.
– Ничего, переживу. Давай дальше.
– Дженис Джоплин у тебя есть?
– Есть ее альбом с Holding Company.
– Хорошо. Гленн Гульд?
– Что за Гленн Гульд?
– Боже. А как насчет, дай-ка подумать… Procol Harum?
– Procol Harum? Серьезно? Procol Harum? Так сложилось, что у меня они есть. Ты что, правда, их слушаешь?
– Нет. То есть редко, но это неважно. А Тито Пуэнте?
– Нет. Только запись Сантаны. Ну, та, где есть его песня.
– Ммм, плохо. А Эдди Пальмиери?
– Погоди-ка, разве плохо, что у меня нет Тито Пуэнте и как его там… Эдди Пальмиери? Шутишь? Конечно, у меня есть Эдди Пальмиери и Тито Пуэнте, есть оба. Точно. Посмотри на меня хорошенько! Я был единственным на всем побережье Коннектикута, кто носил топсайдеры[8] и слушал Тито Пуэнте с Эдди Пальмиери. У меня целая коллекция сальсы. Господи, да мне приходилось пленки прятать от своих друзей – все, как один, здоровые, и тоже в топсайдерах. Тебе повезло, что я не заставлю тебя слушать музыку Ренессанса.
– Нет, это тебе повезло, что ты не попытаешься заставить меня слушать Ренессанс.
– Это что, тест какой-то? Я просто белый парень из пригорода, зависший на полпути меж изысканной буржуазией и рабочим классом.
– Кто на какой стороне?
– Мать была модницей, но деньги у нее редко водились. Отец был учителем в средней школе. Гражданское право и ОБЖ. Чуть лучше, чем физрук, которого, кстати, он иногда подменял. Он был красивым. Лодки любил.
– Был?
– Оба умерли.
– О…
Он замолчал.
– Это тяжело. Извини.
Он никогда не понимал, как на такое реагировать. Честность была бы раздражающе ироничной.
– Ну да, – ответил он. – Но «не позволяй себя сломать». Как в песне Нила Янга.
– Никакого Нила Янга.
– Ни минуты.
– Быстро же ты сдаешься.
– Заглядываю вперед. Стычка – не война. Накурю тебя, поставлю 4 Way Street[9], и ты будешь подпевать, а потом вдруг задерешь голову и закричишь: «Чего?»
– Нет, нет, нет! – закричала она.
На крик обернулись два парня, шедшие в Карман Холл[10].
– Old man sitting by the side of the road… with the lorries rolling by…[11] – пропел фальцетом Джордж.
– Нет! Нет-нет-нет-нет! Нет! – Она смеялась.
– Так и будет, – заверил он.
Они пошли дальше.
– А Шарль Азнавур? Шарль Азнавур у тебя есть?
Он остановился. Ей пришлось обернуться и подождать ответа.
– Что такое?
– Хуйня какая-то.
– Что за хуйня?
– Я даже не должен знать, кто это.
– Но ведь знаешь?
– Есть у меня кое-что из него. Купил кассету еще в школе и прятал от всех друзей. Мне он нравится.
– Вечное возвращение.
Он уставился на нее.
– Все повторяется снова и снова. Ты же вроде как читал «Заратустру»?
– Я не говорил, что читал «Заратустру», это ты сказала, что читала его. Я еще не закончил «Рождение трагедии», которую должен был прочесть в прошлом году. Если я все верно понял, Ницше бы протащился по Rolling Stones. Они шарили во всем аполлоническо-дионисийском.
– Не вижу в них ничего аполлонического.
– Тебе, должно быть, нелегко угодить.
– Даже не представляешь насколько.
И вот они стояли у входа в Карман Холл, у стены из шлакоблока, выкрашенной в холодный белый цвет, сиявший в свете фонарей. Так близко друг к другу и тянулись все ближе.
В полной тишине, скрестив взгляды, как не осмелились в метро, они стояли рядом. Она поцеловала его. Он поцеловал ее в ответ – медленно, легко. Ее губы были мягкими, такими же, как невообразимо мягкие губы, которые он целовал в своих странных снах. Он не хотел вспоминать о тех снах, не сейчас. Он желал владеть этой женщиной. Они поднялись наверх, к нему в комнату. Они целовались, покурили еще немного, и он поставил Sketches of Spain[12], негромко, и музыка переливалась, как поэма с отблесками звездного света на крохотных волнах. Так звучал воздух в ночи. Немного грустно. Что бы ни случилось, ему не хотелось никакой спешки. Они лежали на его постели, целовались и целовались, и он касался ее тела, едва-едва, легко, словно ветер. И ее тело ответило на его прикосновения.
2
Феррис Бут Холл, порция модернизма на неоклассическом колумбийском блюде МакКима, Мида и Уайта[13]. Ему нравилось это нелепое здание, подражание Филипу Джонсону[14], с террасой, вымощенной шиферной плиткой, и стенами из полированного гранита и стекла. У такой стены он стоял вчера, прохлаждаясь, там, где гранит фасада встречался с белым шлакоблоком торца ФБХ. За дверями слева – треугольное кафе, а дальше впереди снова гранит, белая извивающаяся лестница с хромированными перилами, ведущая на второй этаж. Из-за высоких зданий по соседству ФБХ казался еще меньше: позади стоял Карман, кошмарный проект Федерального жилищного строительства, слева виднелась монументальная каменная колоннада библиотеки в европейском стиле, старый кирпично-каменный Ферналд Холл, где тоже жили студенты, был справа. Феррис Бут был здесь совершенно неуместен, но очарователен, словно элегантное дитя в белом платье, что ждет в гостиной дедушки и бабушки, знававшей лучшие времена.
Второй этаж, кабинеты, более практичная обстановка, черная и серая плитка на полу, стены из шлакоблока, люминесцентные лампы за жестяными сетками. Летом работа над «Очевидцем» сводилась к минимуму. Пока шли занятия, газета выходила ежедневно, на восьми или шестнадцати страницах, но с июня по сентябрь появлялась раз в неделю в виде плаката на стене. Джордж обнаружил, что на месте только Луис, тот печатал статью о парусниках и фейерверках от первого лица. Этим летом колонка редактора принадлежала ему, а осенью он во второй раз должен был занять должность редактора отдела. Он был единственным из знакомых Джорджа, кто открыто заявил о своей гомосексуальности. Часто он разворачивал стул спинкой к столу, забираясь на него с ногами и выставив зад так, словно предлагал помесить глину в палатке у костра. Почти весь первый год Джордж его побаивался, но три фактора, решающие для Джорджа в отношениях с мужчинами, преодолели все остальное: Луис был сообразительным, прикольным и наблюдательным, и последнее обычно означало, что он всегда оказывался прав.
– Откуда «би» в «бисентенниал»[15], детка? – не отрываясь от машинки, спросил Луис.
– Ты не би, пока не признаешься, – отмахнулся Джордж.
– А – это неправда, В – откуда тебе знать, С – все мы хоть капельку би. И ты не исключение.
– Что за хуйня у тебя на пальцах?
– На каких?
– На тех, что у тебя на ногах, в сандалиях, как у центуриона, – уточнил Джордж. Вообще, сандалии были вполне ничего: кожаные, с медными кольцами, очень по-библейски. Смущал лишь ряд бесформенных ногтей, напоминавших «Чиклетс»[16].
– Ты про мои великолепные ногти?
– Видеть их не могу.
– Сделал себе педикюр и купил лак пяти цветов, так как не мог определиться, а это же бисентенниал! Красный, белый и голубой – это клише. И глянь, что за прелесть! И они мне (постукивая пальцем по груди Джорджа) нра-вя-тся. Короче, мой широкоплечий друг, отъебись-ка.
Он вернулся к своей работе.
– А ты здесь зачем?
– Просто хотел поглядеть, как дела, – ответил Джордж.
– Нет тут никаких дел. Ну, кроме твоего. Глашатай возвестил о твоих коитальных похождениях.
– Господи, что, уже?
– Видел в «Чоксах»[17] Джо, он вчера ночью пил с Робби и Логаном в Вест-Энде. Там он узнал, что ты ушел от них с какой-то девушкой, и больше они тебя не видели. Он махнул на тебя рукой через шесть, ну, может, семь секунд.
– Мы говорили о Ницше. Коитуса почти не было.
– Кончай заливать!
– Ладно, ну было, до утра, да. А до этого мы к нему шли несколько часов.
– О-о-о-о, – протянул Луис, как будто увидел фото ребенка или котенка. – Это так мило!
– Дискуссии о коитусе. Что мы чувствуем. Что это значит. Почему бы нет. Влажные поцелуи. Возложение рук. Снова разговоры о чувствах. Семейные истории, вкратце. Наблюдения за сигаретным дымом. Еще больше поцелуев и разговоров. Мы голые, славно устроились на холодном сухом песке. Только лежим на кровати, в трусах. Сперва играл Майлз Дэвис, потом Blind Faith[18] на повторе. Должен сказать, что, кроме Presence of the Lord, на повторе альбом не звучит. Потом Билли Кобэм, потом снова он, хотя слушаешь его и не знаешь – во второй раз или в восьмой. Откровения под кайфом и тому подобное дерьмо. Потом, наконец, мы уснули. Сладостное пробуждение. Стояк, как дерево в окаменевшем лесу. Ее это позабавило, ей было интересно, даже возбудилась немного. Какое-то время она была поглощена этим зрелищем, во всяком случае, так мне казалось. А потом устроилась на нем, как скатерть на столе в одной из тех реклам, где скатерть падает на стол в замедленной сьемке. Ты точно такое видел.
– Как будто их постирали с «Вулайтом»[19]?
– Именно. Или с «Бреком»[20].
– «Брек» для волос.
– Хуй тоже может упасть.
– Да, может. Как бы там ни было, из-за тебя я весь горю.
– Уйми стояк.
– Все началось с каменного леса.
– Держи это при себе.
– Возьму себе и уж тогда подержу.
– Я тебя игнорирую. Неважно, потом мы позависали немного, а вечером опять встретимся. Пошли с ней завтракать. Я влюбился. Вот. Теперь ты счастлив?
– Счастлив? Счастлив? Я всегда несчастен. А где завтракали?
– Боже…
– Детали, детали! Историю создают детали!
– У Мака. Поделили с ней их фирменную яичницу с беконом и оладьями.
– Ты ее в «Голодный Мак» повел? Какой ужас.
– Сели за стойкой.
– При следующей проверке надо будет все там сжечь.
– Завтраки там клевые. Оладьи, яйца, бекон, сок, кофе – всего доллар шестьдесят пять.
– Ты просто даешь чаевые палачу.
– Значит, поэтому у раздатчика капюшон?
– Не понимаю я гетеросексуалов, – вздохнул Луис.
– О чем пишешь?
– О своих впечатлениях, – он пропел, почти как профессионал, – на пра-а-а-а-здновании би-би-би… сентенниала.
– Надеюсь, втиснешь туда что-нибудь патриотичное для выпускников.
– Даже не думай.
Вошел Артур. Артур был фотографом.
– Мистер Пеннибейкер, мистер Лэнгленд. Фотографии.
Он слегка поклонился с привычной искусственной официальностью. Этим летом он должен был стать бильдредактором, но с этим была проблема – его не зачислили, и так продолжалось год, если не два. Артур Августин Таунз, так его звали. Читалось как Августин, теолог, а не Огастин, город во Флориде, он бы сразу вас поправил. Смуглокожий, с круглыми плечами, животом и мягким голосом, приемный сын бездетной пары, белого проповедника и его жены, родом со Среднего Запада. Методисты. Со всем упорством продвигавшие Божью благодать. Оставалось загадкой, как они позволили ему учиться в одной школе с коммунистами в Гарлеме. Одежду и обувь он покупал по каталогам «Эдди Бауэр» и «Л. Л. Бин», иногда появляясь в новой рубашке из хлопка от Брукс Бразерс – Джордж подозревал, что ему их дарила мать на Рождество. В хлопчатобумажной рубашке и штанах цвета хаки он олицетворял противоречивость представлений о расах, этот вечный студент, уже лысеющий, говоривший лихорадочно, повторяясь, но четко; с черной бородой, где уже пряталась пара седых волос, живым взглядом, вечно какая-нибудь история наготове, и в основном (как и большинство знакомых Джорджа) сфокусированный на комичной абсурдности мира. Он был Фотографом с большой буквы. Два года он был бильдредактором «Очевидца», работал над одним выпускным альбомом и для учебы был уже староват. Он был подобен призраку этих залов, постоянно присутствуя здесь и регулярно встречаясь с деканом насчет восстановления – предположительно, он закрывал невероятное количество хвостов и считался чем-то вроде студента. У него было множество ключей от разных кабинетов и кладовок. Проявочная. Фотооборудование. Пленочная. Помимо фотосьемки, но совсем близко к ней, он стал экспертом в области фотокопии. Он знал все о емкостях, выдержке, о возможностях аппаратов, об их черном, покрытом порошком нутре, и подобно фермеру, пасущему стадо коров на заре, тихо говорил с ними нараспев или поэтически материл их, когда они перегревались или когда их клинило. Без отрыва от учебы он работал в отделе печати, быстро став помощником управляющего огромным университетским центром печати, пропускавшим через себя для печати, копирования или переплета отчеты, статьи и проекты комитета, президентские речи, руководства для персонала, расписания занятий и курсовые бюллетени, факультетские правоустанавливающие документы (из разряда «только лично»), результаты экзаменов и доработки, разборы программного материала и подготовку к аккредитации. Управляющий занимался собраниями, оставив большую часть работы на плечах Артура, становившегося Робертом Мозесом[21] университетского печатного дела.
Лишь единожды Джордж слышал, как тот упомянул о расовой неопределенности. Ближе к концу весеннего семестра Артур рассказал про один из зимних дней дома, в Милуоки, из тех, когда рано темнеет; тогда он учился в девятом классе и вдруг обнаружил, что забыл учебник. «Было полпятого или около того», – сказал он своим обычным тоном. Да, занятия уже почти кончились, довольно приличная частная школа, которую он посещал, закрывалась в пять, что ему оставалось? Он выбежал за дверь, в ледяной сумрак Висконсина, помчался в школу и успешно вернулся назад с книгой. Мать поджидала его на кухне, где, по мнению Джорджа, всегда ждут разгневанные матери.
«О да, она здорово разозлилась», – сказал Артур. Взбесилась. Просто взбесилась. Сказала: «Из дома нельзя выходить затемно. Нельзя носиться по улицам. Нет, нет. Ты, чернокожий мальчик, бежишь по темным улицам Висконсина. Тебя пристрелят! Все просто, так, если спрыгнешь с печной трубы, ты умрешь, верно? Побежишь по улицам, дорогой мой, и тебя пристрелят, ясно? Ты чем вообще думаешь, а? Нет, это не обсуждается, не-а. Нет, нет, нет, нет. Это Висконсин. Один из штатов, где ККК[22] сильнее всего. Мужчины в простынях. Их здесь больше, чем в Миссисипи, так? Так». И что я ответил? Я сказал: «О’кей. Ладно. Ты права, мам. Да. Больше не буду так делать». – «Нет-нет, не будешь. Не будешь бегать по улицам в Висконсине. Ха-ха-ха. Нет».
На праздновании двухсотлетия Артур отснял много пленки, так же, как и всегда. Толпы людей у реки, парусники. Но в газете было место лишь для одной фотографии, к тому же прескверно напечатанной. Артур проявил пленки в лаборатории ФБХ, бегло изучая их под лупой – бездарные снимки, заключил он, скучные, скучные, скучные. Но все же отобрал шесть наименее бездарных и сделал контактные копии, пять на семь. Для ужасных копий, использовавшихся в летней газете, – дешевая офсетная печать, на шаг впереди мимеографии – надо было снизить контрастность. Одна ему понравилась: странные лица на переднем плане, мужчина и женщина в фокусе, мужчина в профиль, его лицо, шея, грудь и плечи раскрашены в голубой и усыпаны белыми звездами, а на других частях тела, дальше от объектива – знакомые полоски, различимые даже на черно-белом. Женщина держала бенгальский огонь и смеялась. За ними, не в фокусе, как во сне, что снился им обоим, четырехмачтовый парусник на реке, прямо как сцена из «Капитана Горацио»[23]. Когда снимки высохли, он принес их в кабинет. Третьим был тот, что ему нравился.
– Фотографии, – повторил Артур.
– Да-да, фотографии, – ответил Луис. Он быстро просмотрел их, выбрав третью.
– Храни тебя Бог, – сказал Артур.
– Ты всегда кладешь хорошую третьей.
– Нет, нет. Неправда. Нет. Иногда четвертой. Иногда последней, в качестве эксперимента.
– Но сверху – никогда.
– Если положить сверху, им все станет ясно. И его не примут.
– А им это кому? – спросил Луис.
– В данном случае речь о тебе, – ответил Артур.
– Но я всегда выбираю лучшую.
– Да, ты хорош, хорош. Глаз наметанный. И все же открываться не стоит. Отец мне много раз говорил, когда я был моложе. Никому ничего не говори. Это Америка. Что бы там ни было, молчи. И рта не раскрывай.
– Мудрость из самого сердца страны, – пропел Луис.
– Рад, что ты доволен.
– Я не доволен. Я на грани истерики. Но рад, что ты доволен.
– Давай не будем преувеличивать, – предложил Артур.
– Ну, вид у тебя неунывающий.
– Да, точно. Неунывающий. Я это запомню. Не стоит унывать.
И он ушел. «Не унывать!» – послышалось из коридора. Луис думал, что Артур ушел насовсем, но тот снова возник в дверях.
– Мной движет твоя льющаяся через край уверенность.
– Пошеел ты на-а-а ху-у-уй, – пропел Луис.
История о событиях минувшего вечера и утра, рассказанная Джорджем Луису, постепенно теряла очертания, никакой пересказ не мог передать все, что было на самом деле. Слова с легкостью могли разрушить те тонкости, что сохранила память. В ту ночь, еще не сняв трусы, он почти кончил, когда она терлась об него и целовала его, и во второй раз, когда он отстранился от нее, она сказала, что все в порядке и она не против, чтобы он кончил, а он возразил, что кончить в трусы слишком уныло, совсем как в школе. Тогда она предложила кончить ей в руку, на что он вновь ответил отказом, нет уж, подруга, только по-настоящему, и начал взбираться по ее ногам, а она, смеясь, откинулась назад, и он изведал борьбу за власть с резким привкусом железа, напоминавшим вкус крови. Так все и будет между ними; и его простой принцип – за этим излюбленным словом крылись непреложные наклонности личности, скрывавшиеся за его добротой и попытками шутить, – был никогда, ни при каких условиях ни в чем не уступать. Эту склонность, это качество он унаследовал от покойной матери, чей образ был с ним постоянно, и она была – он ненавидел подобные признания, поэтому делал их крайне редко – абсолютно непреклонной. Если нужно, прячься, если должен, исчезни (как сделал его отец, ну, или почти сделал), лги, если должен, притворяйся, если надо, но никогда не сдавайся. Если нужно, прикидывайся побежденным, но даже поступив так, продолжай бороться. Как Вьетконг. В последние годы жизни мать полюбила вьетконговцев, выживавших в своих туннелях и побеждавших. Северо-вьетнамская армия. В Сейбруке[24] она была единственной матерью, знавшей, как звали генерала Зяпа[25].
Так настало утро, и они спали и просыпались, проведя несколько часов в односпальной кровати, она лежала в трусиках, прижавшись к нему, западная сторона здания светилась бледно-голубым, вентилятор гнал прохладный воздух. Он снял трусы, и она трогала его там, проверяя, стоит ли у него еще, крепко сжимала и начинала засыпать. Наконец, они забылись сном, а дальше все было, как в рассказе Джорджа: он проснулся с каменной эрекцией, и, конечно, хотелось поссать, но это пришлось отложить – она снова взяла его за член и уже не отпускала, он стянул с нее трусики, и она оседлала его. В ее миниатюрном, смуглом, прекрасном теле было что-то чудесное, – и она знала это, знала, как на самом деле красива. Нет, не так: она знала собственное тело, ей было легко в нем, легко жить в нем так, словно он и вовсе не смотрел на него как на неземной инструмент соблазна и секса, она была в своих владениях. До сих пор ему не встречалось подобного пренебрежения желанием позировать; он мог бы назвать это самоуверенностью и позже хотел сказать о том, что увидел в ней, но подозревал, что это нечто иное, ощущал, что она станет отрицать любые проявления самоуверенности – по крайней мере, иногда, пока они сливались и разделялись, на миг в ее глазах мелькала неуверенность и тревога, но лишь до тех пор, пока он не начал ускоряться. Она не была самоуверенной, она была цельной. Неизменно была собой. И дело не в том, что в ней не было страха. Ей это нравилось: возбуждаться, ощущать свое тело, даже немного нравилось чувство страха, и она боялась не своего тела, не его тела или чего-то запретного, не боялась секса, то был страх перед чем-то настоящим, эмоциональной уязвимостью, скрывавшейся за сексом, между ним и солнечным светом, отбрасывавшим тень. Он вглядывался в нее, подобно исследователю, и она не отводила глаз, пока не кончила; и он шептал ей, проникая все глубже и глубже: «Я хочу раскрыть тебя», – под чем подразумевалось и то и другое – заглянуть в нее и трахнуть ее, и этот миг стал отправной точкой, движения бедер ускорились, и они достигли оргазма. Он был убежден в том, что она кончила. По меньшей мере один раз. Кровь прилила к ее лицу, шее и груди. На несколько минут ей овладела стыдливость, и она спрятала лицо. Он обнял ее, прижавшись к ней, готовясь снова заснуть, но через три или четыре минуты – точно не через пять – она высвободилась из кокона его объятий, сказав: «Есть хочу. Ты голодный? Я очень».
Женщины – то, как они смотрят на перемены, адаптируясь к ним, и вновь идут дальше. Он лежал в изнеможении, секс и мощь его чувств лишили его сил. Она же тем временем уже готовилась пойти позавтракать.
3
Анна всегда помнила его в этой потускневшей, полинялой, застиранной футболке цвета клубничного шербета, обтягивавшей плечи, которые ей хотелось обнимать, кусать, касаться губами. Большие, круглые, мощные. Как-то она сказала, что он похож на тяжелоатлета, и он опустил взгляд на свое тело, перевел его справа налево и сказал: «Нет». Он был частью лодочного экипажа, чинил лодки, парусные лодки в Олд-Сейбруке, когда был подростком, и то были меркнущие следы тех времен, так как впервые за пять лет он проводил лето не в доках. Он носил причудливые топсайдеры, те, о которых мог говорить без умолку. Никто из тех, кто носил их, никогда не покупал новые. Никогда. Она напоминала себе, что стоило бы исследовать этот протестантский феномен Новой Англии – никакой новой одежды – в будущем, когда они узнают друг друга поближе. Говорил он медленно. Он тщательно подбирал слова, и, как оказалось, это было уместным, так как он работал в газете, желая стать писателем или журналистом. Так что потребовалось немало времени, чтобы узнать, интересен ли он; она чувствовала, что все еще не понимает этого полностью. Почему-то одно его присутствие осложняло любые подобные попытки.
Вот что целиком и полностью захватило ее: то, как он остановился и уставился на нее, стоило ей упомянуть Шарля Азнавура. Он отшучивался, говоря об Эдди Пальмиери и своих ботинках, но с Азнавуром все было по-настоящему. Иногда, вступая в контакт с человеком, ощущаешь электрический ток. Зззззп. Пугающий звук, что слышен, когда касаешься зубца вилки, не вытащенной из розетки до конца. Короткий рассказ о кассете, купленной после смерти матери. Азнавур на «Шоу Майка Дугласа»[26]. Она выудила из него эту маленькую историю. У стольких записей есть своя история. И твоя вместе с ними. Tapestry[27] Кэрол Кинг. Дерьмо. Не стоит даже и думать о нем. Тридцать миллионов женщин строем шли за ним в магазины. Но Sgt. Pepper? Она не могла даже смотреть на обложку: ее брат был просто вне себя от восторга. Теперь все, что от него осталось, включая пластинки, принадлежало ей. У нее было японское издание хоралов Баха в исполнении Вильгельма Кемпфа. Ее старший брат, Марк, играл на фортепиано. Он был очень хорош, но перестал играть, когда ему было четырнадцать или пятнадцать. Потерял интерес. Иногда он слушал пластинки с фортепианной музыкой. Пластинка Кемпфа была выпущена в Японии, и надписи на обложке не поддавались расшифровке. Конверт помялся, пластинка погнулась, и тонарм над диском вздымался и падал, как рука дирижера, задающая ритм неверной пьесы. Но ее можно было слушать. Как и Ohio Players[28]. Словно капли меда на теле. Она хотела, чтобы на ее тело капал теплый мед. Хотела этого с тех самых пор, как увидела обложку их альбома. Но никому об этом не говорила. Может, стоило ему сказать? Может, он бы смог ее понять.
Он был крепким, и что-то явно ранило его. Ей нравилось думать так же о себе самой, но это проявлялось в его манере держаться, а в ее – нет, и она спрашивала себя, не потому ли он так ее заводит. Кожа этого белого мальчика, привыкшего к солнцу, отливала красным, золотисто-красным, чуть ярче, чем его футболка. Этим летом он не работал, только читал и писал; получал пособие в связи с утратой родителей, помощь сироте, как он ей говорил. Ему платили, пока не исполнится двадцать один. Она не знала о том, что у детей есть социальные гарантии. В его комнате, когда они наконец выбрали пластинку, она обвила руками его шею, пока он целовал ее, забросила на него ногу, затем другую, фактически забралась на него и терлась о его тело, раскачиваясь. Чудесная крепость и прочность тела. Как теплое дерево. Ей так, так, так не хотелось трахаться с ним в первую ночь. Она так, так, так верила в то, что это ее роковая привычка. И она держала дистанцию, держала его на расстоянии, пока не поняла, что сводит с ума и его и себя и это правило, принятое ей, совершенно бессмысленно. А утром этот мощный член в ее руке, течет ей на пальцы, она не могла, не хотела, не стала сдерживаться, все-таки эта ночь была уже не первой, так? В розовом и лазурно-голубом свете зари. Ее трусики на полу. Господи, скользить по нему. Его бедра были широкими, так что ей пришлось растянуться, она чувствовала, как раскрывается, и затем он сказал это, он хотел раскрыть ее, и она совершенно потеряла голову и кончила, и еще раз кончила, и ей нравилось чувствовать его тело, с ней такого никогда не было, ей никогда не нравились их тела до этого дня, если вообще нравились. Ей нравилось, как он пахнет. Всегда важно. Они отправились за оладьями. Целовались за стойкой, губы в сиропе. Пошловато, но ей было все равно. Скользкий тип за стойкой постоянно пялился на нее.
4
Скоро они были вместе, стали парой. Когда говорят «я люблю тебя»? Слова застревают в горле, но ненадолго. Настала осень, но сперва – август, она отправилась домой на пару недель – в Херши, Пенсильвания, вот о чем она не хотела ему говорить, – а Джордж нашел где остановиться на неделю, пока общежитие было закрыто, ведь ему возвращаться было некуда. Расстояние немалое, и они поговорили лишь дважды; он написал ей, она написала ему, бесконечная разлука. Затем волнующий сентябрь, бурый октябрь. Конечно, он ее любил. А она любила его. С чего бы им не любить друг друга? Они закинулись кислотой ясной ветреной осенней ночью, что сменила кристально ясный, хрустящий, чудесный голубой день – и тогда как он ее любил. День был светлым, прозрачным! Джордж читал Конрада, и язык заражал его, как древний выживший вирус, перегружая кору головного мозга жертвы латинизмами и вырываясь во внешний мир. В ночном небе сияли звезды, больше, чем обычно, было видно в Нью-Йорке. Поднимался ветер, иногда дул резко, стирая все следы облаков и влаги над землей – прошлой ночью был ливень, – отбрасывая назад их волосы и обжигая лица прохладным огнем. Подчас казалось, что это сверхъестественный ветер, библейский, в нем чувствовалась смерть, смерть неявная, он был предвестником чуда, Божьего гнева и бессудного, прекрасного спасения. Джордж и Анна закинулись около половины девятого, когда весь этаж, кроме них, собрался в комнате отдыха, чтобы смотреть четвертую игру первенства по бейсболу, где «Янкиз» проигрывали; Джордж не мог поверить, что им это было интересно, разве что все были из Цинциннати. Большинство студентов, по меньшей мере половина, была из трех штатов. Игры с первой по третью показали, что две команды, по-видимому, играли в один и тот же вид спорта, но с разным уровнем техники. Мансон, разумеется, был исключением. Он был феноменален. Остальные игроки в команде напоминали испуганных кошек. Джордж хотел оказаться как можно дальше от всего этого, и кислота действительно унесла его далеко. Анне было приятно заполучить его назад спустя три игры. Они сильно испортили ему настроение. Теперь он был свободен, почти счастлив, она понимала, что причина кроется в ней.
Джордж спустился в бар попить пивка. Анна вернулась в комнату, планируя встретиться с ним в холле. В баре почти никого не было, все смотрели бейсбол, и было еще не совсем поздно, пока он стоял с кружкой в руке, готовясь опустошить ее, вошел декан. Ебаный декан. Шесть и шесть ростом, хромой, преподавал русский язык и литературу и говорил еле слышно, бормоча и заикаясь. Он слегка сутулился и, как ни глянь, напоминал птеродактиля. Фамилия у него была дактилическая: Хэррингтон.
Декану нужно было с кем-то поговорить, а не стоять с затрапезным видом, ужасающе возвышаясь над всем вокруг, и этим кем-то оказался Джордж, одиноко расположившийся у входа. Декан улыбнулся. Он был вежливым, несмотря на нескладность.
– Как у вас дела, декан? – протянул ему руку Джордж, тут же подумав, что странно так здороваться с кем-то из руководства, но слишком поздно: Хэррингтон вложил ее в свою мягкую руку, пухлую, как подушка, и гладкую, почти как у младенца, пальцы Джорджа почти утонули в ней.
– Отлично, – Хэррингтон ощерился всеми зубами. – Р-р-р-рад вас ва-ва-ва-видеть. Я-я-я-янки проигрывают. П-п-п-подумал, что с-с-с-стоит прогуляться.
В Джордже было пять футов одиннадцать дюймов или чуть больше пяти и десяти, и временами, на миг, ему казалось, что в нем действительно пять и одиннадцать, и он смотрел на Хэррингтона снизу вверх, а тот ссутулился еще сильнее обычного, чтобы перекричать фанк-гитару, «Хэммонд»[29] и завывания Донны Саммер. Кучка танцующих белых ребят. В колледже были черные студенты, по пять-шесть процентов в классе, но их редко видели там, где тусовались белые, – обе стороны вносили свой вклад в социальную сегрегацию.
– Исход игры уже предрешен, – сказал Джордж. – Все кончено.
– К-к-к-кажется, д-д-д-да. Ж-ж-ж-жаль. Так в-в-в-вот где в-в-в-вся да-да-да-да-движуха, – вновь осклабился Хэррингтон. Опять эти зубы, губы расплылись, лошадиные зубы, большие, желтые. Джорджа уже накрыло, и кислота начала подчеркивать очертания предметов, и сейчас из-за этих зубов его мозг полностью поглотила Equus[30]. Он сидел на сцене, в ряду студенческих мест, и смотрел сквозь огни сцены, за слепящей белой волной которых исчезли зрители, и с ужасом следил за тем, как Мэриэн Селдес на протяжении трех актов оплевывала Энтони Перкинса, в пяти футах от него лежала голая рыжеволосая девушка, он впервые видел настоящую рыжую, с розовыми гениталиями, пока парень носился по сцене, ослепляя лошадей, а Джордж не мог оторваться от девушки, от ее бледно-белого тела, почти прозрачного. Она тяжело дышала, ее живот вздымался и опускался, очаровывая его. Вот это настоящий актерский труд. Что декан? Не слышно? А, он просто улыбался. Нормальный мужик, улыбка простая, скромная, добрая, но из-за строгого лица казавшаяся гримасой боли. Он был гениален, ему не нужны были проблемы, и вообще, подумал Джордж, ему, должно быть, интересно, какого хуя он забыл среди всей этой управленческой возни. Должность хуже некуда, врио декана, да еще этот предательский язык заплетается по сто раз на дню, тормозит, но это ничего, так как ему все равно не нужно было говорить ни о чем существенном.
Минутное неловкое молчание – как долго оно длилось? – и вдруг лицо декана стало меняться, задвигалось. Его голова удлинилась, начала мерцать. Стена за его спиной приятно заколебалась. А затем, о господи, что? Он снова заговорил. О чем?
– Са-са-са-славное местечко, чтобы расслабиться после за-за-занятий?..
Типа того. Джордж видел, как Хэррингтон превращается в птеродактиля, на которого был похож – сокрушительное карканье, словно бумага, хлопают расправляющиеся коричневые крылья, и он срывается с места, вцепившись клювом в бедро Джорджа, а тот висит головой вниз, беспомощно волочит руки, на лице застыл ужас. Глаза дикие, взгляд беспорядочно блуждает – чье лицо сейчас промелькнуло в его сознании? Один из греческих богов, пожирающий своего сына. На хуй западную цивилизацию, сплошная бойня.
– А вы когда-нибудь замечали… – начал было Джордж и осекся.
– Ч-что?
– Замечали когда-нибудь, э-э-э, что вся западная цивилизация – одна сплошная бойня?
– О, и в самом деле, – просиял Хэррингтон. Ничто не могло обрадовать его больше, чем это студенческое утверждение в пабе пятничным вечером. Западная цивилизация, здесь ее подлинный дух.
– Я об этом думал, – продолжил Джордж. – Как на той картине Гойи…
Его повело.
– О, в самом деле, да, на ммм-многих. Очень к-к-к-кровавые. – Хэррингтон едва не выплюнул последнее слово. Встряхнул головой, чтобы слова бросились вперед, и вновь эта лошадь.
– Один из богов пожирает своих детей, – слова Джорджа расплывались.
– Я п-п-п-полагаю, что это т-т-т-титан Кронос, – предположил Хэррингтон. – Я-а-а са-са-са-вершенно не с-с-с-ведущ в иса-са-са-кусстве. Но я так са-са-са-читаю, да. На ла-ла-латыни С-с-с-с-с-с-с-с-с-с… – он набрал воздуха, – Са-са-са-са-сатурн. Кажется.
Какая снисходительная ложная скромность. Сатурн, проще некуда – он едва мог это выговорить – знал, что рисуется.
– Да, Кронос, ага, точно, – согласился Джордж. Он не мог прекратить болтовню, хотя неодушевленные предметы вокруг явным образом двигались, глаза, лица, плитка на стене, Боже мой…
Забавно, но ему этот мужик вообще-то нравился.
– О’кей, – проговорил Джордж, – например, так, Гойя, Кронос. Сатурн. Есть в 90-х на Мэдисон одна закусочная, кажется… может, на Лекс? Нет, на Мэдисон. Там у них во всю стену огромная роспись, а вдоль столики стоят, и тело Гектора влачится за Ахилловой колесницей у троянских стен. Просто гигантская. Довлеет над каждым ланчем.
– Знаете, а я ны-ны-ны-не прочь на нее в-в-в-взглянуть, – заинтересовался Хэррингтон. – Па-па-па-полагаю, речь о га-га-греках?
– Ага, – ответил Джордж. – Греческая закусочная. Ни колы, ни пепси. Да. На восточной стороне. Мэдисон-авеню.
– Что ж, та-тогда это ве-ве-весьма ца-ца-ца-целесообразно.
До Джорджа дошло, под кислотой это ощущалось каким-то особенным открытием: тот использовал вводные «о, в самом деле» и «что ж», когда готовился выговорить фразу.
– Декан, мне пора, чувак. То есть, извините, не чувак. Мне пора. Всего хорошего! Я вообще-то уже уходить собирался. Правда.
Он был взбудоражен, говорил бессвязно. Хэррингтон смотрел на него большими, дружелюбными глазами.
– Мне надо с девушкой встретиться, – уточнил Джордж. Произнес это театрально, мужественным, заговорщическим тоном. Чтобы объяснить свое отбытие, не нуждавшееся в объяснении. Общество с его ебаными парапсихологическими требованиями, Господи. Вселенная набирала скорость. Все, на чем задерживался его взгляд, начинало пульсировать.
– О, п-п-п-превосходно, – сказал декан. Снова эта большая рука. И в ней что-то невыносимо нежное, чуть неуклюжее, мягкое. Другие люди. Джордж развернулся, слабо взмахнул рукой и взбежал по лестнице навстречу ночи, свободе и Анне. Она ждала в пяти футах от пролета, на краю холла со множеством дверей.
– Надо убираться отсюда, – обратился к ней Джордж.
– Дичь какая. Клянусь, я сейчас видела Икабода Крейна[31].
– Это был декан.
– Ну да, но он был так похож на Икабода Крейна, что теперь я жду, когда появится всадник без головы. Хреновый будет трип, да? Что-то типа шоу Арка Линклеттера. Увидеть что-то безголовое, когда трипуешь, та-а-ак обломно.
– Я с ним говорил. Внизу. Декан Икабод. Его лицо начало разлагаться, пока я с ним говорил. Стены двигались, его лицо расплывалось, я думал, оно вот-вот отвалится и упадет к моим ногам…
– Точно, – сказала Анна. – Он и станет всадником без головы.
Затем плавным пассом, загадочным образом понятным Джорджу, она отступила назад и закружилась, как балерина, издав нечто вроде: «Уи-и-и-и-и!»
Джордж закрыл глаза:
– Господи, не делай так, я этого не вынесу.
Анна кружилась и, кажется, смеялась:
– Мы пи-и-издец как упоролись…
Две девушки, спускавшиеся в паб, взглянули на них и прыснули. Их смех был недобрым. Анна продолжала кружиться, и перед Джорджем бесконечной чередой одновременно мелькало четыре или пять фигур, оставляя след.
– Не надо, – взмолился Джордж. – Клянусь, у меня щас крыша рухнет.
Она остановилась:
– Бедненький. Идем. Упс, что-то голова кружится. Давай, возьми меня за руку.
Она переоделась в цветастую юбку, в вязаную хлопковую рубашку; ее ладонь, покоившаяся в его руке, лежала на борту джинсовой куртки, выцветшей от времени. Не было ничего приятнее, чем держать ее за руку. Двадцать восемь – двадцать семь – ее добавочный номер. Он был выжжен в самой глубине его черепа так надежно, что, если он видел телефон где-нибудь в кампусе, как тот, что сейчас висел перед ним на стене старой офицерской общаги времен Первой мировой, где-то в душе напрягалась некая мышца, порываясь набрать этот номер, и неважно, что сейчас она была с ним, – это доказывало всю мощь павловского рефлекса, вызванного образом телефонного аппарата.
Они вышли на четырехугольный двор навстречу порывам переменчивого ветра, и тот столкнулся с ними сотней мимолетных касаний.
5
В ту ночь тот ветер стал их попутчиком, говорил с ними, живое существо, обладавшее мыслями и волей, они познакомились с ним и понимали его при помощи кислоты. Они спустились в подземку, где лица вокруг были почти невыносимы, как и граффити, и запахи, и переменчивые узоры, и пятна, и подтеки на выстланных линолеумом полах вагонов поезда. Тысячеголосая громада скрежещущей стали. Миллион окурков и прилепленных жвачек, уже черных или вульгарно-серых, еще не почерневших. Внезапно Анна увидела каждого из тех, кто выбросил жвачку, его жвачку, ее жвачку, его бычок на полу, мужчин в костюмах, бродяг, рабочих, пуэрториканских девчонок из Бронкса, нервничающих старух и беспокойных стариков – все они множились в ее сознании, как быстро воспроизводящееся общество, медсестры, секретарши, копы; все напоминало странную вставку Совета по рекламе, посвященную обществу. Она закрыла глаза, пытаясь ее выключить, но не сумела, и образ все разрастался, как инфицированный калейдоскоп, пока перед ее глазами не заплясали толпы людей, бесконечный водоворот лиц.
– Лепестки на влажной черной ветви, – шепнула она на ухо Джорджу.
Он посмотрел на нее:
– Боже, только не сраный Паунд.
И засмеялся.
Она смеялась вместе с ним.
– Призраки!
– Нет, не надо. – Он хохотал, согнувшись пополам.
Очевидно, они сошли с ума.
– Лица! Толпы! – сказала она.
Затем отвела взгляд, позволив ему уплыть вместе с сознанием, пока не сфокусировалась на мелькающих двутавровых балках, черных, как сажа, бля, подумать только, на них держится вся улица там, наверху. Затем Джордж продекламировал:
- Один год разливались воды,
- Один год они бились в снегах…[32]
– О нет, – вмешалась она. – Никакого сраного Паунда, ни мне, ни тебе. Хватит твоего сраного Паунда!
О, эти звуки: сталь на стали, перестук и грохот, миллионы в день, миллионы в день, и рельсы, казалось, хрипло пели об этом, и Джордж тоже пел ей об этом, склонясь к волосам, туда, где должно было быть ее ухо. Она представила этот мыслительный процесс, определение местоположения уха под волосами. Он пел: миллионы в день. Она и он почти валились друг на друга, но она хотела, чтобы они выглядели нормальными, – разве не каждая женщина этого хочет, и почему это так мало значит для стольких мужчин, а хуже всего то, что для самых желанных это наименее важно – она хотела, чтобы они сидели прямо, а не испуганно таращились на какую-то пульсирующую точку на стене у чьей-то головы. С каждым новым приступом она снова бормотала: «О боже» – и закрывала глаза, но ее настигало головокружение, и приходилось открыть их опять, и на минуту где-то там ей казалось, что придется сойти с поезда, дернуть стоп-кран и убраться из вагона, или ее стошнит, или, чего хуже, она умрет… но все прошло. Она попыталась достичь дзен, внутреннего покоя, впустить дух силы в раскрытые ладони. Шум: лязг и визг перегруженного металла, двери хлопают, открываясь и закрываясь, сигналы и крики абсолютно…неразборчивые…сообщения… из древнего громкоговорителя, словно глас нелепого божества, утратившего надежду на понимание, звук замыкающей проводки и упущенные зловещие истины. Смешанные с парой невнятных электрических слов – электрических слов, экстатических слов, – казавшихся им понятными.
– Он говорит: «Боже мой, боже мой, для чего ты меня оставил?» – сказала Анна после объявления кондуктора.
– Вообще-то, он сказал: «Следующая – Франклин-стрит, осторожно, двери закрываются», – возразил Джордж.
– Ох, да не будь ты таким засранцем, – сказала Анна и ударила его по джинсовому бедру, не очень сильно, но достаточно, чтобы подкрепить свои слова, и оба уставились на то место, куда пришелся удар, как будто видели столкновение кулака с четырехглавой мыщцей, снова и снова, в замедленном воспроизведении. И не могли оторваться.
– Вау, – наконец сказал Джордж, и они снова начали смеяться. Они были вместе, это удерживало их здесь, позволяло выдержать обострившееся ощущение мира, они смотрели друг на друга с изумлением, или удивлением, или и с тем и с другим, и каждый понимал всю настоящую глубину духа и реальности мыслей, чувств, надежд и чаяний другого. Кислотная ясность, кислотная истина.
– Если бы я сказал, о чем ты сейчас думаешь, – сказал Джордж.
Долгая пауза.
– Конечно, ты бы оказался прав, – сказала Анна.
Долгая пауза.
– Да, – сказал Джордж.
Еще более долгая пауза.
– Знаю, – сказала Анна. – Запомнишь и расскажешь мне потом, и я запомню, а потом расскажу тебе.
– Ни хрена, это совершенно невозможно, – возразил Джордж. – Подумай.
Пауза.
– Не могу об этом думать.
Пауза.
– Я уже сам не помню.
Пауза.
– Что не помнишь?
– Вот именно. В этом все дело. То есть именно в этом. Что именно я забыл? Помнить – значит жить. Но это и противоположность жизни, так как если ты о чем-то вспоминаешь, то забываешь другое, так? Слишком многое нужно помнить.
– И слишком много воспоминаний, причиняющих боль.
Анна знала, что значили ее слова. У него же была своя версия, она видела ее темный силуэт, словно тень внутри.
Они грохотали и лязгали во временных промежутках, миллиарды лет, потеряв друг друга и мир, пока не добрались до Саут-Ферри, где поезд совершал невероятный поворот, чтобы прибыть на кривую платформу, крича в повороте, словно рвалось железо, алюминий и сталь. Рифленые стальные панели, как ряды зубов, автоматически выскользнули из платформы навстречу дверям вагонов, чудовищные зубы, перекрывающие широкий промежуток, возникший из-за круто изогнутой платформы, не совпадавшей с прямыми, как линейка, вагонами. Стальные зубы. Черные и серебряные, мерцают отражения. Она и он поднялись по лестнице наверх, на свежий воздух. Наверху она подумала: медленно или быстро они поднимались? Она уже не помнила. Запах гавани и моря, ощущение молекул, бесконечно атаковавших лица, нырявших в бронхи и легкие, эротический воздух проникал в них, обволакивал их, касаясь самого сокровенного, бесстыдно, настойчиво ласкал их, отрывая от земли, и он спросил: «Ты это чувствуешь?» И в ответ услышал звук, безошибочный, низкий и тихий: она все чувствовала – этот воздух, эту ночь, эти оперенные ветром пальцы – все оживало, обретало разум, столь яркое, почти невыносимое. Изумительно. И свет: они могли шагать по его лучам, прыгая по миллиону камней, что сверкали в воде. Он остановил ее.
– Мы не можем ходить по воде и не можем ходить по воздуху, – сказал он.
– Знаю.
– Нам нужно помнить об этом.
– Ясно. То есть у меня уже такое было.
– Хорошо.
Кажется, он успокоился, и она была этому рада.
– Не переживай, малыш. Никакой херни типа Линклеттера этой ночью не случится.
На паром они перебрались на негнущихся ногах, онемев, телепортировавшись с другой планеты, непривычные к здешней гравитации, – ЛЮДИ ЗЕМЛИ – они таращились то туда, то сюда, Джордж еле оторвался от невероятных, размером с кулак, вымазанных грязью и сажей клепок и болтов в контрфорсах, крепивших фальшборт к палубе, от линолеума с длинными трещинами, от голосов и лиц. Они поднялись наверх, вышли на палубу по правому борту, уселись, ощущая ветер и невыносимый грохот гигантских двигателей отходящего парома. Отойдя вправо на четверть мили, судно взяло курс на порт, пересекая канал, за которым стояла знаменитая исполинская необычная статуя, покрытая патиной, освещенная со всех сторон, блистающая над морем, и ее зеленые отблики напоминали неоновых угрей на покрытой рябью воде.
– Кто мог построить такое? – спросил Джордж.
– Французы! – ответила Анна, и он рассмеялся. Замысел ей нравился. Позади, у кромки воды, на краю земли вздымались безумные громады: немыслимый сад корпораций из камня, стали и стекла. Одна за другой, одна за другой, и затем, в самом конце, на западной оконечности острова, два черных исполина, затмевающие все остальное.
– А кто мог построить это?
– Мы, – со скукой бросила Анна.
– Я тут ни при чем.
– Неправда, ты мне рассказывал про своего дядю.
– Да он просто панели к стенам крепил. Я о другом: чье было решение и кто его воплотил? Они же просто гигантские.
Разговор перетек к поцелуям и ласкам на скамье. Дело принимало серьезный оборот.
– О боже, перестань, – отстранилась она. – Я не выдержу, это слишком.
Он откинулся на спинку скамьи.
– Жалеешь, что пропустил последнюю игру первенства?
– Знаешь, с тех пор как мне стукнуло семь, я жил, умирал, дышал и не дышал ради этой команды. А теперь… ммм… Нет. Это все было до того, как мне попалась такая высокосортная – высококлассная женщина, как ты.
– Киска, ты хотел сказать. Высокосортная киска.
– Я бы никогда так не сказал. Слишком вульгарно и унизительно.
– Ага, и как раз это ты собирался сказать.
– Нет. Вовсе нет.
Она поцеловала его. Вдруг она снова обрела способность целоваться. Малейшее проявление развязности затронуло что-то внутри ее. Он говорил ей, что ее поцелуи самые ласковые. Секс в таком нежном режиме она не любила, но когда дело касалось поцелуев, они должны были быть медленными, гибкими, жадными, влажными. Они кое-что напоминали ему, и теперь эти воспоминания преследовали его. Иногда она легонько терлась щекой о его щетину. Ей овладела маленькая, глупая гордость оттого, что его внимание теперь было приковано к ней, а не к бейсбольной команде.
– Что-что?
– Твои поцелуи, – сказал он.
– Да? Интересная тема.
– Мать приходила ночью ко мне в комнату и целовала меня.
– Когда ты был ребенком, желала спокойной ночи?
– Нет, не так.
– О.
– Как-нибудь расскажу. Но не сейчас. У меня голова взорвется.
– О, малыш.
– Очень важно помнить, о чем ты лгал, – сказал позже Джордж.
– Что?
– Помнить, о чем солгал, чтобы не облажаться, противореча себе самому.
– Ты что, солгал о своей матери?
– Нет. Но ты знаешь, о чем я. Например, я сказал одному парню на этаже, что в школе играл в бейсбол. В девятом классе. На самом деле я хотел попробовать, но не срослось. Теперь я должен помнить, что он считает, что я играю в бейсбол.
– О, господи, – вздохнула Анна. – Я такой херни терпеть не могу. От этого я теряю веру в надежность вселенских механизмов.
– Но ты так никогда не делала, да?
– Ох, какой ветер. Господи, что за ветер, – сказала Анна. Джордж засмеялся.
Ветер. В нем время растягивалось, поднималось, падало и плескалось на волнистой воде, создавая внутри себя новые измерения. В какой-то миг Анна прошептала ему на ухо, так как тоже знала об этом, знала, о чем он думает: в нее падают годы и дни[33], он точно знал, что она имеет в виду, точно, что жизнь непреходяща! И за ее пределами, без времени, без срока и без срока, бухта, свет, ветер, смысл всего этого нырял в глубины вод, в глубины земли, о, глубина смысла, самого смысла! Нельзя и помыслить этого. Смысл! Стоять на ветру – что значит ветер? – ее соски затвердели под хлопковой рубашкой, и он шепнул ей на ухо, что собирается сделать. Он хотел слегка коснуться ее, и она кивнула, и его ладонь прошлась по одному, затем по другому, туда и обратно, ее глаза закрылись, и он понял, что нужно обнять ее за талию другой рукой. Это длилось лишь несколько секунд, но, как и все остальное, запечатлелось на барельефе во времени. Конечно, настоящее было вечным, проблема была в том, как научиться проживать его вечное. Так было после минувшей вечности объятий у поручней в звездном ветре, ночи редко бывали такими ясными, что даже нью-йоркское небо было залито светом – нам надо позвонить Карлу Сагану, сказал он ей, это слишком – паром причалил к острову Стейтен, гигантские двигатели загромыхали, давая задний ход, противодействуя инерции судна, и паром тяжко врезался в свайный отбойник. БААМ и снова БААМ, Джорджа и Анну почти швырнуло на палубу, треск, скрип, стон дерева и подпорной стены, шум, как гигантский поток гармоничных, отчетливых звуков, треск и стон каждой сваи, дерево растягивается, дерево вздыхает, звучит их хор, пока паром скользит к пристани, машинотворная современная симфония стали и дерева – разум терялся, пытаясь различить все эти звуки; все страдальческие лица.
– Влажная черная ветвь, – сказал он ей.
– Да, да, да.
– Как насчет влажного черного бушприта?
– Был нос, да в бушприт перерос.
– Хорошо, очень хорошо.
– Знала, что тебе понравится, лодочный мальчишка.
Через некоторое время паром вновь отчалил, они опять пересекли гавань, ветер стал устойчивее, сильнее, ему казалось, что он мчит его домой; в мозгу яркой вспышкой просияло: твой дом здесь и сейчас. Было так холодно, что казалось, они оба замерзнут на месте. Они побрели внутрь, к электрическому сухому теплу длинной серой металлической базилики, где каждое утро на бесконечных скамьях сидели пассажиры из пригорода.
– Дом там, где ты здесь и сейчас, – сказал он ей. – Вот где дом.
– На пароме?
– Где угодно. – Он обхватил себя руками. – Сейчас. Здесь. Везде.
– О. – Она развела его руки и прильнула к груди, и его руки вновь сомкнулись, как будто предназначенные для объятий.
– Хотела бы я, чтобы это было правдой. Но дом нечто более… онтологическое. Во всяком случае, то, что существует в нашем сознании. Это развивающаяся категория моральной жизни. Далеко идущая.
К этому времени она уже просто бубнила, уткнувшись в его грудь.
– Как сраный первородный грех.
– Боже, нелегко тебе живется, – протянул он.
Она засмеялась.
В пригород они вернулись чуть позже часа ночи, выйдя из метро и послонявшись по пустому Линкольн-центру, у черных зеркальных бассейнов за зданием оперы, сверкающих, манящих окунуться, на что они не отважились, возбужденные и даже слегка напуганные (он был слегка напуган) массивными абстрактными скульптурами, стоявшими на каменных пьедесталах посреди воды. Из бронзы, темной, как вода. Он достал косяк из кармана куртки, зажег, задержал выдох, уставился на статуи.
– Что это? – спросил он.
– Генри Мур, – ответила Анна. – Английский скульптор. Лежащие фигуры. Может, поделишься? Мы здесь точно одни?
Он протянул ей косяк.
– Ты что, кого-нибудь здесь видишь? Кроме этих вот голых. Глаз привыкает, и они кажутся мягкими.
Она затянулась, выдохнула и сказала:
– Люблю Генри Мура. Он разбирается в телах.
Их тела, прильнувшие друг к другу, их взгляды. Анна вернула ему косяк. Она ощущала его крепость, подобную статуям Мура; когда она смотрела на них, то желала окунуться в них, проникнуть в них. Она ждала от них тепла, как от вечного солнца. Она желала погрузиться в них с головой, раскинув руки. Изголодавшаяся по любви. Теперь она могла приникнуть к нему, исполнить свое желание здесь и сейчас. Она попробовала сделать это. Она прижалась к нему сильнее. Ноги почти ослушались его, и они завалились влево. Анна смеялась и смеялась, пытаясь все объяснить, – ты должен быть крепким, повторяла она – и он смеялся вместе с ней, но не мог понять, что в действительности произошло, и она знала это. Тогда они оба знали: она знала, что в этом смешного, а он не знал, и она знала, что он не знал, а он знал, что она знает и это – и это снова их рассмешило. Он все спрашивал: «Что? Что?» – но ответа не было, и каждый раз, когда он повторял: «Что?» – они смеялись все сильнее. Уйдя оттуда, они углубились в комплекс зданий, обнаружив площадку с крытой сценой, а за ней забор, откуда открывался вид на пустынную Десятую авеню, жилые небоскребы и многоквартирные дома. Они покурили еще немного, но не до конца. Он хотел положить косяк в карман, но она остановила его руку. «Не надо», – сказала она. Он посмотрел на нее и щелчком смахнул его за проволоку забора на тротуар под их наблюдательным пунктом. Затем они пошли назад, забрались на сцену, пели песни и декламировали с нее – под кайфом выходила пародия на исполнение как таковое, полностью понятная им, и они наслаждались ей, но позже ни он, ни она не могли вспомнить, о чем они говорили и пели на сцене той холодной, ветреной ночью. Джордж вспомнил, что ему удалось очаровать ее, более того, он так и не утратил нового ощущения оглушительного освобождения.
Затем они вернулись на Бродвей и прошли около двух кварталов, пока их не утомили шум уличного движения и движущиеся огни, и почти недееспособный Джордж втянулся в поток машин, волшебным образом поймав такси, со знанием дела избежав опасности быть раздавленным, – она наблюдала за ним и почему-то знала, что он не умрет. Он никогда не умрет. В его голове в это время крутилось кислотное кино, которое его сознание превратило в танец, прелестный променад, где сигналящие и уклоняющиеся автомобили не имели никакого значения. Такси затормозило рядом с ним, его ладонь легла прямо на дверную ручку, чтобы он открыл ее, Анна со всем возможным спокойствием следила за ним, и затем он и она оказались в такси. Они все больше сближались, пока сперва не встретились их губы, затем языки, и Джордж вошел в ошеломительный туннель желания. Они целовались медленно, педантично, будто бы каждое новое движение рта и языка было диссертацией в ответ на предыдущее движение партнера. Его рука лежала на ее коленях, ладонь – на бедре, склоняя ее ближе к себе, чувствуя точку, где сходится столько плоти. Они говорили при помощи рта, но без слов. Пока она не отстранилась…
– Во рту пересохло, тайм-аут, – сказала она.
И у него.
– Надо чего-нибудь выпить, – сказала она.
– У меня в комнате есть банка колы.
– Бог мой, кола, – сказала она, сползая с сиденья и снова заходясь смехом. Он посадил ее обратно.
Доехали до 114-й улицы. То, как они искали нужную сумму, выглядело комично. Джордж нашел пятерку и расплатился. Они вышли на Бродвее, свернули на 114-ю, пока не дошли до дерева за Карман Холлом – маленького, юного, недавно посаженного деревца, изувеченного, валявшегося на тротуаре, вырванного из скудного квадратного клочка земли, поваленного ветром, что был с ними всю эту ночь. Прекрасным, бездумным ветром, и после того, как они увидели корни и корешки, похожие на нервные окончания, внутренности или миниатюрные кости, как это неправильно – видеть, как что-то живое вывернуто наизнанку. Затем, пронизанные чувством трагедии, они отправились дальше и впереди, в конце квартала, на пересечении с Амстердам, увидели все остальное: полицейские автомобили, темные силуэты полудюжины копов в характерных фуражках и красные с белым огни, яркие, мелькавшие так быстро, что галлюцинации моментально вернулись.
Годы спустя, когда каждый из них жил своей жизнью, они ассоциировали ту ночь, тот ветер, печальное дерево, вырванное с корнем, юное, уничтоженное, и свое первое чувство невосполнимой потери с Джеффри Голдстайном, выпавшим из окна Джон Джей Холла, – живым существом, нежным и юным, словно то дерево, лишенным места в этом мире и умирающим на тротуаре ночного Нью-Йорка.
6
Остаток квартала до перекрестка с Амстердам-стрит они преодолели сквозь плотную завесу ужаса, зная, что ждет впереди. Когда они поравнялись с восточными воротами на 114-й, между Батлер и Джей, где лестница вела к галерее у теннисного корта, Анна остановилась, схватив его за руку и не пуская дальше. Что-то внутри подсказывало ей: не стоит смотреть на это, и дело не в том, что впереди ждала кровь или нечто ужасное – дело было в ней, в самой ее сущности – то говорил животный инстинкт, словно они шли навстречу ее смерти, словно она была поваленным деревом и там лежало ее тело.
– Пойдем наверх.
– Не могу. Я должен посмотреть, что там случилось.
– Для газеты?
– Да.
Секунду они молчали, затем Джордж предложил:
– Поднимайся наверх, а я подойду попозже.
В ответ она покачала головой. Она потянула его за собой, но он оставался на месте. Какой же он тяжелый, физически и не только. Он слегка потянул ее за собой, и она поддалась. Свернув за угол, они подошли к телу на тротуаре: место происшествия еще не оцепили, но рядом стоял полицейский, не давая подойти ближе. «Не задерживайтесь», – сказал он.
К северу от тела копы теснили людей, чтобы закрепить на столбах оградительную ленту. Джордж заметил, что Артур уже был там, делал снимки, сверкая вспышкой, перезаряжая камеру, пытаясь подобраться как можно ближе, пока позволяет полиция. На его шее была цепочка, с которой свисал сомнительного вида пропуск. Чуть поодаль стоял детектив, наблюдавший за ним. Джордж сообщил ему, что тоже работает в «Очевидце», спросив, был ли погибший застрелен.
– Спрыгнул или упал.
– Из Джон Джей?
– Вот это здание?
– Да, это Джей.
– Значит, из Джон Джей.
Коп курил, и когда затягивался, выглядел так, будто вот-вот готов был выплюнуть легкие.
– Я думал, ты имел в виду колледж на 57-й.
Джордж стоял и смотрел на него.
– Не знал, что на 57-й есть колледж.
– Ты что, не местный? – спросил детектив.
– Восточный Коннектикут.
– Ясно. Джон Джей Колледж. В центре. Криминология и все такое. Такие, как я, его хорошо знают.
– Кто-нибудь видел, с какого этажа он упал? Вы представитесь? Вы из два-семь?
Все произносили номер участка, называя две цифры.
– Вообще-то, из два-пять, просто был на 110-й, когда услышал вызов. Я – детектив Джон Снеттс. Кроме шуток. С-Н-Е-Т-Т-С.
– Кто-то из два-семь прибудет, или вы этим займетесь?
– Отдел по расследованию убийств. Манхэттен, север. Мое дело подготовить почву.
– Убийств? – спросил Джордж.
– Они всегда первые, – ответил Снеттс.
Джордж поблагодарил его. Анна не смотрела на него, ее взгляд был прикован к мальчишке на тротуаре, к неестественно вывернутым конечностям. Джордж коснулся ее спины. Они взглянули на Артура, сновавшего над телом со своим фотоаппаратом, погрузившись в специфику обстановки, как заядлый хирург, – полицейские практически не обращали на него внимания. Он выискивал поблизости надежные источники света. Пухлый – было в нем нечто, заставившее Анну подозревать, что он девственник, – но пылкий и проворный. Пару секунд он смотрел на них, затем по-артуровски кивнул и вернулся к работе. Джордж указал на другую сторону улицы, смена фокуса. В ста пятидесяти футах напротив почти чудесным образом находилась больница Святого Луки, чуть ближе, где все гудело, свет слепил глаза, стояли оранжевобокие «Скорые», виднелись черные силуэты копов и медиков, проходивших сквозь двойные двери в приемник и возвращавшихся обратно. Мальчишка разбился прямо у больницы «Скорой помощи». Свет полицейских мигалок, машин «Скорой помощи»: тошнотворное, головокружительное мгновение, сюрреалистичное, как и все, что происходило этой ночью. Джорджа словно на миг подключили к иностранному телеканалу: немецкому, польскому или русскому, со странным освещением и сомнительной ценностью. Язык ничего не выражал.
Три медика из больницы склонились над мальчиком, но вскоре поднялись, срочных мер уже не требовалось.
– Констатируем в госпитале, – сказал один из них Снеттсу, и тот кивнул.
– Запишу час тридцать девять.
Двое принялись вытаскивать носилки из кареты.
– Надо дождаться ребят из убойного и судмедэксперта, пока не забирайте его, – предупредил их Снеттс.
Лицо Анны было спокойным, серьезным, ни тени ужаса, Джордж осознал, что и его собственное было таким же. Кислота давала отрешенность, или нет, следовало назвать это принятием – вот оно, кажущееся реальным, неразрешимое, неизменное, неумолимо таинственное, полное фактов настоящее, которое нельзя запланировать, нельзя переиграть в памяти, изменив его, ведь оно перед тобой, в твоей голове, и ты принял его.
Он попытался представить, как это больно. Быть может, теперь перед лицом смерти он будет вот таким: может ли кислота изменить твое отношение к смерти? Больно будет лишь секунду, он отсчитал ее: раз одна тысяча[34]. Затем ты оказываешься в темноте, похожей на сон. Боже, какой чудовищный удар. Лицо Анны рядом: застывшее, безмолвное, серебристо-розовое, по нему пробегают красные и белые вспышки, полицейский стробоскоп.
– Я чувствую, – сказала она. – Чувствую, как падаю, падаю, падаю, ничто в мире еще так не падало. – Она была где-то далеко, голос был спокойным, как вода в пруду, и неясно было, что лежит в глубине.
– Но упала не ты, – сказал Джордж.
Она повернулась к нему:
– Вот как? Я это чувствую. Вижу темный водоворот, а затем ослепительный свет, падаю, падаю, падаю. Падаю. Никогда не представляла, каково это. Твой желудок выстреливает в небо. Ты падаешь, а то, что внутри, хочет остаться там, где ты был. Легкие забиваются в глотку. Кожа идет волнами, как вода, тянется вверх. Это безумие. Это отвратительно. Странно, но в какой-то степени это даже комфортно, заманчиво. Полет. Таков, какой он есть.
Он хотел обнять ее, притянуть к себе, но чувствовал, что ей это не нужно, и товарищески опустил руку на ее плечо, а затем убрал.
– Мы не можем летать и не можем ходить по воде, – прошептал он.
– Люди все время так говорят.
Четыре копа стоят у одной из патрульных машин. Снеттс сказал одному:
– Джимми, дай рацию, кто там, наверху?
– Карельсен и Дурик.
– Оказывается, они называют одного из своих «дуриком», – тихо сказал Анне Джордж. Та посмотрела на него без удивления, просто приняв это как должное. Факты. Парень по кличке Дурик.
– Пара придурков, – процедил Снеттс. – Какой позывной у Карельсена?
Коп что-то пробубнил, Снеттс нажал на боковую кнопку, затем сказал:
– Один-четырнадцать, прием, один-четырнадцать, – снова нажал кнопку – две последующие секунды показались Джорджу очень долгими, – а потом послышались помехи и:
– Да, это один-четырнадцать, прием.
– Детектив Джон Снеттс из два-пять. Подтверждаю, что вы в Джон Джей Холл, какой этаж, прием?
– Подтверждаю Джон Джей, тринадцатый, прием.
– Сколько свидетелей, прием.
– Двадцать, может, тридцать. Никто не видел, что случилось, но почти все слышали, прием.
– Ладно, иду наверх с Джимми и как его там… – Снеттс щелкнул пальцами в сторону копа по имени Джимми, указал на его напарника.
– Томми Тонелли, – сказал Джимми.
– Т.Т., – сказал Снеттс. – Прием.
– Подтверждаю, конец связи, – донеслось из рации.
– Мне тоже надо наверх, – сказал Джордж Анне. Она обернулась, движения ее были медленными, будто в банке с гелем. Глаза смотрели куда-то вдаль.
– Чувствуешь, какой бетон твердый? – послышался ее глухой голос. – Какой холодный?
По неизвестной причине, о которой он думал позже, он ответил:
– До конца времен.
– Эй, Очевидец, – окликнул его стоявший сзади Снеттс. – Покажи, как побыстрее попасть внутрь.
– Идем, – тихо позвал Анну Джордж.
Шли в молчании. Снеттс был впереди, постоянно оборачивался и спрашивал, туда ли он идет. Двое в форме держались сзади. Когда они поднялись по лестнице, ведущей со 114-й на территорию кампуса, Джордж указал Снеттсу на дорогу, огибающую старый теннисный корт. Снеттс ускорился, обогнал их всех, но они настигли его у древних лифтов, как и рассчитывал Джордж[35]. Прогромыхав вниз, один из них распахнул двери, и Анна доехала с ними до пятого этажа.
– Что с моей кокой? – спросила она.
– Ты знаешь, где ключ. Дождись меня или приходи потом в офис.
Прекрасная женщина скрылась за дверями лифта, и Джордж перевел взгляд на Снеттса. Все вокруг двигалось медленно, двери лифта клацали и грохотали, и он слышал отдельные звуки, видел каждую черточку на лице Снеттса и как тот встретился с ним глазами. В его голове звучал голос Анны и слово «кока». Кока. Погоди-ка.
– Кока-кола, – сказал он Снеттсу. – Газировка такая.
Казалось, прошло полчаса с тех пор, как она сказала «кока», и он выставил себя дураком, а Снеттс даже не понял, о чем речь[36], и они, конечно же, поднялись всего на один этаж, так что прошло лишь несколько секунд.
Снеттс ответил ему полукивком и четвертью улыбки.
– Полагаю, чуть раньше ты уже принял кое-что покруче. – Он предупредительно вскинул руки: – Не мое дело, я из другого отдела.
– Мы наслаждались просветленностью, – сказал Джордж. – Катались, э-э-э, на пароме.
– А, просветленность, – сказал Снеттс. – Немногие постигают сатори на пути к острову Стейтен.
Джордж задумался.
– С ней я могу найти его где угодно.
– Ну да, – согласился Снеттс. – Есть такое.
Тринадцатый этаж. Число, приносящее несчастье[37], сегодня больше, чем когда-либо, но совесть не мучила ни МакКима, ни Мида, ни давно умершего Уайта, ни кого-либо в университете. В бесконечном коридоре с узкими дверьми, ведущими в маленькие узкие комнаты, царил переполох, ощущавшийся Джорджем, едва успевшим выйти из лифта. Будто была учебная пожарная тревога или угроза минирования: двери раскрыты, в коридоре говорят люди, женщины со спутанными волосами в длинных хлопковых рубашках, у кого-то на глазах слезы, они обнимаются или обнимают мужчин в шортах и футболках. На улице стало прохладно, но здесь стояла жара, на верхних этажах Джей всегда было жарко. Тупое, громоздкое, грубое здание с дешевой отделкой внутри: к верхним этажам поднималось все тепло отопительной системы, а из-за крытой медью крыши в солнечные дни там припекало. Летом можно было сдохнуть от жары.
У окна виднелся костлявый юнец в ковбойских сапогах, штанах хаки и куртке-сафари, несмотря на жару. Он сидел на корточках спиной к стене, курил сигаретку, стряхивая пепел за стоявшую рядом батарею.
Снеттс пикировал на него, как сокол на полевку.
– Как тебя зовут, сынок?
– Текс.
– Ну конечно, – беззлобно усмехнулся Снеттс. Присел рядом. Джордж остался стоять, оглядываясь по сторонам.
– Текс, ты видел тут наверху кого-нибудь из полиции? – продолжил Снеттс.
– Они там, где окна, что выходят на Амстердам, – Текс махнул в ту сторону рукой, в которой держал сигарету.
– Знаешь упавшего парня?
– Знаю, но он не упал.
– Как его зовут?
– Джефф Голдстайн.
Снеттс взялся за блокнот.
– Джеффри, значит?
– Да, вроде так.
– Так ты говоришь, он не упал?
– Его кто-то толкнул. Или он спрыгнул. Вам трудно будет разобраться.
– А почему ты считаешь, что его толкнули? – спросил Снеттс.
– Я сказал, что он не упал, – возразил Текс. – Его столкнули или он спрыгнул. Он был с каким-то парнем. Была ссора.
– Ты это видел?
– Слышал. Все слышали. Джефф кричал, плакал.
– По какому поводу? – Снеттс тоже закурил. Он курил «Парламент». С пластиковым фильтром, чтобы можно было зубами держать. Текс курил «Лаки Страйк» без фильтра. Пачка белая, красно-черный круг мишени на полу рядом с ним. И тоненькая зеленая полоска.
– Трудно сказать, – ответил Текс. – Самая обычная поебень: ты говорил, что любишь меня, et cetera и все такое.
Он произнес et cetera как Юл Бриннер, скрещенный с Джимми Роджерсом.
Снеттс по-прежнему смотрел на него.
Текс тоже не отводил взгляда.
– Он был голубым.
– То есть он был гомосексуалистом?
Текс смотрел на него своими карими, беззлобными, чуть любопытными глазами. Совершенно нечитаемыми. Он задержал взгляд чуть дольше, чем хотел.
– Да, именно так, сэр. Так это называется. Я их слышал. Был в комнате отдыха. Потом пошел в туалет, посрал. То есть следует сказать «испражнился», если вы вдруг записываете. «Срать», так это называется.
– Ну, это я уже понял.
– Выхожу я, значит, а этого парня там уже нет и Джефф уже вылетел в окно.
– Что ты делал в комнате отдыха?
– Телик смотрел.
Он произнес «телик», растягивая «е».
– Что смотрел? – спросил Снеттс. Вопрос задается автоматически, ответ проверить легко.
– «Гарри О»[38]. Обожаю «Гарри О».
Снеттс кивнул, будто был знаком с ночной программой передач. На мгновение Джордж представил, как тот живет: один дома, смотрит повторный показ с Дэвидом Янссеном в полвторого ночи. Ест сосиски и фасоль из консервной банки.
– Ты видел или, может, слышал, как они боролись?
– Нет, сэр. Слышал, как они спорили.
Голос Текса был средней частоты, гулким, звонким и совершенно не вязался с его тщедушным телом, тем более что он говорил, не глядя на собеседника, и на лице его не двигался почти ни один мускул.
– Они говорили очень громко. Остальные тоже их слышали. Можете у них спросить.
Текс дернул подбородком, указывая дальше по коридору, и аккуратно стряхнул солидный столбик пепла за батарею. Снеттс, как по указке, запустил окурком в ту же сторону. Он промахнулся, но мерзкий зеленый клетчатый ковер уже ничто не могло испортить.
Снеттс поднялся, поблагодарил Текса и ушел. Джордж остался.
– Я из «Очевидца». Джордж Лэнгленд.
– Видел там твою фамилию, – отозвался Текс.
– Ты знал его?
– Ага. Не то чтобы мы с ним социализировались, но я с ним говорил в комнате отдыха, хуе-мое.
Текс украдкой поднес руку ко рту, затянулся в последний раз. Слова выходили у него изо рта, как флотилия корабликов по реке дыма.
– Думаю, парень, с которым он был, не хотел, чтобы его сочли педиком. Думаю, в этом все дело.
– А тут, на этаже, есть сообщество геев? Или вообще в Джее? Типа сплоченной группы?
Ответом был неодобрительный взгляд.
– Я Текс. Я живу в Джее, но сообщества Текса, насколько мне известно, здесь нет.
– Я просто пытаюсь осмотреться на месте происшествия.
Текс покрутил ладонью, как лопастью вертолетного винта.
– Вперед, брат, поброди тут, осмотрись. Все произошло здесь. Только это не простое место. Это Джон Джей, сынок. Пусть сжигали его чучело[39], но чувак был одним из наших, из Колледжа Кинга, тысяча семьсот какой-то там год.
У Джорджа была с собой ручка, он всегда носил ее с собой, но некуда было записывать.
– Бумага есть?
Текс медленно поднялся с корточек, прошел в свою комнату, вернувшись с тремя листами бумаги. Джордж сложил их наподобие буклета, затем еще раз вполовину и аккуратно оторвал нижнюю часть, получив несколько страниц.
– Текс, назовешь свое полное имя?
– Что, в статью меня пропихнешь?
Джордж посмотрел на него.
– Еще не знаю, что это будет за статья и что туда войдет, но знаю, что не хочу через пару часов понять, что не спросил, как тебя зовут. Тогда будет: сказал один из живших на этаже, пожелав остаться неизвестным. Это значит, репортер его не спросил.
– Роберт Уоллес. Но ты оставь «Текс». Напишешь «Роберт Уоллес», и хрен кто поймет, о ком речь.
– Шотландец?
– По линии отца, восемнадцатый век. Чистокровный техасец с 1831-го.
– На каком курсе учишься?
– На втором.
Джордж направился в ту часть коридора, где были Снеттс и другие копы; тот смотрел в раскрытое окно, изучал раму, высовывался наружу. В конце коридора, в комнате отдыха, где стояла кое-какая мебель и «те-е-е-лик» Текса, Джордж увидел паренька по имени Кеннет; каждый раз, когда он его видел, он вспоминал Монтгомери Клифта. Вместе с Джорджем он посещал занятия по творчеству Китса. Он плакал.
– Эй, – окликнул его Джордж.
– О, привет, – сказал Кеннет. Он вытер лицо рукавом черной водолазки, и на черном хлопке остался привычный след серебристой слизи.
– Собираю материал для статьи, – пояснил Джордж.
– Знаю, ты пишешь для газеты.
– Знал этого парня? Джеффа?
– Джеффри. Да. Он предпочитал, чтобы его звали Джеффри.
– Мне очень жаль. Вы были друзьями?
Джорджа охватило беспокойство и дурное предчувствие, как всегда бывало после таких вопросов. Конфликт: ему нужно было о чем-то писать, и он не хотел показаться мудаком. Но в основном статья должна была быть важнее. Если это так, то воодушевление пересилит печаль.
– Ну да, были. Не очень близкими, но да.
– Что случилось?
– Джеффри всегда хотел этих качков, – сказал Кеннет. – Всегда-всегда-всегда.
Для коротышки у Кеннета тоже был поразительно звучный голос и огромный кадык, он действительно был копией Клифта. Почти всегда густая щетина. В голосе яркий оттенок северо-восточного аристократишки.
– Большие, мужественные, ну ты понял. Может, дело в его отце, то есть я точно не знаю, это просто догадка.
Щеки Кеннета все еще были влажными от слез, и он вытер нос тыльной стороной ладони. Теперь заблестела волосатая рука, словно капли утренней росы легли на траву, только не росы. Соплей.
– Джеффри был в отчаянии! Он сказал парню – кажется, его звали Томас, может, Джон Томас, ха[40], – сказал: «Ты думаешь, я не скажу твоим родителям? Я им все скажу». Угрожал ему, понимаешь? И это было глупо. А тот Томас такой: «Ты что, шантажировать меня собрался? Думаешь, шантажом можно добиться дружбы?» Но Джеффри повел себя совсем как Джоан Кроуфорд[41]. Сказал что-то типа, прикинь: «Твой отец тебя убьет».
Джордж хотел было сказать: «Кеннет, малыш, мне нужна хорошая цитата, а «Джеффри повел себя как Джоан Кроуфорд» не проканает», – но промолчал.
7
Анна была в комнате Джорджа, и, как он и обещал, на полке ждала банка колы. Она нашла мутный стакан и вымыла его с мылом для рук в крохотной раковине. Она не любила пить газировку из банки, предпочитала перелить ее куда-нибудь. Нужно было дать ей подышать. Она рассмеялась: прямо как хорошему вину. Дернув язычок, она открыла банку и вылила содержимое в стакан.
Господи, хорошо-то как. Даже теплая. Очень, очень хорошо.
Она налила еще немного. О боже.
Еще: пыталась пить медленнее. Но – газировка кончилась!
И с этим пришло мимолетное чувство пустой печали, она снова увидела изломанное тело мальчика на тротуаре. И поднялась волна, она едва успела метнуться к раковине: кока-кола, желчь, ох блядь, слив забился. Она уже несколько часов ничего не ела. Повезло.
Она прополоскала рот, почистила раковину, открыла окно, чтобы выветрился запах, ей слышался ветер, но тот коснулся бокового фасада, не залетая в окно. Она легла на его постель, зажав ладони меж бедер, и бессознательно поднялась выше, массируя их, затем кончики пальцев коснулись клитора. Ой. Она что, была мокрой всю ночь? Быть не может. В метро, в вагоне, на пароме, теперь она вспомнила, как он шепнул ей на ухо, что хочет потрогать ее грудь, как встали соски, такие чувствительные на ветру. Ее правая рука оставалась в промежности, поверх юбки и трусиков, а левая поднялась к груди. Пальцы тронули набухший сосок. Ах. Она изогнулась, но чувство тут же ушло, она зажмурилась на мгновение – она просто дышала, внутри ничего не осталось, только привкус желчи и мальчик, мальчик, мальчик, Господи, он умер. Он был похож на ее брата. Их так много, худосочных, с волосами, как проволока, похожих на ее брата. Лежал так же. Где? Во дворе. Просто спал. Накурился или перебрал, а может, и то и другое. Отсыпался. Посреди ее маленькой лужайки. Ему, кажется, было шестнадцать, значит, ей было девять? Он ушел из дома сразу после того, как ему исполнилось семнадцать, не явившись на свой день рождения, и связывался с ними дважды, оба раза просил денег. Во второй раз отец ему отказал, – на те деньги, что он перевел в первый раз, Марк должен был вернуться домой, в этом был смысл, – и, услышав «нет», Марк сказал: «Ну, вот и все», – на что отец ответил: «Нет, мы еще не обо всем поговорили», – но Марк повесил трубку. Просто повесил трубку. Эта семейная история отзывалась острой болью, как истории о случайной смерти, о трубе, вылетевшей из кузова грузовика на шоссе и проткнувшей ветровое стекло, о неловком падении в горах, о новобрачном, унесенном в море течением. Плохие истории. Марк звонил за счет абонента из Санта-Фе, Нью-Мексико, затем бросил трубку, и больше они о нем не слышали. Девять лет. Сейчас ему должно быть двадцать шесть. Отец связался с местной полицией, переслал им по телеграфу его фото и личные данные, но за все это время никто не звонил и ничего не сообщал. Вспоминая его, ей всегда хотелось плакать, тем более сейчас, этой ночью, когда там, на тротуаре, лежал мертвый мальчик (конечно, в этом и была проблема: она видела, как он умер, давно подозревала, что это так), и каждый раз, когда плакала о нем, злилась на себя за то, что именно она плачет: ведь он никогда не плакал о ней, это точно, он бы легко сумел ее отыскать, если бы скучал.
Раньше она думала: быть может, он в Нью-Йорке?
Но в Нью-Йорке никого не было. Уж точно не эти фальшивые хиппи. Были ровесники Марка в белых париках и с глазами, подведенными черным, героинщики, по воле иронии игравшие в отвратительных рок-группах и по воле иронии писавшие отвратительные имитации шедевров живописи, а также неиронично имитировавшие Уордсворта, и единичные ебанутые подражатели Нила Янга, что начинали свой путь горячо и искренне, желая сжечь систему до основания. Все они были безнадежны. Были и похуже, но в Нью-Йорке их было не так много, – подражатели Тодда Рандгрена. Те, что из пригородов, с аккуратными, ухоженными прическами в стиле метал и футболками рок-туров, все еще слоняющиеся по городкам близ Филадельфии и Гаррисберга. Как тот Лауд, что не был геем и не был интересным – иначе говоря, не Лэнс[42], тот, что постарше – укуренный, затраханный в своей Санта-Барбаре. Другой. Другой парень. Их в Нью-Йорке больше не было.
Она задрыгала ногами, как ребенок, закативший истерику. Ей понравилось. Она сделала так еще раз. Рассмеялась, лицо еще было мокрым от слез. В этот миг – да, это оно – она любила себя. Ей хотелось обнять себя. Ей хотелось, чтобы Джордж был здесь, обнимал ее, целовал ее, касался ее, припадал ртом к ее пизде, все ради нее. Ах, это. И вновь ее рука. Но у нее снова ничего не вышло. Она решила дойти до офиса газетчиков, увидеть его. А значит, необходимо привести лицо в порядок, все равно надо было умыться. Подводка сбегала по щекам, как клоунские слезы. Картинка с плачущей Анной Карениной. Vivre sa vie[43]. Зеркало. Лицо. Живя своей жизнью.
Она умылась над крошечной раковиной, плеская в лицо водой, затем вытерлась его полотенцем, запачкав его подводкой. Ой, белое школьное полотенце. Отстирает его потом, если для него это важно. Прежде чем защелкнулся дверной замок, она опустила ключ в щель между ковром и стеной.
Она снова была на улице. Снова этот ветер. Словно руки, одетые в шелк. Она остановилась на длинной террасе перед библиотекой, опершись на стену, чувствуя, как ветер пробегает по ее телу, чувствуя, как он замедляется, останавливается, поднимается вновь и дует порывами так сильно, что она задрожала.
– Ого, кто, если не ты, самая сексуальная штучка из всех, что я видела. – Не открывая глаз, она услышала голос.
Сьюзен. Роскошная Сьюзен. Ее голос.
– Ты Сьюзен, – сказала Анна. Ее глаза все еще были закрыты.
– Ага.
Анна открыла один глаз. Как и ожидалось, с ней был Кит, ее долговязый бойфренд.
– Это выглядит неплохо, – протянул Кит.
Он говорил о ней в среднем роде. Это. И лицо у него было такое… как его описать? Тупое? Она закрыла глаз.
– Тебе стоит это попробовать, – сказала она очень тихо.
Кит оказался слева, Сьюзен – справа. «Чувствуете, да?» – сказала она, и они ответили: «Да», – тепло камней, прохлада ветра. Каким-то образом ее занесло, в самом глубоком смысле этого слова, в комнату Сьюзен в Барнарде. Она опять курила косяк и почти сразу же – она даже не могла вспомнить, сколько прошло времени, да и могло ли все кончиться иначе, – оказалась в постели, раскинув ноги, мокрая, как никогда, Кит лежал слева, Сьюзен – справа, они целовали и трогали ее, и Сьюзен говорила: «Просто закрой глаза». Закрой глаза, как там, на террасе.
Просто закрой глаза. Синий и оранжевый, пламя внизу и вверху. Потом она заснула, все заснули, но возбуждение не покидало ее, и она просыпалась, чувствуя влагу во рту – струйка слюны стекала из уголка, но терпимо, ее лицо было рядом с грудной клеткой Сьюзен, и Кит лежал с другой стороны. Она опять уснула и, когда проснулась вновь, почувствовала, как чьи-то губы целуют ее тело, несколько жадно, неприятно, ощутила касание рук, и ей снился Марк, ее брат, каким-то образом они вновь были вместе. О боже, так это Марк ее лапал и целовал, но она была счастлива, что они наконец вместе, и это совершенно естественно, она хотела этого, это было неприятно, но ей было хорошо… затем она стряхнула остатки сна, и все было таким реальным – это правда? Да, все было так, но – бог мой, Марк ли это? Она вскрикнула. Закричала во весь голос. Момент очищения.
Это обескуражило тощего Кита, хотя она и говорила, что он ни в чем не виноват.
– Я видела плохой сон. Просто ужасный.
– Что тебе снилось? – спросила Сьюзен. Она сидела с открытой грудью, спутанными волосами, закутавшись в простыню до талии. Анна слегка качнула головой, отмахнулась. Сьюзен плюхнулась обратно в кровать, потянулась к бойфренду. Анна встала и оделась.
Джордж в редакции, работает над материалом, главред Ричард склонился над ним – полчетвертого, они задерживали выпуск, печать, все просрали, и это обойдется в целую кучу денег, – наконец Ричард сказал:
– Напечатаем личные проблемы и преисполненный домыслов. Не будем вдаваться в подробности.
– Почему всегда преисполненный домыслов, а не кишащий домыслами? Почему не изобилующий домыслами? Насыщенный домыслами. Испещренный, усеянный лихорадочными домыслами?
– Бля, да мне похуй, – сказал Ричард. Он трудился над своим сливочным рожком, облизывая его тающие бока, чтобы сдержать неумолимое падение зеленых капель, подчинявшихся гравитации. Мята с шоколадной крошкой. Нью-Йорк: мороженое круглосуточно.
– Давай пиши быстрее, раз уж пишешь, – добавил он. – Печать задерживается, mucho dinero[44]. Эту часть пиши как хочешь. Потом заменю на преисполненный домыслов, и тогда, как сказал один мужик, все будет хорошо, и все, что бы то ни было, будет хорошо[45].
– Это был не мужи-и-ик, – не поднимая глаз, пропел Луис из-за своего стола. – Это была женщинааа, Юлиана Норвичская-а-а…
Но на него никто не обратил внимания.
Утром, когда Анна вернулась, дверь Джорджа была незаперта, было около половины девятого. Скоро ей нужно было отправляться на работу, а чувство было такое, будто она вот-вот сорвется со скалы. Джордж сидел за столом, его стул был повернут к двери. На коленях лежало испачканное подводкой полотенце. Он выглядел совершенно разбитым.
– Где ты была?
– Шла в редакцию, встретила Сьюзен по дороге.
Она уже ступила на скользкую дорожку: камни под ногами были покрыты грязью. Эта картина, как обычно, напомнила ей рассказ отца об отступлении в Корее, зимой грузовики с пехотой срываются с горной дороги, падают вниз с высоты двух или трех тысяч футов, никто не знает, насколько далеко в горах это случается. Ни одной семье не сообщали, что их мальчик умер во время панического отступления, когда грузовик, в котором он ехал, соскользнул в пропасть. Сейчас чувство было примерно таким же: она видела, как скользит все ближе к краю.
Джордж смотрел на нее, ждал продолжения.
– Мы пошли к ней в комнату, накурились, и я уснула.
Пауза.
Он смотрел в стену, теребил полотенце.
– Извини за полотенце.
– Да, что это? – спросил он. Теперь он смотрел на полотенце.
Ее губы уже готовы были сказать, что это подводка для глаз. Что она плакала. Она смотрела на него. Она рассказала бы ему о своем брате, хотела рассказать. Но у него было такой требовательный вид – блядь, блядь, блядь. Значит, не сможет рассказать. Обычно она восхищалась его лицом. А это что? Он выглядел раненым. Озлобленным. Это ее раздражало. Она не была готова к подобным любовным перипетиям. Она даже не подозревала, что не готова, пока не увидела это на его лице. Ей не нужны были эти сентиментальные условности.
– А, отходняк был хреновый.
– Ясно. – Он держал полотенце так, словно в нем были вши. Вообще-то да, были.
– Слушай. Там была не только Сьюзен. Еще был Кит. И у нас был секс. Втроем.
Его лицо. Боже, он выглядел так, будто ему выстрелили в пах. Если у души был пах, она попала именно туда.
Он отвернулся. Повернулся к ней спиной. Она хотела сказать, что он ведет себя по-девчачьи, но тогда откуда в ней это нетерпение? Удивительно, но его реакция привела ее в бешенство. Тестостерон ударил ей в голову в ответ на его женственный поступок – ей хотелось ударить его. Конечно, это было глупо, глупо, глупо. Неужели она думала, что он отреагирует иначе? Она специально хотела уязвить его, так как он дулся, злил ее, и вот она его ранила.
– Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Не поступай так. Со мной или с тобой. Я так накурилась, что ничего не соображала. Это был секс. Я же не применяла, скажем, ядерное оружие и не травила детей. Это не отношения. Просто секс.
Он встал со стула:
– Господи Иисусе.
– Я, конечно, знатно обдолбалась, но уверена, что его там не было.
Он не засмеялся, как она и ожидала, это разозлило его еще сильнее. Он собрался уйти, бесцеремонно двинулся к двери, почти задев ее плечом в узкой комнате, в его комнате, о чем он, видимо, вспомнил, так как остановился. Наконец он взглянул на нее:
– Как это случилось?
Полотенце все еще было у него в руках, так что она решила поговорить об этом.
– Это подводка для глаз. Я плакала.
– Подожди, почему ты плакала?
Вот оно. Какое-то мгновение она горячо желала сказать, что плакала из-за своего брата. Она никому о нем не рассказывала. Здесь – никому. Даже Джорджу. Дома об этом знали несколько друзей. Может, еще кто-то, но точно те, с кем она считалась. Так или иначе, дом остался в прошлом.
– Мне было грустно.
– Я имел в виду не это: как между вами случился секс?
Как быстро он перескочил с одного на другое. Да ведь ему просто насрать.
– Я же сказала, что все было по накурке.
– Да, но как именно это случилось? Что произошло?
– Как вообще у людей бывает секс, Джордж? Мы вместе в комнате Сьюзен, накуриваемся, падаем на кровать, кто-то кого-то целует, кто-то кого-то трогает, делов-то!
– Хуёв-то. Кто-то кого-то целует, и ты говоришь: «Эй, ну ты чего? Смотри, уже так поздно. Мне пора».
– Джордж, ну правда. Ты что, не можешь взглянуть на случившееся глазами человека, который живет, дышит и накурился?
– Ты хотела секса с другой женщиной?
– Джордж, суть в том, что я хотела тебя, но тебя там не было. Это нормально, я знаю, ты был занят чем-то важным. Но я была на взводе. Я шла в редакцию, посмотреть, как у вас там дела, позависать с вами или еще что, но меня пришпилило ветром к библиотечной стене, и я, закрыв глаза, ловила маленькие оргазмы, а потом они меня нашли. Я уже дозрела – бери да срывай. Господи, Джордж. Мне жаль, но я не вижу, что в этом такого ужасного. Тебе что, никогда трахаться не хотелось?
– Хотелось.
Опять это лицо. О, сколько же в ней гнева. Хочется ему врезать. Нет. Хочется кричать. Но она не станет. Так что, блядь, делать-то? Вот что она скажет, и это будет правдой:
– Я терпеть не могу чувствовать себя чьей-то собственностью. И не выношу, когда ты смотришь на меня, как на мамочку, которая тебя бросила.
Он ничего не ответил, только смотрел на нее.
– О господи, прости.
Он молчал.
– Прости, что так сказала. Я совсем не хотела.
Он сел на кровать.
– Да ну на хуй. Я прилягу. Долгая была ночь. Странная, прекрасная и, наконец, ужасная. Вечность перемен этой ночи.
Он откинулся назад, не забираясь на кровать с ногами.
– Вообще я устал. Завтра поговорим. То есть уже сегодня. Я хочу трахнуть Сьюзен. Может она прийти и трахнуться с нами?
Было что-то ребяческое в этих непристойностях. Как шутки четвероклассников о сексе.
– Джордж, мне жаль, что я это сказала.
– Знаю. Тебе пора идти.
Он закинул ноги на кровать. Дезерты на простынях. Он даже не взглянул на нее. Ей хотелось снять с него ботинки: это было неудобно, неправильно. С ней бы он так никогда не лег. Если бы она осталась.
– Уходи, – его голос звучал глухо, лицо было закрыто рукой.
И она ушла.
8
Был почти что полдень, Джордж проспал два с половиной часа. Когда он думал об Анне, в груди появлялась дыра, а о чем-то другом он думать не мог. Еще эта статья, которую нужно дописывать.
– Тебе раньше не приходилось звонить убитому горем члену семьи? – спросил Ричард.
– Нет.
– Страшно?
Джордж не сводил глаз с машинки.
– Это пугает меня. Терзает. Не хочу ни видеть, ни слышать того, что придется увидеть и услышать.
– Тебя ведь могут просто на хуй послать, – сказал Ричард. – Я бы так и сделал.
Почему-то эти слова заставили его набрать номер. Стальной диск старого аппарата пришлось крутить с усилием: Грэмерси 7–5128. В его ухе клацали цифры, бежавшие по проводам. Джордж махнул Ричарду трубкой, делая знак, чтобы тот ушел.
– Конфиденциально, – сказал он.
Гудки. Гудки. Еще гудки. Наконец кто-то снял трубку, повозился с ней, послышался женский голос, далекий, слабый.
– Алло?
– Здравствуйте. Извините за беспокойство. Меня зовут Джордж Лэнгленд, я представляю еженедельную газету Колумбийского университета «Очевидец». Я говорю с миссис Голдстайн?
– Вам нужно поговорить с моим мужем, – сказала женщина. Она с громким стуком положила трубку. Звук был такой, будто она швырнула ее на стол. Джордж представил квартиру в Грэмерси-парк: в холле стол из красного дерева, свежий блокнот, дорогая ручка. Может, лампа. Темный деревянный стул с мягкой обивкой в каштановую и серебристую полоску. Все убранство застыло в 1948 году. В самом деле, он думает о поколении бабушки с дедушкой. Может, у них там сплошь датский модерн.
Трубку подняли со стола. Мужской голос, глухой, твердый:
– Я Бернард Голдстайн. Представьтесь, пожалуйста.
– Мистер Голдстайн, здравствуйте. Я Джордж Лэнгленд, студент Колумбии и репортер университетской газеты «Очевидец». Я хотел бы поговорить о Джеффри.
– Вы выбрали не самое лучшее время, мистер Лэнгленд.
– Знаю, сэр. Я соболезную вам и вашей супруге и сожалею о вашей утрате. У Джеффри были братья или сестры?
– Нет. Он был единственным ребенком в семье.
– Это ужасно, сэр. Мне правда очень жаль.
Джордж чувствовал… ужасающее спокойствие. Мужество. Что, в конце концов, они могут с ним сделать? И Голдстайн, и Ричард? В любом случае для любой из сторон он просто посредник.
Недавно умерла его собственная мать. Отец давно исчез. Ни братьев, ни сестер у него тоже не было. Все было неважно.
– Сэр, быть может, вы знаете, что в сегодняшний номер мы собирались поместить статью о смерти Джеффри, но на момент написания его личность еще не была установлена. Теперь, когда это официально известно, мы хотели бы дать наиболее точные сведения и не допустить ошибок. Для подобной статьи это особенно важно. Я надеюсь, что вы поможете мне и подтвердите несколько фактов о Джеффри.
– Вот что я вам скажу. Мы с вами пообщаемся, ребята. И только с вами. Джеффри очень любил эту газету. Обожал редактора.
– Луиса Пеннибейкера?
– Да, точно.
– Приятно слышать.
– Приезжайте, мистер Лэнгленд. И захватите с собой Пеннибейкера. Расскажу вам кое-что о Джеффри. Жене будет тяжело, но я способен с вами поговорить.
– Когда мы можем приехать, сэр?
– Прямо сейчас, – сказал Голдстайн.
Полдень еще не наступил. Джордж уже пропустил одно занятие и был на грани еще одного пропуска. Первым был Китс. Вторым шло «Американское общество после 1945 года», нескончаемая лекция, на которую никто не ходил, так как все сведения можно было почерпнуть из серии книг «Время и жизнь». Ему было жаль пропущенного Китса, на лекции он тоже не успевал. Он чувствовал, что занятия ускользали от него, как рыба, в последний миг срывающаяся с крючка и уходящая в черную воду.
– Хорошо, сэр. А сейчас, на случай чего-нибудь непредвиденного, позвольте мне уточнить основное: вы опознали сына, как утверждает полиция?
– Да.
– Полное имя Джеффри, сэр?
– Джеффри Бенджамин Голдстайн.
Джордж сверился с возрастом, местом проживания, университетом. Затем спросил:
– Вас не уведомили о какой-либо записке, которую мог оставить Джеффри?
Тишина.
– Сэр?
– Поговорим об этом, как приедете. Адрес у вас есть?
– Да.
– Хорошо, – сказал Голдстайн и повесил трубку.
Ричард скользнул на стул напротив стола Джорджа – технически новостного стола, состоявшего из двух алюминиевых столов и старого деревянного – и сел, ссутулившись до смешного низко, выставив зад за край сиденья и расставив ноги в конверсах. Стул под ним немилосердно визжал, он раскачивался на нем влево-вправо, влево-вправо. Какие-то походные носки из узелковой пряжи под кедами. Джордж, баскетбольный сноб, не одобрял ношения таких носков с кедами.
– Я считаю, что есть предсмертная записка, – объявил он, изучая носки.
– Правда? – Ричард выпрямился, осмотрелся. – Дэйв, есть записка.
– Я так думаю.
У стола собралась кучка людей: четыре редактора и еще один репортер.
– Что он сказал? – спросил Ричард.
– Мы уже заканчивали разговор. Я спросил: «Вас не уведомили о какой-нибудь записке?» – и он долго молчал. Я переспросил: «Сэр? Алло? Записка?» То есть нет, не так, я просто сказал: «Сэр». А он ответил, что об этом мы поговорим, когда приедем.
– Набери Снеттса, – посоветовал Ричард. – Или убойный отдел, они, должно быть, этим уже занялись. Кто там ведет дело, как его… детектив Бейкер? Пусть запротоколируют, что есть записка. Найди ее.
Позже Джордж понял, что это было отправной точкой, первым шагом обутой в сандалию ступни адепта журналистики. Либо ты полностью отдавался делу, с волнением ожидая, когда найдется потенциальная записка, либо поддавался увещеваниям голоса на задворках сознания, твердившего: «Пацан мертв, какая теперь разница, отъебись ты уже». Бреслин[46] говорил, что каждая история лежит пятью этажами выше. Хочешь статью, лезь наверх. Джорджу нужна была статья, ЭТА статья, и он бы полез, но у него появилось предчувствие того, что этот интерес не продлится долго, и, когда дни сменятся неделями, а статьи будут выходить одна за другой, ему будет все равно, и он не сможет вести оживленные дискуссии, толкающие его вперед на поиски все новых и новых историй, а именно таким следовало быть настоящему репортеру. Луис, конечно, тоже им не был, да и не притворялся. Его заботило лишь то, что было для него небезразличным. Либо все истории о нем, либо их вообще нет.
– Придется вам, ребята, этим заняться. Голдстайн хочет, чтобы я его навестил. Их навестил. Хочет, цитата: «рассказать мне кое-что о Джеффри», конец цитаты.
Ричард почесал бороду.
– Реально? Вау, – чешет бороду. – Круто. Как тебе удалось?
– Вежливость. Все время повторял «Коламбия» и «кампус». Больше ничего.
– Есть у тебя подход.
– Это не подход.
– Личность.
– Презентация.
– Ты репортер-второкурсник, а я – старший редактор, так что ебало завали.
– Ладно.
– Шучу.
– Не шутишь.
– Ты прав.
– Он упомянул Луиса.
– Кто, отец?
– Ага. Сказал, Джеффри обожал редактора. Он знает фамилию Луиса. Хочет, чтобы тот со мной поехал.
– ЛУИС! Где Луис? Луис, ты здесь? – позвал Ричард.
Все уставились на дверь кабинета редактора, откуда, чуть помедлив для пущего эффекта, явился Луис.
– Люблю, когда ты так говоришь, – сказал он.
Большие глаза Голдстайна скрывались за круглыми очками в черепаховой оправе а-ля Джон Дин. Последний писк юридической моды. Толстые линзы. Гибкий стальной виток слухового аппарата. Луис и Джордж надели слаксы и мокасины, бедная копия Голдстайна. Миссис Голдстайн была настоящей модницей, напоминая пережиток эпохи Кеннеди в своем серо-коричневом платье с белым кантом на подоле, воротничке и чересчур больших карманах на бедрах. Туфли-лодочки чуть светлее, чем платье, кремовые, с прямоугольным носом и квадратным каблуком. «Феррагамо», – позже сказал ему Луис. Джордж не знал, чем его так зацепили туфли. Потом понял: мать носила такие же. Мистер Голдстайн представил свою супругу, та слабо пожала руку Джорджа и немедленно объявила бесцветным голосом, что удаляется, так как не станет принимать участия в интервью.
– Я оставлю вас, – еле слышно проговорила она. – Пожалуйста, выпейте кофе и съешьте чего-нибудь. Все на столе.
Джордж поблагодарил ее, и она удалилась в коридор по ковровой дорожке, исчезнув в комнате, которая, как заключил Джордж по расположению, являлась спальней. Дверь за ней закрылась со слабым щелчком.
Вот в чем штука: насколько богатым нужно быть здесь, в Нью-Йорке, чтобы купить квартиру, где двери закрывались, как надо, так как им не мешал тридцатилетний слой краски, нанесенной домовладельцем? Голдстайн провел их из фойе в большую гостиную. Кофе на серебряном подносе. Сахарное печенье и четвертинки апельсина. Неужели люди и правда могут так жить?
Статью поместили сразу за авторской колонкой с двойной строкой в подзаголовке: статья Джорджа Лэнгленда и Луиса Пеннибейкера. Фотография А. А. Таунза.
ИНТЕРВЬЮ С УБИТЫМ ГОРЕМ ОТЦОМ
НЬЮ-ЙОРК, 23 октября 1976-го. Этому мужчине сорок восемь лет, и он необычный отец. Его сын был гомосексуалистом, и он любил его и поддерживал. И вот его сын мертв.
Отчасти он мертв из-за того, что полюбил мужчину, и по неким причинам любовь эта оказалась безответной. Можно сказать, что Джеффри Голдстайн умер из-за разбитого сердца.
Но это вряд ли будет правдой, кроме того, это клише. «Жизнь Джеффри превратилась в борьбу из-за его сексуальной ориентации», – сказал Бернард Голдстайн, отец двадцатилетнего Джеффри, умершего в прошлую пятницу, ранним утром, выпрыгнув из окна тринадцатого этажа Джон Джей Холла, все еще неизвестно как и, более того, зачем.
«Перед тем как поступить в Колумбию, он провел прекрасный год, решил немного отдохнуть перед учебой, жил с молодым человеком, их зачислили вместе, и кажется, они любили друг друга. Но расстались. Молодость. Ничего необычного».
Высокий, хорошо одетый адвокат Голдстайн сидел на обитом дамастом кресле в солнечной гостиной просторной квартиры в Грэмерси-Парк, где жил со своей супругой, Шейлой Голдстайн. Миссис Голдстайн воздержалась от участия в интервью.
По правде говоря, у нас есть некоторые соображения, касающиеся суицида. В блокноте Джеффри есть запись:
Я на самом деле ЛЮБЛЮ его.
Ей-богу, чтоб мне сдохнуть!
Раскрытый блокнот он оставил на столе, возможно, сделав заметку в дневнике, которым оказался этот блокнот, а может быть, записку для того, кто ее увидит. Вряд ли она что-то объясняет, вряд ли она прощальная. Но теперь она неизбежно воспринимается именно так; ирония слов «ей-богу, чтоб мне сдохнуть» режет, словно нож. Ранит не мертвых, но живых, и чета Голдстайн – тихие, вежливые, преуспевающие люди, всего два дня назад имевшие множество причин наслаждаться жизнью, – истекает кровью.
В статье говорилось еще о многом: о детстве Джеффри, его юношестве, о чувствах Голдстайна, узнавшего о сексуальных предпочтениях сына – «И нам, и ему пришлось нелегко», – сказал отец. «Вы ссорились?» – спросил Джордж. «Конечно, – сказал Голдстайн. – Конечно. Но мы все уладили».
В статье, где они с Луисом внимательно перепроверяли каждую строчку, гомосексуальность впервые открыто и прямо представала как некое новое понятие, как образ жизни, а не болезнь или уродство. Основную роль сыграл Луис, чья поддержка и юмор оказались незаменимыми: он работал беззастенчиво, уверенно, часто отпуская шуточки. Еще одной причиной успеха стал отец Джеффри Голдстайна. Все вышло так, словно университетские выпускники, а он был одним из них, официально одобрили подобный новаторский подход. В последующие дни Джордж, Ричард и остальные поняли, что все было наоборот: те звонили не только в отдел по работе с выпускниками, но и вообще в любой, заканчивая администрацией университета, с совершенно противоположной целью.
Другой молодой человек, предполагаемый любовник Джеффри, так и не был найден; на следующей неделе следствие пришло к выводу, что имело место самоубийство, и тело выдали родителям для погребения по еврейскому обычаю. Вскоре после этого состоялась прощальная церемония, куда пригласили Джорджа и Луиса. Она прошла в маленькой реформаторской синагоге на 17-й улице, скромно ютившейся в старинном особняке. Чуть дальше по улице был квакерский молитвенный дом – близость к квакерам всегда обнадеживала. Когда все закончилось, Луис пожал руки Голдстайнам, отцу и матери: мать попрощалась с ним холодно, отец на лишний миг задержал его руку в своей, благодаря его. Вот – Джордж уловил ее взгляд в момент рукопожатия с Луисом, – так вот в чем было дело. Она не смогла смириться с тем, что ее сын был геем. Это по-прежнему печалило и злило ее, так же, как и раньше.
История семьи Голдстайн была пиком журналистской карьеры Джорджа. Ничто больше так не трогало его сердце. Работа требовала страстного поиска источников новостей, материала для статей. Для – излюбленные словечки журналистов – великой статьи. Каждая последующая питалась предыдущей или уничтожалась ею. Разум повествователя превращался в палимпсест, где все прежнее стиралось и было видно лишь происходящее здесь и сейчас. Через месяц после смерти Джеффри Голдстайна о нем никто не вспоминал и не думал, но каждый раз, когда Джордж проходил мимо пустующего клочка земли, где стояло вырванное с корнем деревце, он видел тело на бетоне и вспышки красно-белых огней, мелькающие в завесе осенней тьмы той горькой ветреной ночью. В газете об этом не напишешь.
9
Удивительный мартовский день. Тепло, но свет солнца все еще бледен и падает под углом, словно поздней зимой. Прошло уже почти пять месяцев с тех пор, как расстались Джордж и Анна. Меж ними царила неловкость: они старались избегать друг друга по всей округе, сворачивать с дороги, едва завидев друг друга издали, не смотреть друг на друга, поглощая сэндвичи в «Мама Джойз». Как-то вечером в библиотеке она остановилась у его стола, сказав:
– Знаешь, мы ведь можем с тобой здороваться. Нас это не убьет.
– Привет, – сказал он тогда.
Сказал и в следующий раз, встретив ее, и еще через день, пока это не превратилось в шутку: «Привет». Приветы становились все громче: «Привет! ПРИВЕТ!» Итак, в этот весенний день, еще не расставшийся с зимой, они впервые с октября обретались по разным сторонам все той же большой группы студентов, собравшихся на ступенях лестницы, что шла вдоль северной части Колледж-уок. Анна наблюдала за ним, он – за ней. Меж ними было еще четверо, все более-менее могли считаться друзьями, и он, и она были в джинсах, но ее были слегка подогнуты, и опять эти кеды. Интересно, как ей удавалось выглядеть в них сексуальной? Ее лодыжки. Он хотел взяться за них, развести руки в стороны, разводя ее ноги… Он отвернулся. Затянулся косяком, что передавали по кругу. Ее удивили его дезерты. Дезерты, а когда было холодно и сыро, резиновые сапоги; скоро придет лето, и вновь явятся поношенные топсайдеры. Мужчины просто невыносимы: каждый оденется как-нибудь, а потом ходит так пятьдесят лет или того дольше, пока не умрет. Она видела его, семидесятилетнего, все в той же застиранной хлопчатобумажной рубашке. Сверху все тот же темно-красный свитер с круглым вырезом. Он седой. Не лысый, нет. Просто волосы чуть короче, нечесаные. Он словно прочел ее мысли, снял свитер и бросил в кучу вещей рядом. Она снова увидела его грудь. Его плечи.
На ста пятидесяти футах гранитных ступеней, поднимавшихся к библиотеке Лоу, хоть библиотекой она уже не была, располагались тела; некоторые с комфортом растянулись на трех ступенях так, что над первой торчали голова и плечи, зад покоился на второй, а икры – на третьей, роскошные и соблазнительные под бледным солнцем робкой весны; другие горбились, как нарики или попрошайки на Таймс-сквер, так как, сидя здесь, чтобы покурить, приходилось окукливаться, защищаясь от ветра и возможной враждебной слежки. Хоть каждый день ширяйся на этой лестнице – институционального неодобрения не получишь; охраны в кампусе не было, наследие протестов[47], часть нанышней политики: оставь ребятишек в покое, пусть бухают, курят, упарываются, только никакой идеологии и декана в заложниках в собственном кабинете. И все равно находились ханжи, строчившие жалобы. Прямо над ними – Лоу. Ее построили в 1898-м, к 1920 году она уже не справлялась с грузом книжных знаний, и ее превратили в административное здание: очевидно, тупоумие ей не грозило. Она являлась геометрическим и гравитационным центром монументального неоклассицизма первоначального кампуса, вздымаясь за их спинами, раскинувшись перед ними, куда ни глянь – всюду колонны и камень. Новая библиотека, широкая, приземистая, почти в сто пятьдесят футов длиной, напоминала тюрьму для греческих скульптур, стояла напротив, чуть ниже на склоне, воинственно глядя на них поверх мощенных кирпичом дорожек и газонов, где лоскутки травы виднелись среди грязи. Обе так называемые библиотеки были массивной архитектурной рекламой Западного канона, хотя сам Западный канон не нуждался ни в рекламе, ни в защите от студентов. Они не видели ничего иного и верили в него почти автоматически, как самые младшие дети в религиозной семье, что в последнюю очередь способны усомниться в своей вере. Студенты Колумбии, что значит сказать парни, были вооружены достоинствами своего учебного плана куда лучше барнардских девчонок и были знакомы с главными фигурами канона и его основными вехами на уровне журналистов из новостного отдела; подобно им, они обладали недостатком скептицизма. Кое-кто из них выделялся на общем фоне, кто-то даже поверхностно знал латынь или греческий, один или двое даже продолжали учить их. В полдень первого весеннего дня никто и не помышлял о Геродоте, разве что видел его имя, вырезанное на фризе библиотеки Батлера метровыми глифами, заглавными буквами, находившимися прямо на уровне глаз: ГОМЕР ГЕРОДОТ СОФОКЛ ПЛАТОН АРИСТОТЕЛЬ ДЕМОСФЕН ЦИЦЕРОН ВЕРГИЛИЙ. Никто из знакомых Джорджа не читал Демосфена, не цитировал его и, вероятно, вообще ничего о нем не знал. Должно быть, в пятидесятый раз Джордж подумал, что надо бы почитать этого Демосфена. Остальные надписи словно посвящались Национальной восточной лиге (ФИЛАДЕЛЬФИЯ ЧИКАГО СЕНТ-ЛУИС ПИТТСБУРГ МОНРЕАЛЬ НЬЮ-ЙОРК…), рождая определенные характеристики в сознании наблюдателя, набор цветов, слабое ощущение характерных черт; и каждый автор, как и каждая команда, был кем-то любим и кем-то презираем, закален интеллектуальными победами, выхваченными из пасти куда более частых поражений. Команды, у которых поровну побед и поражений, или того хуже. Фундаментальными произведениями являлись: из литературных – «Илиада» (Джордж признавал, что даже в заезженном, довольно сухом переводе Латтимора порой попадались удачные места), из политических – «Республика» Платона (по мнению Джорджа, пользы от нее не было никакой, неважно, в чьем переводе). Лишь от определенного процента студентов, большинства или в лучшем случае половины, можно было ожидать, что они заставят себя прочесть эти тексты, найдя в них пищу для ума, ведь были доступны наркотики, виски, пиво, можно было курить сигареты и марихуану, волочиться за женщинами (этих вечно недоставало), вожделеть их, проводить время в разговорах, отпуская фривольные шуточки, формируя представления о собственной личности, стирая их и создавая заново. А вечерами, бессчетными вечерами сидеть с книгой в читальном зале библиотеки колледжа, в основном флиртуя с девчонками из Барнарда. Важно было знать о существовании этих авторов и их трудов, воспроизводить какие-то отрывки, иметь представление об основной идее, это было частью местного культурного кода так же, как избегать посещения Морнингсайд-парка или знать, сколько стоит и из чего сделан специальный геройский сэндвич «Та-Коме» с мясом, сыром, луком, рубленым салатом, оливковым маслом и уксусом.
Джордж подошел к ней, сел рядом:
– Привет.
Она взглянула на него.
– Хочешь, чтобы я ушел?
– Нет. Интересно, чего тебе надо.
– Увидел тебя, и как-то мне не по себе стало. Мне не нравится, что мы друг друга избегаем. Такое чувство, что нам и говорить не о чем.
– Ну что ж, давай покончим с этим. А что еще? Я думаю, есть и другие причины.
– О’кей. Я увидел тебя и захотел тебя поцеловать. Дотронуться до тебя. Можно же развлекать друг друга подобным образом.
Он вручил ей припасенный косяк, их пальцы соприкоснулись.
– Есть и другие способы развлечься, – сказала она.
– Да, но не такие дешевые и приятные. Точнее было бы сказать: с таким же соотношением приятности и дешевизны.
– Как насчет ранней весенней прогулки по парку? – предложила она.
– Шутишь, что ли?
– Вовсе нет.
– Да, это недорого. Но по мне, и вполовину не так приятно. Но хорошо. Ладно.
Он забрал косяк, затянулся, протянул ей, она покачала головой. Он потушил его, сунул в карман к траве и самокруточной бумаге.
– Пойдем пройдемся. – Он протянул ей руку, она взялась за нее, и он поставил ее на ноги.
Температура была демисезонная.
Они спустились по ступеням, свернули на запад, в сторону Бродвея, там спустились к Риверсайду и его длинному, узкому парку. Он ощущал расслабленность. Каждый раз, когда он курил, у него появлялось знакомое чувство ментальной и физической раскованности.
– Ты станешь успешной, – сказал он ей. Они шли рядом. Она смотрела на него. Он остановился, они уставились друг на друга, пока он не начал смеяться.
– Что?
Она никогда не заглядывала так глубоко в него, не проникала так далеко. Она пыталась отыскать правду. Ни он, ни она до этого застывшего во времени момента не догадывались, что это для нее так важно, что это предсказание может ее изменить. И оно изменило ее тогда, осознание того, как это на самом деле было важно, – как постоянные неудачи и робость отца и матери бесили ее в детстве и подростковом возрасте! – ощущение всего этого изменило ее снова. Пока они стояли там. Он поцеловал ее тогда, не мог не поцеловать, ощущая, как ее тело подается навстречу, у него встал, он прижался к ней, и она отстранилась. Покачала головой, и они пошли дальше.
Ранняя весна, невнятная погода, переменчивое небо. Предмет пяти сотен плохих стихотворений и трех сотен хороших. Джордж побыл с ней, она столкнулась с ним, едва насладившись, и он снова ушел. Он предложил ей – и она почти согласилась на это – нечто вроде открытых отношений. Он сказал, что любит секс. Считал, что заработал очки за собственную прямоту. Фактически она тоже любила секс – черт бы его побрал.
– Что значит «не хочешь меня ни с кем делить»? – спросил он. – Я не мороженое на блюдечке. Когда я с тобой, я целиком принадлежу тебе, а когда мы порознь, то нет. У тебя есть воспоминания, ожидания, у тебя своя жизнь. Неважно, где я: в библиотеке, в бейсбол играю или с кем-то трахаюсь. Когда я не с тобой, делай что хочешь.
Вопрос к Джорджу у нее был только один:
– И когда ты успел стать таким мудаком?
Он повернул к ней голову, совсем как птица, скривив лицо, будто желая сказать: «Правда? Вот, значит, как?» Но промолчал. Хотел что-то сказать и смолчал. Затем открыл рот и опять не издал ни звука. Наконец, тихо проговорил:
– Не знаю.
Но, едва задав вопрос, Анна поняла, что он вполне мог ответить «когда ты разбила мне сердце». Она не смирилась с тем, что разбила его сердце, она верила, что он любовался им, стоявшим на полочке, и сбросил его на пол, коснувшись пальцем, что свой выбор относительно своего сердца он уже сделал, применительно к ней, – но она поддалась чувству вины, порожденному его верой в то, что разбила его она. А может, он вообще в это не верил. Возможно, однажды она спросит его об этом.
Сейчас она сидела у себя в комнате, на кровати, скрестив ноги, свесив голову, играла Hejira[48] с наложенной заунывной гитарой и прямыми дорогами, разделявшими пустыню. Волосы ниспадали на грудь. Она словно видела себя со стороны: смотрела как бы сверху, из окошка над дверью; она напоминала спящего монаха. Грязная голова, грязные ноги, слабый терпкий запах тела – надо бы принять душ, но чтобы принять душ, нужно любить себя или хотя бы чуть-чуть себе нравиться. Сейчас в эту дверь мог войти мужчина. Как бы он выглядел? Высокий, стройный или грузный коротышка? Боже, надо с кем-нибудь трахнуться. Может, Джордж был прав. Почему нет? Разве она не возбудилась? Чувствовать его тело, толчки и удары, настойчивое желание, жажда ее тела, стремление обладать ей, быть внутри ее, трахать ее – от этой мысли она встряхнулась. Amelia, it was just a false alarm[49].
Неверно было бы полагать, что ей нужна любовь. Ей нужно было пламя. Пламя, в котором можно сгореть. Одна из ее подружек, Трейси, была занята переходом в католичество, очарованная (как подозревала Анна) пылким юным священником кампуса, согласно представлению о Троице, причастии и вочеловечении, хоть Анна об этом ей и не говорила.
Она мирно спросила ее: «Ты в него влюбилась?» – на что Трейси ответила: «Нет, я действительно им восхищаюсь». Трейси была достаточно умна, чтобы не продолжать разговор, не возражать, не вдаваться в объяснения. Иначе бы это превратилось в ложь. Можно было позавидовать объединяющей связи разума и духа Трейси, душа экстатически парила, вдохновляясь красотой идеи; если вера в идею незыблема, идея обретает истинность и могущество. «Не получеловек, а полубог, – как-то сказала ей Трейси. – И человек, и бог едины в одном теле». Анна физически ощущала, как наэлектризована кожа ее подруги. Как прекрасны вера и благодать. Но кто на самом деле верит в это дерьмо? Just how close to the bone and the skin and the eyes and the lips you can get – and still feel so alone[50].
Был у нее Недавний-Алекс. Так она представляла его друзьям: Недавний-Алекс. Недавний-Алекс был красавчик, барабанщик в джаз-фьюжн группе, игравшей в кампусе и иногда в клубах в центре, и как бывает со всеми барабанщиками, требовалась дюжина палочек и кое-какой хирургический инструментарий, чтобы у него в голове зародилась какая-нибудь идея. Он курил траву, прохлаждался с голым торсом, топографическими длинными руками, жилистыми, как у сельского кузнеца, его кожа была соленой и потной на вкус, и она могла трахать его дни напролет, особенно будучи сверху. Но всегда есть одно «но»: языком он работал хуже некуда, едва ли не хуже всех, кого она знала, вяло, отвлеченно, безо всякого желания, будто между ног ползало маленькое безмозглое животное – ужас. Но он все равно продолжал это делать. Чем меньше, тем лучше. Под кайфом, пока в его голове постоянно играла музыка, когда он был сверху, с ним было слишком спокойно, но когда он лежал на спине, а его солидный, безотказный член был устремлен в небо и можно было схватиться за его красивую грудь… «Расслабься, я сама», – шептала она ему… Однажды он согласился, чтобы она привязала его к кровати тремя шарфами и наволочкой, и это было вершиной ее удовольствия – трахать живую куклу. Разумеется, трахать его целый день было нереально, жизнь подкидывала проблем и все такое, дни оказывались чересчур длинными, как и ночи, и вообще без своей установки он был скучноватым созданием. Миленький, но не настолько, чтобы заметить, чего ты хочешь и о чем говоришь. Вот таким был Недавний-Алекс.
Что происходило с такими мужчинами? Куда девалась страсть, с которой он исполнял свои соло, когда взлетали капли пота, взметались волосы и руки мелькали, как молнии, подчиняясь безумному ритму? Тогда весь мир вокруг превращался в декорации. Вне этого контекста даже электрошокер не пробудил бы в нем такую же необузданность и волю. Было ясно, что как барабанщик он ничего не добьется, он был не настолько хорош и не настолько амбициозен. Большие, красивые, глупые мужчины. Как скот на полях. Сбиваются в кучу под кроной дерева, когда идет дождь. Были ей знакомы и женские подобия, схожие с ними, но им требовался ум, чтобы избегать насилия. С десяти лет, привлекая ненужное внимание, некоторые по необходимости превращали его причину в источник дохода, нуждаясь в привязанности, защите, эмоциональной поддержке, спасении или материальном вознаграждении, которым, в сущности, являлись деньги. Когда более удачливые становились старше, финансовые аспекты их внешности служили поискам мужей-добытчиков; многие находили исполнение белоснежно-кружевных желаний весьма волнительным. Кое-кто был поумнее. Так или иначе все оборачивалось поисками работы. Шли годы, требовались усилия, чтобы оставаться социально и сексуально востребованными, приходило время гражданских клубов, диетических пилюль, спа и сезонных обновлений гардероба. Хорошенькие дети. Кроме тех случаев, когда было наоборот, и дети были не хорошенькими, и все летело к чертям – сущий ад. Она росла в Центральной Пенсильвании, где деньги таяли не на их счетах, но прямо у них под ногами, и открывались социальные ямы, где медленно сгорало подспудное чувство общности. Кого-то сгубила неуверенность в завтрашнем дне. Как всегда, где-то поблизости на сцене обретался алкоголь. Джин и водка: с наркотой эти дамочки связывались редко. Диетические пилюли тянули их наверх, снотворное укладывало горизонтально, алкоголь все уравнивал и тянул их вниз; после сорока все читалось на их лицах. Таких она видела в Херши, потом в Гаррисберге, обслуживая их в гостиничном ресторане, где два года летом подрабатывала официанткой и хостес, а пока училась в школе, еще и по пятницам и субботам. Этим стареющим ведьмам приходилось иметь дело с полными сил протестантскими белыми женами, умевшими держать себя в руках, – пусть в них не было ни капли соблазнительности, но они были расторопными, верными и сильными – зачастую, как бы помягче… похожими на мальчиков с короткой стрижкой, в бермудах, пастельных мокасинах; звали их Энди, Томми или Бобби. Дети занимались спортом, а мужья, выпивая одну пятую галлона[51] в день, – нет. Энди, Томми и Бобби ненавидели бывших обладательниц роскошных сисек, знавших толк в сексе, слегка поизносившихся после первого брака, но все еще способных приманить их мужей. А может, и сыновей, тех, что постарше. Альтамонтский теннисный клуб.
Кем она станет? (The pills and powders. The passion play[52]. Она с нетерпением ждала, когда же начнется сраная мистерия.) Станет поэтом? Очень, блядь, смешно. Суицидальные поэтессы с длинными каштановыми волосами, большими глазами, в свитерах, под которыми пряталась грудь, жаждавшая ласки, сексуальный голод, что мог заправить колонну восемнадцатиколесных фур, все настоящее, ничего ложного, но всегда – всегда – непонятое другими. Набегает прибой, волны бьют в берег. Иссушенные песчаные ребра. Мужчина и женщина сидят на камнях. Она сидела на камнях. Хотела броситься навстречу морю. Холодному, холодному морю. Пытливый соленый язык моря ласкает твои бедра, пах, руки, живот. Словно касание незнакомца, полного стремлений. Она дрожала всем телом.
Дойди до самого предела, детка.
В печали есть нечто успокаивающее. Противоположность надежды, становящаяся надеждой, надежда в отсутствие надежды, надежда, говорящая, что нет ни единого шанса – ни единого, – так что просто делай все, что можешь, иди вперед, и, может, ты перестанешь чувствовать себя униженной, отталкивающей, едва живой. Было бы неплохо, да?
I’ll walk green pastures by and by[53].
10
Первыми, кого увидел Джордж дьявольским летом 1977-го, до аномальной жары, до Сына Сэма[54], были парни на платформе подземки: один или двое танцевали, используя сплющенные картонные коробки в качестве матов, а третий отбивал какую-то дичь на перевернутых ведрах из-под герметика. Танцоры разбегались, приземляясь на ладонь или плечо, иногда стояли на голове, вращались, кувыркались, изгибались под бит. Зрелище было захватывающее, не менее впечатляющее и опасное, чем Олимпийские игры. Несколько раз в подземке ему слышались те же биты: группа ребят с афро, одна штанина закатана, сидят друг напротив друга, с одной стороны трое, с другой – четверо, поют скэт, рифмуют, импровизируя. Кто-то опять отбивает этот бит на скамье. Этой весной и ранним летом он уже трижды видел такое. Слова звучали нелепо, но одна строчка все же крепко засела у него в голове, и он вспоминал ее даже спустя много лет: «Мы с улиц Бруклина, мы выглядим круто».
Лето шло своим чередом, ночи почему-то становились темнее. Может, виной тому был финансовый кризис – не работали фонари или светили тускло, а может, на освещении улиц и витрин экономили электроэнергию и никого не оповестили. Или жара, что пришла и не собиралась уходить, жара, жара, жара. Был ранний день – он позавтракал в ресторанчике у Тома и вышел из уничтожающего разум помещения, где, как вертолетный винт, грохотал кондиционер, – и жара долбанула его или он ее, будто повстречался с чем-то твердым, например, гаражной стеной. Слепящее сияние: не солнечный свет, а белый телеэкран. Два мужика в обносках препирались на бродвейской разделительной полосе, носились вокруг, громко и злобно орали. Один из них размахивал похожим на самопал пистолетом, что делало эту сцену куда оживленней. Четверо товарищей по обноскам наблюдали за ними, сидя на лавках и, по мнению Джорджа, находясь в небезопасной близости, но ни один не спешил убегать. Орал тот, что со стволом, другой орал что-то в ответ, ничего не разобрать, спустя минуту или меньше тот, что стоял лицом к Джорджу, взял и выстрелил в ногу того, что стоял к Джорджу спиной: бах, бах, два раза. Раненый упал, вопя и визжа. Прошло всего двадцать секунд, не больше, и подлетели три такси: два со стороны пригорода, одно со стороны центра; спереди в каждом сидело по два копа в штатском (он уже не раз видел такие тачки, вот только никто, кроме копов в штатском, не ездил в такси вдвоем спереди, так что незаметность была под вопросом, но сейчас они оказались здесь куда как вовремя). Должно быть, кто-то заметил пистолет и вызвал полицию. Копы выскочили из машин, целясь в стрелка. Джордж поразился: их так много, и они так быстро. Он заключил, что если кто-то из копов промахнется, под огнем окажется тротуар с обеих сторон улицы. Но стрелять им не пришлось: мужчина сдался, на него надели наручники, двое занялись раненым. Джордж с удивлением отметил, как мало в нем осталось журналистского пыла: сейчас ему меньше всего хотелось говорить с этими незнакомыми людьми об еще одном из бесконечных эпизодов насилия и нервных срывов, который мог закончиться убийством. Он прошел два квартала до 110-й, где снимал комнату и пятнадцать часов в неделю работал единственным экспедитором в маленькой конторе по импорту европейских книг, которую держал старый немец с женой, – большей частью это были словари издательства «Лангеншайдт» с ярко-желтой обложкой. В остальное время он читал Кастанеду, изредка разбавляя его Хэмметом и Чандлером. Эта смесь отражала его внутреннее состояние: полудепрессия и душевное беспокойство. Женщины уже несколько недель избегали его. Наверное, чуяли, что вялые живчики в его сперме никуда не годятся, как и он сам, полный сомнений и ненависти к себе. По вечерам ходил в бар в Вест-Энде, час, два – никакого толку; смотрел старые фильмы в «Нью-Йоркере» и «Талии». Бродил по центру города. Вечерние жаркие улицы воняли гниющим мусором и ссаниной. В «Талии» ему дали перфорированную карточку: если придешь десять раз, одиннадцатый сеанс бесплатно.
Если твой автобус отправлялся с подземного уровня портового управления, как те, что шли в Нью-Джерси, выхлопы дизелей заполняли все помещение, жгли глаза и легкие, пока ты ждал. В центре зала, у газетного киоска, продавали снэки. От них стоило держаться подальше. Джордж вскоре очнулся ото сна и вступил в кратковременную связь с будущей второкурсницей по имени Сьюзен, просто Сюзи, с большими амбициями, запасом энергии и живым личиком. Она была почти что плоскодонкой, но, как часто бывает, это компенсировали великолепные ноги и задница и, как бывает реже, дикие джунгли рыжих волос. В портовом управлении он провожал Сюзи, ее великолепные ноги и задницу на автобус, что должен был увезти ее домой после целого дня и вечера того, что Генри Джеймс называл «любовной связью». Либидо у этой девчонки было что надо, кончать она могла беспрерывно, и они подходили друг другу так хорошо, что он мог удовлетворять ее, почти не напрягаясь. Когда она вставала раком, зрелище было просто сногсшибательным… и ее волосы – они почти что определяли ее содержание – роскошные, золотисто-рыжие. Тем летом, в 1977-м, она работала в крупном пиар-агентстве, жила с родителями в Клинтоне, и эти еженедельные рандеву обычно начинались с того, что Джордж встречал ее у офиса в Среднем Манхэттене. Они отправлялись куда-нибудь перекусить, что-нибудь выпивали, затем шли к нему на 110-ю, где трахались, обливаясь потом на жаре. Если это была пятница – как это обычно и бывало, летом в пятницу у нее был почти выходной, днем контора закрывалась в час, но родителям она ничего не говорила, – значит, у них был почти весь день и вечер. Они гуляли по окраинам Манхэттена, обсуждая людей, их одежду и повадки – большей частью, женщин, так как она прекрасно читала социальные знаки, подаваемые женщинами – и если он говорил, что эта или та ему нравится, она живо включалась в обсуждение, мрачнея лишь, когда он отпускал комплименты чужим волосам.
Скоро он ее бросил – окончательно, еще до конца июля, бесцеремонно, жестоко, трусливо, о чем потом всегда жалел, – просто перестал ей звонить и сам не отвечал на звонки. Проблема была в том, что он ей действительно нравился. Однако тем вечером он еще не решился и посадил ее на автобус до Клинтона, час пути на запад. Он вышел на улицу.
Вдруг везде погас свет[55]. Таймс-сквер. Из всех возможных мест свет вырубили именно здесь – сущее безумие. На миг все застыли. Огляделись. К этой угольно-черной тьме его глаза привыкли через минуту или две, все вокруг напоминало сцену из фильма ужасов. Едва различимые силуэты на мрачном фоне. На дороге моментально образовалась пробка. Он хотел перейти 42-ю, дойти до Седьмой, чтобы сесть на поезд до дома, но теперь в этом не было смысла – надо было оставаться на Восьмой, ловить автобус. Прошла еще минута, не больше, и улица превратилась в настоящий карнавал, где люди смешались с машинами. Люди, автомобили, яркий свет фар – все засвечено. Машины ползли дюйм за дюймом, иногда дети снаружи стучали по окнам и крышам, а лица запертых внутри водителей искажала паника. По лицу Джорджа струился пот, рубашка была хоть выжимай – на щебенке меж 42-й и Восьмой, где на холостых тарахтели две сотни двигателей, жара была просто адская, – он жалел, что при нем нет фотоаппарата, чтобы заснять лица водителей за прозрачными стеклами, как в фильмах про зомби. Лица, освещенные огнями приборных панелей, напуганные жены, мужья, мрачно стиснувшие зубы, дети, глазеющие сквозь окна на цирк, куда их не пустили, никаких отражений на стеклах, кроме габаритных огней автомобиля, едущего впереди. Некоторые водители материли его, показывая фак и требуя убраться с дороги, но ни один не осмелился выйти. Лица тех, что были на улице, – ни на одном из них не было паники, нет, тут терять было нечего, здесь было раздолье поджигателя, весь общественный порядок мог рухнуть в считаные минуты. Силы тьмы, что желают обладать нами…[56] Вдруг он увидел, что здесь нет ни стариков, ни немощных, ни нервничающих представителей среднего класса, прикидывающих, как безопаснее – ударение на слове «безопаснее» – будет добраться домой. Кто-то из них, видимо, был в набитых битком автобусах, проезжавших мимо без остановки. И вот оно – волшебное зрелище посреди авеню – абсолютно пустой двухэтажный темно-красный экскурсионный автобус у Сорок первой. Все остальные, проезжавшие мимо, были переполнены, а этот пустой – невероятно. Ты только посмотри. Никто не приближался к нему. На борту трафаретная надпись: «Таверна на лугу»[57]. Недавно ресторан вновь открылся, и по Среднему Манхэттену разъезжали автобусы с его рекламой, совсем как у того старого стейк-хауса, забыл название. Может, это отдалит следующее банкротство. Джордж подошел к открытой двери.
– Посадки нет, – предупредил водитель.
– Что за бред, – возразил Джордж. – Тут авария, а у тебя автобус пустой.
Он залез внутрь.
– Я до 67-й у парка, дальше не поеду, – предупредил водитель.
– Сойдет, лишь бы отсюда подальше.
Он прошел в конец автобуса, и в салон немедленно вломилось около сорока галдящих подростков, быстро взобравшихся по лестнице на верхний этаж, выкрикивая остановки: «Сто двадцать пятая улица и Собор Святого Николая!» Они смеялись и толкались. Пиратство наших дней, взятие корабля на абордаж. Едва автобус выбрался из пробки у 45-й или 46-й, поехали порезвее, без светофоров, и единственный сложный маневр в непроглядной темноте пришелся на Коламбус-Серкл. Оттуда водитель поехал прямо вверх по западной Сентрал-парк, отклонившись от маршрута – ему хотелось оказаться подальше от Бродвея. Они подъехали ко входу в «Таверну» на 67-й, водитель припарковался, и толпа тинейджеров покинула автобус так же быстро, как и села в него, ничего не прося и не требуя. Они растворились в ночи. Тридцать секунд – и никого. Джордж сошел последним, поблагодарив издерганного водителя, не блещущего интеллектом парня лет тридцати, все еще недовольного захватом автобуса. Как будто он мог этому помешать.
Тем летом Анна присматривала за кошкой профессора истории античности и его жены, отправившихся изучать Рим с окрестностями, получив грант Фулбрайта. Роскошная квартира с кондиционером находилась на пятом этаже дома на Морнингсайд-драйв. Этот образец нью-йоркской жизни засел в ее голове на долгие годы, от пола и настенных реек для картин до книжных полок и теплых ковров, до рояля, которого она стыдилась, так как бросила играть в девять лет, подражая Марку, и к которому не осмеливалась притрагиваться; большие окна смотрели на север, на 121-ю улицу, и на восток, на деревья Морнингсайд-парка: платаны, клены, дубы и вязы. Утром комнаты заливал свет солнца с востока, днем пыльный воздух остывал под его косыми лучами. А сегодня ночью на востоке виднелось зарево пожаров.
Каждая весна и каждое лето порождали нового бойфренда. Почти каждую зиму она проводила в одиночестве, должно быть, ее тело выполняло какую-то неведомую биологическую программу. Этим летом большую часть времени она была с Фрэнсисом, костлявым, худосочным парнем с рыжевато-коричневыми волосами из ирландского графства Керри, с кожей настолько светлой, что при определенном освещении она казалась голубой, и с удивительно крепким членом для столь тщедушного тела. Сей розовый побег произрастал из светло-коричневого куста. Кроме этого куста, волос на голове и изящных прядок в подмышках, на его теле не было ни единого волоса. Он был всегда готов заниматься сексом, даже больше, чем собака – гулять, но она видела, что это до смерти его пугает. Каждый новый сексуальный экскурс порождал приступ явной нервозности, в итоге приводя его в благоговейный трепет – даже когда она впервые ему отсосала и когда он впервые трахал ее раком. Вроде все несложно, думала она, но она же не ирландец. Каждый раз, когда она держала в руке его член, отмечала, насколько тот тяжелый. В эту душную, мглистую ночь они сидели на крыше, смотрели на огни пожаров к востоку от Морнингсайд до самого края Гарлема и в Южном Бронксе, она насчитала двадцать, и больше не было никаких огней, ни красных, ни зеленых на перекрестках, ни желтых в окнах, маленьких, как почтовые марки, лишь черное на черном; изредка вой сирен, мелькают вспышки, красные огни сигнальных фонарей; она вытащила член Фрэнсиса из коротких шорт, чувствуя, как тот набухает под ее пальцами. На ногах у него были кроссовки и коричневые носки, ей это не нравилось.
– Снимай кроссы, – приказала она, неспешно подрачивая ему. Он подчинился.
– И носки тоже.
Показались его ступни, бледные, как пещерные рыбы. Она забрала у него носки, скомкала и выкинула через парапет в проулок между ее домом и домом на юге.
– Похоже, ты не любишь мужские носки, – сказал он.
– Похоже на то.
На ней была миткалевая юбка, она сняла трусики, но выбрасывать их не стала. Она оседлала его, не выпуская член из руки; теперь она оказалась лицом к парапету с цепью, натянутой, чтобы никто не упал или не спрыгнул с крыши; она трахала его и смотрела на пламя пожаров. Его руки скользнули под ее футболку, к груди, пальцы нашли соски и стиснули их.
– Сильнее, – сказала она спустя минуту, и он подчинился, а она ускорилась, и он застонал, и она шепнула: «Не сейчас, не сейчас!» – и взглянула ему в лицо. Забавное и незабываемое зрелище: он стиснул зубы, чтобы не кончить. Скрипя зубами, рыжеволосый, он был похож на рычащего гангстера из «Дика Трейси». По ее мнению, эта методика отложенной эякуляции вряд ли бы оказалась эффективной, и она остановилась, пока его дыхание не стало ровным, затем вновь задвигала бедрами. Теперь все было хорошо, и она вцепилась в его грудь, впилась в нее ногтями, глубоко, в надежде, что боль отвлечет его, и, кажется, это сработало, и тогда она стала двигаться еще быстрее, и он ускорился вместе с ней. Она помогла себе пальцами, кончила, и он тоже, не то прорычав, не то прокряхтев пять или шесть раз – она почти не издала ни звука, – потом они замедлились, он все еще был внутри, и ее пальцы на его груди разжались, чуть покачиваясь, она смотрела на огни пожаров, этих почти что бесформенных тварей, танцующих на горизонте. Когда кто-то вспоминал ночь, когда город остался полностью без света, она вспоминала, как трахала этого мальчика на крыше, вцепившись в него ногтями, и царапины на его алебастровой коже в лучах солнца на следующий день, за которые ей было стыдно, но совсем чуть-чуть.
11
Пришла зима. С особым воздаянием за адское лето. Рекордные снегопады. Январь 1978-го, за день до переклички: вернулись почти все. В снежном вихре на Колледж-Уок Джордж с двумя черными красотками внутри: первая – таблетка экстази, лучшее средство для похудения, вторая – полпинты Jim Beam, на всякий случай торчавшая из кармана пальто, наткнулся на Луиса; Луис также пребывал в состоянии необычайного воодушевления, и Джорджу стало интересно, под чем это он. Было уже за полночь, вокруг не было ни души, снега под ногами было больше фута, и он все падал и падал. «Кокаин», – предположил Джордж. Сочетается со снежным вечером.
То был первый залп, предвещавший две снежные бури января 1978-го, одну за другой. Первая была сильнее: они стояли на дорожке, дул ветер, и падал снег, поглощая все вокруг. На следующий день выпало уже почти три фута осадков, своего рода рекорд, и несколько дней спустя еще пятнадцать дюймов, до университетских дорожек был уже метр снега, а потом все это покрылось коркой льда, такой прочной и скользкой, что с ней не могли справиться до самого марта. Каждый день дозированно сыпали песок, навели мостки из фанеры, чтобы хоть как-то можно было перемещаться по многочисленным ступеням. По слухам, за этим последовала целая куча обращений в суд для получения компенсации за падения и травмы. Разумеется, сняли коменданта участка и зданий: снег не убрали вовремя, и, когда он слежался, чтобы все расчистить, потребовались бы бульдозеры эпохи Вьетнама, как те, что использовали монреальцы, со снеговыми отвалами и воздуходувами, размером с альпийское шале. Луис уведомил Джорджа, что в своей парке и лыжной шапочке под капюшоном, а также туго зашнурованных лягушках от «Л. Л. Бин» с заправленными в них серо-коричневыми вельветовыми брюками тот неотразим, как примерный мальчик из Новой Англии.
– Узрите рождение нового эротического архетипа! – возгласил Луис. – Мальчик от «Бин»! В каталоге все модели… ну такое, но ты – да, то, что надо. Привет моряку с маломерного судна!
– Хорош уже.
Судя по виду Луиса, тот был далек от намерения носить парку и выбрал старое твидовое пальто с вельветовым воротом; потом он сказал Джорджу, что это был трофей времен первого курса из дома деда в Шорт-Хиллз, до того, как там все распродали. На выходных, перед распродажей, приехали родственники – большинство пораньше, ожидая снаружи прибытия агента, – как саранча, прихотливая саранча. Сердцем и душой это была саранча, но не подававшая вида, что ей что-то нужно, не выражавшая ни малейшего намека на желание чем-то обладать. И все же каждый более-менее ценный предмет искусства исчез до того, как в полдень явился Луис: не осталось ни наручных часов, ни золотых булавок для галстука, ни единой запонки.
Луис утверждал, что просто хотел выглядеть изящнее. Все костюмы старика были слишком короткими и жали, но твидовое пальто с вельветовым воротом пришлось впору. Должно быть, для старика оно было слишком длинным.
Из-за снега Луис надел еще один дедушкин реликт, перчатки, наитеплейшие из возможных – оленья кожа с отдельной шерстяной подкладкой. Джордж любовался ими. На запястьях их стягивал небольшой ремешок. На голове Луиса был берет: этот достался ему на Бродвее. На француза он был не похож, скорее, на испанца – клерка из торговой конторы, испанский Боб Крэтчит[58]. Или на швейцарца, автора научных статей, некогда школьного друга Вальтера Беньямина[59], из этих, противоречивых интеллектуалов. В очках, да. Этот вариант был более подходящим, на нем и остановимся.
– Я швейцарец, готовый к пешему походу, – сказал Луис. – Мы, швейцарцы, всегда готовы к пешему походу.
Джордж сказал, что хотел прогуляться до парка, посмотреть, что там сейчас, но Луис воспротивился:
– Нет-нет-нет! Отправляемся на Пятую авеню. Я как раз туда шел. Идем со мной!
Оказалось, пробираться по такому снегу адски трудно. Конечно, поезда тоже опаздывали: полночь, да еще такая метель. На 42-й им пришлось целых полчаса ждать поезда БМТ[60], чтобы добраться до пересечения 59-й и Пятой.
– Пойдем к «Плазе»[61], будет похоже на встречу Скотта и Зельды[62] с адмиралом Бердом[63].
– Знаешь, а можно ведь было срезать через Коламбус-Серкл, и тогда мы бы уже были там, – сказал Джордж.
– Нет, тогда мы бы устали. Хочу дойти до самой середины Пятой авеню, – ответил Луис. – Хочу фоток наделать!
Он извлек маленькую автоматическую «Яшику» из кармана пальто.
– Сделаю, как Артур: знаешь, побольше цветового тона, неожиданная композиция, низкая чувствительность, высокая чувствительность – все, как он любит. Только все кадры будут извращенными и гейскими.
– Нелегко тебе придется в этом пальто, – предупредил Джордж.
– Чего? Почему?
– У него полы слишком длинные. По снегу будут тащиться. Смотри, ты только прошел через кампус, а они уже все мокрые. Скоро ты будешь тащить на себе промокшее тридцатифунтовое шерстяное пальто.
Луис задумался, снял пояс:
– На, подержи.
Затем подтянул пальто, попросив Джорджа обвязать его поясом.
– Ты за кого меня держишь, мистер Френч[64]? – фыркнул Джордж.
– Помоги мне, – попросил Луис. Он просто стоял так, пока Джордж не заключил его в недвусмысленные объятия, затягивая пояс.
– Не надо было мне ничего говорить.
– Ты же знаешь, что хотел этого, – сказал Луис.
– Нет, не знаю, – сказал Джордж, просовывая конец пояса сквозь пряжку и давая Луису затянуть его.
– Ты похож на Робина Гуда – банкира, – съязвил Джордж.
– Как будто такой существует, – ответил Луис. – Придется как-нибудь его придумать.
Они вышли на 59-й – вместо лестницы из подземки наверх вела длинная снежная насыпь. Джордж схватился за перила, от которых до снега было дюймов восемь, нащупывая дорогу ногами, но без толку: ступни зарывались в снег, и он побрел наверх наугад, а позади слышалось тяжелое дыхание Луиса. Наверх, на 59-ю, парк остался позади, в окутанной белым тьме.
Они тащились по снегу, пока не оказались на Пятой авеню: пустынной, во всем своем великолепии.
– Легко ложился, ложился легко![65] – пропел Луис среди белизны.
Джорджа шокировали сглаженные грани, алмазный блеск уличных фонарей на кристальной пыли. И тишина, тишина, тишина.
Позади, за спиной – смутные очертания деревьев, словно старые ведьмы. Или как духи, спустившиеся с небес. Вязы в белых париках. Все такое белое, наверху – ночное небо, внизу – черное море, еще не застывшее, окаймленное угольно-серым матовым стеклом.
Луис быстро сделал несколько снимков, по-видимому, камера все делала за него, регулируя апертуру и скорость затвора, и он просто сфокусировался на бесконечности, даже не глядя в видоискатель.
– Господи, как здесь прекрасно, – сказал Джордж.
– Поле ангелов, – ответил Луис, продолжая снимать.
– Есть еще пленка?
– Еще одна.
– Тогда придержи коней, ковбой. Ты ж не хочешь упустить «Бергдорф» и «Сакс», одетых в белое?
– Уймись, о сердце, – вздохнул Луис. – Какая красота! Пойдем пройдемся.
Но он остановился, вновь повернувшись к своим ангелам. Снова наделал снимков.
Они пошли прямо по середине улицы, где час или два назад, должно быть, проехали мусоровозы со снегоуборочными отвалами. Здесь снега было всего на фут или около того; у края тротуара уже громоздились отвалы высотой в пять футов после его первой уборки, и припаркованные автомобили напоминали причудливые белые погребальные курганы.
Они брели дальше, справа осталась «Плаза», здание «Дженерал моторс» – слева, затем «ФАО Шварц»[66], «Грейс», чей вогнутый фасад вздымался в небо, подходяще белый, с черными стеклами, усеянными снегом. Ничто не двигалось, ни души вокруг, великолепный, постапокалиптически пустой центр города. Луис щелкал затвором то тут, то там, Джордж молчал. Луис тоже. Джорджу казалось, что молчание для него тяжкий труд. Тишина была сродни религиозному трепету, заполняя пространство. Они пробирались по снегу, и самым громким звуком был звук их дыхания.
Когда они поравнялись с 55-й, Луис сказал:
– Я вымотался. Утомительная красота.
– Пора привести себя в форму, – ответил Джордж.
– А ты, значит, в форме?
– Нет, – возразил Джордж. – Ноги пиздец как горят.
– Тогда дойдем до 50-й, а там такси поймаем!
Джордж уставился на него.
– О’кей, тогда до Седьмой, а дальше на метро, – предложил Луис.
– Если дойдем. В противном случае наши останки обнаружат весной: оскаленные черепа со спутанными клоками волос, тела съежились в подъезде какого-нибудь блядюжника.
– Если нам суждено умереть, тогда я хочу умереть в дверях стейк-хауса «Тедс».
– Делай как хочешь.
– Я бы, правда, куда-нибудь сгинул, – иронически добавил Луис.
Он сказал, что холод ему нипочем, хотя это было необычно для него. Он без конца жаловался, что ему холодно.
– Видимо, красота нивелирует дискомфорт. Адреналин. Радость. Приму к сведению.
Он остановился. Джордж взглянул на него.
– Мне надо постоять минутку, – сказал Луис.
– Ты как?
– Нормально, более чем.
И он, черт бы его драл, разразился слезами: они срывались с его век, катились по щекам. «Должно быть, точно замерз», – подумал Джордж.
– Эй, чувак, – сказал Джордж, сжав плечо Луиса. Он знал, что поступает весьма мужественно.
– Мне не грустно, – выговорил Луис.
У обоих вырвался смешок.
– Ну да.
– «Я не грущу», – забулькал пухлый драматург, – продекламировал Луис. И засмеялся уже всерьез: сопли струились по лицу вперемешку со слезами.
– Правда, нет, – добавил он, переведя дух и утеревшись платком. – Иногда чувствуешь незаменимость момента во времени, его идеальную, эфемерную уникальность. Да? Бывало с тобой такое?
Джордж ответил, что да, кажется, бывало.
– Может, это и есть бесконечность. Осознание. Фотография души. А ты проносишься мимо в поезде времени. Вокруг так красиво. Через несколько часов снег расчистят, и тут снова поедут машины, на тротуарах и перекрестках опять будет эта смертная серая жижа, соберутся мужчины в дурацких шапках и женщины в дурацких пальто (модники все еще будут сидеть по домам или останутся на островах), и все будет, как всегда, по-уродски, слепая жизнь, которой мы живем. Ты только взгляни на все это…
Он повел рукой слева направо, указывая на улицу перед ними: украшенные белым фасады, кучки снега на козырьках светофоров, по три над каждым – красным, желтым и зеленым; на дороге два с половиной фута снега, а то и больше – тридцать четыре дюйма, по последним подсчетам, – будто ребенок опрокинул ведерко с песком на центр одного из самых многолюдных городов на земле, утихомирив его и заставив замолчать. Ночь стала такой яркой, покрывшись слепящей белизной. Цвета. Безмолвная туманная тьма вокруг. Три часа ночи.
– Давай пройдемся, – предложил Джордж.
– Думаешь, собор Святого Патрика открыт? – спросил Луис.
– Ты не того протестанта спрашиваешь.
Оказалось, что собор был открыт – из-за метели и тех, кто не мог попасть домой, и тех, кто нуждался в молитвах о прекращении ледяного апокалипсиса. Там были люди: первые, кого они увидели за всю ночь, по залу рассыпалось больше дюжины человек, может, пятнадцать или двадцать, большинство спали на скамьях, откинув голову. Кто-то уткнул голову в колени, кто-то ссутулился, но никто не лежал. Лежать на скамейках не поощрялось даже в долгую снежную ночь. Воздух в помещении почему-то был таким же влажным, как и снаружи, но с нотками старой каменной кладки и дерева, свечного нагара и запаха тел. После сияющей авеню казалось, что здесь совсем темно. Джордж и Луис прошли через весь неф к алтарю, коснулись медной ограды.
– Понятно, почему это волнует людей, – сказал Луис.
– А мне нет, – хмыкнул Джордж.
– Это потому, что ты протестант.
– Если это значит, что я живу не в Средневековье, то, пожалуй, да.
Но это не было правдой. Тишина здесь была другая, не такая, как снаружи. Там она казалась экзотикой, здесь она была естественной. Преклонишь колени, и твоя молитва будет услышана.
– Я хочу поставить свечку, – сказал Луис.
– Да хорош.
– Всегда хотел свечку в церкви поставить. Для еврея это как порно. Есть четвертак?
– За это что, платят?
– Ох, дружочек, – вздохнул Луис.
Джордж оказался в постели Луиса, он так и не смог вспомнить, каким образом, но с той поры пинта «Джим Бима» у него всегда ассоциировалась с единственной ночью, когда ему отсосал мужчина. Его состояние можно было описать словом, использовавшимся поколением его матери, «навеселе», но в ином смысле. Алкоголь всего лишь сгладил углы восприятия, обостренного спидами, его удивляло и ему нравилось порожденное ими чувство невероятного возбуждения. Луис предпринял разумный шаг, хорошенько вздрочнув Джорджу до того, как попытался его поцеловать. Когда они перешли к делу, Джорджу захотелось побрить его, перед тем как оттрахать. Он справился со спиной и задницей, велев Луису обхватить ладонью яйца, взялся за ноги, и тут «Норелко» испустила дух, подавившись волосами.
– О боже, смотри, что у меня с ногой, – ахнул Луис, извернувшись, чтобы все рассмотреть. На задней поверхности левого бедра красовались две длинных безволосых полосы, все остальное покрывали волосы.
– И ты мою «Норелко» сломал!
Джордж улегся на спину.
– Почистишь, будет как новенькая.
– Прям как ты, – сказал Луис.
Он провел языком по торсу Джорджа, спускаясь все ниже. Вылез из кровати, вернувшись с бутылочкой теплого масла.
Джордж поднял голову.
– Как ты масло подогрел?
– Держу у батареи. Умно, правда?
Он трудился над членом Джорджа.
– Ты и правда беленький красавчик. Большой, крепкий, белый парень.
– Ш-ш-ш, – шикнул Джордж. Его глаза были закрыты.
– Подожди, не кончай пока, – попросил Луис. – Я хочу, чтобы ты меня трахнул.
– Я всегда был немножко в тебя влюблен, – сказал потом Луис.
– А я-то думал, ты меня всегда немножко хотел.
– Ну да, э-э-э, да. Но ты мне нравишься.
– Это не любовь. Это неподдельная похоть.
После затянувшегося молчания они посмотрели друг на друга.
– Ты что, психуешь оттого, что лежишь в одной постели с парнем? Наслаждаясь тем, что было?
– Немного. Меньше, чем я ожидал. Может, потому что я курнул, выпил и от экстази крышу снесло.
Ему удалось уснуть на несколько минут, все же это не было сном, скорее, он был в трансе и грезил. Очнувшись, он увидел свой член во рту Луиса. В искусстве отсоса Луис превосходил всех, с кем когда-либо доводилось быть Джорджу. То есть женщин. Ощущения были совершенно новые. С другой стороны, опустив взгляд, Джордж увидел, как над его лобком качается мужская голова. С этими, как их, не в обиду, еврейскими кудрями. И лысинкой. Совсем маленькой. И пахло от него странно. Он быстро отвел глаза, чтобы подавить отвращение. Закрыл их. Остались только ощущения. Руки на бедрах. Интересно. Как-то все более насыщенно – более интимно? Не совсем. Его совершенно точно ублажали, восхищаясь им: вот что он чувствовал. Он чувствовал, что руки Луиса по достоинству оценили его бедра. Он не спал с женщинами, которые вели себя так, которым нравилось ублажать его или которых влекло к каким-либо частям его тела; они не получали эротического удовольствия от того, что могли прикасаться к нему, просто смотреть на него, на его тело. Они получали удовольствие в социальном и эмоциональном смысле, но не в чувственном. Ему нравились эти качества женщин, но он никогда не замечал, чтобы они чувствовали подобное. Они реагировали на ядро его мужественности, его индивидуальности, чужеродное им, или на неподдельную любовь, что сумели пробудить в нем, в отличие от своих отцов, рождая в них страх. Любовь Луиса была проще: она не имела почти ничего общего с психологией. Было в ней что-то прямое, несложное. Разумеется, потенциальные осложнения могли проявиться всегда. Например, волосы.