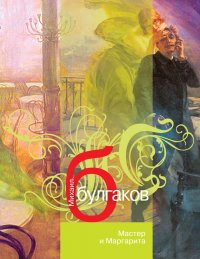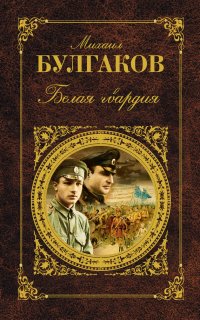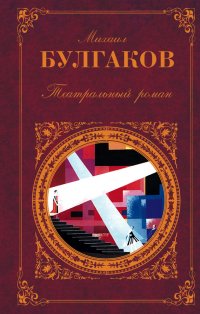Читать онлайн Мастер и Маргарита бесплатно
- Все книги автора: Михаил Булгаков
Текст печатается по изданию: Булгаков М. А. Собрание сочинений в 5 томах. Т. 5. – М.: Художественная литература, 1990
Главный редактор С. Турко
Руководитель проекта А. Деркач
Корректоры М. Смирнова, А. Кондратова
Компьютерная верстка А. Абрамов
Художественное оформление и макет Ю. Буга
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Сапрыкин Ю., предисловие, 2022
© ООО «Альпина Паблишер», 2023
* * *
Михаил Булгаков, 1928 год. Российский государственный архив кинофотодокументов[1]
Предисловие «Полки»
Сатана правит бал в сталинской Москве, Маргарита мстит литературным критикам, тьма накрывает ненавидимый прокуратором город. Самый популярный русский роман XX века – это одновременно едкий фельетон о советских обывателях, апокриф о последних днях Христа и история спасительной любви.
Юрий Сапрыкин
О ЧЕМ ЭТА КНИГА?
В Москву конца 1920-х, все такую же разгульную и мещанскую, но уже советскую, прибывает таинственный иностранец, окруженный опереточной свитой. Он вовлекает оказавшихся на его пути москвичей в серию невообразимых происшествий, но его истинная миссия – найти опального автора романа о евангельской истории и влюбленную в него женщину. Булгаков начинает с традиционного для своего времени, почти фельетонного сюжета – о том, как застоявшийся советский быт взрывается вторжением чужака, вплетает в него историю последних дней Иисуса и приходит к очень личному трагическому повествованию о силе творчества, свойствах любви и переплетении добра и зла.
КОГДА ОНА НАПИСАНА?
Булгаков принимается за работу над романом в 1928 году. В донесении неизвестного осведомителя ОГПУ от 28 февраля 1929 года сказано: «М. Булгаков написал роман, который читал в некотором обществе, там ему говорили, что в таком виде не пропустят». У первой редакции было несколько рабочих названий («Копыто инженера», «Мания фурибунда»[2] и т. д.), предположительно, она состояла из 15 глав (примерно половина окончательного объема романа). В марте 1930-го, после запрета пьесы «Кабала святош», Булгаков сжигает вырванные из рабочих тетрадей листы: «И лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе», – пишет он 28 марта 1930 года в письме правительству СССР. Текст первой редакции впоследствии частично восстановит литературовед Мариэтта Чудакова.
Для Булгакова конец 1920-х – время драматических событий и разочарований: после невероятного успеха постановки «Дней Турбиных» во МХАТе его пьесы снимают с репертуара, разворачивается газетная травля. Параллельно развивается любовный роман с Еленой Шиловской, женой крупного советского военачальника. Письмо к правительству с просьбой отпустить его за границу получает неожиданный ответ: 18 апреля 1930 года, на следующий день после похорон Маяковского, Булгакову звонит Сталин. Как вспоминал Булгаков, вследствие «налетевшей, как обморок, робости» он отказывается в разговоре от намерения эмигрировать и говорит вождю, что «русский писатель не может жить без родины». К этому разговору Булгаков возвращается в мыслях до конца жизни. На следующий день после звонка его принимают на работу во МХАТ, но пьесы и книги остаются под негласным запретом, лишь в январе 1932 года Сталин, навещая театр, спрашивает о судьбе «Дней Турбиных» – и постановку экстренно возобновляют. 4 октября 1932 года Булгаков женится на Елене Шиловской, окончательно ушедшей из прежней семьи. После этого работа над романом возобновляется.
Вторая редакция с подзаголовком «Фантастический роман» и опять же несколькими вариантами названия пишется вплоть до 1936 года. Булгаков делает многочисленные перерывы для срочной работы над заказанными ему пьесами и сценариями (все они при жизни писателя останутся непоставленными и неопубликованными). В 1937-м – начале 1938 года создается новая редакция, тогда же появляется окончательное название: «Мастер и Маргарита». С мая 1938-го Булгаков непрерывно работает над машинописной копией романа, исправляя и дополняя текст. Последние правки он вносит 13 февраля 1940 года, менее чем за месяц до смерти, уже практически лишившись зрения: Елена Сергеевна читает ему текст романа и записывает его комментарии. Чтение прекращается на сцене похорон Берлиоза. Таким образом, Булгаков не успел прокомментировать бо́льшую часть второго тома, к тому же одна из тетрадей, куда были внесены коррективы, оказалась утеряна – этим объясняется неопределенность окончательного текста и разночтения в публикациях.
Машинописная копия «Мастера и Маргариты» с правками Елены Булгаковой[3]
КАК ОНА НАПИСАНА?
Обычный для Булгакова прием – фантастическое внутри обыденного – задает стиль московских глав: это гротескное, ироническое описание московского быта и нравов, иногда на грани фельетона. Московская сатирическая фантасмагория разбивается вкраплениями текста другой природы: с одной стороны – искривленный мир раскачивающихся на люстре котов и пивных ларьков без пива, с другой – как бы документальный роман о древности с его возвышенно-лаконичным стилем и поэтические, почти музыкальные по своему звучанию и ритму фрагменты: рассказ Мастера о своей любви, полет Маргариты, лирические отступления повествователя – из этих стилистических контрастов и высекается энергия романа.
ЧТО НА НЕЕ ПОВЛИЯЛО?
В самом первом приближении тексты Булгакова (и это касается не только «Мастера») наследуют традициям Гоголя и Гофмана: проникновение волшебного в реальность, гротескные похождения нечисти в современном мире, отсвет потустороннего, ложащийся на самые бытовые сцены, – вот черты, перешедшие к нему по этим линиям родословной.
Другие родовые сходства сближают булгаковский текст с прозой Андрея Белого: Булгакову тоже свойственны внимание к ритму и музыке фразы, апокалиптические настроения и образы «вечных» городов, организующие повествование. Исследователи находят у двух авторов множество близких мотивов: так, бал у Сатаны напоминает бал почивших северных королей из «Северной симфонии (1-й героической)» Белого. Впрочем, говорить здесь о прямом влиянии или заимствовании было бы неправомерно – список возможных источников булгаковских деталей и образов неисчерпаем.
Однако происхождение некоторых мотивов можно проследить с известной определенностью. Фигура таинственного иностранца, связанного с потусторонними силами, нередко встречается в советской литературе 1920-х: здесь и «Московский чудак» того же Белого, и рассказ Александра Грина «Фанданго», и «Необычайные похождения Хулио Хуренито» Ильи Эренбурга, и повесть Александра Чаянова «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей», о которой достоверно известно, что она обратила на себя внимание писателя – не в последнюю очередь потому, что повествователь в ней носит фамилию Булгаков. В работе Майи Каганской и Зеева Бар-Селлы «Мастер Гамбс и Маргарита» проводятся многочисленные параллели между булгаковским романом и дилогией Ильфа и Петрова, свидетельствующие о том, что Булгаков сознательно полемизировал с романами своих коллег по газетной работе. Образ князя тьмы, вторгающегося в земные дела, восходит к истории Фауста и Мефистофеля, – впрочем, при многочисленных деталях, отсылающих к тексту Гете (не говоря об эпиграфе), Булгаков не разыгрывает заново историю его героев, а заимствует атмосферу, несколько утрируя и приземляя ее, – можно сказать, что роман отсылает скорее не к драме Гете, а к опере Гуно[4], которую писатель страстно любил.
Рассказ о событиях Священной истории с иначе расставленными акцентами тоже нередко встречается в литературе начала XX века: можно вспомнить хотя бы повесть Леонида Андреева «Иуда Искариот» или роман «Иосиф и его братья», который Томас Манн пишет в то же время, что и Булгаков «Мастера». Кроме того, Булгаков опирался на трактаты по демонологии и работы о личности Христа, изданные в России в преддверии революции (работы Эрнеста Ренана[5], Фредерика Фаррара, Артура Древса[6], Давида Штрауса[7]); исследователь Игорь Бэлза находит в иерусалимских главах романа многочисленные заимствования из работы «Археология истории страданий Господа Иисуса Христа» Николая Маккавейского, друга и коллеги профессора Киевской духовной академии Афанасия Булгакова (отца писателя). И наконец, Булгаков иронически, а местами издевательски обыгрывает в романе «богоборческую» литературу 1920-х годов: «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна» Демьяна Бедного, материалы журнала «Безбожник»[8] и книги издательства «Атеист».
КАК ОНА БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА?
Булгаков работал над своей главной книгой без надежды на скорую публикацию. 15 июня 1938 года он пишет о романе Елене Булгаковой: «Передо мною 327 машинописных страниц (около 22 глав). ‹…› “Что будет?” – ты спрашиваешь. Не знаю. Вероятно, ты уложишь его в бюро или в шкаф, где лежат убитые мои пьесы, и иногда будешь вспоминать о нем». По воспоминаниям Елены Сергеевны, Булгаков нередко интересовался у друзей, которым читал главы из романа, можно ли, по их мнению, его опубликовать, – и неизменно получал отрицательный ответ. Литературовед Владимир Лакшин[9] упоминает, что в 1946 году, уже после смерти Булгакова, Елене Сергеевне удалось передать письмо с просьбой о публикации помощнику Сталина Александру Поскребышеву, тот посоветовал обратиться в Гослитиздат, но после постановления ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» с разгромной критикой Зощенко и Ахматовой от этой идеи пришлось отказаться: литература, выходящая за рамки строгих канонов соцреализма, оказалась в опале. В 1962 году Вениамин Каверин упоминает о романе в сопроводительной статье к первому изданию булгаковской «Жизни господина де Мольера», тремя годами позже литературовед Абрам Вулис, которому удалось одним из первых познакомиться с рукописью, посвящает роману целую главу в монографии «Советский сатирический роман». В 1966-м писатель и поэт Константин Симонов предлагает роман журналу «Москва»[10], который публикует «Мастера» в № 11 за 1966-й и № 1 за 1967 год с многочисленными сокращениями – из публикации вырезано порядка 14 000 слов (12 % текста романа). Впервые без купюр роман выходит в 1967 году – на русском языке в эмигрантском издательстве YMCA-Press и на итальянском в издательстве Einaudi. В СССР полный текст романа выходит в 1973 году в составе однотомника Булгакова, выпущенного издательством «Художественная литература» тиражом 30 000 экземпляров.
КАК ЕЕ ПРИНЯЛИ?
В течение первого года после журнальной публикации в советской печати появляются всего две критические статьи о романе, в журналах «Подъем» (Воронеж) и «Сибирские огни» (Новосибирск), – и обе вполне доброжелательные. Вскоре в бой вступает консервативная критика: роман разносят за субъективизм, иррационализм, абстрактный гуманизм, отсутствие народности и партийности. Интересно, что одна из самых резких статей – «Современное и вечное» Алексея Метченко, который счел, что писатель «не понял и не принял основных тенденций эпохи», – появляется в том самом журнале «Москва», где ровно двумя годами раньше была опубликована основная часть романа. Важной репликой в дискуссии о книге становится подробная аналитическая статья Владимира Лакшина «Роман М. А. Булгакова “Мастер и Маргарита”» в шестом номере «Нового мира» за 1968 год: в частности, Лакшин первым проводит параллели между участью Мастера и его романа и собственной судьбой Булгакова.
Пять червонцев. 1937 год. Воланд и его свита устраивают в театре Варьете дождь из бумажных денег[11]
Вся эта полемика происходит на фоне феноменального читательского бума: за номерами «Москвы» выстраиваются очереди к киоскам «Союзпечати», уже через несколько месяцев эти журналы невозможно найти нигде и ни за какие деньги. Однотомник Булгакова, который выходит в 1973-м, быстро становится библиографической редкостью: значительная часть тиража продана государством за границу, книга расходится по личным библиотекам представителей советской номенклатуры, приобрести ее можно только в «валютных» магазинах «Березка»[12].
ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
Роман мгновенно становится предметом массового литературного культа, не имеющего аналогов по своему масштабу в русской литературе XX века. Возможно, по количеству цитат, вошедших в обиход, «Мастер» уступает «Двенадцати стульям» и «Золотому теленку» Ильфа и Петрова, но роман Булгакова воспринимается не только как занимательное чтение и бесконечный источник каламбуров: на умы читателей воздействует его неортодоксальная этическая доктрина, новое прочтение евангельской истории, мистическое измерение, практически отсутствовавшее в советской литературе. Для позднесоветского читателя роман Булгакова – одновременно моральный кодекс, первое знакомство со Священной историей и кривое зеркало, позволяющее посмеяться над советским бытом. Для многих роман становится дверью в различные духовные практики – от увлечения оккультизмом до ухода в православие. Подъезд в доме № 10 по Большой Садовой, где находится «нехорошая квартира», превращается в место паломничества фанатов: его стены плотно расписаны цитатами из романа и изображениями черных котов. Спектакль Театра на Таганке, поставленный в 1977 году Юрием Любимовым – с Вениамином Смеховым в роли Воланда, – идет на сцене театра до 17 раз в месяц, билеты на него достать невозможно.
Среди советских кинематографистов «Мастер» приобретает репутацию «проклятого» романа: сразу несколько проектов экранизации, над которыми работают Элем Климов, Эльдар Рязанов и Владимир Наумов, заканчиваются провалом. Снятый в 1994 году фильм Юрия Кары из-за конфликтов со спонсорами на полтора десятилетия отправляется на полку. Первую дошедшую до экранов российскую экранизацию – телесериал Владимира Бортко 2005 года – встречает довольно прохладный прием: для многих зрителей к этому времени роман приобретает статус чуть ли не священного текста, любая интерпретация которого выглядит кощунственной.
Вокруг романа постепенно выстраивается исполинское здание профессионального и фанатского булгаковедения: серьезный анализ в нем иногда сложно отделить от мистического полета фантазии, на который настраивает сам текст романа. Как пишут литературоведы Ирина Белобровцева и Светлана Кульюс, «роман отзывается едва ли не на любые исследовательские гипотезы, в нем усматривали принципы философии и этики экзистенциализма, его вписывали в эстетику символизма и постсимволизма, его философскими источниками называли труды Канта, Вл. Соловьева[13], Кьеркегора, находили в нем компоненты разных религиозных доктрин – зороастризма, богомильства[14], манихейства[15], альбигойства[16] и т. п.». Кажется, толкователи текста Булгакова способны найти в нем связи с любым другим существующим текстом и возвести его героев к любым литературным прототипам – подобно солнцу в финальных сценах романа, булгаковский текст разбивается в бесчисленных отражающих его стеклах.
Культ «Мастера», несколько ослабевший к 2000-м годам, по-прежнему порождает иногда абсурдные артефакты – стоит вспомнить проект гигантского памятника примусу на Патриарших прудах, к счастью нереализованный, – а временами вызывает раздражение: в 2007 году в анкете журнала Time Out российские писатели чаще всего упоминали «Мастера и Маргариту» как самое переоцененное произведение XX века. И все же: «Мастер» и по сей день остается самым популярным из классических русских романов, его образы прочно вошли в массовое сознание и поп-культуру, и очередное поколение читателей узнает сегодня из этого текста, что правду говорить легко и приятно, нет худшего порока, чем трусость, а рукописи не горят.
В РОМАНЕ КАК БУДТО ПЕРЕМЕШАНЫ ТРИ РАЗНЫЕ КНИГИ. ПОЧЕМУ ТАК?
Действительно, в романе переплетены три сюжетные линии – похождения Воланда со свитой в постнэповской Москве, история любви Мастера и Маргариты и «ершалаимские» главы – повествование о последних днях Иешуа Га-Ноцри. Первая из глав об Иешуа и Пилате появляется в романе как рассказ Воланда, но впоследствии оказывается началом уничтоженного романа Мастера. Мастер рассказывает свою историю Ивану Бездомному, пострадавшему от встречи с Воландом; ни он, ни читатель не знают в этот момент, что похождения Сатаны и его свиты – лишь прелюдия к их участию в судьбе Мастера. Линии романа развиваются параллельно, постепенно сближаясь, и сплетаются воедино уже в самом финале.
Сохранившиеся редакции романа позволяют увидеть, как менялся замысел Булгакова: первая редакция, над которой Булгаков работает в 1928–1929 годах, – это сатирический роман о дьяволе, который проверяет на прочность погрязших в мещанстве и лицемерии москвичей. Евангельская история занимает в нем одну главу: Воланд рассказывает о событиях двухтысячелетней давности, свидетелем которых он был, своим собеседникам на Патриарших. Фигура повествователя (который позже станет Мастером) и первые упоминания о Маргарите появляются в набросках 1931 года – после телефонного разговора Булгакова со Сталиным и знакомства с Еленой Шиловской. Постепенно роман из очерка московских быта и нравов, гротескно проявляющихся в столкновении со сверхчеловеческой силой, становится повествованием о судьбе художника, о его отношениях с властью и о любви, которая его спасает. По выражению Мариэтты Чудаковой, Булгаков использует первую редакцию романа как каркас, в который вставляет новое содержание. Воланд из агента-провокатора превращается в носителя высшей миссии, связанной с судьбой Мастера, евангельская история разрастается, становясь «романом в романе». Фактически Булгаков переносит в текст собственную биографию, историю своей любви и размышления о судьбе своего романа – которую он предвидит в судьбе романа, написанного Мастером.
Три сюжетные линии отражаются друг в друге: судьба и черты Мастера схожи с историей Иешуа (в каком-то смысле не только Булгаков, но и его герой пишет роман о самом себе), Воланд как вершитель судеб связан невидимыми нитями с Пилатом, исследователи находят множество более мелких, а иногда комических отражений: так, литературовед Борис Гаспаров видит в эпизоде из эпилога, где пьяный гражданин тащит в милицию кота, пародийное отражение шествия на Голгофу.
Примус. Начало XX века.
«Не шалю, никого не трогаю, починяю примус», – говорит в романе кот Бегемот[17]
По мнению Гаспарова, эти множественные взаимные отражения оказываются основным конструктивным принципом романа: одно и то же явление, предмет или человеческий характер существует в разных временных срезах, проявляясь в разных ситуациях и обличьях. Это сближает роман Булгакова с текстами, порожденными мифологическим мышлением: одно из базовых свойств такого мышления – отсутствие четкой границы между «действительной», наличной реальностью и реальностью мифа, они пронизывают друг друга до степени неразличения, и каждое событие, происходящее в так называемой реальной жизни, находит свое отражение и объяснение в структуре мифа.
У ПЕРСОНАЖЕЙ РОМАНА ЕСТЬ РЕАЛЬНЫЕ ПРОТОТИПЫ?
Поиск прототипов булгаковских персонажей, как показывает история булгаковедения, ограничен лишь фантазией исследователя: так, в книге Бориса Соколова «Тайны “Мастера и Маргариты”» для каждого из героев романа приводится внушительный перечень исторических и литературных прообразов, вплоть до того, что прототипом Коровьева оказывается Молотов, в коте Бегемоте обнаруживаются черты Зиновьева, а «нижний жилец» Николай Иванович, превращенный в борова, являет собой прозрачный намек на Бухарина. Этот поток уподоблений можно объяснить свойствами самого текста, в структуре которого, как пишет Борис Гаспаров, «постоянное сходство не только не требуется, но и не допускается. Любая связь оказывается лишь частичной и мимолетно-скользящей, несет в себе не прямое уподобление и приравнивание, а лишь ассоциацию». Природа этих ассоциативных связей позволяет приискать почти любому персонажу практически любой прототип; впрочем, в нескольких случаях можно проследить и действительно убедительные сходства. Так, председатель Зрелищной комиссии Семплеяров недвусмысленно отсылает к фигуре партийного функционера Авеля Енукидзе, который в должности председателя правительственной комиссии по руководству Большим и Художественным театрами немало поспособствовал запрету булгаковских пьес и, подобно своему литературному двойнику, «брал под покровительство хорошеньких девиц». Мариэтта Чудакова, ссылаясь на воспоминания Елены Булгаковой, находит в Алоизии Могарыче, написавшем донос на Мастера, черты Эммануила Жуховицкого, переводчика и осведомителя НКВД, вхожего в дом Булгаковых. Берлиоз со своей оголтелой антирелигиозностью напоминает Демьяна Бедного, Иван Бездомный (по крайней мере, в начальных главах) похож на комсомольского поэта Александра Безыменского, фигура поэта Рюхина, говорящего о Пушкине в завистливо-хамском тоне, явно намекает на Владимира Маяковского с его стихотворением «Юбилейное» (1924): «На Тверском бульваре / Очень к вам привыкли. / Ну, давайте, / подсажу на пьедестал».
Крайне распространенная (и не менее сомнительная) параллель – сопоставление Воланда и Сталина. Очевидно, что Булгаков проецирует на фигуру Воланда размышления о Сталине и его роли в собственной судьбе. Телефонный разговор 18 марта 1930 года и возвращение «Дней Турбиных» в репертуар МХАТа по прямому указанию вождя еще два года спустя производят сильное впечатление на Булгакова: он неоднократно пишет письма Сталину, надеется снова поговорить с ним, видит в нем тайного покровителя – и вместе с тем причину своих несчастий. Булгаков размышляет о фатальных последствиях разговора с вождем, в котором он отказался от намерения уехать за границу, и чувствует себя связанным со Сталиным невидимыми узами. Намерение Булгакова написать пьесу «Батум» о молодом Сталине играет фатальную роль в его судьбе: после того как пьеса оказывается запрещена к постановке лично Сталиным, Булгаков переживает сильнейшее нервное потрясение. Сразу после этого у писателя развивается нефросклероз, который приводит его к смерти. Нетрудно увидеть в истории Мастера, который фактически заключает сделку с дьяволом в обмен на спасение романа и вечный покой, отражение надежд и страхов писателя в его отношениях с верховной властью. Сам Воланд в одной из редакций романа произносит слова одобрения, адресованные неназываемому вождю: «У него мужественное лицо, он правильно делает свое дело, и вообще все кончено здесь». Между этими двумя крайностями – «он правильно делает свое дело» и «все кончено здесь» – и колеблется мысль Булгакова о человеке, который очевидно служит злу, но иногда, в его частной писательской судьбе, выступал носителем блага.
МАСТЕР – ЭТО САМ БУЛГАКОВ?
Во многих отношениях – да. Между Булгаковым и героем его романа нет портретного сходства, но слишком много параллелей, чтобы счесть их случайными. И автор, и его персонаж страдают от газетной травли, их мучает отсутствие домашнего уюта, решающую роль в их судьбе играет вновь обретенная любовь. Наконец, оба пишут главный в своей жизни роман, оба в какой-то момент его сжигают и надежду на окончательное его спасение связывают только с вмешательством высших инстанций. Булгаков рисует Мастера бесконечно уставшим от жизни, выпавшим из литературного быта, «неписателем» – в том смысле, в котором писателями являются члены МАССОЛИТа или РАПП; он создает в романе своего двойника – точно так же, как Мастер во многом переносит собственные мытарства в историю Иешуа. Наконец, окончание романа и в тексте, и в жизни связывается со смертью автора – но здесь можно говорить уже не о сознательном решении, а о роковой предрешенности или художественном предвидении.
О параллелях, которые Булгаков выстраивает между собственной жизнью и жизнью своих героев, пишет Борис Гаспаров, и в «Мастере», по его мнению, речь не только о том, что автор переносит в роман детали собственной биографии, – из романа можно увидеть, как Булгаков в последние годы жизни понимает собственную судьбу и свое место в мире:
Герой окружен не просто враждебным миром, но миром, который метафизически противостоит ему как царство Сатаны. Он чувствует себя брошенным в этот мир всемогущей высшей силой, которая наблюдает за ним и в любой момент может оказать чудесную помощь, но которая оказывается также способной отречься и предать его, обрекая на гибель. Сам герой обладает чудотворным творческим даром, который делает его своего рода двойником возвышающейся над ним всемогущей силы. Благодаря этому дару герой создает свое изобретение или художественное произведение, которое, в свою очередь, является как бы его двойником и которое он тоже посылает во враждебный мир и оказывается не в силах спасти, как сам он был послан со своей миссией и покинут верховной силой. Но существует и обратная связь: гибель созданного героем произведения прямо или косвенно вызывает его собственную гибель; в свою очередь, гибель героя служит сигналом «конца света», и в наступившем хаосе и пламени гибнет мир, созданный верховным творцом.
В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ИЕРУСАЛИМСКИХ ГЛАВ РОМАНА ОТ КАНОНИЧЕСКОГО ЕВАНГЕЛИЯ?
Подобно своим предшественникам – ученым и богословам, пытавшимся создать историческую реконструкцию евангельских событий, – Булгаков как будто пишет историю последних дней Христа, очищенную от позднейших наслоений. Своей версией событий, заверенной их свидетелем (Воландом), Мастер будто бы сообщает, «как все было на самом деле». Но Булгаков, в отличие от предшественников-исследователей и от собственного героя, не претендует на историческую точность: роман в романе имеет черты исторической хроники, на деле же представляет собой художественное переосмысление Евангелия. Христос, фигурирующий под арамейским[18] именем Иешуа Га-Ноцри, предстает здесь обычным человеком, мечтательным и добросердечным; в его биографии не было ни исцелений, ни искушения бесами, ни моления о Чаше. Нет в романе и чуда воскресения. Проповедь Иешуа напоминает скорее не заповеди Христа, а учение Льва Толстого: в мире нет злых людей, всякая власть есть насилие над людьми, правду говорить легко и приятно; даже предельно субъективистский ответ на вопрос Пилата «Что есть истина?» – «Истина в том, что у тебя болит голова» – выдержан в духе толстовской риторики.
Этот образ Иисуса с точки зрения христианского богословия выглядит не просто кощунством, вольной фантазией на тему Евангелия, но прямой ересью. Основное противоречие Булгакова с христианством лаконично (и крайне деликатно) выразил отец Александр Мень: «Христос в Евангелиях… не искатель истины, а сама Истина». Даже если вывести за скобки (если это возможно) отрицание основных догматов, Иешуа в романе вряд ли мог бы сказать: «Я есмь путь и истина и жизнь»; он не Бог, воплотившийся в человеке. По Мастеру, он даже не пророк, а скорее бродячий проповедник. В своих выступлениях и книге о «Мастере и Маргарите» диакон Андрей Кураев частично снимает и с Мастера, и с Булгакова ответственность за искажение христианского учения. Согласно Кураеву, Мастер – лишь инструмент в руках Воланда: это не сам Мастер пишет роман, а лишенный творческого начала Сатана использует его, чтобы создать новое Евангелие, представить свою версию событий, в которой Христос – лишь слабый человек, а его проповеди могут быть поняты только его палачом, земной властью, которая «вечно хочет блага и вечно совершает зло».
Трактовка Пилата у Булгакова также отличается от евангельской: он не просто умывает руки, отдавая Иисуса на суд толпы, но прямо отправляет на смерть человека, понимая, что тот невиновен, – а потом испытывает муки совести и отдает завуалированный приказ убить доносчика Иуду. Не будет преувеличением сказать, что Пилат у Булгакова не просто образ земной власти, но прямое отражение его размышлений о сути той конкретной власти, что поддерживала и запрещала его пьесы, наделяла всеми мыслимыми благами одних коллег Булгакова, а других отправляла на смерть.
Игорь Бэлза считает, что разночтения с каноническим текстом Писания связаны не с собственным «еретическим» богословием Булгакова, а скорее с его трактовкой происхождения Евангелий: «Автор романа не сомневался в историчности как Иисуса, так и Пилата, но не сомневался и в том, что все четыре Евангелия изобилуют позднейшими наслоениями, в особенности касающимися “чудес”». Это опять же сближает Булгакова с Толстым, который стремился очистить Евангелия от всего чудесного и фантастического, – и любопытным образом не противоречит современным теориям происхождения Евангелий, утверждающим, что в основе канонических текстов лежали логии, сборники изречений Иисуса, часть которых была отброшена, а часть вплетена в созданный евангелистами нарратив. Пергамент Левия Матвея, который разворачивает Пилат, и представляет собой подобный сборник изречений: «Смерти нет… Вчера мы ели сладкие весенние баккуроты… Мы увидим чистую реку воды жизни… Человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл…» И первым критиком записей Левия Матвея в романе становится сам Иешуа: «…Ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил».
Какой бы смелой ни была трактовка евангельских событий, не будем забывать о том, что для времени написания (и даже публикации) романа само обращение к Священной истории в советской литературе было абсолютно немыслимым. И для Булгакова это обращение было не случайным: «ершалаимские» главы стали итогом его сложных и глубоко личных отношений с религией. Булгаков происходил из рода священников (по отцу и матери), его отец был профессором Киевской духовной академии, после его ранней смерти Булгаков увлекается дарвинизмом и поступает в медицинский институт. Сестра писателя Варвара Булгакова (в замужестве Карум) упоминает в дневниках о его частых конфликтах с матерью – уже тогда, в неполные двадцать, будущий писатель спорит о том, был ли Христос Богом. Первая его жена Татьяна Лаппа говорила Мариэтте Чудаковой, что Булгаков никогда не носил нательного креста. Однако у зрелого Булгакова воинствующий атеизм вызывал еще большее раздражение, чем у молодого – религия; известная его запись в дневнике от 5 января 1925 года после посещения редакции журнала «Безбожник»: «Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно… Соль в идее: Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его… Этому преступлению нет цены».
КТО В БУЛГАКОВСКОЙ МОСКВЕ ТВОРИТ ДОБРО, А КТО СЛУЖИТ ЗЛУ?
Немыслимым по канонам советской литературы 1930-х выглядит не только обращение к евангельской древности, но и описание современности. Булгаков не занимается высмеиванием «отдельных недостатков», особенно наглядных на фоне побед и достижений советской страны. Москва в романе – это город торжествующего зла; в нем нет ни обострения классовой борьбы, ни строительства светлого будущего, а только цинизм и лицемерие, его жители испорчены «квартирным вопросом» и погрязли в мелких коммунальных страстях. Зло с большой буквы, вторгающееся в московскую обыденность, лишь вскрывает и высмеивает маленькое повседневное зло, мо́рок мира литераторов, отплясывающих в ресторане пьяный фокстрот, и буфетчиков, торгующих осетриной второй свежести. Воланд и его свита вершат над этим миром свой суд – под всполохи пожаров унося из него единственных его обитателей, наделенных талантом и страстью.
Трамвай «А» на Петровском бульваре. 1946 год.
«Трамвай накрыл Берлиоза, и под решетку Патриаршей аллеи выбросило на булыжный откос круглый темный предмет. ‹…› Это была отрезанная голова Берлиоза»[19]
В мире победившего мелкого зла Большое Зло может позволить себе быть щедрым и великодушным: Воланд спасает Мастера, разрешает посмертную участь Пилата, выполняет волю Маргариты, которая просит прекратить мучения детоубийцы Фриды. Говоря шире, он выступает здесь не как самостоятельная сила, противостоящая добру, а как необходимая часть общей картины мира, что-то вроде агента по особым поручениям, который вершит высшую справедливость, пользуясь недоступными добру методами. Можно предположить, что Булгаков исходит здесь из картины мира, свойственной древнему манихейству, в которой добро и зло существуют на равных правах, как бы дополняя и уравновешивая друг друга. Воланд говорит Левию Матвею: «Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени?» – и этому слову в романе нечего противопоставить.
ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ДЬЯВОЛ СИМПАТИЧЕН БУЛГАКОВУ?
Безусловно, да – остается лишь выяснить, до какой степени Воланд дьявол. Имя Воланд – одно из редчайших наименований князя тьмы, оно взято Булгаковым из «Фауста», где упоминается лишь однажды, в сцене Вальпургиевой ночи: «Junker Voland kommt» («Господин Воланд идет»). Вероятно, редкое имя понадобилось Булгакову, чтобы читатели не сразу разгадали, с кем имеют дело. Воланд, по некоторым описаниям, прихрамывает, носит трость с черным набалдашником в виде головы пуделя, повелевает свитой демонов, устраивает сатанинский шабаш – таким образом, он наделен внешними атрибутами дьявола, но при этом лишен многих внутренних и определяющих. В его действиях нет богоборчества, напротив, он неожиданно выступает в роли христианского апологета, убеждая воинствующего атеиста Берлиоза в том, что Христос действительно существовал. Он не только идет навстречу просьбам Маргариты пожалеть Фриду (хотя и произносит при этом раздраженную речь о человеческом милосердии, которое «неожиданно и коварно… проникает в самые узенькие щелки») – он выполняет поручения самого Иешуа. Его мало что объединяет даже с гетевским Мефистофелем или Чертом из «Братьев Карамазовых»: в нем нет ни насмешки, ни сомнения, ни желания каким-то образом принизить или извратить Божий замысел. По выражению литературоведа Бориса Соколова, «это первый дьявол в мировой литературе, который наказывает за несоблюдение заповедей Христа». Можно говорить о том, что Иешуа у Булгакова лишен черт Бога, но и Воланд в таком случае не подпадает под определение князя мира сего: как писал отец Александр Мень, «ну какой он дьявол? У него нравственные понятия нормальные, он же не Варенуха, не Лиходеев – вот кто дьяволы-то, а он нормальный».
ОТКУДА У ВОЛАНДА СВОЯ СВИТА? И ПОЧЕМУ В НЕЙ ПРИСУТСТВУЕТ ГОВОРЯЩИЙ КОТ?
Сатана в христианской демонологии традиционно рисуется как властитель злых духов и демонов, но представление о том, что князь тьмы должен быть окружен некоей постоянной свитой, и тем более определение ее личного состава в этой традиции отсутствует. Окружение Воланда – это пестрый набор персонажей, частично отсылающий к уже встречавшимся в мифологии демонам, но составленный Булгаковым по собственному разумению. Самый «неканонический» представитель этой свиты – Коровьев-Фагот; исследователи приводят множество литературных ассоциаций, но ни один из известных демонов не соответствует никаким чертам личности Коровьева (в том числе в его открывающейся в финале ипостаси рыцаря с никогда не улыбающимся лицом). Самую удивительную догадку о происхождении этого персонажа высказывала вторая жена Булгакова Любовь Белозерская: по ее словам, облик и манера речи Коровьева списаны со слесаря-водопроводчика Агеича, ухажера булгаковской домработницы Маруси. Имя Азазелло образовано от имени падшего ангела Азазеля из ветхозаветной Книги Еноха, принесшего людям оружие и украшения (у Булгакова он также выступает в двойственной роли – безжалостного убийцы и обольстителя, который дарит Маргарите волшебный крем). Абадонна, появляющийся на балу Сатаны и демонстрирующий глобус, где можно наблюдать в реальном времени события одной из европейских войн, – это Аваддон, один из ангелов Апокалипсиса (ему же посвящены повесть Николая Полевого и наверняка известное Булгакову стихотворение Василия Жуковского). Наконец, говорящий кот носит имя чудища из библейской Книги Иова; в средневековом трактате «Молот ведьм» Бегемот упоминается как демон, дающий людям звериные наклонности; в частности, он выступает как демон чревоугодия – чем можно объяснить невероятное обжорство булгаковского Бегемота в Торгсине[20]. В демонологии черный кот традиционно рисуется спутником или атрибутом дьявола; впрочем, представление о том, что кот должен исполнять при дьяволе роль шута, да еще разговаривать и стрелять из револьвера, в литературе до Булгакова не встречается. Бегемот в романе обладает невероятным красноречием: его фразы «Королева в восхищении!», «Не шалю, никого не трогаю, примус починяю» и «Разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!» давно ушли в народ (а последняя стала важной частью русского застольного церемониала); подобный афористический талант также не встречался ранее ни у мифологических, ни у литературных котов.
Наиболее приземленную версию происхождения этого образа вновь предлагает Любовь Белозерская: по ее мнению, прототипом Бегемота стал принесенный ею с Арбата в дом Булгаковых серый котенок Флюшка.
ПОЧЕМУ МАРГАРИТА СОГЛАШАЕТСЯ СТАТЬ ВЕДЬМОЙ?
Имя главной героини романа очевидно отсылает к «Фаусту» Гете – но в отличие от Маргариты, которая спасает Фауста, заложившего душу дьяволу, булгаковская Маргарита сама идет на сделку с дьяволом. Сделать это ее заставляют любовь и отчаяние. Она готова на все, чтобы спасти Мастера и отомстить его гонителям, разрушившим ее мир: после газетной травли Мастера и его заключения в психиатрической лечебнице в жизни Маргариты не остается ничего, за что стоило бы держаться.
Превращение Маргариты в ведьму не окончательное и в каком-то смысле не полноценное – это ведьма, сохранившая в себе человечность. На балу она мучается от боли, ей становится жалко детоубийцу Фриду; учинив разгром Драмлита, где живут критики, травившие Мастера, она останавливается при виде плачущего четырехлетнего ребенка. Для Булгакова этот образ неразрывно связан с его последней любовью – Еленой Шиловской, подобно Маргарите спасавшей роман и его автора все последние годы его жизни. На балу Маргариту называют «светлой королевой» – эти же слова Булгаков использует, вспоминая мать Турбиных (и, следовательно, собственную мать) в «Белой гвардии»: все эти героини и их реальные прототипы для писателя – воплощение Вечной Женственности, бесконечной любви и бесконечной жертвы ради любви.
БАЛ У САТАНЫ – ЭТО ФАНТАЗИЯ БУЛГАКОВА?
Бал, на который Воланд приглашает Маргариту, происходит в Вальпургиеву ночь, по народному поверью – время шабаша ведьм; подобное ведьминское собрание Маргарита наблюдает на берегу реки по пути на бал Воланда. Сам же бал, на который съезжаются выдающиеся грешники, избавленные на одну ночь от адских мук, не встречается ни в фольклорных преданиях, ни в демонологии; этот эпизод скорее можно объяснить через литературные ассоциации и собственные впечатления писателя. Бал у Воланда во многом напоминает грандиозный ночной прием в Спасо-хаусе – московской резиденции посла США – 23 апреля 1935 года; Михаил и Елена Булгаковы были среди его гостей. Ничего особенно сатанинского на приеме, разумеется, не происходило – он поражал скорее размахом и роскошью: огромный зал с бассейном, обилие свежих цветов, экзотические птицы, живые козлята и медвежата. Хозяином бала был посол США Уильям Буллит (он же – один из возможных прототипов Воланда); как он предполагал, прием должен был «превзойти все, что видела Москва до и после революции». В пользу «американской» версии происхождения бала Сатаны говорит и то, что в ранних редакциях бал проходил в спальне Воланда; окончательный свой облик и масштаб он приобретает лишь в рукописи 1938 года – возможно, под впечатлением от приема в резиденции посла.
Автор «Булгаковской энциклопедии» Борис Соколов находит в описании «весеннего бала полнолуния» параллели с описанием бала в Михайловском дворце в книге маркиза де Кюстина[21] «Россия в 1839 году», «пиром почивших северных королей» из «Северной симфонии (1-й героической)» Андрея Белого и балом из пьесы «Жизнь человека» Леонида Андреева. Среди посетителей бала, помимо исторических и мифологических фигур, можно узнать современников писателя: так, «служащий Зрелищной комиссии» барон Майгель списан со знакомого Булгаковых барона Бориса Штейгера, уполномоченного коллегии Наркомпроса по внешним сношениям и осведомителя НКВД, расстрелянного в 1937 году. В двух последних гостях нетрудно узнать бывшего наркома НКВД Генриха Ягоду и его секретаря Павла Буланова (оба расстреляны в 1938-м): согласно показаниям Буланова, Ягода приказал ему опрыскать ядом стены кабинета нового наркома внутренних дел Николая Ежова (именно так в романе описывается преступление двух этих отравителей).
Найти подобия воландовского бала в литературе или жизни Москвы 1930-х оказывается проще, чем определить – а происходил ли сам бал в реальности романа? Этот вопрос вызван одним из присутствующих в романе разночтений, на которое указывает в своей статье критик Марк Амусин. После бала Мастер и его возлюбленная возвращаются в свой арбатский подвал, выпивают отравленное вино, а потом оживают, пробужденные Азазелло, и переходят в иную реальность – «покой», обещанный Воландом. После этого Азазелло видит, как Маргарита умирает от сердечного приступа в гостиной своей нелюбимой квартиры, а находящийся в психиатрической лечебнице Иван Бездомный узнает, что только что умер его сосед из 118-й комнаты – то есть Мастер. Исходя из этого, можно предположить, что бал у Сатаны и последняя сцена в комнате Мастера происходят в какой-то иной реальности или что все это – разделенная Мастером и Маргаритой предсмертная галлюцинация, в то время как в настоящей московской реальности они умирают, так и не встретившись. В то же время в эпилоге говорится, что Маргарита со своей домработницей Наташей и Мастер, находившийся в палате 118 клиники Стравинского, бесследно исчезли из Москвы: по мнению следствия, их похитила с неизвестной целью шайка злоумышленников. Вполне возможно, расхождения двух версий объясняются тем, что Булгаков не успел внести правки в финальной части романа, – а может быть, это одна из манифестаций множественных вселенных, пространственно-временных измерений, в которых происходит действие «Мастера».
ГДЕ ПРОИСХОДЯТ СОБЫТИЯ МОСКОВСКОЙ ЧАСТИ РОМАНА?
Практически все упомянутые в романе квартиры, учреждения и заведения привязаны к реальной московской топографии. «Нехорошая квартира», где селится Воланд со свитой, – это квартира № 50 в доме 10 по Большой Садовой. Булгаков жил в одной из комнат этой квартиры с 1921 по 1924 год: писателя прописали в комнату его шурина Андрея Земского по личному ходатайству Надежды Крупской – она возглавляла в то время литературное объединение Главполитпросвета, где работал Булгаков. Условия в квартире были далеки от идеальных: семь комнат, в одной жил милиционер, в другой проститутка Дуся (по воспоминаниям первой жены Булгаковой Татьяны Лаппа, ее посетители часто ошибались дверью и ломились к Булгаковым в самый неурочный час), еще одну комнату занимала женщина по имени Аннушка (подарившая впоследствии имя героине романа, пролившей масло на трамвайные пути), Лаппа вспоминает, что та часто била сына, а тот орал. Непростой коммунальный быт будущей «нехорошей квартиры» был описан Булгаковым в рассказах «№ 13. Дом Эльпит-Рабкоммуна», «Псалом», «Самогонное озеро», «Воспоминание…». В 1990-х годах в квартире находился сквот, занятый коммуной хиппи, сейчас здесь музей Булгакова.
Комната Мастера чаще всего приписывается к двухэтажному дому в Мансуровском переулке, дом 9: его подвальный этаж занимал театральный художник Сергей Топленинов, к которому Булгаков часто заходил в гости. Дом Грибоедова, где размещается МАССОЛИТ, – это дом Герцена на Тверском бульваре, 25, в конце 1920-х его занимали РАПП и МАПП, Российская и Московская ассоциации пролетарских писателей; сейчас это здание занимает Литературный институт. В отличие от дома МАССОЛИТа здесь не было ресторана – в заведении из булгаковского романа можно узнать ресторан Клуба театральных работников в Старопименовском переулке. Летом ресторан переезжал в сад у особняка на Страстном бульваре, 11, где располагался «Жургаз», журнально-газетное объединение; здесь же играл известный джаз-банд Александра Цфасмана, исполнявший, как и в романе, американский фокстрот «Аллилуйя».
Варьете, где Воланд со свитой устраивают сеанс черной магии с последующим разоблачением, – это здание Цирка Никитиных на Большой Садовой (который упоминается также в «Собачьем сердце»): с 1926 по 1936 год здесь находился Московский мюзик-холл, сейчас его занимает Театр сатиры. Клиника доктора Стравинского, по мнению булгаковедов, располагалась на месте нынешней Химкинской городской больницы № 1: с 1928 года здесь находилась Московская областная больница с большим нервно-психиатрическим отделением. И только трамвай маршрута «А», называемый в просторечии «Аннушка», не имеет никакого отношения ни к событиям романа, ни к Аннушке, разлившей масло. Трамвай «А» с момента своего запуска в 1911 году неоднократно менял маршрут, но никогда не проходил близ Патриарших прудов. Многие исследователи полагали, что Булгаков вольно соединил приметы двух московских прудов – как известно, маршрут трамвая «А» пролегает по Чистопрудному бульвару. Однако булгаковед Борис Мягков на основании газетной заметки 1929 года установил, что вдоль Патриарших недолгое время проходил маршрут грузового трамвая, – видимо, его вагоновожатая и стала невольной виновницей смерти Михаила Александровича Берлиоза.
ЗА ЧТО БУЛГАКОВ ВЫСМЕИВАЕТ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ?
Писатели в булгаковской Москве заняты чем угодно, только не литературой: члены писательской организации МАССОЛИТ озабочены распределением дач, выбиванием творческих командировок, ужинами в писательском ресторане и пьяными скандалами в нем же; при этом мы почти ничего не знаем об их литературных произведениях – а на страницах, посвященных председателю МАССОЛИТа Михаилу Берлиозу, не упоминается ни одной написанной им строчки. Единственная связанная с литературой активность, в которой замечены герои романа, – это газетные статьи, громящие роман Мастера: критик Ариман в статье «Вылазка врага» предупреждает, что автор романа пытается «протащить в печать апологию Иисуса Христа», Мстислав Лаврович призывает «ударить по пилатчине», критик Латунский публикует статью «Воинствующий старообрядец». Из-за травли Мастер сжигает роман и попадает в психиатрическую клинику; позже Маргарита, намазавшись волшебным кремом, громит квартиры гонителей Мастера в доме Драмлита.
У всех критиков, писавших о романе Мастера, как и у самой ситуации травли, есть прямые прототипы и соответствия, связанные с биографией Булгакова. После постановки «Дней Турбиных» вокруг пьесы Булгакова и ее автора разворачивается кампания травли: авторы газетных статей призывают «ударить по булгаковщине» и называют Булгакова «посредственным богомазом». В архиве Булгакова сохранилось 320 вырезок с разгромными и оскорбительными отзывами о его пьесах, среди них, например, статья в журнале «Жизнь искусства», напоминающая по стилистике комментарии в русских соцсетях: «Мишка Булгаков, кум мой, тоже, извините за выражение, писатель, в залежалом мусоре шарит. ‹…› Нашелся сукин сын, нашелся Турбин, чтоб ему ни сборов, ни успеха!» Выведенный в романе критик Латунский – это Осаф Литовский[22], в 1932–1937 годах председатель Главреперткома, немало сделавший для запрета булгаковских пьес. Под именем Мстислав Лаврович скрывается драматург Всеволод Вишневский[23], приложивший руку к отмене постановки «Мольера» Булгакова в ленинградском Большом драматическом театре. Под именем критика Аримана, которому Мастер предлагает роман для публикации и получает в ответ разгромную статью, возможно, Булгаков вывел председателя РАПП Леопольда Авербаха, маниакально преследовавшего Булгакова с середины 1920-х годов. Предсказание Булгакова относительно судьбы романа, который переживет его гонителей, оправдалось в полной мере, и лишь месть Маргариты, разгромившей квартиры критиков, осталась литературным вымыслом – хулителей Булгакова настигла худшая участь: скорая опала, насильственная смерть или посмертное забвение.
ПОЧЕМУ В РОМАНЕ ТАК МНОГО НАМЕКОВ НА ОРГАНЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ?
Действие романа, по мнению большинства исследователей, происходит весной 1929 года – это время, когда начинает разворачиваться машина сталинского террора: московские сцены романа буквально пронизаны присутствием набирающих силу «органов». Оно столь же ощутимо, сколь и невидимо: возможно, причиной тому были надежды на публикацию или художественная интуиция, подсказывающая, что НКВД присутствует в обыденной жизни москвичей именно как фигура умолчания, «те-кого-нельзя-называть». Так или иначе, в романе органы госбезопасности не упоминаются ни разу, даже через эвфемизмы (хотя встречается милиция, также входящая в эти годы в структуру НКВД), и вместе с тем их присутствие всепроникающе и физически ощутимо. Это ощущение создается языковыми средствами и действиями персонажей, которые совершенно типичны и понятны для современного Булгакову читателя – даже без упоминания инстанций, эти действия спровоцировавших. Математик Виктор Маслов в статье о романе показывает, что невидимое присутствие органов воздействует на язык романа, как металл на стрелку компаса: Аннушку «выпроводили», Никанору Ивановичу «намекнули», Варенуха собирается нести документы «туда», а Римский пытается «туда» позвонить – для читателя, живущего в том же мире, что и булгаковские герои, не требуется специальных пояснений, что означает это «туда» и кто именно намекает и выпроваживает. Бездомный и Берлиоз при виде иностранца сразу думают, что это шпион и «его нужно разъяснить», – и, когда Берлиоз собирается, прервав беседу с Воландом, сбегать на угол и «звякнуть» по телефону, опять же нет никаких сомнений, куда именно и с какой целью он намеревается позвонить. Таинственные исчезновения посетителей «нехорошей квартиры» никак не объясняются – но опять же всем понятно, что виноваты в них вовсе не происки потусторонних сил. При этом органы в каком-то смысле оказываются не менее опасными и могущественными, чем дьявольская свита: Воланд с подручными препятствует всем персонажам, которые пытаются послать сигнал «туда»; барона Майгеля, «ознакомителя с достопримечательностями», который предлагает Воланду свои услуги, заманивают на бал, разоблачают как «наушника и шпиона» и убивают; Бегемот отстреливается от нагрянувшей в квартиру милиции, раскачиваясь на люстре. Отношения компании Воланда и «органов» – это никак не расправа сил зла над простыми смертными, а скорее битва двух равноправных спецслужб.
Единственный сотрудник госбезопасности, открыто представленный в романе, – это Афраний, начальник тайной полиции в иерусалимских главах. По мнению Бориса Гаспарова и Лидии Яновской, именно под этим видом (или в этом обличье) скрывается Воланд, – по его собственному признанию, свидетель событий, описанных в романе Мастера. Именно Афраний конвоирует Иешуа к месту казни, а потом расправляется с предателем Иудой; видимо, сочетанием этих двух функций и определяется отношение автора «Мастера» к тайной полиции, советской или иудейской, – она вызывает страх, ее деяния жестоки и несправедливы, но иногда именно они восстанавливают баланс добра и зла. Это те самые тени, о которых Воланд говорит Левию Матвею, – часть необходимого зла, без которого невозможно представить мир.
ЧТО ТАКОЕ «ПОКОЙ», ОБЕЩАННЫЙ В ФИНАЛЕ МАСТЕРУ?
Мастер и Маргарита покидают Москву вместе с Воландом и его свитой – и переходят в иное, посмертное существование. Левий Матвей говорит Воланду, что Мастер не заслужил света, а заслужил покой – это та самая участь, о которой просит для Мастера Иешуа. Атрибуты этого покоя подробно описаны сначала Воландом, а затем Маргаритой, ведущей Мастера к его вечному пристанищу: дом среди цветущих вишен, венецианское окно и вьющийся виноград, горящие свечи и музыка Шуберта. Это не просто абстрактный вечный покой – а теплый домашний уют, о котором так тосковал Мастер (и его создатель). В этом обещании слышится важная для Булгакова пушкинская нота – «на свете счастья нет, но есть покой и воля»; но есть в нем и смутно-тревожный отзвук, связанный с давним сном Маргариты, в котором ей является томящийся в психиатрической лечебнице Мастер. В финале романа по дороге к своему будущему жилищу Мастер и Маргарита переходят «каменистый мшистый мостик» – и именно этим словом обозначена важная деталь ее давнего тревожного сна:
Какой-то корявый мостик. Под ним мутная весенняя речонка, безрадостные, нищенские, полуголые деревья, одинокая осина, а далее, меж деревьев, бревенчатое зданьице, не то оно – отдельная кухня, не то баня, не то черт знает что. Неживое все кругом какое-то и до того унылое, что так и тянет повеситься на этой осине у мостика.
В том страшном сне Мастер появляется не в венецианском окне, увитом виноградом, а в дверях унылого и страшного бревенчатого здания, напоминающего «баньку с пауками», с которой сравнивал вечность один из героев Достоевского. О вьющемся винограде и музыке Шуберта рассказывает Мастеру Маргарита, сам он не видит места, куда они направляются, мы знаем лишь, что в этот момент его «беспокойная, исколотая иглами память стала потухать». Кто-то отпускает Мастера на свободу – но мы так и не уверены до конца, чем обернется для него эта посмертная свобода, как не уверен в своей окончательной правоте Иешуа, как не уверен в своем фатальном решении Пилат, как не уверен был Булгаков в судьбе своего романа, как не уверены его читатели, сегодняшние и будущие, в том, что этот роман может быть до конца понят.
Мастер и Маргарита
Часть первая
Гете. Фауст
- …Так кто ж ты, наконец?
- – Я – часть той силы,
- что вечно хочет зла
- и вечно совершает благо…
Глава 1
Никогда не разговаривайте с неизвестными
Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй – плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке – был в ковбойке, жеваных белых брюках и в черных тапочках.
Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемой МАССОЛИТ, и редактор толстого художественного журнала, а молодой спутник его – поэт Иван Николаевич Понырев, пишущий под псевдонимом Бездомный.
Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым долгом бросились к пестро раскрашенной будочке с надписью «Пиво и воды».
Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой Бронной улице, не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, – никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея.
– Дайте нарзану, – попросил Берлиоз.
– Нарзану нету, – ответила женщина в будочке и почему-то обиделась.
– Пиво есть? – сиплым голосом осведомился Бездомный.
– Пиво привезут к вечеру, – ответила женщина.
– А что есть? – спросил Берлиоз.
– Абрикосовая, только теплая, – сказала женщина.
– Ну, давайте, давайте, давайте!..
Абрикосовая дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной.
Тут приключилась вторая странность, касающаяся одного Берлиоза. Он внезапно перестал икать, сердце его стукнуло и на мгновенье куда-то провалилось, потом вернулось, но с тупой иглой, засевшей в нем. Кроме того, Берлиоза охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки. Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, что его напугало. Он побледнел, вытер лоб платком, подумал: «Что это со мной? Этого никогда не было… сердце шалит… я переутомился. Пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск…»
И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок… Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая.
Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. Еще более побледнев, он вытаращил глаза и в смятении подумал: «Этого не может быть!..»
Но это, увы, было, и длинный, сквозь которого видно, гражданин, не касаясь земли, качался перед ним и влево и вправо.
Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза. А когда он их открыл, увидел, что все кончилось, марево растворилось, клетчатый исчез, а заодно и тупая игла выскочила из сердца.
– Фу ты черт! – воскликнул редактор, – ты знаешь, Иван, у меня сейчас едва удар от жары не сделался! Даже что-то вроде галлюцинации было, – он попытался усмехнуться, но в глазах его еще прыгала тревога, и руки дрожали.
Однако постепенно он успокоился, обмахнулся платком и, произнеся довольно бодро: «Ну-с, итак…» – повел речь, прерванную питьем абрикосовой.
Речь эта, как впоследствии узнали, шла об Иисусе Христе. Дело в том, что редактор заказал поэту для очередной книжки журнала большую антирелигиозную поэму. Эту поэму Иван Николаевич сочинил, и в очень короткий срок, но, к сожалению, ею редактора нисколько не удовлетворил. Очертил Бездомный главное действующее лицо своей поэмы, то есть Иисуса, очень черными красками, и тем не менее всю поэму приходилось, по мнению редактора, писать заново. И вот теперь редактор читал поэту нечто вроде лекции об Иисусе, с тем чтобы подчеркнуть основную ошибку поэта. Трудно сказать, что именно подвело Ивана Николаевича – изобразительная ли сила его таланта или полное незнакомство с вопросом, по которому он собирался писать, – но Иисус в его изображении получился ну совершенно как живой, хотя и не привлекающий к себе персонаж. Берлиоз же хотел доказать поэту, что главное не в том, каков был Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, что Иисуса-то этого, как личности, вовсе не существовало на свете и что все рассказы о нем – простые выдумки, самый обыкновенный миф.
Надо заметить, что редактор был человеком начитанным и очень умело указывал в своей речи на древних историков, например, на знаменитого Филона Александрийского, на блестяще образованного Иосифа Флавия, никогда ни словом не упоминавших о существовании Иисуса. Обнаруживая солидную эрудицию, Михаил Александрович сообщил поэту, между прочим, и о том, что то место в 15-й книге, в главе 44-й знаменитых Тацитовых «Анналов», где говорится о казни Иисуса, – есть не что иное, как позднейшая поддельная вставка.
Поэт, для которого все, сообщаемое редактором, являлось новостью, внимательно слушал Михаила Александровича, уставив на него свои бойкие зеленые глаза, и лишь изредка икал, шепотом ругая абрикосовую воду.
– Нет ни одной восточной религии, – говорил Берлиоз, – в которой, как правило, непорочная дева не произвела бы на свет бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых. Вот на это-то и нужно сделать главный упор…
Высокий тенор Берлиоза разносился в пустынной аллее, и по мере того, как Михаил Александрович забирался в дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек, – поэт узнавал все больше и больше интересного и полезного и про египетского Озириса, благостного бога и сына Неба и Земли, и про финикийского бога Фаммуза, и про Мардука, и даже про менее известного грозного бога Вицлипуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике.
И вот как раз в то время, когда Михаил Александрович рассказывал поэту о том, как ацтеки лепили из теста фигурку Вицлипуцли, в аллее показался первый человек.
Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже поздно, разные учреждения представили свои сводки с описанием этого человека. Сличение их не может не вызвать изумления. Так, в первой из них сказано, что человек этот был маленького роста, зубы имел золотые и хромал на правую ногу. Во второй – что человек был росту громадного, коронки имел платиновые, хромал на левую ногу. Третья лаконически сообщает, что особых примет у человека не было.
Приходится признать, что ни одна из этих сводок никуда не годится.
Раньше всего: ни на какую ногу описываемый не хромал, и росту был не маленького и не громадного, а просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у него были платиновые коронки, а с правой – золотые. Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. По виду – лет сорока с лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом – иностранец.
Пройдя мимо скамьи, на которой помещались редактор и поэт, иностранец покосился на них, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке, в двух шагах от приятелей.
«Немец», – подумал Берлиоз.
«Англичанин, – подумал Бездомный, – ишь, и не жарко ему в перчатках».
А иностранец окинул взглядом высокие дома, квадратом окаймлявшие пруд, причем заметно стало, что видит это место он впервые и что оно его заинтересовало.
Он остановил свой взор на верхних этажах, ослепительно отражающих в стеклах изломанное и навсегда уходящее от Михаила Александровича солнце, затем перевел его вниз, где стекла начали предвечерне темнеть, чему-то снисходительно усмехнулся, прищурился, руки положил на набалдашник, а подбородок на руки.
– Ты, Иван, – говорил Берлиоз, – очень хорошо и сатирически изобразил, например, рождение Иисуса, сына божия, но соль-то в том, что еще до Иисуса родился еще ряд сынов божиих, как, скажем, фригийский Аттис, коротко же говоря, ни один из них не рождался и никого не было, в том числе и Иисуса, и необходимо, чтобы ты, вместо рождения и, скажем, прихода волхвов, описал нелепые слухи об этом рождении… А то выходит по твоему рассказу, что он действительно родился!..
Тут Бездомный сделал попытку прекратить замучившую его икоту, задержав дыхание, отчего икнул мучительнее и громче, и в этот же момент Берлиоз прервал свою речь, потому что иностранец вдруг поднялся и направился к писателям.
Те поглядели на него удивленно.
– Извините меня, пожалуйста, – заговорил подошедший с иностранным акцентом, но не коверкая слов, – что я, не будучи знаком, позволяю себе… но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что…
Тут он вежливо снял берет, и друзьям ничего не оставалось, как приподняться и раскланяться.
«Нет, скорее француз…» – подумал Берлиоз.
«Поляк?..» – подумал Бездомный.
Необходимо добавить, что на поэта иностранец с первых же слов произвел отвратительное впечатление, а Берлиозу скорее понравился, то есть не то чтобы понравился, а… как бы выразиться… заинтересовал, что ли.
– Разрешите мне присесть? – вежливо попросил иностранец, и приятели как-то невольно раздвинулись; иностранец ловко уселся между ними и тотчас вступил в разговор.
– Если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете? – спросил иностранец, обращая к Берлиозу свой левый зеленый глаз.
– Нет, вы не ослышались, – учтиво ответил Берлиоз, – именно это я и говорил.
– Ах, как интересно! – воскликнул иностранец.
«А какого черта ему надо?» – подумал Бездомный и нахмурился.
– А вы соглашались с вашим собеседником? – осведомился неизвестный, повернувшись вправо к Бездомному.
– На все сто! – подтвердил тот, любя выражаться вычурно и фигурально.
– Изумительно! – воскликнул непрошеный собеседник и, почему-то воровски оглянувшись и приглушив свой низкий голос, сказал: – Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще и не верите в Бога? – он сделал испуганные глаза и прибавил: – Клянусь, я никому не скажу.
– Да, мы не верим в Бога, – чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз. – Но об этом можно говорить совершенно свободно.
Иностранец откинулся на спинку скамейки и спросил, даже привизгнув от любопытства:
– Вы – атеисты?!
– Да, мы – атеисты, – улыбаясь, ответил Берлиоз, а Бездомный подумал, рассердившись: «Вот прицепился, заграничный гусь!»
– Ох, какая прелесть! – вскричал удивительный иностранец и завертел головой, глядя то на одного, то на другого литератора.
– В нашей стране атеизм никого не удивляет, – дипломатически вежливо сказал Берлиоз, – большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге.
Тут иностранец отколол такую штуку: встал и пожал изумленному редактору руку, произнеся при этом слова:
– Позвольте вас поблагодарить от всей души!
– За что это вы его благодарите? – заморгав, осведомился Бездомный.
– За очень важное сведение, которое мне, как путешественнику, чрезвычайно интересно, – многозначительно подняв палец, пояснил заграничный чудак.
Важное сведение, по-видимому, действительно произвело на путешественника сильное впечатление, потому что он испуганно обвел глазами дома, как бы опасаясь в каждом окне увидеть по атеисту.
«Нет, он не англичанин…» – подумал Берлиоз, а Бездомный подумал: «Где это он так наловчился говорить по-русски, вот что интересно!» – и опять нахмурился.
– Но, позвольте вас спросить, – после тревожного раздумья спросил заграничный гость, – как же быть с доказательствами бытия божия, коих, как известно, существует ровно пять?
– Увы! – с сожалением ответил Берлиоз, – ни одно из этих доказательств ничего не стоит, и человечество давно сдало их в архив. Ведь согласитесь, что в области разума никакого доказательства существования Бога быть не может.
– Браво! – вскричал иностранец, – браво! Вы полностью повторили мысль беспокойного старика Иммануила по этому поводу. Но вот курьез: он начисто разрушил все пять доказательств, а затем, как бы в насмешку над самим собою, соорудил собственное шестое доказательство!
– Доказательство Канта, – тонко улыбнувшись, возразил образованный редактор, – также неубедительно. И недаром Шиллер говорил, что кантовские рассуждения по этому вопросу могут удовлетворить только рабов, а Штраус просто смеялся над этим доказательством.
Берлиоз говорил, а сам в это время думал: «Но все-таки кто же он такой? И почему так хорошо говорит по-русски?»
– Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на три в Соловки! – совершенно неожиданно бухнул Иван Николаевич.
– Иван! – сконфузившись, шепнул Берлиоз.
Но предложение отправить Канта в Соловки не только не поразило иностранца, но даже привело в восторг.
– Именно, именно, – закричал он, и левый зеленый глаз его, обращенный к Берлиозу, засверкал, – ему там самое место! Ведь говорил я ему тогда за завтраком: «Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут».
Берлиоз выпучил глаза. «За завтраком… Канту?.. Что это он плетет?» – подумал он.
– Но, – продолжал иноземец, не смущаясь изумлением Берлиоза и обращаясь к поэту, – отправить его в Соловки невозможно по той причине, что он уже с лишком сто лет пребывает в местах значительно более отдаленных, чем Соловки, и извлечь его оттуда никоим образом нельзя, уверяю вас!
– А жаль! – отозвался задира-поэт.
– И мне жаль! – подтвердил неизвестный, сверкая глазом, и продолжал: – Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели Бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?
– Сам человек и управляет, – поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.
– Виноват, – мягко отозвался неизвестный, – для того, чтобы управлять, нужно как-никак иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И, в самом деле, – тут неизвестный повернулся к Берлиозу, – вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас… кхе… кхе… саркома легкого… – тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, – да, саркома, – жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, – и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать, вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье – совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, – тут иностранец прищурился на Берлиоза, – пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что неизвестно почему вдруг возьмет – поскользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? – и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком.
Берлиоз с великим вниманием слушал неприятный рассказ про саркому и трамвай, и какие-то тревожные мысли начали мучить его. «Он не иностранец! Он не иностранец! – думал он, – он престранный субъект… Но позвольте, кто же он такой?»
– Вы хотите курить, как я вижу? – неожиданно обратился к Бездомному неизвестный, – вы какие предпочитаете?
– А у вас разные, что ли, есть? – мрачно спросил поэт, у которого папиросы кончились.
– Какие предпочитаете? – повторил неизвестный.
– Ну, «Нашу марку», – злобно ответил Бездомный.
Незнакомец немедленно вытащил из кармана портсигар и предложил его Бездомному:
– «Наша марка».
И редактора и поэта не столько поразило то, что нашлась в портсигаре именно «Наша марка», сколько сам портсигар. Он был громадных размеров, червонного золота, и на крышке его при открывании сверкнул синим и белым огнем бриллиантовый треугольник.
Тут литераторы подумали разно. Берлиоз: «Нет, иностранец!», а Бездомный: «Вот черт его возьми! А?»
Поэт и владелец портсигара закурили, а некурящий Берлиоз отказался.
«Надо будет ему возразить так, – решил Берлиоз, – да, человек смертен, никто против этого и не спорит. А дело в том, что…»
Однако он не успел выговорить этих слов, как заговорил иностранец:
– Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер.
«Какая-то нелепая постановка вопроса…» – помыслил Берлиоз и возразил:
– Ну, здесь уж есть преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен более или менее точно. Само собой разумеется, что, если на Бронной мне свалится на голову кирпич…
– Кирпич ни с того ни с сего, – внушительно перебил неизвестный, – никому и никогда на голову не свалится. В частности же, уверяю вас, вам он ни в коем случае не угрожает. Вы умрете другой смертью.
– Может быть, вы знаете, какой именно? – с совершенно естественной иронией осведомился Берлиоз, вовлекаясь в какой-то действительно нелепый разговор, – и скажете мне?
– Охотно, – отозвался незнакомец. Он смерил Берлиоза взглядом, как будто собирался сшить ему костюм, сквозь зубы пробормотал что-то вроде: «Раз, два… Меркурий во втором доме… луна ушла… шесть – несчастье… вечер – семь…» – и громко и радостно объявил: – Вам отрежут голову!
Бездомный дико и злобно вытаращил глаза на развязного неизвестного, а Берлиоз спросил, криво усмехнувшись:
– А кто именно? Враги? Интервенты?
– Нет, – ответил собеседник, – русская женщина, комсомолка.
– Гм… – промычал раздраженный шуточкой неизвестного Берлиоз, – ну, это, извините, маловероятно.
– Прошу и меня извинить, – ответил иностранец, – но это так. Да, мне хотелось бы спросить вас, что вы будете делать сегодня вечером, если это не секрет?
– Секрета нет. Сейчас я зайду к себе на Садовую, а потом в десять часов вечера в МАССОЛИТе состоится заседание, и я буду на нем председательствовать.
– Нет, этого быть никак не может, – твердо возразил иностранец.
– Это почему?
– Потому, – ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили черные птицы, – что Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится.
Тут, как вполне понятно, под липами наступило молчание.
– Простите, – после паузы заговорил Берлиоз, поглядывая на мелющего чепуху иностранца, – при чем здесь подсолнечное масло… и какая Аннушка?
– Подсолнечное масло здесь вот при чем, – вдруг заговорил Бездомный, очевидно, решив объявить незваному собеседнику войну, – вам не приходилось, гражданин, бывать когда-нибудь в лечебнице для душевнобольных?
– Иван!.. – тихо воскликнул Михаил Александрович.
Но иностранец ничуть не обиделся и превесело рассмеялся.
– Бывал, бывал, и не раз! – вскричал он, смеясь, но не сводя несмеющегося глаза с поэта, – где я только не бывал! Жаль только, что я не удосужился спросить у профессора, что такое шизофрения. Так что вы уж сами узнайте это у него, Иван Николаевич!
– Откуда вы знаете, как меня зовут?
– Помилуйте, Иван Николаевич, кто же вас не знает? – здесь иностранец вытащил из кармана вчерашний номер «Литературной газеты», и Иван Николаевич увидел на первой же странице свое изображение, а под ним свои собственные стихи. Но вчера еще радовавшее доказательство славы и популярности на этот раз ничуть не обрадовало поэта.
– Я извиняюсь, – сказал он, и лицо его потемнело, – вы не можете подождать минутку? Я хочу товарищу пару слов сказать.
– О, с удовольствием! – воскликнул неизвестный, – здесь так хорошо под липами, а я, кстати, никуда и не спешу.
– Вот что, Миша, – зашептал поэт, оттащив Берлиоза в сторону, – он никакой не интурист, а шпион. Это русский эмигрант, перебравшийся к нам. Спрашивай у него документы, а то уйдет…
– Ты думаешь? – встревоженно шепнул Берлиоз, а сам подумал: «А ведь он прав!»
– Уж ты мне верь, – засипел ему в ухо поэт, – он дурачком прикидывается, чтобы выспросить кое-что. Ты слышишь, как он по-русски говорит, – поэт говорил и косился, следя, чтобы неизвестный не удрал, – идем, задержим его, а то уйдет…
И поэт за руку потянул Берлиоза к скамейке.
Незнакомец не сидел, а стоял возле нее, держа в руках какую-то книжечку в темно-сером переплете, плотный конверт хорошей бумаги и визитную карточку.
– Извините меня, что я в пылу нашего спора забыл представить себя вам. Вот моя карточка, паспорт и приглашение приехать в Москву для консультации, – веско проговорил неизвестный, проницательно глядя на обоих литераторов.
Те сконфузились. «Черт, слышал все…» – подумал Берлиоз и вежливым жестом показал, что в предъявлении документов нет надобности. Пока иностранец совал их редактору, поэт успел разглядеть на карточке напечатанное иностранными буквами слово «профессор» и начальную букву фамилии – двойное «В».
– Очень приятно, – тем временем смущенно бормотал редактор, и иностранец спрятал документы в карман.
Отношения таким образом были восстановлены, и все трое снова сели на скамью.
– Вы в качестве консультанта приглашены к нам, профессор? – спросил Берлиоз.
– Да, консультантом.
– Вы – немец? – осведомился Бездомный.
– Я-то?.. – переспросил профессор и вдруг задумался. – Да, пожалуй, немец… – сказал он.
– Вы по-русски здорово говорите, – заметил Бездомный.
– О, я вообще полиглот и знаю очень большое количество языков, – ответил профессор.
– А у вас какая специальность? – осведомился Берлиоз.
– Я – специалист по черной магии.
«На тебе!..» – стукнуло в голове у Михаила Александровича.
– И… и вас по этой специальности пригласили к нам? – заикнувшись, спросил он.
– Да, по этой пригласили, – подтвердил профессор и пояснил: – Тут в государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского, десятого века. Так вот требуется, чтобы я их разобрал. Я единственный в мире специалист.
– А-а! Вы историк? – с большим облегчением и уважением спросил Берлиоз.
– Я – историк, – подтвердил ученый и добавил ни к селу ни к городу: – Сегодня вечером на Патриарших прудах будет интересная история!
И опять крайне удивились и редактор и поэт, а профессор поманил обоих к себе и, когда они наклонились к нему, прошептал:
– Имейте в виду, что Иисус существовал.
– Видите ли, профессор, – принужденно улыбнувшись, отозвался Берлиоз, – мы уважаем ваши большие знания, но сами по этому вопросу придерживаемся другой точки зрения.
– А не надо никаких точек зрения! – ответил странный профессор, – просто он существовал, и больше ничего.
– Но требуется же какое-нибудь доказательство… – начал Берлиоз.
– И доказательств никаких не требуется, – ответил профессор и заговорил негромко, причем его акцент почему-то пропал: – Все просто: в белом плаще…
Глава 2
Понтий Пилат
В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат.
Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать прокуратора с рассвета. Прокуратору казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожи и конвоя примешивается проклятая розовая струя. От флигелей в тылу дворца, где расположилась пришедшая с прокуратором в Ершалаим первая когорта Двенадцатого Молниеносного легиона, заносило дымком в колоннаду через верхнюю площадку сада, и к горьковатому дыму, свидетельствовавшему о том, что кашевары в кентуриях начали готовить обед, примешивался все тот же жирный розовый дух. О боги, боги, за что вы наказываете меня?
«Да, нет сомнений! Это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь гемикрания, при которой болит полголовы. От нее нет средств, нет никакого спасения. Попробую не двигать головой».
На мозаичном полу у фонтана уже было приготовлено кресло, и прокуратор, не глядя ни на кого, сел в него и протянул руку в сторону.
Секретарь почтительно вложил в эту руку кусок пергамента. Не удержавшись от болезненной гримасы, прокуратор искоса, бегло проглядел написанное, вернул пергамент секретарю и с трудом проговорил:
– Подследственный из Галилеи? К тетрарху дело посылали?
– Да, прокуратор, – ответил секретарь.
– Что же он?
– Он отказался дать заключение по делу и смертный приговор Синедриона направил на ваше утверждение, – объяснил секретарь.
Прокуратор дернул щекой и сказал тихо:
– Приведите обвиняемого.
И сейчас же с площадки сада под колонны на балкон двое легионеров ввели и поставили перед креслом прокуратора человека лет двадцати семи. Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта – ссадина с запекшейся кровью. Приведенный с тревожным любопытством глядел на прокуратора.
Тот помолчал, потом тихо спросил по-арамейски:
– Так это ты подговаривал народ разрушить ершалаимский храм?
Прокуратор при этом сидел как каменный, и только губы его шевелились чуть-чуть при произнесении слов. Прокуратор был как каменный, потому что боялся качнуть пылающей адской болью головой.
Человек со связанными руками несколько подался вперед и начал говорить:
– Добрый человек! Поверь мне…
Но прокуратор, по-прежнему не шевелясь и ничуть не повышая голоса, тут же перебил его:
– Это меня ты называешь добрым человеком? Ты ошибаешься. В Ершалаиме все шепчут про меня, что я свирепое чудовище, и это совершенно верно, – и так же монотонно прибавил: – Кентуриона Крысобоя ко мне.
Всем показалось, что на балконе потемнело, когда кентурион, командующий особой кентурией, Марк, прозванный Крысобоем, предстал перед прокуратором.
Крысобой был на голову выше самого высокого из солдат легиона и настолько широк в плечах, что совершенно заслонил еще невысокое солнце.
Прокуратор обратился к кентуриону по-латыни:
– Преступник называет меня «добрый человек». Выведите его отсюда на минуту, объясните ему, как надо разговаривать со мной. Но не калечить.
И все, кроме неподвижного прокуратора, проводили взглядом Марка Крысобоя, который махнул рукою арестованному, показывая, что тот должен следовать за ним.
Крысобоя вообще все провожали взглядами, где бы он ни появлялся, из-за его роста, а те, кто видел его впервые, из-за того еще, что лицо кентуриона было изуродовано: нос его некогда был разбит ударом германской палицы.
Простучали тяжелые сапоги Марка по мозаике, связанный пошел за ним бесшумно, полное молчание настало в колоннаде, и слышно было, как ворковали голуби на площадке сада у балкона, да еще вода пела замысловатую приятную песню в фонтане.
Прокуратору захотелось подняться, подставить висок под струю и так замереть. Но он знал, что и это ему не поможет.
Выведя арестованного из-под колонн в сад, Крысобой вынул из рук у легионера, стоявшего у подножия бронзовой статуи, бич и, несильно размахнувшись, ударил арестованного по плечам. Движение кентуриона было небрежно и легко, но связанный мгновенно рухнул наземь, как будто ему подрубили ноги, захлебнулся воздухом, краска сбежала с его лица и глаза обессмыслились. Марк одною левою рукой, легко, как пустой мешок, вздернул на воздух упавшего, поставил его на ноги и заговорил гнусаво, плохо выговаривая арамейские слова:
– Римского прокуратора называть – игемон. Других слов не говорить. Смирно стоять. Ты понял меня или ударить тебя?
Арестованный пошатнулся, но совладал с собою, краска вернулась, он перевел дыхание и ответил хрипло: