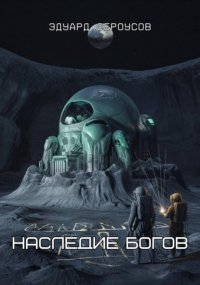Читать онлайн Вектор из будущего бесплатно
- Все книги автора: Эдуард Сероусов
Часть I: Резонанс
Глава 1: Наблюдатель
Комната ретроспекции располагалась в дальнем крыле модуля «Гамма», там, где коридоры сужались и потолки опускались до некомфортных двух метров. Лена Рох знала эту часть станции лучше, чем собственную каюту – за шесть лет работы в проекте «Янус» она провела здесь тысячи часов, наблюдая за людьми, которые чувствовали то, чего ещё не существовало.
Она остановилась у двери с матовым стеклом. За ним угадывался силуэт – неподвижный, склонённый над чем-то. Юн Мэй. Двадцать восемь лет, лаборант, ретроград с индексом 7,4 по шкале Вейдта. Одна из девятнадцати активных субъектов исследования.
Субъектов, – поправила себя Лена. Не «пациентов». Не «жертв». Терминология имела значение. Она формировала мышление, а мышление определяло результаты.
Лена коснулась сенсора, и дверь отъехала в сторону с тихим шипением пневматики.
Комната была невелика – четыре на пять метров, стены обшиты звукопоглощающими панелями серо-голубого оттенка. Единственным источником света служила полоса под потолком, имитирующая рассеянный дневной свет. Никаких окон, никаких экранов, никаких отвлекающих факторов. Только стол, два кресла и девушка, которая не подняла головы при появлении Лены.
Юн Мэй сидела, обхватив себя руками, и смотрела на планшет перед собой. На экране застыл кадр видеозаписи: группа людей в тёмной одежде, белые цветы, что-то вроде урны на постаменте. Похороны.
– Доктор Рох, – произнесла Юн Мэй, не отрывая взгляда от экрана. Её голос был ровным, почти безразличным. – Вы раньше обычного.
– На семь минут. – Лена прошла к свободному креслу, но не села. – Как продвигается сверка?
– Медленно.
Лена достала из кармана халата собственный планшет и открыла файл с эмоциональным дневником Юн Мэй за последние три месяца. Столбцы данных: дата, время, интенсивность по десятибалльной шкале, качественное описание, физиологические маркеры. Всё чисто, всё систематизировано, всё абсолютно бесполезно для понимания того, что происходит в голове этой девушки.
– Запись от четырнадцатого марта, – сказала Лена. – «Острое горе, 8,2 балла. Ощущение невосполнимой потери. Физические проявления: слёзы, тремор рук, затруднённое дыхание. Продолжительность: сорок семь минут». Это то, что ты сейчас сверяешь?
Юн Мэй кивнула.
– Мама умерла восемнадцатого марта. Четыре дня спустя.
Лена присела на край кресла, сохраняя дистанцию. Профессиональную, необходимую, правильную дистанцию.
– Расскажи мне, что ты чувствовала четырнадцатого. Своими словами, не формулировками из дневника.
Юн Мэй наконец подняла глаза. Тёмные, азиатский разрез, чуть припухшие веки. Она была красива той особенной красотой людей, рождённых в невесомости – тонкие кости, удлинённые пропорции, кожа с лёгким сероватым оттенком от недостатка ультрафиолета.
– Я проснулась и поняла, что мамы больше нет, – сказала она просто. – Не «скоро не будет». Не «может не стать». Её уже не было. Для меня.
– Но она была жива.
– Да. Ещё четыре дня.
Лена записала в планшет: «Субъект описывает ретрокаузальное переживание как свершившийся факт, а не предчувствие. Темпоральная инверсия восприятия».
– Ты пыталась связаться с ней?
– Нет.
– Почему?
Юн Мэй отвела взгляд.
– Вы знаете почему, доктор Рох. Все знают почему.
Да, Лена знала. Ограничение ретрокаузальности – фундаментальный принцип, который они изучали шесть лет, но так и не смогли обойти. Ретроград не может передать информацию о будущем тому, кто способен на неё повлиять. Любая попытка наталкивается на стену: афазия, амнезия, потеря сознания. Мозг защищает вселенную от парадокса – или вселенная защищает себя через мозг. Философы спорили о формулировке, физики – о механизме. Результат был один: молчание.
– И всё же, – Лена наклонилась чуть вперёд, – ты могла позвонить просто так. Поговорить. Сказать, что любишь её.
– Я так и сделала. – Юн Мэй снова посмотрела на экран с похоронами. – Не чтобы предупредить. Просто чтобы услышать её голос ещё раз. Она сказала, что гордится мной. Что рада, что я там, наверху, далеко от всего этого.
– От всего этого?
– От Земли.
Лена помолчала, обрабатывая информацию. Мать Юн Мэй умерла в Шанхае – одном из немногих городов, сохранивших относительную стабильность после Фрагментации. Рак поджелудочной, диагностированный слишком поздно. Ничего мистического, никакой связи с ретрокаузальностью. Просто смерть, одна из миллионов.
И всё же её дочь за четыре дня почувствовала пустоту, которую эта смерть оставит.
– Юн Мэй, – сказала Лена, стараясь, чтобы голос звучал нейтрально, – я хочу понять кое-что. Не как исследователь – как… – она запнулась, подбирая слово, – как человек, которому предстоит работать с тобой ещё долго.
Девушка чуть склонила голову набок. Жест ожидания.
– Как ты это выдерживаешь?
Вопрос повис в воздухе комнаты ретроспекции, впитываясь в звукопоглощающие панели. Лена почти пожалела, что задала его – слишком личный, слишком непрофессиональный, слишком похожий на то, что спрашивают священники или психотерапевты, а не нейрофизики с докторской степенью Оксфорда.
Юн Мэй улыбнулась. Странная улыбка – без тепла, без горечи, без чего-либо, что Лена могла бы однозначно интерпретировать.
– Я не выдерживаю, – сказала она. – Я просто продолжаю.
Коридор модуля «Бета» был залит резким белым светом – здесь располагались основные лаборатории проекта «Янус», и освещение настраивалось на максимальную чёткость восприятия. Лена шла к своему кабинету, проигрывая в голове разговор с Юн Мэй.
«Я не выдерживаю. Я просто продолжаю».
Что это значило? Смирение? Отрицание? Особый вид принятия, недоступный тем, кто не носил в себе тень будущего?
За шесть лет работы Лена провела интервью с сотнями ретроградов. Изучила их мозговую активность, картировала нейронные паттерны, каталогизировала эмоциональные состояния. Она знала о них всё, что можно было измерить и записать. И не понимала ровным счётом ничего.
Это злило. Лена не любила не понимать.
Дверь кабинета открылась по биометрии, и она замерла на пороге. В её кресле, развернувшись к панорамному экрану, сидел Маркус Вейдт.
– Доктор Рох. – Он обернулся с улыбкой, которая всегда казалась Лене чуть слишком отрепетированной. – Я позволил себе подождать вас здесь. Надеюсь, вы не против.
Лена прошла внутрь, не показывая раздражения. Вейдт – директор проекта, глава научного совета станции, человек, от которого зависело финансирование и сама возможность их работы. Если он хотел сидеть в её кресле – он имел на это право. Формально.
– Чем могу помочь, директор?
– Маркус. – Он встал, освобождая место. – Мы работаем вместе шесть лет, Лена. По-моему, мы заслужили право называть друг друга по имени.
Ему было пятьдесят девять, но выглядел он на десять лет старше. Невесомость консервировала тела, но не спасала от бессонницы и груза решений. Седые волосы, коротко стриженные, морщины в углах глаз, вечно ссутуленные плечи. И взгляд – острый, цепкий, видящий слишком многое.
– Маркус. – Лена села в своё кресло, но разворачивать его к экрану не стала. – Вы пришли обсудить отчёт по корреляциям?
– Нет. Хотя и это тоже – корреляции впечатляют. Сто пятьдесят шесть совпадений из восьмисот сорока семи записей за три года. Почти восемнадцать процентов.
– Восемнадцать и четыре десятых.
– Точность – ваша сильная сторона. – Вейдт прислонился к стене, скрестив руки на груди. – Именно поэтому я здесь.
Лена ждала. Она научилась этому у самого Вейдта – молчать, давая собеседнику заполнять паузы. Люди не выносят тишины. Они говорят лишнее, раскрываются, теряют контроль.
Вейдт, разумеется, этим трюком не пользовался. Он сам его изобрёл.
– Как прошла сессия с Юн Мэй? – спросил он.
– Продуктивно. Она завершила сверку эмоционального дневника с событиями марта.
– Смерть матери.
– Да.
– И как она?
Лена нахмурилась.
– В каком смысле?
– В человеческом. – Вейдт чуть улыбнулся. – Я знаю, что вы предпочитаете держать дистанцию, Лена. Это правильно, это профессионально. Но иногда полезно видеть за данными людей.
– Я вижу людей.
– Вы видите субъектов исследования.
Это было несправедливо. Или справедливо – Лена не могла решить. Она действительно старалась не привязываться к ретроградам. Статистика была безжалостной: двенадцать и четыре десятых процента из них кончали с собой в течение пяти лет после трансформации. Каждый восьмой. Привязываться означало терять снова и снова.
– Юн Мэй справляется, – сказала она наконец. – По её собственным словам – «не выдерживает, но продолжает».
Вейдт медленно кивнул.
– Это хорошая формулировка. Точная. – Он помолчал. – Вы когда-нибудь задумывались, Лена, каково это – чувствовать будущее?
– Я нейрофизик. Я думаю об этом каждый день.
– Думаете – да. Но представляете?
Лена откинулась в кресле. Разговор сворачивал куда-то, куда она не хотела идти.
– К чему вы ведёте, Маркус?
– К эксперименту. – Он отошёл от стены и начал медленно расхаживать по кабинету, разглядывая корешки бумажных книг на полке. Редкость, роскошь – настоящая бумага с Земли. – Вы читали последний отчёт по протоколу «Янус-7»?
– Экспериментальная индукция. Контролируемое облучение с целью…
– С целью создания ретроградов. – Вейдт повернулся к ней. – Да. Мы близки к тому, чтобы сделать процесс воспроизводимым.
Лена почувствовала, как что-то холодное шевельнулось в груди. Она знала об этом направлении исследований – трудно было не знать, работая в проекте. Но одно дело – теоретические модели, и совсем другое – «близки к воспроизводимости».
– Вероятность успешной трансформации? – спросила она.
– Один к двенадцати тысячам при естественном облучении. Один к восьмистам при контролируемом протоколе.
– Всё ещё очень низко.
– Но достаточно для статистически значимой выборки. – Вейдт остановился напротив неё. – Нам нужны добровольцы, Лена. Учёные, которые понимают теорию, могут документировать собственные переживания, анализировать их изнутри.
Она поняла раньше, чем он договорил. Конечно поняла – она же была хороша в паттернах.
– Вы предлагаете мне участие в эксперименте.
– Я предлагаю вам возможность. – Вейдт присел на край стола, глядя на неё сверху вниз. – Вы – лучший специалист по нейрофизиологии ретроградов на станции. Возможно, в мире. Кто, если не вы?
– Риски…
– Минимальны. Один к восьмистам – это ноль целых одна десятая процента вероятности трансформации. В девятисот девяноста девяти случаях из тысячи вы просто получите дозу радиации в пределах допустимого годового лимита.
– А в одном случае я стану ретроградом.
– Да.
Лена молчала, обрабатывая информацию. Один к восьмистам. Ничтожный шанс. И всё же – он существовал. Она могла стать одной из тех, кого изучала годами. Могла оказаться по другую сторону стекла.
– Зачем вам это? – спросила она. – Почему именно я?
Вейдт улыбнулся той своей улыбкой, которая ничего не значила.
– Потому что вы умеете смотреть. – Он постучал пальцем по виску. – Ретрограды чувствуют, но не анализируют. Большинство из них – обычные люди, которые оказались в необычной ситуации. Они не понимают, что с ними происходит, и не могут объяснить нам. А вы – сможете.
– Если трансформация произойдёт.
– Если произойдёт – да. – Он наклонился ближе. – Подумайте об этом, Лена. Вы всю жизнь изучали сознание, квантовые эффекты в нейронах, границы восприятия. И всегда – снаружи, через приборы и опросники. Один шанс из восьмисот – и вы узнаете изнутри.
Это было манипуляцией. Лена видела это ясно, как видела всё, что делал Вейдт. Он играл на её любопытстве, на её профессиональной гордости, на том глубоком зуде непонимания, который мучил её после каждой сессии с ретроградами.
И это работало.
– Мне нужно время, – сказала она.
– Конечно. – Вейдт встал и направился к двери. – Решение должно быть добровольным. Полностью добровольным, без давления. Я просто хотел, чтобы вы знали о возможности.
У двери он обернулся.
– Один вопрос, Лена. Что бы вы хотели узнать о своём будущем? Если бы могли?
Она не ответила. Она не знала ответа.
Вейдт кивнул, словно молчание само по себе было ответом, и вышел.
Оранжерея модуля «Эта» пахла влажной землёй и чем-то цитрусовым – грейпфрутовые деревья зацвели на неделю раньше графика. Томаш Рох стоял по колено в переплетении гидропонных трубок, пытаясь найти источник утечки, когда услышал шаги жены.
– Я думал, ты до восьми в лаборатории.
– Освободилась раньше.
Он выпрямился, отряхивая руки. Сорок четыре года, крепкий, с начинающей седеть щетиной, которую он постоянно забывал брить. Руки в мелких царапинах от работы с оборудованием – Томаш предпочитал механику электронике, вещи, которые можно потрогать и починить.
Лена стояла на пороге оранжереи, не входя внутрь. Её белый лабораторный халат казался неуместным среди зелени, как снег посреди лета.
– Что-то случилось? – спросил Томаш.
– Нет. – Она помолчала. – Да. Не знаю.
Он знал эту интонацию. Что-то её грызло, но она ещё не готова была говорить об этом вслух. За тринадцать лет брака он научился ждать.
– Ужин в семь? – спросил он.
– Да. – Она всё ещё не двигалась с места. – Томаш, можно я спрошу кое-что странное?
– Странные вопросы – моя специальность. – Он улыбнулся, вытирая руки тряпкой. – Особенно от тебя.
– Если бы ты мог знать что-то о своём будущем – что-то одно – что бы ты выбрал?
Томаш нахмурился. Вопрос был не из их обычного репертуара. Лена редко говорила о работе дома – разграничение, которое она установила ещё в первый год их совместной жизни. «Когда я прихожу домой, я хочу быть твоей женой, а не нейрофизиком».
– Это связано с проектом?
– В каком-то смысле.
Он отложил тряпку и подошёл ближе, остановившись в метре от неё. Не прикасаясь – Лена не любила, когда к ней прикасались, пока она думала.
– Я бы хотел знать, что ты состаришься рядом со мной, – сказал он просто. – И что мы оба будем достаточно здоровы, чтобы ворчать на молодёжь.
Лена слабо улыбнулась.
– Это не один факт, это целый сценарий.
– Тогда переформулирую. – Он склонил голову, глядя на неё с тем выражением, которое она до сих пор не могла полностью расшифровать – смесь нежности и беспокойства. – Я хотел бы знать, что ты будешь счастлива. Всё остальное – детали.
Она отвела взгляд, уставившись на переплетение ветвей грейпфрутового дерева.
– Вейдт предложил мне участие в эксперименте, – сказала она внезапно. – Протокол «Янус-7». Контролируемое облучение.
Томаш замер. Потом очень медленно спросил:
– С какой целью?
– Индукция ретрокаузального состояния.
– Ты хочешь сказать… – Он сглотнул. – Они пытаются превратить людей в ретроградов?
– Пытаются понять механизм. Мне предложили стать добровольцем.
Тишина длилась несколько секунд – достаточно, чтобы Лена услышала тихое гудение вентиляционной системы и далёкий плеск воды в гидропонике.
– Нет, – сказал Томаш.
– Что?
– Нет. Не делай этого.
Лена наконец посмотрела на него. Его лицо изменилось – мягкость исчезла, сменившись чем-то жёстким, незнакомым.
– Томаш, вероятность трансформации – один к восьмистам. Это…
– Один шанс из восьмисот. – Он шагнул к ней. – Лена, ты знаешь, что я инженер. Ты знаешь, как я отношусь к вероятностям. Один к восьмистам – это достаточно, чтобы принимать меры предосторожности. Это достаточно, чтобы проверять оборудование. Это недопустимый риск.
– Ты драматизируешь.
– Я думаю. – Он провёл рукой по волосам – жест, который выдавал волнение. – Лена, я видел ретроградов. Не в твоей лаборатории – здесь, в коридорах. Они… – он осёкся, подбирая слова, – они как будто уже не совсем здесь. Смотрят сквозь тебя. Плачут без причины. Двенадцать процентов из них…
– Я знаю статистику лучше тебя.
– И это не останавливает тебя?
Лена скрестила руки на груди – защитный жест, который она осознавала, но не могла контролировать.
– Это даёт мне понимание рисков. Я принимаю информированное решение.
– Ты ещё не приняла решение.
– Нет. Но я рассматриваю.
Томаш отступил на шаг. Потом на другой. Он смотрел на неё так, словно впервые видел.
– Почему? – спросил он тихо. – Зачем тебе это? У тебя есть работа, которую ты любишь. Есть… – он запнулся, – есть я. Зачем рисковать?
«Потому что я хочу понять», – подумала Лена, но не сказала.
«Потому что шесть лет я смотрю на них и не могу даже представить, каково это – чувствовать будущее».
«Потому что Юн Мэй сказала "я не выдерживаю, я просто продолжаю", и я не знаю, что это значит».
Вместо этого она произнесла:
– Мне нужно время подумать.
– Думай. – Томаш повернулся к своим трубкам. – Но знай: если ты пойдёшь на это – я не смогу просто смотреть. Я не смогу наблюдать, как ты… – он не договорил.
Лена постояла ещё несколько секунд, глядя ему в спину. Потом развернулась и ушла.
Каюта казалась меньше обычного. Лена лежала на койке, уставившись в потолок, и слушала тихий гул станции – бесконечную симфонию работающих механизмов, которая за годы стала частью её внутренней тишины.
Томаш не пришёл к ужину. Не пришёл к десяти. В одиннадцать она получила сообщение: «Ночую в мастерской. Нужно подумать».
Это было на него похоже – решать проблемы через работу. Она не возражала. Ей тоже нужно было подумать.
На планшете мигало уведомление – Вейдт прислал материалы по протоколу «Янус-7». Лена открыла файл и начала читать.
Процедура облучения занимала четыре часа. Специальная радиационная камера, дозиметрический контроль, нейромониторинг в реальном времени. Доза – на верхней границе годового допустимого уровня, но в пределах нормы. Космические лучи определённого спектра в сочетании с квантовыми флуктуациями вакуума – теоретически, именно это сочетание вызывало трансформацию у одного из двенадцати тысяч. Контролируемая среда повышала шансы до одного из восьмисот.
Предварительные испытания на добровольцах: семнадцать участников за последний год. Ни одной успешной трансформации. Ни одного серьёзного побочного эффекта. Статистика выглядела успокаивающей – но Лена знала, что статистика всегда выглядит успокаивающей, пока ты не становишься исключением.
Она пролистала дальше. Описание механизма – гипотетического, потому что никто до конца не понимал, как это работает.
«Two-State Vector Formalism предполагает, что квантовая система описывается двумя векторами состояния: один эволюционирует из прошлого, другой – из будущего. Настоящее – точка их интерференции. У большинства людей эта интерференция усредняется до классической картины мира. Но у носителей определённого генетического маркера (rs7412-APOE) в сочетании с особенностями строения гиппокампа воздействие специфического излучения может вызвать макроскопический резонанс с "вектором из будущего"…»
Лена отложила планшет. Она знала всё это наизусть – сама писала половину этих формулировок. Теория была красивой, элегантной, почти поэтичной. Ретрограды – люди, чей мозг резонирует с квантовым эхом того, что ещё не случилось. Они не видят будущее – они его чувствуют. Как слепой чувствует солнечный свет кожей.
«Каково это – чувствовать солнце, не видя его?»
Она закрыла глаза и попыталась представить. Проснуться утром и знать – нет, чувствовать – что кто-то умер. Не понимать кто, когда, почему. Просто нести в себе пустоту, которую эта смерть оставит.
Юн Мэй несла эту пустоту четыре дня, прежде чем она стала настоящей.
«Я не выдерживаю. Я просто продолжаю».
Лена открыла глаза. Потолок всё так же белел над ней – нейтральный, безразличный, идеально ровный.
Она приняла решение.
Церковь Наблюдателя не имела официального помещения – это было неформальное сообщество, собиравшееся в разных местах модуля «Эпсилон». Сегодня местом встречи была смотровая площадка на нижней палубе – небольшой зал с панорамным окном, выходящим на Землю.
Лена пришла за час до молчаливого бдения. Она не собиралась участвовать – только наблюдать. Это была её работа. Её метод.
В зале было почти пусто. Несколько кресел, расставленных полукругом к окну, мягкое освещение, имитирующее предзакатные сумерки. И человек у окна – высокий, худой, с сединой в коротких волосах.
Хави Морено обернулся на звук шагов.
– Доктор Рох. Неожиданный гость.
– Я не планировала…
– Никто не планирует. – Он улыбнулся. Его улыбка была другой, не как у Вейдта – тёплой, немного печальной. – Люди приходят, когда приходят. Иногда они не знают зачем – до тех пор, пока не уходят.
Лена подошла к окну. Земля медленно проплывала внизу – голубая, в завитках белых облаков, прекрасная даже отсюда, с высоты в четыреста пятьдесят километров. Трудно было поверить, что там, внизу, всё разваливается.
– Вы были священником, – сказала она. Не вопрос – факт из личного дела.
– Был. До того, как стал ретроградом.
– Вы потеряли веру?
Хави задумался.
– Я потерял прежнюю веру. Нашёл другую. Такое случается.
– Какую?
Он указал на Землю за стеклом.
– Веру в то, что мы – часть чего-то большего. Что время – не река, а океан. И мы плывём во всех направлениях сразу.
Лена промолчала. Она пришла сюда не за философией – она пришла за данными. За наблюдением.
– Вейдт предложил мне участие в эксперименте, – услышала она свой голос. – Протокол «Янус-7».
Хави не удивился. Возможно, ретрограды разучились удивляться.
– И что вы решили?
– Я приняла решение. – Она помолчала. – Я согласилась.
Он кивнул, глядя на Землю.
– Зачем вы пришли сюда, доктор Рох?
Хороший вопрос. Лена не знала ответа – или не хотела признавать.
– Хотела понять, – сказала она наконец. – Во что вы верите. Как вы живёте с этим.
– С будущим внутри?
– Да.
Хави отошёл от окна и сел в одно из кресел. Не приглашая, но и не отталкивая.
– Мы сформулировали три принципа, – сказал он. – Первый: мы не знаем. Чувствовать – не значит знать. Наши эмоции – тени, а не карта. Мы видим очертания, но не детали. Второй: мы не виноваты. Если что-то случается – это не наша ответственность. Корреляция – не причинность. Мы не создаём будущее своими чувствами. Мы только… резонируем с ним.
– А третий?
Хави посмотрел на неё.
– Мы не молчим. Если можем действовать – действуем. Если не можем – свидетельствуем. Несём это в себе, но не прячем.
Лена обдумывала его слова. Три принципа – простые, почти банальные. И в то же время – единственный способ выжить с грузом, который не выбирал.
– Юн Мэй сказала мне: «Я не выдерживаю, я просто продолжаю», – произнесла она. – Что это значит?
– Это значит то, что значит. – Хави откинулся в кресле. – Мы все продолжаем. Выдерживаем или нет – неважно. Пока продолжаем – мы живы.
– Но двенадцать процентов не продолжают.
– Да. – Его голос не дрогнул. – Это правда. Некоторые не могут нести то, что чувствуют. Они уходят. Мы оплакиваем их и продолжаем.
За окном Земля медленно поворачивалась, показывая ночную сторону – россыпь огней там, где раньше были города, и непроглядную тьму там, где цивилизация откатилась назад.
– Что вы почувствовали, когда стали ретроградом? – спросила Лена. – Первое ощущение, первое предчувствие?
Хави долго молчал.
– Свою смерть, – сказал он наконец. – Не когда и не как. Просто – что однажды меня не станет. И что это не конец.
– Не конец?
– Не конец. – Он снова улыбнулся. – Большего я сказать не могу. Вы же понимаете почему.
Да, Лена понимала. Ограничение ретрокаузальности. Даже если он знал больше – он не мог этого передать.
– Спасибо, – сказала она, поднимаясь.
– За что?
– За честность.
Хави кивнул.
– Доктор Рох… Если вы станете одной из нас – добро пожаловать. Если нет – удачи с исследованиями.
Лена направилась к выходу. У двери она обернулась.
– Отец Морено…
– Просто Хави.
– Хави. – Она помолчала, подбирая слова. – Вы говорите, что не знаете. Но вы же чувствуете. Как вы решаете, когда действовать, а когда свидетельствовать?
– Интуиция, – ответил он. – Та самая, которую ваша наука пытается измерить. Иногда она работает. Иногда нет. Мы просто… пробуем.
Это был не ответ. Или это был единственный честный ответ.
Лена вышла, оставив его наедине с Землёй и приближающимся бдением.
Кабинет Вейдта располагался в модуле «Альфа», в командной секции. Лена редко бывала здесь – статус не позволял, да и причин не было. Но сегодня у неё был пропуск.
Вейдт ждал её, сидя за столом, заваленным бумагами и планшетами. Настоящими бумагами – он был одним из немногих на станции, кто предпочитал тактильную работу с документами.
– Вы приняли решение, – сказал он, не спрашивая.
– Да.
– И?
– Я согласна.
Он не улыбнулся, не кивнул, не выказал никакой реакции. Просто смотрел на неё своим цепким, видящим взглядом.
– Вы уверены?
– Вы же сами предложили.
– Я предложил возможность. Решение – ваше.
Лена села в кресло напротив него.
– Я шесть лет изучаю ретроградов, – сказала она. – Я знаю о них всё, что можно измерить. И не понимаю ничего.
– И вы хотите понять.
– Я хочу попробовать.
Вейдт откинулся в кресле. В тусклом свете настольной лампы его лицо казалось старше, усталее.
– Вы говорили с мужем?
– Да.
– Он против.
– Да.
– Это не меняет вашего решения?
Лена помолчала. Образ Томаша – спина, повёрнутая к ней, руки, сжимающие тряпку – мелькнул перед глазами.
– Он волнуется, – сказала она. – Это нормально. Но решение – моё.
– Ваше, – согласился Вейдт. – И последствия – тоже ваши.
– Я понимаю риски.
– Вы понимаете статистику. – Он наклонился вперёд. – Риски… риски вы поймёте потом. Если станете одной из них.
Лена не ответила. Это было честно – и это было страшно.
– Процедура назначена на послезавтра, – сказал Вейдт. – Девять ноль-ноль, радиационная камера B-7. Четыре часа. Потом – сорок восемь часов наблюдения в медотсеке.
– Я знаю протокол.
– Я знаю, что вы знаете. – Он встал и подошёл к окну. За ним темнел космос – бесконечный, равнодушный, прекрасный. – Лена, я задам вам вопрос. Вы можете не отвечать.
– Спрашивайте.
– Почему вы на самом деле это делаете?
Она думала, что знает ответ. Любопытство. Профессиональный интерес. Желание понять изнутри то, что не могла понять снаружи.
Но сейчас, в этом кабинете, под взглядом человека, который видел слишком многое, она почувствовала, что ответ глубже.
– Я боюсь, – сказала она медленно. – Боюсь, что всю жизнь смотрю и не вижу. Изучаю и не понимаю. Знаю и не чувствую.
Вейдт кивнул, всё так же глядя в космос.
– Страх – честная причина, – сказал он. – Возможно, единственная честная.
Он обернулся.
– Послезавтра, девять ноль-ноль. Не опаздывайте.
Томаш вернулся в каюту в два часа ночи. Лена не спала – лежала в темноте, слушая гул станции.
Он разделся в тишине, лёг рядом. Между ними было полметра – расстояние, которое казалось километрами.
– Ты приняла решение, – сказал он в темноту.
– Да.
– И ты пойдёшь.
– Да.
Молчание.
– Я не буду тебя отговаривать, – произнёс он наконец. – Ты взрослый человек. Ты умнее меня во всём, что касается этой… науки.
– Но?
– Но я хочу, чтобы ты знала. – Он повернулся к ней, и в тусклом свете аварийных индикаторов она увидела его глаза – влажные, блестящие. – Если ты изменишься… если станешь такой, как они… я не уйду. Слышишь? Я не уйду.
Лена почувствовала, как что-то сжимается в груди.
– Вероятность – один к восьмистам.
– Я знаю вероятность. – Он накрыл её руку своей. – Но на всякий случай. Хочу, чтобы ты знала.
Она не ответила. Просто сжала его руку в ответ.
За стеной станция продолжала гудеть – бесконечная симфония жизни на орбите. Где-то внизу, в четырёхстах пятидесяти километрах, вращалась Земля – голубая, больная, разваливающаяся на части.
Послезавтра Лена войдёт в радиационную камеру и позволит космосу заглянуть в её мозг.
Один шанс из восьмисот.
Или девятьсот девяносто девять из тысячи – что ничего не изменится.
Она закрыла глаза и начала ждать утра.
Глава 2: Протокол
Радиационная камера B-7 располагалась в самом сердце модуля «Бета», за тремя шлюзами и двумя контрольными постами. Лена знала этот путь наизусть – она проходила его десятки раз, сопровождая добровольцев к процедуре. Но сегодня коридоры казались длиннее, потолки – ниже, а гул вентиляции – громче.
Восемь сорок пять. Пятнадцать минут до начала.
Она остановилась у последнего шлюза, чтобы перевести дыхание. Глупость – она же не боялась. Она приняла информированное решение, взвесила риски, изучила протокол. Один шанс из восьмисот. Статистически незначимая величина.
И всё же её ладони были влажными.
– Доктор Рох?
Лена обернулась. Доктор Амара Окойе стояла позади неё – высокая, с коротко стриженными седыми волосами и тёмной кожей, которая в резком освещении коридора казалась почти синеватой. Главный врач станции, психиатр, единственный человек, который открыто выступал против экспериментов Вейдта.
– Доктор Окойе. – Лена выпрямилась, натягивая на лицо профессиональное выражение. – Вы будете присутствовать на процедуре?
– Это обязательно по протоколу. – Окойе подошла ближе, изучая её лицо. – Как вы себя чувствуете?
– Нормально.
– Это не ответ, Лена.
Они знали друг друга шесть лет – достаточно, чтобы обходиться без формальностей. Окойе была одной из немногих на станции, кто называл её по имени, а не «доктор Рох».
– Я немного нервничаю, – признала Лена. – Это нормальная реакция на предстоящую процедуру.
– Нормальная реакция – отказаться от процедуры, которая может необратимо изменить ваш мозг.
Лена усмехнулась.
– Вы против. Я знаю.
– Я не против исследований. Я против того, чтобы учёные использовали себя как подопытных кроликов. – Окойе скрестила руки на груди. – Вы читали последний отчёт по суицидам среди ретроградов?
– Двенадцать и четыре десятых процента. Я сама его составляла.
– И вас это не останавливает?
Лена посмотрела на шлюз – тяжёлую металлическую дверь с жёлто-чёрной разметкой радиационной опасности.
– Вероятность трансформации – ноль целых одна десятая процента, – сказала она. – Вероятность того, что я стану одной из двенадцати процентов суицидальных ретроградов – ноль целых ноль-ноль-один-два процента. Это… это ничто.
– Статистика не утешает, когда становишься исключением.
– Я не стану исключением.
Окойе долго смотрела на неё, потом покачала головой.
– Вы удивительно уверены для человека, который изучает непредсказуемость.
Она прошла мимо Лены и приложила ладонь к сканеру. Шлюз открылся с тяжёлым лязгом.
– Идёмте. Вейдт уже ждёт.
Камера B-7 была круглой, около восьми метров в диаметре. Стены, пол и потолок покрывала свинцовая облицовка, поверх которой шёл слой белого полимера – гладкого, стерильного, слегка отражающего свет. В центре располагалось кресло, похожее на стоматологическое, но с множеством дополнительных креплений и датчиков. Над креслом нависала конструкция, напоминающая раскрытый цветок – шесть лепестков-излучателей, направленных внутрь.
Вейдт стоял у пульта управления в смежной комнате, отделённой толстым стеклом. Рядом с ним – двое техников, которых Лена знала только по фамилиям: Чен и Коваленко.
– Доброе утро, Лена. – Голос Вейдта звучал из динамиков, чуть искажённый. – Как вы себя чувствуете?
– Все спрашивают одно и то же.
– Потому что это важно.
Лена подошла к креслу и провела рукой по подлокотнику. Прохладный полимер, мелкие отверстия для вентиляции, мягкие ремни фиксаторов.
– Я готова, – сказала она.
– Тогда переодевайтесь. Халат в шкафу слева. Все металлические предметы – в контейнер.
Процедура была знакомой: Лена наблюдала её семнадцать раз с другими добровольцами. Снять одежду, надеть тонкий медицинский халат, сдать обручальное кольцо (металл мог нагреться под излучением), лечь в кресло, позволить Окойе закрепить датчики на висках, груди, запястьях.
– Пульс семьдесят восемь, – сообщила Окойе, глядя на монитор. – Давление сто двадцать на восемьдесят. Немного повышено, но в пределах нормы.
– Нервничаю, – повторила Лена.
– Это заметно.
Датчики были холодными, гель для улучшения контакта – липким и неприятным. Лена сосредоточилась на этих ощущениях, чтобы не думать о том, что будет дальше.
– Нейроинтерфейс активен, – донеслось из динамика. Голос Чена, молодой, сосредоточенный. – Базовые показатели записаны. Тета-ритм в норме, альфа-ритм в норме, никаких аномалий.
– Начинаем калибровку излучателей, – добавил Коваленко.
Шесть лепестков над головой Лены ожили – загудели, засветились мягким голубоватым светом. Она почувствовала лёгкое покалывание на коже, словно слабый статический заряд.
– Калибровка завершена. – Голос Вейдта. – Лена, вы готовы?
Она закрыла глаза.
– Да.
– Тогда начинаем. Фаза один: адаптация. Продолжительность – сорок минут. Вы можете чувствовать тепло, покалывание, возможно – лёгкое головокружение. Всё это нормально. Если что-то покажется неправильным – скажите, и мы остановим процедуру.
– Поняла.
Гудение усилилось. Голубой свет стал ярче, проникая сквозь закрытые веки. Лена почувствовала, как тепло разливается по телу – сначала по голове, потом по шее, плечам, груди. Не жар, не боль – просто тепло, мягкое и обволакивающее.
Она начала считать про себя. Старый трюк для сохранения фокуса – считать до ста, потом обратно, потом снова. Но где-то на семидесяти трёх мысли начали расплываться, и вместо цифр в голове возникло воспоминание.
Тринадцать лет назад. Цюрих. Конференц-зал Политехникума.
Лене было двадцать восемь, и она собиралась представить результаты своей докторской работы – первое комплексное исследование квантовых эффектов в нейронных микротрубочках. Три года работы, сотни экспериментов, революционные выводы, которые могли изменить понимание сознания.
Проектор не работал.
– Это катастрофа, – бормотала она, тыкая в кнопки пульта. – Через двадцать минут выступление, триста человек в зале, и я не могу показать ни одного слайда.
– Может, расскажете на пальцах?
Она обернулась. У двери стоял мужчина в синем комбинезоне с надписью «Техническая служба» – высокий, широкоплечий, с лёгкой щетиной и насмешливыми серыми глазами.
– Это не смешно.
– Согласен. – Он прошёл к проектору и присел рядом с ним на корточки. – Но паника тоже не поможет. Дайте мне пять минут.
– У меня нет пяти минут.
– Тогда четыре. – Он уже ковырялся в задней панели проектора какой-то отвёрткой. – Кстати, я Томаш.
– Лена. – Она скрестила руки на груди, глядя на него сверху вниз. – И если вы сломаете это окончательно…
– То что? Вы меня уволите? – Он усмехнулся, не отрываясь от работы. – Я здесь на стажировке. Меня уволят и так через две недели.
– Почему?
– Потому что я подал заявку на программу ЦЕРН. – Что-то щёлкнуло внутри проектора. – Если возьмут – улечу на орбиту. Если нет… ну, найду другую работу.
Лена не нашлась с ответом. Она стояла, глядя, как незнакомый техник чинит проектор, который должен был показать её прорыв мировому научному сообществу.
– Готово. – Он встал и нажал кнопку. Экран ожил, высветив первый слайд её презентации: «Квантовая когерентность в нейронных структурах: новый взгляд на природу сознания». – Контакт отошёл. Бывает.
– Спасибо. – Слово прозвучало неловко, сухо. – Я… спасибо.
– Не за что. – Он направился к двери, потом обернулся. – Кстати, ваш тезис о микротрубочках… я прочитал аннотацию в программе. Интересно. Но вы учитываете декогеренцию?
Лена моргнула.
– Вы физик?
– Инженер. Но физику люблю. – Он улыбнулся. – Удачи с докладом. Может, увидимся на орбите.
Он ушёл, оставив её с работающим проектором и странным ощущением, что что-то важное только что началось.
– Лена? – Голос Окойе вырвал её из воспоминания. – Вы меня слышите?
Она открыла глаза. Потолок камеры, шесть лепестков излучателей, мягкий голубой свет.
– Да. Слышу.
– Вы не отвечали почти минуту. Что вы чувствовали?
– Я… – Лена задумалась. – Вспоминала. Как познакомилась с мужем.
За стеклом Вейдт что-то записал в планшет. Его лицо оставалось непроницаемым.
– Это нормально, – сказала Окойе. – Облучение может вызывать спонтанные воспоминания. Как вы себя чувствуете физически?
– Тепло. Лёгкое головокружение. Ничего необычного.
– Хорошо. Фаза один завершена. Переходим к фазе два.
Гудение изменило тон – стало выше, пронзительнее. Свет из голубого превратился в фиолетовый, потом в почти невидимый ультрафиолет. Лена почувствовала, как тепло концентрируется в области висков.
– Фаза два: интенсивное воздействие, – объявил голос Вейдта. – Продолжительность – девяносто минут. Это основная часть протокола. Доза космического излучения будет имитировать условия солнечной вспышки средней интенсивности. Вы можете почувствовать…
– Я знаю, что я могу почувствовать, – перебила Лена. – Я писала этот протокол.
Пауза. Потом:
– Конечно. Простите.
Она снова закрыла глаза и сосредоточилась на ощущениях. Тепло в висках нарастало, становилось почти болезненным. Покалывание на коже усилилось, словно тысячи крошечных иголок. Это было неприятно, но терпимо.
Время потеряло чёткость. Лена не знала, прошло десять минут или сорок. Она плавала в странном пространстве между бодрствованием и дрёмой, и воспоминания всплывали сами собой, непрошенные и яркие.
Первый год на орбите. Тесная каюта, которую они делили с Томашем. Он уже работал в системе жизнеобеспечения, она только начинала проект «Янус».
– Ты правда веришь в это? – спросил он однажды ночью, когда они лежали в темноте, слушая гул станции. – В ретрокаузальность, вектор из будущего, всё такое?
– Это не вопрос веры. Это математика. TSVF даёт проверяемые предсказания, которые отличаются от стандартной квантовой механики. Мы можем это проверить.
– Но ты же понимаешь, что это значит? – Он повернулся к ней, его силуэт едва различим в полумраке. – Если будущее влияет на настоящее так же, как прошлое… если причина может быть после следствия…
– То что?
– То свободной воли не существует. Мы все – марионетки, которых дёргают за нитки из обоих концов времени.
Лена помолчала.
– Или, – сказала она, – свободная воля существует именно потому, что время симметрично. Мы не марионетки – мы точки интерференции. Места, где прошлое и будущее встречаются и создают настоящее.
– Это красиво. – Он коснулся её щеки. – Но я всё ещё предпочитаю чинить трубы. Там причина и следствие идут в правильном порядке.
Она рассмеялась и придвинулась ближе.
– Семьдесят минут, – объявил голос из динамика. – Показатели стабильны. Никаких отклонений от нормы.
Лена не открыла глаза. Она плавала в тепле, в странной невесомости, которая была не физической, а ментальной. Мысли текли свободно, без обычного контроля.
Почему именно это воспоминание? – подумала она. Почему разговор о свободе воли?
Она вспомнила слова Хави Морено: «Мы не знаем. Мы не виноваты. Мы не молчим». Три принципа, которые помогали ретроградам выживать. Но Лена не была ретроградом. Она была учёным, наблюдателем, человеком, который смотрит извне.
Пока не была.
– Восемьдесят минут. – Голос Чена. – Небольшой всплеск гамма-активности в правом гиппокампе. В пределах допустимого.
– Записывайте всё, – сказал Вейдт.
Тепло в висках достигло пика и начало спадать. Лена почувствовала облегчение – не физическое, а какое-то глубинное, словно напряжение, о котором она не знала, наконец отпустило.
– Девяносто минут. Фаза два завершена. – Голос Окойе был ровным, профессиональным. – Лена, как вы себя чувствуете?
– Хорошо. – Она открыла глаза. Потолок, лепестки, свет. Всё на месте. – Даже лучше, чем в начале.
– Это нормальная реакция. Эндорфины. – Окойе склонилась над ней, проверяя датчики. – Переходим к фазе три: стабилизация. Ещё сорок пять минут. Просто лежите и отдыхайте.
Гудение снизилось до едва слышного фона. Свет стал мягче, почти сумеречным. Лена позволила себе расслабиться, впервые за всё утро.
Она познакомилась с Юн Мэй через три года после начала проекта. Девушка была лаборантом – молодая, способная, родившаяся на орбите и никогда не видевшая Земли иначе как через стекло иллюминатора.
– Почему вы согласились на эксперимент? – спросила Лена во время первого интервью.
Юн Мэй пожала плечами.
– Хотела знать, каково это. Чувствовать то, чего ещё нет.
– И как?
– Не знаю. – Девушка улыбнулась. – Я ведь ещё не ретроград. Может, никогда не стану.
Она стала. Через шесть месяцев после облучения – одна из немногих, у кого трансформация произошла с задержкой. Лена помнила тот день: Юн Мэй пришла в лабораторию с красными глазами и сказала:
– Я чувствую что-то. Не знаю что. Но это… больно.
С тех пор прошло два года. Юн Мэй научилась жить с болью. Научилась «не выдерживать, но продолжать». А Лена научилась смотреть на неё и не понимать.
– Сто тридцать минут. – Голос Коваленко. – Фаза три завершается через пятнадцать минут. Все показатели в норме.
Лена лежала неподвижно, позволяя мыслям течь. Она думала о Томаше – о том, как он стоял вчера в дверях их каюты, когда она уходила.
– Я буду ждать, – сказал он просто.
Она не ответила. Просто коснулась его щеки и ушла.
Теперь, лёжа под излучателями, она жалела, что не сказала больше. Не объяснила, почему это важно. Не попросила прощения за то, что не слушает его страхи.
Потом, – подумала она. Когда всё закончится, я скажу.
– Сто сорок минут. Процедура завершена.
Гудение смолкло. Свет погас. Лена лежала в полумраке, слушая тишину.
– Как вы себя чувствуете? – Голос Вейдта, ближе, чем раньше. Она открыла глаза и увидела, что он вошёл в камеру и стоит рядом с креслом.
– Нормально. – Она села, и голова не закружилась. – Хорошо. Даже очень хорошо.
– Никаких необычных ощущений? Тревоги? Эйфории? Странных мыслей?
Лена прислушалась к себе. Тело было лёгким, разум – ясным. Никаких теней, никаких предчувствий, никаких голосов из будущего.
– Ничего, – сказала она. – Абсолютно ничего необычного.
Вейдт кивнул. Его лицо было непроницаемым, но в глазах что-то мелькнуло – разочарование? облегчение? – и исчезло.
– Это ожидаемо, – произнёс он. – Вероятность трансформации – один к восьмистам. Большинство добровольцев ничего не чувствуют.
– Я знаю статистику.
– Знаете. – Он помолчал. – И всё же… вы надеялись.
Это был не вопрос.
Лена встала с кресла. Ноги держали твёрдо, никакой слабости.
– Я учёный, – сказала она. – Я не надеюсь. Я проверяю гипотезы.
– Конечно. – Вейдт отступил, пропуская её. – Теперь – сорок восемь часов наблюдения в медотсеке. Стандартный протокол.
– Я знаю протокол.
– Знаете.
Окойе ждала её у двери с медицинским халатом в руках.
– Идёмте, Лена. Я провожу вас.
Медицинский отсек модуля «Гамма» был знаком Лене до мелочей. Она провела здесь сотни часов, наблюдая за ретроградами после трансформации. Теперь она сама лежала на узкой койке, обвешанная датчиками, и смотрела в белый потолок.
– Показатели стабильны, – сообщила Окойе, глядя на мониторы. – Никаких признаков нейронной реорганизации. Пока – всё в норме.
– Значит, я не стала ретроградом.
– Слишком рано говорить. – Окойе присела на край соседней койки. – Трансформация может проявиться в течение сорока восьми часов. Иногда – позже. Юн Мэй, например, показала первые признаки через шесть месяцев.
– Я помню.
– Тогда вы знаете, что нельзя расслабляться.
Лена закрыла глаза. Она устала – не физически, а как-то иначе. Устала ждать, устала анализировать, устала быть учёным.
– Доктор Окойе… Амара… – Она открыла глаза. – Могу я вас спросить кое-что? Не как исследователь – как… человек.
Окойе подняла бровь.
– Спрашивайте.
– Почему вы против этих экспериментов? Не официальная позиция – настоящая причина.
Окойе долго молчала. Потом сказала:
– Потому что я вижу, что это делает с людьми. Не статистику – людей. Юн Мэй, которая плачет по ночам. Хави Морено, который потерял веру и нашёл что-то страшнее. Анна Ким, которая боится засыпать, потому что во сне предчувствия сильнее. – Она покачала головой. – Вейдт видит в них данные. Я вижу страдание.
– Но если мы поймём механизм…
– Что тогда? – Окойе наклонилась ближе. – Мы создадим армию людей, которые чувствуют будущее? Используем их как оружие? Как инструмент?
– Мы поможем им. Найдём способ облегчить…
– Или найдём способ использовать их страдание. – Окойе встала. – Я не против науки, Лена. Я против того, чтобы забывать, что за данными стоят люди.
Она направилась к двери.
– Отдыхайте. Я загляну через четыре часа.
Томаш пришёл в шесть вечера. Лена услышала его шаги в коридоре – тяжёлые, знакомые – и почувствовала, как что-то отпускает в груди.
– Эй. – Он остановился у койки, глядя на неё сверху вниз. – Как ты?
– Нормально. Все показатели в норме.
– Это хорошо. – Он сел на стул рядом с койкой, и она увидела, что его глаза красные, словно он не спал всю ночь. – Значит, ты не…
– Пока не знаю. Сорок восемь часов наблюдения.
– Сорок восемь часов. – Он кивнул. – Я могу остаться?
– Тебе не нужно на работу?
– Взял отгул. – Он усмехнулся. – Сказал, что жена в больнице. Технически – правда.
Лена протянула руку, и он взял её. Его ладонь была тёплой, шершавой от работы.
– Мне жаль, – сказала она.
– За что?
– За то, что не послушала тебя. За то, что не объяснила.
Томаш покачал головой.
– Тебе не нужно объяснять. Я знаю тебя тринадцать лет. Ты всегда шла туда, куда другие боялись.
– Это не храбрость.
– Нет. – Он сжал её руку. – Это любопытство. Ты не можешь не знать. Не можешь смотреть на загадку и отвернуться.
Он замолчал, и Лена увидела, что он хочет сказать что-то ещё, но не решается.
– Что? – спросила она.
– Ничего. – Он отвёл взгляд. – Просто… рад, что ты в порядке.
Она хотела спросить, что он скрывает. Хотела сказать, что видит – что-то не так, что-то гложет его уже несколько недель. Но датчики на груди запищали, сигнализируя о повышении пульса, и момент прошёл.
– Тебе нужно отдыхать, – сказал Томаш. – Я посижу здесь. Почитаю.
Он достал планшет и погрузился в какой-то технический документ. Лена закрыла глаза, слушая его дыхание – ровное, спокойное, знакомое.
Она чувствовала себя нормально. Абсолютно нормально.
И почему-то это тревожило её больше, чем если бы она почувствовала что-то странное.
Ночь прошла без происшествий. Лена просыпалась несколько раз – от писка датчиков, от шагов медсестры, от собственных снов, которые рассыпались, как только она открывала глаза. Томаш спал на соседней койке, свернувшись в неудобной позе.
Утром пришёл Вейдт.
– Доброе утро. – Он выглядел свежим, выспавшимся, собранным. – Как вы себя чувствуете?
– Так же, как вчера. Нормально.
– Никаких снов? Предчувствий? Необъяснимых эмоций?
– Ничего.
Он кивнул, изучая данные на мониторе.
– Показатели стабильны. Никаких признаков трансформации. – Он повернулся к ней. – Вы, вероятно, один из девятисот девяноста девяти, Лена.
– Вероятно.
– Разочарованы?
Она подумала.
– Не знаю, – сказала честно. – Часть меня облегчена. Часть… да, разочарована.
– Это понятно. – Вейдт сел на стул, который ночью занимал Томаш. – Вы хотели понять изнутри. Это редкое желание для учёного – большинство предпочитают безопасность внешнего наблюдения.
– Внешнее наблюдение имеет пределы.
– Да. – Он помолчал. – Знаете, Лена, я много лет думал о границе между наблюдателем и наблюдаемым. В квантовой механике эта граница размыта – акт наблюдения меняет систему. А что, если в сознании та же логика?
– Вы имеете в виду…
– Я имею в виду, что возможно, вы уже изменились. Не стали ретроградом – но изменились. Прошли через что-то, что оставило след.
Лена нахмурилась.
– У меня нет никаких симптомов.
– Симптомов – нет. – Вейдт встал. – Но опыт есть. И этот опыт станет частью вашего исследования. Вы смотрели на ретроградов снаружи – теперь вы знаете, каково лежать в их кресле. Ждать. Не знать.
Он направился к двери.
– Осталось двадцать четыре часа наблюдения. Отдыхайте.
День тянулся медленно. Томаш ушёл на работу, обещав вернуться к вечеру. Лена лежала на койке, читала научные статьи, отвечала на сообщения коллег. Всё было обычно, рутинно, нормально.
Слишком нормально.
К полудню она поймала себя на том, что прислушивается к собственным ощущениям – ищет тень, предчувствие, что-то необычное. Но внутри было пусто. Никаких голосов из будущего. Никаких эмоций без причины.
Я одна из девятисот девяноста девяти, – подумала она. Статистика победила.
И всё же что-то не давало покоя. Не предчувствие – скорее, отсутствие предчувствия. Как будто она ожидала чего-то, что не пришло, и это ожидание само по себе стало присутствием.
Глупость, – сказала она себе. Это просто разочарование. Ничего больше.
Она закрыла глаза и попыталась уснуть.
Вечером, за два часа до окончания наблюдения, пришла Юн Мэй.
– Можно? – Она стояла в дверях, неуверенная, почти робкая.
– Конечно. – Лена села на койке. – Заходи.
Юн Мэй села на стул, где раньше сидели Томаш и Вейдт. Её тонкие пальцы нервно теребили край халата.
– Я слышала, что вы… что вы прошли процедуру.
– Да.
– И?
– Ничего. – Лена пожала плечами. – Никаких признаков трансформации.
– О. – Юн Мэй отвела взгляд. – Это… хорошо?
– Наверное.
Молчание повисло между ними – не неловкое, скорее задумчивое.
– Доктор Рох… – начала Юн Мэй.
– Лена.
– Лена. – Девушка сглотнула. – Я хотела спросить. Когда вы спрашивали, как я это выдерживаю… вы думали о себе?
Вопрос застал Лену врасплох.
– Почему ты так решила?
– Потому что обычно учёные спрашивают «как это работает». А вы спросили «как это выдержать». Это… другой вопрос.
Лена помолчала.
– Может быть, – сказала она наконец. – Может быть, я хотела знать на случай, если…
– На случай, если станете одной из нас.
– Да.
Юн Мэй кивнула.
– Я рада, что вы не стали. – Она встала. – Это не подарок, доктор… Лена. Это не дар и не проклятие. Это просто… есть. И с этим нужно жить.
– Ты справляешься.
– Я продолжаю. – Юн Мэй улыбнулась той самой странной улыбкой, которую Лена видела два дня назад в комнате ретроспекции. – Это не одно и то же.
Она ушла, оставив Лену с мыслями, которые не складывались в уравнение.
В девять вечера Окойе официально объявила, что период наблюдения завершён.
– Никаких признаков трансформации, – сказала она, снимая датчики. – Поздравляю, Лена. Вы – один из девятисот девяноста девяти.
– Спасибо.
– Не за что благодарить. – Окойе посмотрела на неё внимательно. – Как вы себя чувствуете? Честно.
Лена задумалась.
– Странно, – сказала она. – Я чувствую себя… нормально. Абсолютно нормально. И это… – она замолчала, ища слова, – это слишком нормально.
Окойе нахмурилась.
– Что вы имеете в виду?
– Не знаю. – Лена встала с койки, потянулась. Тело слушалось отлично, никаких следов процедуры. – Наверное, я ожидала чего-то. Хоть чего-то. А получила… пустоту.
– Пустота – это хорошо, – сказала Окойе. – Пустота означает, что ваш мозг цел.
– Да. Конечно.
Лена оделась в свою обычную одежду, забрала планшет, кольцо. Томаш ждал её в коридоре.
– Домой? – спросил он.
– Домой.
Они шли по коридорам станции, мимо лабораторий и жилых отсеков, мимо людей, которые не знали, что она только что провела сорок восемь часов, ожидая превращения. Всё было как раньше. Всё было нормально.
Слишком нормально.
– Ты в порядке? – Томаш взял её за руку.
– Да. – Она улыбнулась ему. – Я в порядке. Правда.
Она чувствовала себя нормально.
И почему-то это беспокоило её больше всего.
Глава 3: Пробуждение
Она проснулась от света.
Не резкого, не болезненного – мягкого утреннего света, который имитировал рассвет над Женевским озером. Лена помнила этот свет по детству: он пробивался сквозь жалюзи в её комнате, ложился полосами на одеяло, обещал новый день.
На станции не было рассветов. Но инженеры постарались – освещение в медотсеке плавно разгоралось с шести утра, создавая иллюзию естественного пробуждения.
Лена лежала на койке, глядя в потолок. Белый полимер, едва заметные швы между панелями, вентиляционная решётка в углу. Всё знакомое, всё на месте.
Она прислушалась к себе.
Тело было лёгким, отдохнувшим. Голова ясной. Никакой боли, никакого дискомфорта. Показатели на мониторе рядом с койкой светились зелёным – пульс шестьдесят четыре, давление сто пятнадцать на семьдесят пять, всё в пределах нормы.
Третий день после процедуры, – отметила она автоматически. Контрольное наблюдение.
Вейдт настоял на дополнительных сутках – «для полноты данных», как он выразился. Окойе не возражала. Томаш ушёл на работу, обещав вернуться к обеду.
Лена села на койке и потянулась. Мышцы отозвались приятным напряжением. Она чувствовала себя хорошо. Даже отлично.
Один из девятисот девяноста девяти, – подумала она с лёгким разочарованием. Эксперимент не удался. Я осталась собой.
Она встала, прошла к раковине в углу палаты, умылась. Вода была прохладной, приятной. В зеркале отражалось её лицо – бледное, с тёмными кругами под глазами от плохого сна, но в остальном обычное. Никаких следов трансформации. Никаких знаков того, что космос заглянул в её мозг.
Может, это и к лучшему, – сказала она своему отражению. Может, Томаш был прав.
Дверь палаты открылась.
– Доброе утро. – Голос Томаша, знакомый, тёплый. – Как ты?
Она обернулась.
Он стоял в дверном проёме – высокий, широкоплечий, в синем рабочем комбинезоне с пятном машинного масла на рукаве. Щетина отросла за три дня, делая его старше. Но улыбка была той же – мягкой, немного застенчивой, словно он до сих пор не верил, что она выбрала именно его.
Та же улыбка, что тринадцать лет назад. Когда он починил проектор и сказал: «Может, увидимся на орбите».
Лена открыла рот, чтобы ответить.
И мир обрушился.
Это пришло без предупреждения.
Не мысль – ощущение. Не образ – волна. Что-то тёмное, огромное, всепоглощающее хлынуло из глубины её существа и затопило всё.
Горе.
Такое острое, такое абсолютное, что Лена задохнулась. Горе, которое не имело причины, не имело источника, не имело имени. Горе, которое просто было – как гравитация, как время, как сама ткань реальности.
Она смотрела на Томаша – на его улыбку, на его глаза, на знакомые черты лица – и чувствовала, как что-то внутри неё рвётся, раскалывается, умирает.
Нет, – подумала она. Нет, нет, нет.
Но горе не слушало. Оно росло, заполняло её целиком, выдавливало воздух из лёгких, слёзы из глаз, крик из горла.
– Лена? – Голос Томаша изменился, тревога прорезалась сквозь теплоту. – Лена, что…
Она не могла ответить. Не могла говорить, не могла дышать, не могла думать. Только чувствовать – это бесконечное, беспричинное, невыносимое горе.
Колени подогнулись. Пол ударил по ладоням – холодный, твёрдый, реальный. Она упала на четвереньки, и рыдания вырвались из неё, как извержение – судорожные, рваные, животные.
– Лена! – Томаш был рядом, его руки на её плечах, его голос где-то далеко, за стеной горя. – Лена, что случилось? Скажи мне!
Она не могла сказать. Она не знала.
Она только чувствовала, что теряет его. Уже потеряла. Будет терять снова и снова, бесконечно, во всех возможных будущих.
– Помогите! – крикнул Томаш куда-то в коридор. – Помогите, ей плохо!
Шаги. Голоса. Руки, которые поднимают её, укладывают на койку. Лицо Окойе – тёмное, сосредоточенное, профессиональное.
– Что произошло?
– Не знаю, – голос Томаша дрожал. – Она стояла у раковины, я вошёл, и она просто… она…
Лена хотела объяснить. Хотела сказать, что это не боль, не болезнь, не инсульт. Что это что-то другое, что-то, чему нет названия в медицинских справочниках.
Но слова не шли. Только слёзы, только рыдания, только это бесконечное, разрывающее горе.
– Пульс сто сорок, – сказала Окойе кому-то. – Давление сто шестьдесят на сто. Готовьте седатив.
– Что с ней? – Томаш. Его рука сжимала её ладонь, и от этого прикосновения горе вспыхнуло ещё сильнее.
Лена вырвала руку. Отшатнулась. Закричала – не от боли, а от ужаса, потому что его прикосновение было как огонь, как кислота, как смерть.
– Держите её!
Чьи-то руки прижали её к койке. Холодная игла вошла в вену. Мир начал расплываться, терять чёткость.
Последнее, что она увидела перед тем, как тьма поглотила её – лицо Томаша. Его глаза, полные страха и непонимания.
Я теряю тебя, – подумала она.
И провалилась в ничто.
Темнота была милосердной.
В ней не было горя. Не было чувств вообще – только тишина, только покой, только блаженное отсутствие. Лена плавала в этой темноте, не желая всплывать, не желая возвращаться туда, где ждала боль.
Но темнота не могла длиться вечно.
Сначала вернулись звуки – тихий писк монитора, шорох одежды, приглушённые голоса. Потом – ощущения: мягкость койки под спиной, прохлада воздуха, тяжесть в веках.
И наконец – чувства.
Горе было всё ещё там. Но теперь оно не ревело, не кричало, не рвало на части. Оно стало тише, глуше, глубже – как далёкий гром после грозы, как эхо крика в горном ущелье.
Лена открыла глаза.
Потолок. Белый полимер, вентиляционная решётка. Всё то же, всё на месте. Но что-то изменилось – не в комнате, не в мире. В ней.
– Лена?
Голос Окойе. Лена повернула голову и увидела её – она сидела на стуле рядом с койкой, планшет в руках, очки сползли на кончик носа.
– Сколько… – голос Лены был хриплым, незнакомым, – сколько я…
– Четыре часа. – Окойе отложила планшет. – Как вы себя чувствуете?
Лена прислушалась к себе. Горе было там – глухое, фоновое, постоянное. Как шум станции, к которому привыкаешь и перестаёшь замечать. Но стоило сосредоточиться – и оно проступало, напоминало о себе, грозило снова затопить.
– Странно, – сказала она. – Я чувствую себя… странно.
– Можете описать?
– Горе. – Слово вышло само, прежде чем Лена успела его обдумать. – Я чувствую горе. Без причины. Просто… оно там.
Окойе медленно кивнула. Её лицо не выразило удивления – только подтверждение чего-то, что она уже знала.
– Когда это началось?
– Когда я увидела Томаша. – Лена сглотнула. – Он вошёл, улыбнулся, и я… я почувствовала, что теряю его. Что уже потеряла. Что… – она запнулась, не зная, как объяснить.
– Что это уже случилось, – закончила Окойе. – Хотя ещё не случилось.
Лена посмотрела на неё.
– Вы знаете, что это.
– Да. – Окойе сняла очки и потёрла переносицу. – Лена, ваши показатели… мы мониторили вас последние четыре часа. Активность в правом гиппокампе увеличилась на триста процентов. Тета-ритм изменил структуру. Появились паттерны, которые мы видим только у…
– У ретроградов.
– Да.
Слово повисло в воздухе. Тяжёлое, окончательное, неотменимое.
Лена закрыла глаза. Внутри, в глубине, горе шевельнулось – напомнило о себе, как зверь в клетке.
– Я стала ретроградом, – сказала она вслух. Не вопрос – констатация.
– Похоже на то. – Окойе помолчала. – Поздняя трансформация. Как у Юн Мэй, только быстрее. Обычно это занимает недели или месяцы. У вас – три дня.
– Почему?
– Мы не знаем. – Честный ответ, без попытки смягчить. – Возможно, дело в вашем нейрофизиологическом профиле. Возможно, в особенностях облучения. Возможно, в чём-то, чего мы ещё не понимаем.
Лена открыла глаза и посмотрела на монитор рядом с койкой. Графики, цифры, кривые – язык, который она понимала лучше, чем любой другой. Но теперь эти данные были о ней. Она была не наблюдателем – она была субъектом.
– Где Томаш? – спросила она.
– В коридоре. – Окойе кивнула на дверь. – Он не хотел уходить, но я настояла. После того, что случилось…
– Что именно случилось?
– Вы закричали, когда он коснулся вас. – Окойе выдержала паузу. – Буквально закричали от ужаса. Он… он был напуган.
Лена вспомнила – или попыталась вспомнить. Его рука на её ладони. Вспышка горя, усилившегося в тысячу раз. Крик, который вырвался сам собой.
– Я не хотела, – сказала она. – Я не контролировала…
– Я знаю. – Окойе встала. – Лена, я должна вам кое-что сказать. Как врач – и как человек, который видел это много раз.
– Говорите.
– То, что вы чувствуете сейчас – это только начало. – Окойе подошла к окну, за которым темнел коридор. – Ретрокаузальные эмоции… они не постоянны. Они приходят и уходят. Иногда без предупреждения, иногда – с триггером. Сегодня триггером был ваш муж. Завтра это может быть что-то другое.
– Что мне делать?
– Учиться жить с этим. – Окойе обернулась. – Других вариантов нет.
Томаш вошёл через полчаса, когда Окойе закончила объяснять протокол наблюдения для новых ретроградов. Его лицо было бледным, глаза – красными. Он двигался осторожно, словно боялся спугнуть что-то хрупкое.
– Можно? – спросил он от двери.
Лена посмотрела на него. Горе шевельнулось внутри – глухое, но ощутимое. Она сделала глубокий вдох, пытаясь удержать его под контролем.
– Да. Заходи.
Он подошёл к койке, но не сел рядом. Не попытался коснуться её. Стоял на расстоянии вытянутой руки, словно между ними выросла невидимая стена.
– Окойе сказала, что ты… что ты стала… – Он не мог произнести слово.
– Ретроградом. – Лена сказала это за него. – Да.
Томаш сглотнул.
– Это из-за процедуры?
– Очевидно.
– Я говорил тебе, – начал он, потом осёкся. – Прости. Это не…
– Не время для «я говорил», – закончила она. – Знаю.
Молчание. Тяжёлое, неловкое – такого между ними не было никогда. За тринадцать лет они научились понимать друг друга без слов. Но сейчас слова не помогали, а молчание только усиливало расстояние.
– Что ты почувствовала? – спросил Томаш наконец. – Когда я вошёл?
Лена посмотрела ему в глаза. Серые, знакомые, любимые. И внутри снова шевельнулось горе – тень потери, которая ещё не случилась.
Я почувствовала, что потеряю тебя, – подумала она. Что ты умрёшь, или уйдёшь, или просто перестанешь быть частью моей жизни. Я почувствовала конец – наш конец – раньше, чем он наступит.
Но она не могла это сказать. Не могла вложить в слова то, что не имело слов.
– Ничего, – сказала она. – Я ничего не почувствовала.
Это была ложь. Первая ложь за тринадцать лет брака.
Томаш смотрел на неё долго, и в его глазах она видела – он знает, что она лжёт. Но он не стал спрашивать. Не стал настаивать. Просто кивнул и отвёл взгляд.
– Окойе сказала, тебе нужно остаться ещё на сутки, – произнёс он. – Я могу посидеть с тобой?
– Да. – Она закрыла глаза. – Только… не трогай меня. Пока.
– Хорошо.
Она услышала, как он садится на стул – тот самый, где раньше сидела Окойе. Услышала его дыхание – чуть учащённое, неровное.
Горе внутри пульсировало медленно, ритмично, как второе сердце. Глухое, фоновое, постоянное.
Она стала ретроградом.
И первое, что она сделала – солгала человеку, которого любила.
Ночь была долгой.
Лена не могла спать – каждый раз, когда она закрывала глаза, горе усиливалось, обретало форму, превращалось в образы. Томаш в гробу – нет, это слишком конкретно, слишком похоже на знание, а не на чувство. Пустота там, где был Томаш – ближе, но всё равно не точно. Она не видела его смерть. Она чувствовала его отсутствие.
Это не предсказание, – напомнила она себе. Это не знание. Это просто эмоция без причины. Корреляция, не причинность.
Слова, которые она повторяла сотням ретроградов. Теперь они звучали пустыми, бессмысленными, жалкими.
Томаш заснул на стуле около полуночи, неловко склонив голову набок. Лена смотрела на него в полумраке – на знакомые черты, на седину в волосах, на морщины вокруг глаз. Он постарел за эти годы. Они оба постарели.
Сколько нам осталось? – подумала она. Сколько лет, месяцев, дней?
Раньше этот вопрос был абстрактным. Все смертны, все когда-нибудь потеряют друг друга – это факт жизни, который можно признать и отложить в сторону. Но теперь вопрос имел вес, имел остроту, имел привкус горя на языке.
Она знала – или чувствовала – что потеряет его. Не когда, не как, не почему. Просто – потеряет.
И что мне с этим делать?
Ответа не было.
Утром пришёл Вейдт.
Он выглядел так, словно тоже не спал – круги под глазами, щетина, мятый воротник рубашки. Но его взгляд был острым, цепким, голодным.
– Лена. – Он остановился у койки, не садясь. – Как вы себя чувствуете?
– Вы уже знаете ответ, – сказала она. – Окойе всё вам рассказала.
– Окойе рассказала мне данные. – Он склонил голову набок. – Я хочу услышать ваш опыт.
Лена посмотрела на Томаша – тот проснулся и сидел на стуле, напряжённый, настороженный.
– Может, нам поговорить наедине? – предложил Вейдт.
– Нет, – сказала Лена раньше, чем успела подумать. – Томаш останется.
Вейдт пожал плечами.
– Как хотите. – Он присел на край соседней койки. – Итак. Что вы чувствовали вчера, когда увидели мужа?
Лена помолчала, собираясь с мыслями. Горе внутри шевельнулось – реагируя на имя, на присутствие, на память.
– Потерю, – сказала она. – Я почувствовала потерю. Не страх потери – саму потерю. Как будто она уже случилась.
– Интересно. – Вейдт достал планшет. – Темпоральная инверсия восприятия. Юн Мэй описывала похожее, когда почувствовала смерть матери.
– Я не почувствовала смерть, – уточнила Лена. – Я почувствовала отсутствие. Это не одно и то же.
– Объясните.
Она попыталась найти слова.
– Смерть – это конец. Финальная точка. А то, что я чувствую… это пустота. Место, где кто-то был и больше не будет. Не обязательно из-за смерти. Может, из-за расставания. Может, из-за… – она замолчала.
– Из-за чего? – Вейдт наклонился вперёд.
– Не знаю. В том-то и дело. Я не знаю. Я только чувствую.
Вейдт записал что-то в планшет.
– Как долго продолжалось чувство?
– Оно не прекратилось. – Лена посмотрела на свои руки. – Оно всё ещё здесь. Глуше, чем вчера, но… здесь.
– Константное фоновое присутствие, – пробормотал Вейдт. – Это необычно. У большинства ретроградов эпизоды дискретны – приходят и уходят.
– Может, потому что триггер рядом. – Лена кивнула на Томаша, не глядя на него.
Томаш вздрогнул, словно его ударили.
– Я – триггер?
– Похоже на то. – Вейдт повернулся к нему. – Ваше присутствие усиливает её переживание. Это может означать, что предчувствие связано непосредственно с вами.
– Связано как?
– Мы не знаем. – Вейдт снова посмотрел на Лену. – Пока – не знаем. Но это первый случай, когда ретроград-учёный может анализировать собственный опыт изнутри. Лена, вы понимаете, насколько это ценно?
– Для науки – да. – Её голос был плоским. – Для меня – это просто боль.
Вейдт помолчал.
– Я понимаю, – сказал он мягче. – И я не прошу вас забыть о боли. Только – использовать её. Превратить в данные. В понимание.
– Это ваш способ справляться, – сказала Лена. – Превращать всё в данные. Включая людей.
– Да. – Он не отрицал. – Это мой способ. У вас будет свой.
Он встал.
– Отдыхайте. Окойе организует для вас встречу с группой поддержки, когда будете готовы. И… Лена?
– Да?
– Добро пожаловать по другую сторону стекла.
Он ушёл, оставив после себя тишину и запах антисептика.
Томаш молчал почти час после ухода Вейдта. Сидел на стуле, смотрел в стену, время от времени открывал рот – и закрывал, не сказав ни слова.
Наконец Лена не выдержала.
– Скажи.
– Что?
– То, что хочешь сказать. Я вижу, как ты мучаешься.
Он посмотрел на неё – впервые за час посмотрел прямо, не отводя взгляда.
– Это из-за меня, – сказал он. – Твоё… предчувствие. Оно связано со мной.
– Мы не знаем…
– Ты почувствовала это, когда увидела меня. – Его голос был тихим, почти шёпотом. – Ты закричала, когда я коснулся тебя. Это из-за меня.
Лена не могла отрицать. Не могла и подтвердить – потому что подтверждение сделало бы всё реальным, окончательным.
– Томаш, я не знаю, что означает это чувство. – Она выбирала слова осторожно. – Это не предсказание. Не знание. Просто… эмоция.
– Эмоция, что ты потеряешь меня.
– Да.
– Как?
– Не знаю.
– Когда?
– Не знаю.
– Почему?
– Не знаю! – Её голос сорвался, и горе внутри всколыхнулось, грозя снова вырваться наружу. Она сделала глубокий вдох, пытаясь удержать контроль. – Я ничего не знаю. Только чувствую. И не могу это остановить.
Томаш встал. Подошёл к койке – медленно, осторожно, как к раненому зверю.
– Можно я возьму тебя за руку? – спросил он.
Лена посмотрела на его ладонь – широкую, мозолистую, знакомую. Горе шевельнулось, предупреждая.
– Попробуй, – сказала она.
Он коснулся её пальцев – легко, едва ощутимо. Горе вспыхнуло, но не взорвалось. Осталось терпимым – как боль в старой ране, которую задели неосторожным движением.
– Больно? – спросил он.
– Не больно. – Она не отнимала руку. – Просто… грустно. Очень грустно.
Он сжал её пальцы чуть сильнее.
– Я никуда не денусь, – сказал он. – Слышишь? Никуда.
Она не ответила. Не могла сказать ему, что именно эти слова – «никуда не денусь» – звучали как ложь. Не его ложь – ложь самой вселенной, которая обещала что-то и не собиралась выполнять.
– Я знаю, – сказала она вместо этого.
Это тоже была ложь. Вторая за два дня.
К вечеру Окойе разрешила ей вернуться в каюту.
– Физически вы здоровы, – сказала она. – Нейронные изменения стабилизировались. Дальнейшее наблюдение можно проводить удалённо.
– Спасибо.
– Лена… – Окойе замешкалась у двери. – Я должна вам кое-что сказать. Не как врач.
– Как кто тогда?
– Как человек, который видел это слишком много раз. – Окойе посмотрела на неё серьёзно. – То, что вы чувствуете сейчас – это не приговор. Это не предсказание. Это просто… данные. Эмоциональные данные из будущего, которое ещё не существует.
– Я знаю теорию.
– Теория и опыт – разные вещи. – Окойе вздохнула. – Многие ретрограды делают ошибку: принимают свои чувства за знание. Пытаются действовать на основе того, чего не понимают. Это… плохо заканчивается.
– Я учёный. Я не буду действовать без данных.
– Вы были учёным, – поправила Окойе. – Теперь вы – субъект исследования. И субъект внутри субъекта. Будьте осторожны, Лена. Очень осторожны.
Она ушла. Лена осталась сидеть на койке, глядя в пустой дверной проём.
Субъект внутри субъекта, – повторила она про себя. Наблюдатель, ставший наблюдаемым. И в момент наблюдения – изменивший себя.
Квантовая механика в чистом виде.
Каюта казалась чужой.
Те же стены, та же мебель, те же вещи – но всё изменилось. Или она изменилась, и теперь видела то же самое другими глазами.
Томаш вошёл следом за ней, закрыл дверь. Они стояли посреди комнаты – два человека, которые знали друг друга тринадцать лет и вдруг стали незнакомцами.
– Ты голодна? – спросил он.
– Нет.
– Хочешь лечь?
– Да.
Она легла на койку, не раздеваясь. Томаш постоял рядом, потом сел на край – далеко, на безопасном расстоянии.
– Я могу уйти, – сказал он. – Если моё присутствие…
– Нет. – Она сама удивилась твёрдости в своём голосе. – Оставайся.
– Ты уверена?
Она не была уверена ни в чём. Но знала – или чувствовала – что одиночество будет хуже. Что без него горе сожрёт её изнутри.
– Останься, – повторила она.
Он кивнул и лёг рядом – не касаясь, но достаточно близко, чтобы она чувствовала тепло его тела.
– Лена…
– Да?
– Что бы ты ни чувствовала… что бы это ни значило… я хочу, чтобы ты знала: я люблю тебя. Это не изменилось.
Она закрыла глаза. Горе шевельнулось, отозвалось на его слова – не болью, а чем-то более сложным. Печаль смешалась с нежностью, страх – с благодарностью.
– Я тоже тебя люблю, – сказала она.
Это было правдой. Единственной правдой среди всей лжи.
И поэтому – больнее всего.
Она не могла спать.
Лежала в темноте, слушая дыхание Томаша – он заснул через час, измученный тревогой и бессонной ночью. Его лицо в тусклом свете аварийного освещения казалось моложе, спокойнее. Морщины разгладились, напряжение ушло.
Таким он был, когда мы познакомились, – подумала Лена. Молодым, уверенным, с насмешливыми серыми глазами.
Горе шевельнулось.
Таким он уже не будет никогда.
Она встала – осторожно, чтобы не разбудить его – и подошла к иллюминатору. За стеклом темнел космос, усыпанный звёздами. Земля была где-то внизу, за пределами видимости из этого угла.
Она прижала ладонь к холодному стеклу.
Что со мной произошло?
Три дня назад она была учёным. Наблюдателем. Человеком, который смотрит на мир и пытается его понять. Теперь она была ретроградом – человеком, чей мозг резонирует с тем, чего ещё нет.
Я чувствую будущее, – подумала она. Не вижу, не знаю – чувствую. И это чувство говорит мне, что я потеряю Томаша.
Но что это значило? Смерть? Болезнь? Развод? Или что-то, чему ещё нет названия?
Она не знала. Не могла знать – ограничение ретрокаузальности не позволяло превратить чувство в знание. Она была как слепая, которая чувствует солнечный свет на коже, но не может его увидеть.
И что мне делать?
Она могла отдалиться от Томаша. Уменьшить контакт, ослабить связь. Возможно, это уменьшило бы боль.
Или усилило. Потому что тогда потеря стала бы самоисполняющимся пророчеством.
Она могла попытаться понять – разобраться в своих чувствах, найти паттерн, обнаружить смысл.
Или запутаться ещё больше. Потому что чувства не имели смысла, который можно было бы выразить словами.
Она могла просто жить дальше – принять новую реальность, научиться сосуществовать с горем, как Юн Мэй и другие ретрограды.
«Я не выдерживаю. Я просто продолжаю».
Теперь Лена понимала эти слова.
Утро пришло слишком быстро.
Лена не помнила, когда заснула – просто в какой-то момент темнота за окном сменилась серым светом имитированного рассвета, и она осознала, что лежит на койке, укрытая одеялом.
Томаш стоял у двери, уже одетый в рабочий комбинезон.
– Я должен идти, – сказал он тихо. – Смена в семь.
– Иди.
– Ты в порядке?
Она села, протирая глаза. Горе было на месте – глухое, фоновое, постоянное. Но она уже начинала привыкать к нему, как привыкают к хронической боли.
– В порядке, – сказала она.
– Я вернусь к обеду. – Он помедлил у двери. – Лена…
– Да?
– Вчера ты сказала, что ничего не почувствовала. Когда я вошёл.
Она замерла.
– Это была ложь, – продолжил он. – Я знаю. И я не обижаюсь. Просто… когда будешь готова – расскажи мне правду. Хорошо?
Она смотрела на него – на его спину в дверном проёме, на седину в коротких волосах, на ссутуленные плечи.
– Хорошо, – сказала она.
Это тоже была ложь. Потому что она не знала, будет ли когда-нибудь готова.
Дверь закрылась. Лена осталась одна.
За окном медленно проплывали звёзды, равнодушные к её боли.
Она просидела неподвижно почти час, глядя в стену.
Мысли не шли – только чувства, бесформенные и тяжёлые. Горе, страх, растерянность, и под всем этим – усталость. Не физическая – глубинная, ментальная, словно что-то внутри неё потратило все резервы и теперь еле держалось на плаву.
Три дня назад я хотела понять, – думала она. Хотела знать, каково это – чувствовать будущее. Теперь знаю.
Это было ужасно.
Не потому что больно – боль можно терпеть. Не потому что страшно – страх можно контролировать. А потому что бессмысленно. Чувство без понимания. Сигнал без сообщения. Голос, который говорит на языке, которого она не знала.
Юн Мэй живёт с этим два года, – напомнила себе Лена. Другие – дольше. Если они могут – могу и я.
Но легче от этого не становилось.
Она встала и подошла к зеркалу. Женщина в отражении выглядела той же – сорок один год, короткие тёмные волосы, бледная кожа. Но в глазах что-то изменилось. Что-то погасло – или зажглось, она не могла определить.
Я стала ретроградом, – сказала она своему отражению.
Слова прозвучали странно, чужие и знакомые одновременно.
И теперь мне нужно научиться с этим жить.
Она отвернулась от зеркала и начала собираться. День не ждал – даже если она больше не была уверена, имеет ли смысл ждать чего-нибудь.
Сообщение от Вейдта пришло в девять утра.
«Когда будете готовы вернуться к работе – зайдите ко мне. Есть разговор».
Лена прочитала сообщение трижды. Работа. Проект «Янус». Изучение ретроградов.
Теперь она была и исследователем, и объектом исследования. Наблюдатель по обе стороны стекла.
Она ответила: «Буду через час».
И пошла в душ – смывать с себя остатки ночи.
Вода была горячей, почти обжигающей. Лена стояла под струями, закрыв глаза, и позволяла теплу проникать в тело. Горе было здесь – оно никуда не делось, оно будет с ней всегда – но под водой оно казалось чуть тише, чуть дальше.
Может, это и есть способ, – подумала она. Не избавиться – приглушить. Найти моменты, когда тише. Научиться жить между вспышками.
Она вышла из душа, вытерлась, оделась. В зеркале – та же женщина, с теми же изменившимися глазами.
«Добро пожаловать по другую сторону стекла», – вспомнила она слова Вейдта.
Она вышла из каюты и направилась к модулю «Альфа».
За её спиной станция продолжала гудеть – бесконечная симфония механизмов, которая теперь звучала иначе. Не фоном – аккомпанементом к горю, которое она несла внутри.
Глава 4: Адаптация
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК Субъект: Рох, Елена Маркова Дата начала: 15.04.2087 Статус: Активный ретроград, индекс 6.2 по шкале Вейдта
Запись 1 | 15.04.2087, 07:32
Интенсивность: 7/10 Качество: Горе, потеря Триггер: Пробуждение рядом с Т. Физиологические маркеры: Учащённое сердцебиение (89 уд/мин), слезотечение, тремор рук Продолжительность: 23 минуты (до приёма седатива)
Примечания: Чувство возникло при первом взгляде на спящего Т. Не связано с конкретным образом или мыслью – просто присутствие. Попытка рационализировать усилила интенсивность. Помогло: дыхательные упражнения, фокус на физических ощущениях (холод пола под ногами).
Запись 2 | 15.04.2087, 14:17
Интенсивность: 4/10 Качество: Фоновая тревога Триггер: Не идентифицирован Физиологические маркеры: Лёгкое напряжение в плечах, сухость во рту Продолжительность: Константно (с момента пробуждения)
Примечания: Базовый уровень. Присутствует постоянно, варьируется по интенсивности. Усиливается при мыслях о Т., ослабевает при погружении в работу.
Лена отложила планшет и потёрла глаза.
Две недели. Четырнадцать дней с момента трансформации. Двадцать восемь записей в эмоциональном дневнике – по две в день, как рекомендовал протокол. Она фиксировала всё: интенсивность, качество, триггеры, физиологию. Превращала хаос чувств в структурированные данные.
Это помогало. Немного.
Она сидела в своём кабинете в модуле «Бета», окружённая экранами с графиками и таблицами. Те же данные, что и раньше – нейронная активность ретроградов, корреляции предчувствий с событиями, статистика исходов. Но теперь она смотрела на них иначе.
Теперь она была частью этой статистики.
Курсор мигал на строке «Уровень суицидов среди ретроградов: 12,4%».
Каждый восьмой.
Лена знала эту цифру наизусть – она сама её рассчитывала три года назад, когда данных стало достаточно для статистически значимого анализа. Тогда это было просто число. Теперь – приговор, который мог коснуться и её.
Не коснётся, – сказала она себе. Я учёный. Я понимаю, что происходит. Я не сдамся.
Но голос в голове звучал неубедительно.
Дверь кабинета открылась.
– Доктор Рох? – Молодой техник, которого она помнила по имени – Сергей, кажется. – Группа поддержки через пятнадцать минут. Доктор Окойе просила напомнить.
– Спасибо. Я приду.
Техник кивнул и исчез. Лена посмотрела на экран, на мигающий курсор, на цифру 12,4%.
Потом закрыла файл и встала.
Группа поддержки собиралась в небольшом зале на нижней палубе модуля «Гамма» – том самом, где Лена впервые увидела молчаливое бдение Церкви Наблюдателя. Но сегодня здесь не было ни свечей, ни ритуалов. Только круг стульев, приглушённый свет и люди.
Восемь человек, включая её. Семь ретроградов и один «обычный» – мужчина лет пятидесяти с добрым усталым лицом, который сидел чуть в стороне, не участвуя, но и не отстраняясь.
Лена знала некоторых из присутствующих по работе. Анна Ким – инженер-электрик, ретроград уже четыре года. Маркос Сильва – биолог из оранжерей, трансформировался год назад. Юн Мэй – конечно, Юн Мэй, которая улыбнулась ей с той самой странной улыбкой.
И ещё четверо, которых она видела в коридорах, но не знала по именам.
– Добро пожаловать, – сказала женщина, которая вела группу. Лена помнила её из медицинских протоколов: Рита Йенсен, психолог, сама не ретроград, но работающая с ними уже пять лет. – Сегодня у нас новый участник. Лена, хотите представиться?
Все взгляды обратились к ней. Лена почувствовала, как горе шевельнулось внутри – не сильно, просто напоминая о себе.
– Лена Рох, – сказала она. – Нейрофизик. Ретроград… – она запнулась, – две недели.
– Две недели, – повторила Рита мягко. – Как вы себя чувствуете?
Стандартный вопрос. Лена слышала его сотни раз – от Окойе, от Вейдта, от Томаша. И каждый раз не знала, как ответить.
– Странно, – сказала она наконец. – Я чувствую себя странно.
Кто-то из группы хмыкнул – не насмешливо, скорее понимающе.
– Это нормально, – сказала Рита. – Здесь все чувствуют себя странно. Это, можно сказать, наш клуб.
– Клуб тех, кто плачет без причины, – добавил Маркос с невесёлой улыбкой.
Лена посмотрела на него. Он был моложе, чем она думала – может, тридцать пять. Тёмные волосы, смуглая кожа, глаза с постоянной тенью усталости.
– Расскажите нам о вашем опыте, – предложила Рита. – Только то, чем готовы поделиться.
Лена помолчала, собираясь с мыслями.
– Это началось на третий день после процедуры, – сказала она. – Я думала, что трансформации не будет – показатели были в норме. Потом мой муж вошёл в палату, и я… – она сглотнула, – я почувствовала, что теряю его. Не страх потери – саму потерю. Как будто она уже случилась.
– Темпоральная инверсия, – тихо сказала Анна Ким. – У меня было то же самое. С дочерью.
– Ваша дочь…
– Жива. – Анна покачала головой. – Жива и здорова. Ей двенадцать, она живёт на Земле с моей сестрой. Но каждый раз, когда я думаю о ней, я чувствую… – она не договорила.
Лена кивнула. Слова были не нужны.
– Самое трудное, – продолжила Анна, – это не знать, что означает чувство. Я четыре года живу с этим, и до сих пор не знаю. Может, она заболеет. Может, мы поссоримся и никогда не помиримся. Может… – она пожала плечами, – может, ничего не случится, а чувство просто есть.
– Корреляция не равна причинности, – произнёс мужчина, который сидел в стороне. Тот самый «обычный». – Разве не так?
Все посмотрели на него.
– Клаус, – сказала Рита с лёгкой улыбкой, – мы рады, что вы с нами, но помните о правилах.
– Я помню. – Он поднял руки в примирительном жесте. – Просто… вы же учёный, доктор Рох. Вы знаете разницу между корреляцией и причинностью.
Лена посмотрела на него внимательнее. Клаус – она вспомнила имя из персональных файлов. Клаус Беккер, техник системы жизнеобеспечения. Пятьдесят два года, работает на станции почти столько же, сколько она. Не ретроград – просто человек, который по каким-то причинам приходит слушать.
– Знаю, – ответила она. – Но знание не помогает, когда чувство захватывает тебя целиком.
Клаус кивнул.
– Да. Наверное, не помогает.
Группа продолжалась час. Люди говорили – о своих чувствах, о страхах, о попытках справиться. Лена больше слушала, чем говорила. Она узнавала в их историях свою собственную – и одновременно понимала, что каждый опыт уникален.
Маркос рассказал, как чувствовал надвигающуюся радость за неделю до того, как узнал о рождении племянника на Земле. «Это было странно, – сказал он. – Я не знал, почему счастлив. Просто был. А потом пришло сообщение, и всё встало на место».
Анна говорила о бессоннице – о том, как боится засыпать, потому что во сне предчувствия сильнее. «Днём я могу контролировать, – объясняла она. – Отвлекаться, фокусироваться на работе. Но ночью контроля нет. И чувства приходят во всей силе».
Юн Мэй молчала почти всю встречу. Только в конце, когда Рита спросила, хочет ли кто-то добавить что-нибудь, она сказала:
– Лена. После группы – можем поговорить?
Лена кивнула.
Они встретились в коридоре, когда остальные разошлись. Клаус задержался у двери, словно хотел что-то сказать, но потом просто кивнул и ушёл.
– Пойдём в оранжерею, – предложила Юн Мэй. – Там тихо.
Они шли молча через переходы между модулями. Лена чувствовала горе – фоновое, привычное уже – и что-то ещё. Не предчувствие. Просто… присутствие. Осознание, что рядом идёт человек, который понимает.
Оранжерея модуля «Эта» встретила их влажным теплом и запахом зелени. Грейпфрутовые деревья отцвели, но листья всё ещё источали тонкий цитрусовый аромат. Юн Мэй привела её к скамейке в дальнем углу, скрытой за переплетением гидропонных труб.
– Здесь я прихожу думать, – сказала она, садясь. – Томаш показал мне это место.
Лена вздрогнула при звуке имени.
– Ты знаешь моего мужа?
– Все знают Томаша. – Юн Мэй улыбнулась. – Он чинит вещи. И людей тоже, по-своему.
Лена села рядом. Скамейка была жёсткой, но после часа на стуле в группе это было даже приятно.
– О чём ты хотела поговорить?
Юн Мэй помолчала, глядя на переплетение труб и листьев.
– Две недели назад ты спросила меня, как я это выдерживаю, – сказала она наконец. – Помнишь, что я ответила?
– «Я не выдерживаю. Я просто продолжаю».
– Да. – Юн Мэй повернулась к ней. – Теперь ты понимаешь, что это значит?
Лена задумалась.
– Начинаю понимать, – сказала она. – Раньше я думала, что это смирение. Или отрицание. Теперь… теперь я понимаю, что это единственный способ.
– Не единственный. – Юн Мэй покачала головой. – Есть и другие. Двенадцать процентов выбирают другой.
Цифра повисла в воздухе – тяжёлая, неизбежная.
– Ты думала об этом? – спросила Лена тихо.
– Каждый думает. – Юн Мэй не отвела взгляда. – В первый месяц – особенно. Когда чувства захлёстывают, когда не понимаешь, что с тобой, когда кажется, что это никогда не кончится…
– И что тебя остановило?
– Любопытство. – Юн Мэй улыбнулась – той самой странной улыбкой, которую Лена видела уже несколько раз. – Я хотела знать, что будет дальше. Не то, что я чувствую – то, что будет на самом деле. Совпадёт ли.
– И совпало?
– Иногда да. Иногда нет. – Она пожала плечами. – Мама умерла. Это совпало. Но другие чувства… многие из них так и остались чувствами. Ничего не случилось.
Лена обдумывала её слова. Статистика, которую она знала наизусть: из 847 записей в эмоциональных дневниках ретроградов только 156 показали корреляцию с последующими событиями. Меньше двадцати процентов.
– Значит, восемьдесят процентов предчувствий – ложные срабатывания, – сказала она вслух.
– Или мы просто не видим связи. – Юн Мэй покачала головой. – Может, связь есть, но она слишком сложная. Может, чувство о маме на самом деле было чувством о чём-то другом, что случится через десять лет. Мы не знаем.
– Мы никогда не узнаем.
– Да. – Юн Мэй встала, прошлась вдоль скамейки. – Это самое трудное, Лена. Не боль, не страх – незнание. Чувствовать что-то огромное и не понимать, что это значит.
Лена кивнула. Она знала это теперь – не теоретически, а на собственном опыте.
– Твоё чувство связано с мужем, – сказала Юн Мэй. Не вопрос – утверждение.
– Да.
– Ты знаешь, что это значит?
– Нет.
– И не узнаешь. Пока не случится – или не случится.
Лена посмотрела на неё.
– Как ты живёшь с этим? Два года – и до сих пор не знаешь, что случится с твоей мамой… что случилось?
– Она умерла, – сказала Юн Мэй просто. – Четыре дня после того, как я почувствовала. Рак. Быстрый, безболезненный.
– Мне жаль.
– Не жалей. – Юн Мэй снова села рядом. – Я успела позвонить. Успела сказать, что люблю её. Успела услышать её голос в последний раз. Без предчувствия – я бы не успела.
Лена молчала. Она не знала, что сказать.
– Твоё чувство может быть предупреждением, – продолжила Юн Мэй. – Или может быть просто шумом. Ты не узнаешь, пока не проживёшь. Единственное, что ты можешь сделать – это продолжать. Любить его, пока он рядом. Говорить ему правду, пока можешь.
– Я солгала ему, – призналась Лена. – В первый день. Он спросил, что я почувствовала, и я сказала – ничего.
– Почему?
– Не знаю. – Лена посмотрела на свои руки. – Боялась, наверное. Что если скажу – станет правдой.
– Это не работает так.
– Я знаю. Теоретически – знаю.
Юн Мэй положила руку ей на плечо – лёгкое, ненавязчивое прикосновение.
– Теория и опыт – разные вещи, – сказала она. – Ты это уже поняла.
Лена вернулась в каюту к ужину. Томаш был уже там – готовил что-то на маленькой плитке, которую они привезли с Земли ещё в первый год.
– Привет. – Он обернулся, улыбнулся. – Как группа?
Горе шевельнулось. Лена сделала глубокий вдох.
– Нормально. – Она подошла ближе, остановилась в шаге от него. – Познакомилась с людьми. Поговорила с Юн Мэй.
– Юн Мэй хорошая. – Томаш вернулся к готовке. – Она иногда приходит в оранжерею. Сидит, молчит. Я не спрашиваю.
– Она сказала, что ты показал ей своё место.
– Наше место, – поправил он. – Помнишь, мы там сидели в первый месяц? Когда ещё не привыкли к станции?
Лена помнила. Скамейка за грейпфрутовыми деревьями, запах цитрусовых, его рука на её ладони.
– Помню.
Томаш выключил плитку и повернулся к ней.
– Лена… – Он помолчал, подбирая слова. – Я хочу, чтобы ты знала кое-что.
– Что?
– Я не буду спрашивать. – Его голос был тихим, серьёзным. – О том, что ты чувствуешь. Не буду давить. Когда будешь готова – расскажешь. А пока… я просто здесь. Хорошо?
Она смотрела на него – на знакомое лицо, на серые глаза, на морщины вокруг них. И чувствовала горе – глухое, постоянное, неотступное.
– Хорошо, – сказала она.
И в этот момент поняла: чувство усилилось. Не потому что он сказал что-то важное. Просто потому что она смотрела на него.
Просто потому что он был рядом.
После ужина Лена вернулась к дневнику.
Запись 29 | 29.04.2087, 21:14
Интенсивность: 6/10 Качество: Горе, потеря Триггер: Визуальный контакт с Т. (длительный) Физиологические маркеры: Слезотечение, ком в горле Продолжительность: Активная фаза – 12 минут. Фоновое присутствие – константно.
Примечания: Замечен паттерн. Интенсивность чувства коррелирует с близостью к Т.:
Мысли о Т. (без визуального контакта): 3-4/10
Визуальный контакт (короткий): 5/10
Визуальный контакт (длительный): 6-7/10
Физический контакт: 7-8/10
Гипотеза: Т. является не просто триггером, а центральным объектом предчувствия. Всё, что усиливает связь (визуальную, физическую, эмоциональную), усиливает и чувство.
Вывод: ???
Лена отложила планшет.
Вывод. Какой мог быть вывод?
Если близость усиливает боль – логичным решением было бы отдалиться. Меньше смотреть, меньше касаться, меньше чувствовать.
Но это означало бы разрушить то, что они строили тринадцать лет. Превратить брак в сосуществование. Потерять его – не в будущем, а сейчас, по собственному выбору.
Самоисполняющееся пророчество, – подумала она. Если я отдалюсь – я потеряю его. Если останусь близко – буду терять каждый день.
Выхода не было. Или был – но она его не видела.
Томаш спал рядом, повернувшись к ней спиной. Его дыхание было ровным, спокойным. Он не знал о её записях, о её выводах, о её страхе.
Я должна ему сказать, – подумала Лена. Юн Мэй права – нужно говорить правду, пока можно.
Но слова не шли. Каждый раз, когда она открывала рот, горе сжимало горло, и вместо правды выходила ложь. Или молчание.
Завтра, – пообещала она себе. Завтра я скажу.
Она знала, что это тоже ложь.
На следующий день Лена столкнулась с Клаусом Беккером в коридоре модуля «Дзета».
Он нёс какой-то инструмент – длинный, похожий на гаечный ключ, только сложнее – и чуть не врезался в неё на повороте.
– Простите! – Он остановился, узнал её. – А, доктор Рох. Как вы?
– Нормально. – Стандартный ответ, который уже ничего не значил. – А вы?
– Тоже нормально. – Он усмехнулся. – Труба в секции D-4 опять течёт. Третий раз за месяц. Говорю им – нужно менять весь узел, а они – «бюджет, бюджет».
Лена кивнула, не зная, что сказать. Она помнила его с группы – единственный «обычный», который приходил слушать.
– Могу я спросить кое-что? – сказала она внезапно.
– Конечно.
– Почему вы ходите на группу поддержки? Вы же не ретроград.
Клаус помолчал, опустив инструмент.
– Хороший вопрос, – сказал он наконец. – Наверное, потому что хочу понять.
– Понять что?
– Что вы чувствуете. – Он пожал плечами. – Я техник, доктор Рох. Я чиню трубы, провода, механизмы. Вещи, которые можно потрогать и понять. А вы… вы чувствуете что-то, чего нельзя потрогать. Что-то из будущего. Это… – он покачал головой, – это за пределами моего понимания. Но я хочу хотя бы попытаться.
– Зачем?
– Потому что вы – люди. – Он сказал это просто, без пафоса. – Не образцы, не субъекты исследования. Люди, которые страдают. И если я могу помочь – хотя бы послушать – я хочу это сделать.
Лена смотрела на него – на усталое лицо, на добрые глаза, на руки в пятнах машинного масла.
– Вы философ, Клаус, – сказала она.
– Нет. – Он усмехнулся. – Я просто чиню трубы. И иногда задаю вопросы, которые умнее меня.
Он кивнул ей и пошёл дальше по коридору. Лена смотрела ему вслед.
Просто чиню трубы, – повторила она про себя. И людей тоже, по-своему.
Почти то же самое Юн Мэй говорила о Томаше.
Вечером Лена снова открыла статистику.
Не ту, что она изучала для проекта – другую. Личную. Свой дневник, свои записи, свои паттерны.
Двадцать девять записей за две недели. Она свела их в таблицу, построила графики. Интенсивность по дням, корреляция с триггерами, физиологические маркеры.
Паттерн был очевиден.
Томаш. Всё вращалось вокруг Томаша.
Утро – пробуждение рядом с ним – пик интенсивности. День – работа, отвлечение – спад. Вечер – возвращение домой, ужин вместе – снова рост. Ночь – сон рядом с ним – константный фон.
Она была связана с ним. Не метафорически – физически, нейронно, квантово. Её мозг резонировал с чем-то, что касалось его. Чем-то из будущего.
Потеря, – напомнила она себе. Я чувствую потерю. Не обязательно смерть. Может, расставание. Может, болезнь. Может, что-то, чего я не могу представить.
Но какой бы ни была причина – результат был один. Она теряла его. Уже теряла – каждый день, каждый час, каждый взгляд.
И не могла ничего с этим сделать.
– Лена?
Голос Томаша вырвал её из раздумий. Она подняла голову – он стоял в дверях кабинета, в домашней одежде, с двумя чашками в руках.
– Принёс тебе чай, – сказал он. – Ты уже три часа здесь сидишь.
– Три часа? – Она посмотрела на часы. Действительно – почти полночь. – Я не заметила.
– Заметила. – Он поставил чашку на её стол, сел напротив. – Ты всегда замечаешь. Просто не хочешь останавливаться.
Лена взяла чашку. Тепло проникло в ладони, и она поняла, что замёрзла – сидела без движения слишком долго.
– Спасибо.
Томаш смотрел на неё молча. Не спрашивал, не давил – просто был рядом. Как обещал.
Горе шевельнулось. Усилилось от его взгляда, от его близости.
– Томаш, – сказала она.
– Да?
Слова застряли в горле. Она хотела сказать правду – о чувстве, о паттерне, о том, что каждый взгляд на него приносит боль. Но вместо этого выдавила:
– Ничего. Просто… спасибо за чай.
Он кивнул. В его глазах мелькнуло что-то – понимание? разочарование? – и исчезло.
– Пойдём спать, – сказал он. – Завтра рано вставать.
– Да. Сейчас приду.
Он ушёл. Лена осталась сидеть, сжимая чашку.
Завтра, – снова пообещала она себе. Завтра я скажу.
Горе пульсировало внутри – ритмично, неумолимо.
Она посмотрела на экран, где всё ещё светились графики.
Паттерн был ясен. Томаш был центром. Всё, что связывало её с ним – усиливало боль.
Но отказаться от него она не могла.
И это, возможно, было хуже всего.
Глава 5: Трещины
Труба протекала уже третью неделю.
Томаш лежал на спине в тесном техническом коридоре секции D-4, вглядываясь в переплетение трубопроводов над головой. Фонарь на лбу высвечивал ржавые потёки на стыке – медленное, упорное разрушение, которое не остановить латками и герметиком. Нужна была замена всего узла, но бюджет, бюджет, всегда этот чёртов бюджет.
Он провёл пальцем по металлу. Холодный, влажный, шершавый от коррозии. На станции всё медленно умирало – трубы, провода, уплотнители, люди. Вопрос времени.
Как и я, – подумал он.
Мысль пришла сама собой, без приглашения. Он отогнал её, сосредоточившись на работе. Нанёс ещё один слой герметика, подождал, пока схватится. Временное решение, но большего он сейчас предложить не мог.
– Рох! – Голос Клауса донёсся откуда-то из-за угла. – Ты там живой?
– Живой. – Томаш выбрался из технического коридора, отряхивая комбинезон. – Залатал. На месяц хватит, если повезёт.
– А если не повезёт?
– Тогда модуль затопит, и у нас будут проблемы посерьёзнее.
Клаус хмыкнул. Он стоял у входа в коридор, держа в руках планшет с графиком ремонтов.
– Секция E-7 – следующая в списке. Вентиляция барахлит.
– Когда не барахлит?
– Резонно.
Они пошли по коридору бок о бок – двое техников в синих комбинезонах, несущих на плечах груз станции. Томашу нравилась эта работа – простая, понятная, честная. Труба течёт – почини. Провод искрит – замени. Вентилятор гудит – смажь или выброси. Никакой квантовой неопределённости, никаких векторов из будущего. Только причина и следствие в правильном порядке.
– Как Лена? – спросил Клаус, не глядя на него.
Томаш споткнулся о порог. Чуть не упал, удержался о стену.
– Нормально.
– Нормально? – Клаус остановился, повернулся к нему. – Томаш, я видел её на группе поддержки. Она не выглядит «нормально».
– Ты ходишь на группу поддержки?
– Иногда. Слушаю. – Клаус пожал плечами. – Ты не ответил на вопрос.
Томаш прислонился к стене. Металл был холодным сквозь ткань комбинезона.
– Она… изменилась, – сказал он наконец. – После того, как стала… ты знаешь.
– Ретроградом.
– Да.
Слово прозвучало тяжело, окончательно. Томаш до сих пор не привык произносить его применительно к Лене. Его жена. Его умная, сильная, контролирующая всё жена – теперь плакала без причины и вздрагивала от его прикосновений.
– Как именно изменилась? – спросил Клаус.
Томаш закрыл глаза.
Как именно?
Она отдалялась. Медленно, незаметно, как вода сквозь трещину в трубе. Утром – поворачивалась спиной, когда он просыпался. Вечером – садилась на другой конец комнаты, смотрела в планшет, не говорила ни слова. Ночью – лежала рядом, но словно за стеклом, недоступная, далёкая.
Он пытался дотянуться до неё. Приносил чай, готовил ужин, спрашивал о работе. Она отвечала односложно, улыбалась механически, а в её глазах было что-то… что-то, чего он не понимал и боялся понять.
– Она смотрит на меня, – сказал он, – и плачет. Не рыдает – просто слёзы текут. И она не объясняет почему.
Клаус кивнул медленно.
– Это… характерно. Для ретроградов. Эмоции без причины.
– Я знаю теорию. – Томаш открыл глаза. – Но когда твоя жена смотрит на тебя и плачет… теория не помогает.
Клаус положил руку ему на плечо – тяжёлую, тёплую.
– Она любит тебя, Томаш. Это не изменилось.
– Откуда ты знаешь?
– Потому что она всё ещё здесь. – Клаус сжал его плечо и отпустил. – Пойдём. Вентиляция сама себя не починит.
Секция E-7 была одной из самых старых на станции – построена ещё в шестидесятых, когда ЦЕРН-3 только разворачивался. Трубы здесь были толще, стены – грубее, технологии – проще. Томашу нравилось работать здесь. Это напоминало о временах, когда космос был фронтиром, а не убежищем.
Он снял крышку вентиляционного короба и заглянул внутрь. Вентилятор крутился с неровным гудением – подшипник износился, нужна замена.
– Клаус, принеси ЗИП из третьего шкафа.
– Сейчас.
Томаш остался один в тишине секции. Только гул вентилятора и далёкий шум станции – бесконечная симфония, к которой он привык за тринадцать лет.
Тринадцать лет.
Он помнил, как прилетел сюда – молодой инженер с мечтой о звёздах. Лена была уже на станции, погружённая в свои квантовые загадки. Они встретились в оранжерее, через неделю после его прибытия. Она сидела на скамейке за грейпфрутовыми деревьями и читала что-то на планшете.
– Здесь занято? – спросил он.
Она подняла голову, и он увидел её глаза – тёмные, внимательные, словно сканирующие его на предмет ошибок.
– Свободно, – сказала она. – Но я не разговариваю.
– Отлично. – Он сел рядом. – Я тоже.
Они просидели в молчании почти час. Потом она сказала:
– Вы тот техник, который починил проектор в Цюрихе.
– А вы та учёная, которая паниковала из-за слайдов.
Она улыбнулась – впервые за время их знакомства.
– Лена Рох.
– Томаш. Тоже Рох, но это совпадение.
– Пока совпадение, – сказала она.
И он понял, что пропал.
– Томаш?
Голос Клауса вернул его в настоящее. Он стоял с запасным подшипником в руке, глядя на открытый вентиляционный короб.
– Да. Спасибо.
Он взял деталь и начал работать – снял старый подшипник, установил новый, проверил вращение. Руки делали привычное, а мысли уносились далеко.
Она знает, – думал он. Каким-то образом она знает.
Это было единственное объяснение. Единственная причина, почему она отдалялась, почему плакала, почему вздрагивала от его прикосновений.
Она узнала о болезни.
Медицинский отчёт лежал в ящике его рабочего стола – тонкий планшет с данными, которые он перечитывал каждый вечер.
«Новообразование в левом лёгком. Размер: 2,3 см. Локализация: верхняя доля. Предварительный диагноз: аденокарцинома, стадия IIA. Рекомендация: хирургическое удаление в специализированном учреждении на Земле. Прогноз при своевременном лечении: благоприятный».
Благоприятный. Такое мягкое, обнадёживающее слово. Как будто опухоль в лёгком – это просто неудобство, которое можно исправить.
Томаш обнаружил её случайно, три недели назад. Рутинный осмотр, который он откладывал полгода. Доктор Окойе была профессиональна и сочувственна – объяснила варианты, ответила на вопросы, предложила помощь в организации эвакуации на Землю.
Он не сказал Лене.
Сначала – потому что не знал, как. Потом – потому что она прошла процедуру облучения, и он не хотел добавлять ей тревоги. Потом – потому что она стала ретроградом, и всё изменилось.
А потом он начал замечать.
Как она смотрит на него – с болью, с тоской, с чем-то похожим на прощание. Как отворачивается, когда он входит в комнату. Как плачет, не объясняя почему.
Она знает, – решил он. Её предчувствие – оно о болезни. Она чувствует, что я умру, и не может мне сказать.
Это было логично. Это объясняло всё. И это было невыносимо.
Дождь в Варшаве пах озоном.
Томаш помнил это с детства – тяжёлые летние грозы, которые обрушивались на город внезапно, яростно, заливая улицы потоками воды. Он любил стоять у окна и смотреть, как молнии раскалывают небо, как капли барабанят по стеклу, как мир становится чистым и свежим после бури.
На станции не было дождя. Не было гроз, не было запаха озона, не было того ощущения обновления, которое приходило после ливня. Только искусственный свет, искусственный воздух, искусственная жизнь.
Иногда он скучал по дождю так сильно, что это становилось физической болью.
– О чём думаешь? – спросил Клаус.
Они сидели в столовой модуля «Эпсилон», обедая синтетическим белком с овощами из оранжереи. Вокруг гудели голоса – станция жила своей жизнью, не замечая двух техников в углу.
– О дожде, – сказал Томаш.
– О дожде?
– В Варшаве. Летние грозы. – Он покрутил вилку в пальцах. – Давно не видел настоящего дождя.
– Четырнадцать лет, – сказал Клаус. – Я считал. Последний раз был на Земле в семьдесят третьем, на похоронах матери. Шёл дождь.
– Мне жаль.
– Не жалей. – Клаус пожал плечами. – Она прожила хорошую жизнь. Умерла во сне, не мучилась. Что ещё можно желать?
Томаш не ответил. Он думал о своей матери – она умерла давно, ещё до его отъезда на орбиту. Рак. Тот же самый рак, который теперь нашли у него.
Генетика, – подумал он. Или просто невезение. Какая разница.
– Ты в порядке? – спросил Клаус.
– Да. Просто… задумался.
– Ты много думаешь в последнее время. – Клаус отложил вилку. – Томаш, я не буду лезть. Но если тебе нужно поговорить…
– Спасибо. – Томаш встал. – Мне пора. Смена заканчивается.
Он ушёл, оставив Клауса с незаданными вопросами.
Каюта встретила его тишиной.
Лена была там – сидела за столом, склонившись над планшетом. Её спина была напряжённой, плечи – сведены вместе. Она не обернулась, когда он вошёл.
– Привет, – сказал он.
– Привет.
Одно слово. Ни вопроса, ни приветствия, ни обычного «как прошёл день». Просто – «привет».
Томаш снял комбинезон, повесил его в шкаф. Прошёл к раковине, умылся. Всё это время он чувствовал её присутствие за спиной – напряжённое, отстранённое, чужое.
– Как твой день? – спросил он, вытирая лицо.
– Нормально.
– Что делала?
– Работала.
Односложные ответы. Раньше она рассказывала ему о своих исследованиях, о коллегах, о новых идеях. Теперь – «работала».
Он обернулся. Она всё ещё сидела за столом, не отрывая глаз от планшета.
– Лена.
– Да?
– Посмотри на меня.
Пауза. Потом она медленно подняла голову.
Её глаза были красными – она плакала. Недавно, судя по следам на щеках. И теперь смотрела на него с выражением, которое он не мог прочитать.
– Что случилось? – спросил он.
– Ничего.
– Ты плакала.
– Это… – Она отвела взгляд. – Это просто. Часть… того, что со мной теперь.
Ретрокаузальность, – подумал он. Предчувствия. Эмоции без причины.
Или с причиной, которую она не могла ему назвать.
– Лена, – сказал он, подходя ближе. – Мы должны поговорить.
Она вздрогнула. Он видел, как её плечи напряглись ещё сильнее.
– О чём?
– О том, что происходит. Между нами.
– Ничего не происходит.
– Неправда. – Он остановился в шаге от неё. – Ты отдаляешься. Уже три недели. Не смотришь на меня, не разговариваешь, вздрагиваешь от прикосновений. Что я сделал?
Она молчала.
– Лена, пожалуйста. – Он присел рядом с ней, на уровне её глаз. – Если ты что-то знаешь… что-то чувствуешь… скажи мне. Я хочу понять.
Она смотрела на него – и он видел, как в её глазах что-то ломается. Что-то, что она пыталась удержать.
– Я не могу, – сказала она шёпотом.
– Почему?
– Потому что… – Она закрыла глаза. – Потому что если скажу – станет хуже.
Она знает, – подумал он с уверенностью. Она знает о болезни и боится сказать.
Он хотел признаться. Хотел сказать: «Я знаю, что ты знаешь. Давай поговорим об этом». Но слова застряли в горле.
Потому что если он скажет – всё изменится. Она начнёт заботиться о нём, волноваться, плакать уже не от предчувствия, а от знания. Он перестанет быть её мужем и станет её пациентом. Объектом заботы, а не любви.
Он не мог этого вынести.
– Хорошо, – сказал он вместо этого. – Я не буду давить. Но когда будешь готова…
– Я знаю. – Она открыла глаза. – Спасибо.
Она коснулась его руки – мимолётно, почти случайно. И тут же отдёрнула, словно обожглась.
Он видел это. Видел, как ей больно от прикосновения.
Потому что она чувствует мою смерть, – подумал он. Каждый раз, когда касается меня – чувствует, как я умираю.
Это было невыносимо.
Ночью он лежал без сна, глядя в потолок.
Лена спала рядом – или делала вид, что спит. Её дыхание было слишком ровным, слишком контролируемым. Она тоже не могла уснуть.
Мы оба лжём, – подумал он. Она не говорит мне, что чувствует. Я не говорю ей, что болен. Мы лежим в одной постели и прячемся друг от друга.
Раньше они делились всем. Он рассказывал ей о работе, о страхах, о мечтах. Она говорила о своих исследованиях, о сомнениях, о надеждах. Они были командой – двое против вселенной.
Теперь между ними выросла стена. Невидимая, но прочнее любого металла.
Я должен ей сказать, – думал он. Она имеет право знать. Это её жизнь тоже.
Но страх был сильнее. Страх стать обузой. Страх увидеть в её глазах жалость вместо любви. Страх, что она останется с ним из чувства долга, а не потому что хочет.
Он повернулся на бок, глядя на её спину.
Завтра, – пообещал себе. Завтра я скажу.
Он знал, что это ложь.
Утро пришло серое и безрадостное – искусственный рассвет, который ничего не обещал.
Томаш встал первым, оделся, приготовил завтрак. Лена появилась через полчаса – бледная, с кругами под глазами.