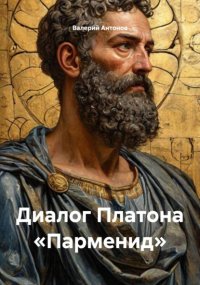Читать онлайн Классическая немецкая философия (после Канта) бесплатно
- Все книги автора: Валерий Антонов
Введение.
1. Исторический контекст и умонастроение эпохи
В немецкой философской среде первой половины XIX века расцвело одно из самых удивительных явлений в долгой истории западной метафизики – небывалый взлёт спекулятивной мысли. На исторической сцене появляется череда систем (Фихте, Шеллинга, Гегеля), предлагающих оригинальные трактовки реальности, человеческой жизни и истории.
Термин «спекулятивная мысль» здесь означает не умозрительность в негативном смысле, а построение всеобъемлющей философской системы, исходя из высшего первоначала (Абсолюта, Я, тождества), которое постигается интеллектуальной интуицией или диалектическим разумом. Этот период, часто называемый «немецким идеализмом», был прямым развитием и радикализацией кантовской «коперниканской революции», сместившей фокус с познания объекта на деятельность субъекта.
Фридрих Энгельс позднее охарактеризовал эту эпоху как «гигантскую беременность», результатом которой стала диалектика Гегеля («Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии»).
Русский философ Владимир Соловьёв видел в немецком идеализме закономерный этап развития западной мысли, стремящейся к «цельности знания», но осуществившей это лишь в отвлечённой, логической форме («Критика отвлечённых начал»).
Эти построения отмечены неоспоримым величием и по сей день сохраняют способность пленять умы, поскольку каждый из выдающихся мыслителей этого периода ставил перед собой задачу разгадать загадку мироздания, раскрыть тайну универсума и смысл человеческого существования.
2. Конкуренция с позитивизмом и кризис метафизики.
Ещё до смерти Шеллинга в 1854 году Огюст Конт во Франции опубликовал свой «Курс позитивной философии» (1830-1842), где метафизика рассматривалась как преходящая стадия в развитии человеческой мысли. Германии также предстояло породить собственные материалистические и позитивистские течения (например, Л. Фейербаха, младогегельянцев, раннего К. Маркса), которые, хотя и не упразднили метафизику, вынудили её адептов точнее определять взаимоотношения между философией и частными науками.
Это важное уточнение показывает, что расцвет идеализма происходил параллельно с вызреванием его главного антагониста – научного позитивизма, отрицающего возможность метафизики как объективного знания. Таким образом, немецкий идеализм стал, по выражению историка философии И.С. Нарского, «лебединой песней» классической европейской метафизики в её притязании на роль «науки наук».
Переводчик и историк философии П.П. Гайденко подчёркивала, что немецкие идеалисты уже интуитивно чувствовали этот надвигающийся кризис и пытались спасти метафизику, превратив её в «наукоучение» (Фихте) или «феноменологию духа» (Гегель) – то есть в строгую систематическую дисциплину, превосходящую эмпирические науки («Парадоксы свободы в учении Фихте»).
Однако в первые десятилетия XIX столетия тень позитивизма ещё не легла на философскую сцену, и спекулятивная философия переживала период пышного расцвета.
3. Пафос и метод посткантианского идеализма.
Великие немецкие идеалисты демонстрируют безмерную веру в мощь человеческого разума и возможности философии. Понимая реальность как самораскрытие бесконечного разума (Абсолюта), они полагали, что жизнь этого разума, процесс его самореализации, может быть воспроизведён в философской рефлексии.
Это ключевой эпистемологический принцип. Если для Канта разум наталкивается на непреодолимые границы (вещь-в-себе), то для его последователей разум тождествен бытию, а потому способен через собственное самоуглубление постигнуть логику самой реальности. Философия становится не критикой познания, а его абсолютной формой – «наукой логики» (Гегель).
Американский философ Фредерик Бейзер в работе «Германский идеализм: Борьба против субъективизма, 1781-1801» показывает, что главным двигателем развития от Канта к Гегелю было стремление преодолеть кантовский субъективизм и скептицизм, отыскав абсолютное, не субъективное основание для знания и морали.
Отечественный исследователь А.В. Гулыга отмечал, что эта уверенность коренилась в романтическом умонастроении эпохи, для которого философ – не просто учёный, а «жрец истины», призванный выразить мировой дух («Немецкая классическая философия»).
Это не были беспокойные умы, озабоченные мнением критиков… Напротив, они были убеждены, что человеческий дух достиг, наконец, в их лице своей зрелости и природа реальности была окончательно явлена человеческому сознанию.
4. Конец эпохи и историческое значение.
Сегодня немецкий идеализм почти для всех представляется принадлежащим иному миру, иному способу мышления. Можно сказать, что смерть Гегеля в 1831 году ознаменовала конец целой эпохи, за которой последовал распад абсолютного идеализма и возникновение иных типов мысли (экзистенциализма, марксизма, неокантианства, философии жизни).
«Распад» проявился в двух направлениях: критика «слева» (материализм, позитивизм) и «справа» (иррационализм, индивидуализм). Философия перестала быть системостроительством, обратившись к конкретному человеку, истории, практике или иррациональным глубинам жизни.
Философ-эмигрант С.Л. Франк писал: «Гегель… был последним великим метафизиком, для которого абсолютная истина была достижима и уже достигнута… После него философия становится либо скромной служанкой науки, либо трагическим вопрошанием о смысле бытия» («Введение в философию»).
Но хотя немецкий идеализм, подобно метеору, пронёсся по философскому небосклону и спустя относительно короткое время распался, его полёт оставил глубокий след. Несмотря на свои недостатки, это движение представляет собой одну из самых серьёзных попыток в истории мысли достигнуть целостного, универсального интеллектуального освоения реальности и опыта в его тотальности.
5. Актуальность и уроки идеализма для современности.
Многие сегодня убеждены, что создание тотализирующей картины реальности не является задачей научной философии. Однако мы должны быть готовы признать интеллектуальное превосходство, когда сталкиваемся с ним: Гегель, в частности, выделяется внушительным величием на фоне подавляющего большинства тех, кто пытался его принизить.
Мы уже говорили об опасности «выбрасывания ребёнка вместе с водой». Критиковать системность не значит отрицать глубину проблем, поднятых идеалистами: природу свободы, историчность разума, диалектику целого и части.
Известный переводчик Гегеля на английский язык Чарльз Тейлор утверждает, что, даже отвергая спекулятивную систему Гегеля, мы не можем игнорировать его гениальные интуиции о социальной природе человека, историческом развитии духа и структурах признания, которые актуальны для современной социальной философии («Гегель»).
Российский философ М.К. Мамардашвили часто подчёркивал, что немецкий идеализм – это не коллекция догм, а «органы мысли», которые необходимо «пропускать через себя», чтобы обрести интеллектуальную силу и культуру мышления, даже если итоговые выводы окажутся иными.
Мы всегда можем чему-то научиться у выдающегося философа, хотя бы в процессе прояснения причин своего с ним несогласия. Исторический крах метафизического идеализма сам по себе не ведёт к заключению, что великие идеалисты не могут предложить ничего ценного. Немецкий идеализм действительно имеет свои фантастические аспекты, однако сочинения главных его представителей – нечто несравненно большее, чем просто фантазия. Это – грандиозный тренировочный полигон для мышления, ставящего перед собой самые высокие цели.
Философия Канта и метафизический идеализм.
Предметом рассмотрения здесь является не крах немецкого идеализма, а его рождение. И это действительно требует объяснения. С одной стороны, непосредственной философской базой для идеалистического движения послужила критическая философия Иммануила Канта, который как раз и оспаривал притязания метафизиков на теоретическое познание реальности. С другой стороны, немецкие идеалисты считали себя духовными наследниками Канта, а не просто его противниками. Следовательно, необходимо объяснить, каким образом метафизический идеализм мог вырасти из системы мыслителя, чьё имя навсегда связано со скептицизмом относительно метафизических притязаний на теоретическое знание о реальности как целом или о любой реальности, выходящей за рамки априорной структуры человеческого познания и опыта.
Наиболее удобной отправной точкой для объяснения развития метафизического идеализма из критической философии служит кантовское понятие вещи-в-себе. Согласно Фихте, Кант занял невозможную позицию, категорически отказываясь отбросить это понятие. Если, с одной стороны, Кант утверждал существование вещи-в-себе как причины данного, материального элемента в ощущении, он впадал в очевидное противоречие, ибо, согласно его же философии, понятие причины не может быть применено для расширения нашего знания за пределы сферы явлений. С другой стороны, если Кант сохранял идею вещи-в-себе лишь в качестве проблематичного и ограничивающего понятия, это означало удержание духовного реликта того самого догматизма, с которым была призвана бороться критическая философия. Коперниканский переворот Канта был великим шагом вперёд, и для Фихте речь шла не о возврате к докантовской позиции. При минимальном понимании развития философии и требований современной мысли единственным возможным путём было движение вперёд, к завершению работы Канта. А это подразумевало устранение вещи-в-себе, поскольку, учитывая предпосылки самого Канта, не оставалось места для скрытой, непознаваемой сущности, предположительно независимой от духа. Иными словами, критическая философия должна была стать последовательным идеализмом; а это означало, что вещи должны рассматриваться целиком как продукты мышления.
Очевидно, что то, что мы воспринимаем как внешний мир, не может быть истолковано как продукт сознательной творческой деятельности конечного человеческого духа. В обыденном сознании индивид обнаруживает себя в мире объектов, которые воздействуют на него различными способами и существование которых он спонтанно мыслит как независимое от его собственной мысли и воли. Следовательно, философ-идеалист должен выйти за пределы сознания и раскрыть лежащий в его основе процесс бессознательной деятельности.
Но необходимо пойти ещё дальше и признать, что порождение мира никоим образом не может быть приписано индивидуальному «Я», даже его бессознательной активности. Если приписать его конечному индивидуальному «Я» как таковому, то будет крайне трудно, если не невозможно, избежать солипсизма – позиции, которую всерьёз едва ли можно отстаивать. Таким образом, идеализм вынужден двигаться дальше конечного субъекта к сверхиндивидуальному интеллекту, абсолютному субъекту.
Однако слово «субъект» здесь не вполне уместно, если только не хотят указать, что последний производящий принцип находится, так сказать, на стороне мысли, а не на стороне чувственной вещи. Ибо слова «объект» и «субъект» коррелятивны. А последний принцип, рассматриваемый сам по себе, не имеет объекта. Он полагает отношение субъекта-объекта, но сам трансцендирует это отношение. В себе он есть субъект и объект в тождестве, бесконечная деятельность, из которой проистекают оба.
Таким образом, поскантианский идеализм с необходимостью стал метафизикой. Фихте, отправляясь от позиции Канта и развивая её в сторону идеализма, первоначально назвал свой первый принцип «Я», превратив кантовское трансцендентальное «Я» в метафизический или онтологический принцип. Он пояснял, что имеет в виду абсолютное «Я», а не конечное индивидуальное «Я». Однако другие идеалисты (и сам Фихте в своей поздней философии) не использовали слово «Я» в этом смысле. У Гегеля последний принцип – бесконечный разум, бесконечный дух. Можно сказать, что для метафизического идеализма в целом реальность есть процесс самораскрытия или самопроявления бесконечной мысли или разума.
Разумеется, это не означает редукции мира к процессу мышления в обыденном смысле. Абсолютная мысль или разум понимается как деятельность, как производящий разум, который полагает или выражает себя в мире. И мир сохраняет всю ту реальность, которой, как мы видим, он обладает. Метафизический идеализм не подразумевает тезиса, что эмпирическая реальность состоит из субъективных идей; он предполагает взгляд на мир и человеческую историю как на объективное выражение творящего разума. Это воззрение было фундаментальным для немецкого идеалиста: он не мог его избежать, приняв необходимость превращения критической философии в идеализм. А это превращение означало, что мир в его целокупности должен рассматриваться как продукт творческой мысли или разума. Следовательно, если принять в качестве предпосылки необходимость трансформации философии Канта в идеализм, то можно утверждать, что именно эта предпосылка определила базовое видение поскантианских идеалистов. Однако относительно того, что означает утверждение о реальности как процессе творческой мысли, возможны различные интерпретации в соответствии с частными воззрениями отдельных философов.
Непосредственное влияние мысли Канта, естественно, было сильнее на Фихте, чем на Шеллинга или Гегеля, поскольку философия Шеллинга предполагала первые шаги мысли Фихте, а абсолютный идеализм Гегеля – первые шаги философий Фихте и Шеллинга. Но это не отменяет того факта, что движение немецкого идеализма в целом имело своей предпосылкой критическую философию. И в своём обзоре истории новой философии Гегель описывал систему Канта как представляющую прогресс по сравнению с предшествующими этапами мысли и как требующую собственного развития и преодоления на последующих ступенях.
В данном контексте речь шла лишь о процессе устранения вещи-в-себе и превращения философии Канта в метафизический идеализм. Однако не стоит думать, что на поскантианских идеалистов повлияла только идея необходимости отбросить вещь-в-себе. На них воздействовали и другие аспекты критической философии. Например, учение Канта о примате практического разума оказало мощное влияние на этическую мысль Фихте. Последний интерпретирует абсолютное «Я» как практический разум или бесконечную моральную волю, полагающую природу полем и инструментом моральной деятельности. В его философии чрезвычайно важны понятия действия, долга и морального призвания. Можно даже сказать, что Фихте превратил вторую «Критику» Канта в метафизику, используя развитие первой «Критики» как средство для этого. У Шеллинга же акцент на философии искусства, роли гения и метафизическом значении эстетической интуиции и художественного творчества связывает его скорее с третьей «Критикой».
Но вместо того чтобы углубляться в частные формы, в которых различные части или аспекты философии Канта отразились в том или ином идеалисте, в рамках вводной главы уместнее набросать более широкую и общую картину взаимоотношений между критической философией и метафизическим идеализмом.
Стремление к последовательной и единообразной интерпретации реальности естественно для мыслящего ума. Однако конкретная задача, которую предстоит выполнить, предстаёт по-разному в разные эпохи. Например, развитие физической науки в послесредневековом мире означало, что философ, желавший построить всеобъемлющую картину, должен был столкнуться с проблемой примирения научного взгляда на мир как на механическую систему с требованиями морального и религиозного сознания. С этой проблемой столкнулся Декарт. То же самое произошло и с Кантом. Однако хотя Кант отверг характерные для его предшественников способы решения этой проблемы и предложил своё оригинальное решение, можно признать, что в конечном счёте он оставил нам «раздвоенную реальность». С одной стороны, существует феноменальный мир, мир ньютоновской науки, подчинённый необходимым причинным законам. С другой – сверхчувственный мир свободного морального агента и Бога. Нет никаких веских оснований считать, что феноменальный мир – единственная реальность. Но в то же время не существует теоретического доказательства существования сверхчувственной реальности. Это вопрос практической веры, опирающейся на моральное сознание. Правда, в третьей «Критике» Кант пытался насколько возможно для человеческого духа сократить дистанцию между двумя мирами. Но понятно, что другие философы не удовлетворились этим достижением. Немецкие идеалисты пошли дальше, развивая и преобразуя философию Канта. Если реальность есть единый процесс самораскрытия абсолютной мысли или разума, то она умопостигаема. И она умопостигаема для человеческого духа при условии, что этот дух может рассматриваться как носитель абсолютной мысли, рефлексирующей над самой собой.
Это условие имеет очевидную важность, если должна существовать преемственность между кантовской идеей единственно возможной научной метафизики и концепцией метафизики у идеалистов. Для Канта метафизика будущего – это трансцендентальная критика человеческого опыта и познания. Можно сказать, что это рефлективное знание человеческого ума о своей собственной спонтанной формообразующей деятельности. Однако в метафизическом идеализме рассматриваемая деятельность является продуктивной в самом полном смысле (после устранения вещи-в-себе); и эта деятельность приписывается не конечному человеческому духу как таковому, а абсолютной мысли или разуму. Следовательно, философия, будучи рефлексией человеческого духа, не может рассматриваться как рефлективное самопознание человеческого ума, если только этот дух не способен подняться до абсолютной точки зрения и стать носителем абсолютной мысли или рефлективного знания о её собственной деятельности. При выполнении этого условия возникает определённая преемственность между кантовской идеей единственно возможного научного типа метафизики и идеалистическим понятием метафизики. Происходит также, так сказать, очевидная «инфляция». Это означает, что кантовская теория познания превращается в метафизику реальности. Но этот инфляционный процесс сохраняет в некотором роде свою непрерывность. Несмотря на выход за пределы того, что мог представить себе сам Кант, это не есть простое возвращение к докантовскому понятию метафизики.
Превращение кантовской теории познания в метафизику реальности, естественно, влечёт за собой важные изменения. Например, с устранением вещи-в-себе и превращением мира в самопроявление мысли или разума различие между априорным и апостериорным утрачивает свой абсолютный характер. А категории, вместо того чтобы быть субъективными формами или понятийными схемами человеческого рассудка, становятся категориями самой реальности, обретая объективный статус.
Телеологическое суждение более не является субъективным, как у Канта, поскольку в метафизическом идеализме идея целесообразности в природе не может быть просто эвристическим или регулятивным принципом человеческого духа, полезной функцией, объективность которой нельзя доказать теоретически. Если природа есть выражение и проявление мысли или разума в его движении к цели, то процесс природы должен иметь телеологический характер.
Нельзя отрицать, что существует огромная разница между скромной идеей Канта о пределах и возможностях метафизики и представлением идеалистов о том, на что способна философская метафизика. Сам Кант отверг предложение Фихте превратить критическую философию в чистый идеализм путём устранения вещи-в-себе.
Легко понять и позицию неокантианцев, которые позднее, в конце века, заявляли, что пресыщены фантастическими метафизическими спекуляциями идеалистов и что настало время вернуться к духу самого Канта. В то же время, превращение системы Канта в метафизический идеализм также понятно, и сделанные выше замечания, возможно, помогли объяснить, как идеалисты могли считать себя законными духовными преемниками Канта.
Смысл идеализма, его приверженность системе и вера в мощь философии
Из сказанного о развитии метафизического идеализма ясно следует, что поскантианские идеалисты не были субъективными идеалистами в смысле утверждения, что человеческий дух познаёт лишь свои собственные идеи в отличие от вещей, существующих вне его. Они также не были субъективными идеалистами, отстаивающими тезис, что все объекты познания суть продукты конечного человеческого субъекта. В действительности, использование Фихте слова «Я» в его ранних работах могло наводить на мысль, что он отстаивает именно это. Однако это не так, ибо Фихте настаивал, что производящий субъект – не конечное «Я» как таковое, а абсолютное «Я», трансцендентальный и сверхиндивидуальный принцип. И для Шеллинга, и для Гегеля любая редукция вещей к продуктам конечного индивидуального духа была совершенно чужда их мысли.
Хотя легко понять, что поскантианский идеализм не подразумевает субъективного идеализма ни в одном из упомянутых смыслов, дать общее описание этого движения, применимое ко всем основным идеалистическим системам, не так просто. Они различаются в важных аспектах. К тому же мысль Шеллинга, например, прошла через различные фазы. В то же время между различными системами, естественно, существует родство. И этот факт оправдывает попытку сделать некоторые обобщения.
Поскольку реальность рассматривается как самораскрытие абсолютной мысли или разума, в немецком идеализме существует сильная тенденция к ассимиляции причинного отношения логическим отношением импликации. Например, эмпирический мир понимается Фихте и Шеллингом (по крайней мере, на ранних этапах его мысли) как зависящий от последнего производящего принципа в отношении следствия к основанию.
Это, разумеется, означает, что мир с необходимостью проистекает из первого производящего принципа, чей приоритет является логическим, а не временным. Очевидно, не может быть и речи о каком-либо внешнем принуждении. Но Абсолютное спонтанно и неизбежно проявляет себя в мире. И в этой схеме не остаётся места для идеи творения во времени, в смысле существования первого, идеально определяемого момента времени.
Такое понимание реальности как саморазвёртывания абсолютного разума помогает объяснить приверженность идеалистов систематичности. Если философия есть рефлексивная реконструкция структуры динамического рационального процесса, она должна быть систематичной в том смысле, что должна начинаться с первого принципа и представлять существенную рациональную структуру реальности как вытекающую из него. И действительно, хотя чисто теоретическая дедукция на практике не занимает столь важного места в метафизическом идеализме, как то может показаться на первый взгляд, особенно в диалектическом процессе Гегеля, поскольку идеалистическая философия – не строгий анализ значения и импликаций одного или нескольких исходных базовых положений, а скорее концептуальная реконструкция динамической деятельности, бесконечной жизни, развёртывающей самое себя. Однако общее видение мира содержится в зародыше в исходной идее мира как процесса самопроявления абсолютного разума. А задача философа состоит в систематическом раскрытии этой идеи, в том, чтобы заново пережить этот процесс, так сказать, на уровне рефлексивного знания. Следовательно, хотя можно было бы отталкиваться от эмпирических проявлений абсолютного разума и двигаться вспять, метафизический идеализм следует дедуктивной форме изложения в том смысле, что он систематически прослеживает телеологическое движение.
Если допустить, что реальность есть рациональный процесс и его существенная динамическая структура может быть схвачена философом, это предположение должно сопровождаться верой в мощь и возможности метафизики, контрастирующей со скромной оценкой Канта того, чего она может достичь. Этот контраст особенно очевиден при сравнении критической философии с гегелевской системой абсолютного идеализма. Справедливо утверждать, что уверенность Гегеля в силе и возможностях философии не имела себе равных среди предшествующих философов. В то же время мы видели, что между философией Канта и метафизическим идеализмом существовала определённая преемственность. И мы можем даже сказать, хотя это и звучит парадоксально, что чем ближе идеализм держался к кантовской идее единственно возможной формы научной метафизики, тем больше была его уверенность в силе и возможностях философии. Ибо если предположить, что философия есть рефлективное знание мысли о своей собственной спонтанной деятельности, и если заменить контекст кантовской теории человеческого познания и опыта контекстом идеалистической метафизики, то мы получаем идею рационального процесса, который есть реальность, обретающую самосознание в и посредством философской рефлексии человека. В этом случае история философии есть история саморефлексии абсолютного разума. Иными словами, универсум познаёт себя в и через дух человека. А философия может быть понята как самопознание Абсолютного.
В действительности, эта концепция философии более характерна для Гегеля, чем для других выдающихся идеалистов. Фихте в конечном счёте стал настаивать на божественном Абсолютном, которое само по себе трансцендентно тому, чего может достичь человеческая мысль; Шеллинг в своей поздней философии религии подчёркивал идею личного Бога, открывающего себя человеку. У Гегеля же центральное значение приобретает идея концептуального овладения философом всей реальностью и интерпретация этого овладения как саморефлексии Абсолютного. Но это утверждение лишь констатирует, что именно в гегельянстве, высшем достижении метафизического идеализма, вера в мощь и возможности спекулятивной философии, вдохновлявшая всё идеалистическое движение, нашла своё самое чистое и самое грандиозное выражение.
Идеалисты и теология.
Упоминая позднее учение Фихте об Абсолютном и философию религии Шеллинга, стоит сказать несколько слов об отношениях между немецким идеализмом и теологией, поскольку важно понимать, что идеалистическое движение не было просто результатом превращения критической философии в метафизику. Трое великих идеалистов начинали как студенты-теологи: Фихте в Йене, Шеллинг и Гегель в Тюбингене. И хотя они вскоре посвятили себя философии, теологические темы сыграли важную роль в развитии немецкого идеализма. Утверждение Ницше, что эти философы были скрытыми теологами, в некоторых отношениях преувеличено, но не лишено оснований.
Важность роли, которую теологические темы играли в немецком идеализме, может быть проиллюстрирована следующим контрастом. Хотя Кант и не был профессиональным учёным, он всегда интересовался наукой. Его ранние работы демонстрируют глубокую вовлечённость в научные проблемы, и одним из первых предметов его размышлений были условия возможности научного знания. Гегель же пришёл в философию из теологии. Его ранние сочинения носили теологический характер. Позже он заявит, что предмет философии – Бог и ничто иное, кроме Бога. Следует ли понимать слово «Бог» в данном случае в теистическом смысле, не является сейчас нашим вопросом. Нас интересует, что отправной точкой для Гегеля была тема отношения между бесконечным и конечным, между Богом и творением. Он не мог удовлетвориться категорическим разграничением бесконечного бытия, с одной стороны, и конечных существ – с другой, и пытался соединить их, видя бесконечное в конечном и конечное в бесконечном. На теологической стадии своего развития он склонялся к мысли, что возвышение конечного к бесконечному возможно лишь в жизни любви, и тогда пришёл к выводу, что в конечном счёте философия уступит место религии. Как философ, он попытался показать отношение между бесконечным и конечным концептуально, в мысли, и стал склоняться к рассмотрению философской рефлексии как более высокого способа понимания, чем характерная для религиозного сознания форма мышления. Однако общая тема отношения бесконечного и конечного, пронизывающая всю его философскую систему, проистекает, так сказать, из его ранних теологических размышлений.
Но это касается не только Гегеля. В ранней философии Фихте тема отношения бесконечного и конечного ещё не появлялась, поскольку он был прежде всего озабочен кантовской проблемой дедукции сознания. Однако позднее в его мысли возникает идея бесконечной божественной жизни, и развиваются религиозные аспекты его философии. Как и Шеллинг, он не колеблясь заявлял, что отношение между божественным бесконечным и конечным есть главная проблема философии. Его последняя мысль носит глубоко религиозный характер, и важнейшую роль в ней играют идеи отчуждения человека от Бога и его возвращения к Богу.
Будучи философами, идеалисты, естественно, пытались понять отношение между бесконечным и конечным. И они склонялись к его осмыслению по аналогии с логической импликацией.
Кроме того, если сделать необходимое исключение для поздней религиозной философии Шеллинга, можно сказать, что идея личного, бесконечного и полностью трансцендентного Бога казалась идеалистам нелогичной и неоправданно антропоморфной. Таким образом, мы обнаруживаем тенденцию к преобразованию идеи Бога в идею Абсолютного в смысле всеобъемлющей тотальности. В то же время идеалисты не намеревались отрицать реальность конечного. Следовательно, проблемой, с которой они столкнулись, была задача включить конечное в жизнь бесконечного, не лишая первое его реальности. И трудность решения этой проблемы ответственна за значительную долю двусмысленности метафизического идеализма, когда дело доходит до определения его отношения к теизму, с одной стороны, и пантеизму – с другой. Но в любом случае ясно, что центральная теологическая тема – отношение между Богом и миром – занимает важное место в спекуляциях немецких идеалистов.
Ранее говорилось, что описание Ницше немецких идеалистов как скрытых теологов преувеличено, поскольку оно наводит на мысль, будто идеалисты были озабочены тайным возвращением христианства, тогда как в действительности мы находим у них явную тенденцию к замещению веры метафизикой и рационализации открытых тайн христианства в свете спекулятивного разума. Используя современный термин, можно сказать, что мы видим тенденцию к демифологизации христианских догматов, превращению их в моменты спекулятивно-философского процесса. Поэтому трудно удержаться от улыбки при виде образа Гегеля, представленного Дж. Х. Стирлингом как великого философского защитника христианства. Легче было бы согласиться с точкой зрения Мак-Таггарта, а также Кьеркегора, согласно которой гегелевская философия подрывала христианство изнутри, обнажая рациональное содержание христианских доктрин в их традиционной форме. И можно подумать, что попытка Фихте связать свою позднюю философию Абсолютного с первой главой Евангелия от Иоанна была в некотором роде утончённой.
В то же время нет убедительных оснований предполагать, например, что Гегель был неискренен, когда ссылался на святого Ансельма и на процесс «веры, ищущей понимания». Его ранние опыты проявляют явную враждебность к позитивному христианству; но его позиция изменилась, и он признал христианскую веру. Было бы абсурдно утверждать, что Гегель был ортодоксальным христианином. Но он, без сомнения, был искренен, когда представлял отношение между христианством и гегельянством как отношение абсолютной религии к абсолютной философии, двух различных форм постижения и выражения одного и того же содержания истины. С ортодоксальной теологической позиции можно считать, что Гегель подменил веру разумом, откровение – философией и защищал христианство, рационализируя его и превращая, по выражению Мак-Таггарта, в эзотерический гегельянство. Но это не отменяет того, что Гегель считал, будто доказал истинность христианской религии. Таким образом, утверждение Ницше не было совсем ошибочным, особенно если учесть развитие религиозных аспектов мысли Фихте и поздние этапы философии Шеллинга. И в любом случае немецкие идеалисты, безусловно, приписывали определённый смысл и ценность религиозному сознанию и находили для него место в своих системах. Возможно, они и оставили теологию ради философии, но они были весьма далеки от того, чтобы быть нерелигиозными людьми и рационалистами в современном смысле.
Романтическое движение и немецкий идеализм.
Существует ещё один аспект метафизического идеализма, заслуживающий упоминания, – его связь с романтическим движением в Германии. Очевидно, что характеристика немецкого идеализма как философии романтизма вызывает серьёзные возражения. Во-первых, она предполагает одностороннюю зависимость, создавая впечатление, будто великие идеалистические системы были просто идеологическим выражением романтического духа, тогда как на самом деле философии Фихте и Шеллинга сами оказали значительное влияние на некоторых романтиков. Во-вторых, крупнейшие философы-идеалисты далеко не всегда соглашались с романтиками. Можно признать, что Шеллинг отражал дух романтического движения, однако Фихте резко критиковал романтиков, несмотря на то что они вдохновлялись некоторыми его идеями. Гегель также не испытывал особой симпатии к отдельным аспектам романтизма. В-третьих, термин «философия романтизма», возможно, более применим к спекулятивным идеям, развитым такими романтиками, как Фридрих Шлегель и Новалис, чем к великим системам идеализма. В то же время между идеалистическим и романтическим движениями, несомненно, существовало духовное родство. Сам по себе романтический дух был скорее умонастроением, отношением к жизни и мирозданию, чем систематической философией. Можно, используя терминологию Рудольфа Карнапа, говорить о нём как о Lebensgefühl или Lebenseinstellung (жизнечувствие или жизнеустановка).
Вполне понятно, что Гегель видел существенное различие между систематической философской рефлексией и умозрительными отступлениями романтиков. Однако, окидывая взглядом немецкую интеллектуальную сцену первой половины XIX века, мы поражаемся не столько различиям, сколько сходствам. В конце концов, метафизический идеализм и романтизм были более или менее современными друг другу явлениями немецкой культуры, и можно ожидать обнаружения между ними глубинного духовного родства.
Дух романтизма определить сложно, однако можно указать на некоторые его характерные черты. Например, в противовес сильной озабоченности Просвещения критическим, аналитическим и научным пониманием, романтики превозносили мощь творческого воображения, роль чувства и интуиции. Художественный гений занял место философа. Но акцент на творческом воображении и художественном гении был частью более общего требования свободного и полного развития человеческой личности, созидательных сил человека и наслаждения всем богатством возможного человеческого опыта. Иными словами, подчёркивалась скорее оригинальность каждой человеческой личности, нежели то, что является общим для всех людей. И этот акцент на творческой личности иногда сочетался со склонностью к этическому субъективизму. Это выражалось в тенденции пренебрегать фиксированными универсальными моральными законами или нормами ради свободного развития «Я» в соответствии с ценностями, соответствующими и укоренёнными в индивидуальной личности. Это не означает, что романтиков не заботили мораль или нравственные ценности. Однако существовала тенденция, например у Ф. Шлегеля, настаивать на свободном следовании индивида своему собственному моральному идеалу (реализации своей собственной «Идеи»), а не на подчинении универсальным законам, предписанным безличным практическим разумом.
Развивая свои идеи о творческой личности, некоторые романтики искали вдохновения и стимула в ранних идеях Фихте. Это справедливо как для Шлегеля, так и для Новалиса. Однако это не означает, что их использование идей Фихте всегда соответствовало намерениям философа. Проясним это на примере. Как мы видели, преобразуя кантовскую философию в чистый идеализм, Фихте принял за последний творящий принцип трансцендентальное «Я», рассматриваемое как безграничная деятельность. И в своей систематической дедукции или реконструкции сознания он широко использовал идею продуктивного воображения. Новалис усвоил эти идеи и считал, что Фихте позволил ему увидеть чудеса творящего «Я», но внес важное изменение. Фихте пытался объяснить с помощью идеалистических принципов ситуацию, в которой конечный субъект обнаруживает себя в мире объектов, данных ему и воздействующих на него различными способами, как, например, в ощущении. Следовательно, он представлял деятельность так называемого продуктивного воображения, полагающего объект как воздействующий на конечное «Я», происходящей ниже уровня сознания. С помощью трансцендентальной рефлексии философ может знать, что эта деятельность имеет место, но ни он, ни кто-либо другой не может знать её как происходящую, поскольку полагание объекта логически предшествует всякому знанию или сознанию. И эта деятельность продуктивного воображения, конечно, не зависит от воли конечного «Я». Однако Новалис допускал, что эта деятельность продуктивного воображения может быть изменена волей. Подобно тому как художник создаёт произведения искусства, человек также является творческой силой не только в моральной сфере, но, по крайней мере в принципе, и в сфере природной. Таким образом, трансцендентальный идеализм Фихте превратился в «магический идеализм» Новалиса. Романтическое восхваление творящего «Я» Новалиса основано на некоторых доктринах Фихте. Важность, которую романтики придавали творческому гению, сближает их скорее с Шеллингом, чем с Фихте. Как мы увидим, именно Шеллинг настаивал на метафизическом значении искусства и важности художественного гения в процессе творчества. Когда Фридрих Шлегель утверждает, что мир искусства превосходит все другие и что художник показывает Идею, воплощая её в своих произведениях в конечной форме, и когда Новалис говорит, что поэт есть истинный «маг», воплощение творческих сил человечества, эти авторы ближе к мысли Шеллинга, чем к фундаментально этической установке Фихте.
Тем не менее, акцент на творческом гении – лишь один из многих аспектов романтизма; не менее важна романтическая концепция природы. Романтики, вместо того чтобы рассматривать её как механическую систему, что вынудило бы их подчеркивать контрасты и различия между человеком и природой (как в картезианстве), склонны видеть в ней целостный живой организм, созвучный духу, окутанный той же тайной и красотой. Некоторые романтики проявляли большую симпатию к Спинозе, то есть осуществили романтическую трансформацию философа.
Это видение природы как органической целостности, соотнесённой с духом, – одна из наиболее характерных черт романтиков, а также Шеллинга. Идея философов о природе и человеке как о заснувшем духе, а о человеческом духе как об органе сознания природы относится к тому же кругу представлений. Показательно, что поэт Гёльдерлин был близким другом Шеллинга во время их учёбы в Тюбингене. Гёльдерлин видел природу как живую целостность, и это могло повлиять на идеи Шеллинга. Философия природы Шеллинга оказала сильное влияние на некоторых писателей-романтиков. Их симпатия к Спинозе разделялась философом и теологом Шлейермахером, но не Фихте, которому была отвратительна любая форма обожествления природы, которую он считал лишь полем и инструментом свободной моральной деятельности. В этом аспекте концепция Фихте была антиромантической.
Приверженность романтиков идее природы как органической и живой целостности не означала, что они придавали ей большее значение, чем человеку. Мы уже видели, как они настаивали на свободе творческой личности. Природа достигает высшей точки своего развития в человеческом духе. По этой причине романтическая концепция природы включала в себя ясное понимание исторического и культурного развития и значения предшествующих культурных периодов как необходимых моментов для развёртывания возможностей человеческого духа. Гёльдерлин, например, испытывал романтический энтузиазм по поводу гения древней Греции, энтузиазм, который разделял и Гегель в студенческие годы. Однако не следует забывать и о возрождающемся интересе к Средневековью. Человек Просвещения склонен был считать средневековье тёмной ночью, предшествовавшей Ренессансу и расцвету философов. Для Новалиса Средневековье представляло, хотя и несовершенно, идеал органического единства веры и культуры. Кроме того, романтики проявляли пристрастие к народному духу (Volksgeist) и его культурным проявлениям, таким как язык, которые впервые стали цениться. В этом аспекте Новалис был учеником Гердера.
Философы-идеалисты, естественно, разделяли эту веру в преемственность исторического развития. Для них история была осуществлением во времени духовной идеи, telos'а или цели. Каждый из великих идеалистов имел собственную философию истории; особенно интересна гегелевская. Фихте рассматривал природу прежде всего как инструмент моральной деятельности и, следовательно, придавал большее значение сфере человеческого духа и истории как движению, направленному на осуществление нравственного миропорядка. В философии религии Шеллинга история предстаёт как повествование о возвращении человечества к Богу, рассказ о движениях человека, оторванного от истинного центра своего бытия. У Гегеля видное место занимает идея диалектики национальных духов, сопровождаемая понятием так называемых индивидуальных исторических миров. Движение истории как целого было сведено к движению за осуществление духовной свободы. Можно сказать, что, в общем, великие идеалисты верили, что в их эпоху человеческий дух стал сознавать значение своей собственной деятельности внутри истории и смысл или направление общего исторического процесса.
Но в своей основе романтизм характеризуется чувством и тоской по бесконечному. Представления о природе и истории человечества сливались, рассматриваясь как два проявления бесконечной жизни, как аспекты своего рода божественной поэмы. Идея бесконечной жизни была объединяющим фактором романтического мировоззрения. На первый взгляд, романтическая оценка народного духа может показаться лишь вариантом важности, придаваемой свободному развитию личности индивидов. Они не являются радикально несовместимыми, поскольку бесконечная целостность мыслилась как бесконечная жизнь, проявляющая себя в конечных существах и благодаря им, хотя никогда не отрицая их и не сводя к простым механическим инструментам. Дух народов мыслился как проявление этой же бесконечной жизни, как целостности, которые для достижения своего полного развития нуждаются в свободном выражении личностей индивидов, становящихся носителями этого духа. Подобным же образом можно говорить о государстве как о политическом воплощении духа народа.
Романтизм мыслил бесконечную целостность преимущественно эстетически, как органическое целое, в котором человек мог чувствовать себя единым, то есть достигать этого единства скорее через интуицию и чувство. Концептуальное мышление склонно фиксировать и увековечивать определённые границы и пределы, в то время как романтическое мышление стремится стереть и растворить их в бесконечном потоке жизни. Иными словами, романтическое чувство бесконечного часто было чувством неопределённого. Эта черта может наблюдаться в тенденции затемнять разделение между конечным и бесконечным, в частом слиянии философии и поэзии и, в сфере искусства, в смешении различных искусств.
Отчасти это было признанием родства и синтеза различных типов человеческого опыта. Ф. Шлегель считал, что философия – это форма религии, поскольку обе связаны с бесконечным, и что все отношения человека с бесконечным принадлежат религиозной сфере. В этом смысле искусство также религиозно; творческий художник видит бесконечное в конечном, схватывая и выражая красоту. Однако отвращение романтиков к определённым формам было одной из причин, по которой Гёте высказал своё знаменитое утверждение, что классическое – здоровое, а романтическое – больное. Тем не менее, некоторые романтики чувствовали необходимость придать определённую форму своим смутным и интуитивным видениям жизни и реальности, чтобы тоска по бесконечному и свободное расширение человеческой личности могли быть легче узнаны. Шлегель, например, верил, что католицизм может удовлетворить эту потребность.
Очевидно, чувство бесконечного – общая черта романтизма и идеализма. Идея бесконечного Абсолютного, понятого как бесконечная жизнь, основополагающа в поздних работах Фихте; Абсолютное также является центральной темой в мысли Шеллинга, Шлейермахера и Гегеля. Более того, можно сказать, что немецкие идеалисты склонны мыслить бесконечное не как нечто противоположное конечному, а как бесконечную жизнь или деятельность, выражающую себя именно в конечном. В частности, Гегель сделал сознательную попытку связать конечное и бесконечное, установить между обеими идеями связь, которая не отождествляет их, но и не лишает конечное ценности, представляя его нереальным или иллюзорным. Целостность живёт в своих частных проявлениях и посредством них, будь то бесконечная целостность – Абсолютное, или относительная целостность – государство.
Духовное родство между романтическим движением и идеализмом несомненно, и примеров его множество. Когда Гегель рассматривает искусство, религию и философию в их отношении к Абсолютному, заметны явные сходства с уже упомянутыми идеями Шлегеля. Однако не следует забывать о контрастах между великими философами-идеалистами и романтиками. Шлегель отождествляет философию и поэзию и мечтает о дне, когда они станут поистине единым целым. Он считает, что философствование – это прежде всего интуитивная деятельность, а не дедуктивное рассуждение. Любое доказательство есть доказательство чего-то, прежде интуитивно схваченного; интуиция предшествует дедуктивным аргументам, и поэтому концептуальное рассуждение всегда вторично. Как говорил Шлегель, Лейбниц утверждает, а Вольф доказывает. Очевидно, это утверждение не было похвалой Вольфу. Но философия соотносится с универсумом, с целостностью; мы не можем доказать существование целостности, поскольку она может быть постигнута только интуитивно. Её также нельзя описать так, как можно описать конкретную вещь и её отношения с другими конкретными вещами. В определённом смысле целостность может быть показана – например, в поэзии, – но сказать конкретно, что она есть, находится за пределами человеческих возможностей. Поэтому философ сталкивается с трудной задачей попытаться сказать то, что не может быть сказано. Философия и сам философ для философа – ироническое дело.
Однако, переходя от Шлегеля-романтика к Гегелю, яркому представителю идеализма, мы замечаем чёткое настаивание последнего на необходимости концептуального и систематического мышления и отказ от апелляции к любому виду мистицизма чувства. Гегель, конечно, был озабочен целостностью, Абсолютным, но он должен был мыслить её, чтобы выразить жизнь бесконечного и его отношения с конечным в концептуальной мысли. Правда, он интерпретировал искусство, включая поэзию, как нечто, сосредоточенное на той же самой существенной теме, что и философия, – на абсолютном духе, но он никогда не упускал из виду формального различия между искусством и философией. Это разные вещи, которые не следует смешивать.
Можно возразить, что контраст между представлением романтиков о философии и представлением великих идеалистов меньше, чем различие между позициями Шлегеля и Гегеля. Фихте постулировал базовую интеллектуальную интуицию чистого или абсолютного «Я», и его концепция оказала значительное влияние на некоторых романтиков. Шеллинг настаивал, что, по крайней мере на одной стадии философствования, возможно постижение Абсолютного в себе, и это возможно только через мистическую интуицию. Он также придавал большое значение эстетической интуиции, посредством которой постигается природа Абсолютного в его символической форме. Кроме того, даже внутри диалектической логики Гегеля, которая есть движущаяся логика, призванная показать внутреннюю жизнь Духа и преодолеть концептуальные антитезисы, которые обычная логика считает фиксированными и постоянными, можно заметить романтические черты. То, как Гегель представляет человеческий дух, проходящий через ряд фаз, и как непрерывное движение от одной позиции к другой, может рассматриваться как выражение романтической установки. Логика Гегеля отходит от романтического духа и является основой его мышления, однако мы можем заметить глубокое духовное родство с романтизмом.
Речь не идёт об отрицании духовного родства между метафизическим идеализмом и романтизмом, а о том, чтобы указать, что, в целом, философы-идеалисты занимаются систематическим мышлением, в то время как романтики подчёркивают роль интуиции и чувства и смешивают философию и поэзию. Шеллинг и Шлейермахер были ближе к романтическому духу, чем Фихте и Гегель. Фихте постулировал базовую интеллектуальную интуицию чистого или абсолютного «Я», но не считал, что это предполагает привилегированное мистическое видение. Это была интуиция деятельности, которая проявляет себя в рефлексивном сознании. Требуется не мистическая или поэтическая способность, а трансцендентальная рефлексия. В своей критике романтиков Фихте настаивает, что философия, несмотря на требование базовой интеллектуальной интуиции «Я» как деятельности, есть прежде всего логическое мышление, производящее науку, то есть определённое знание. Философия есть знание о знании, фундаментальная наука; не попытка сказать то, что не может быть сказано. Что касается Гегеля, то несомненно, что даже в его диалектике можно найти романтические черты. Но это не меняет того факта, что для него философия – не собрание апокалиптических домыслов, романтических рапсодий или мистических интуиций, а логическое и систематическое мышление, мыслящее свои объекты концептуально. Задача философа состоит в том, чтобы понять реальность и заставить других понять её, а не конструировать или намекать на значения с помощью поэтических образов.
Сложность реализации программы идеализма.
Как мы видели, исходное превращение кантовской философии в чистый идеализм предполагает, что реальность должна рассматриваться как процесс мысли или продуктивного разума. Иными словами, бытие должно быть отождествлено с мышлением. Естественной программой идеализма будет, следовательно, показать истинность этого отождествления, чтобы тем самым дедуктивно реконструировать существенную динамическую структуру жизни и мысли или абсолютного разума. С другой стороны, чтобы сохранить кантовскую концепцию философии как рефлективного мышления, сознающего свою собственную спонтанную деятельность, философская рефлексия должна предстать как самосознание абсолютного разума в человеческом уме. Поэтому показать истинность этой интерпретации философской рефлексии – ещё одна задача естественной программы идеализма.
Если обратиться к конкретной истории идеалистического движения, то можно увидеть трудности, с которыми оно столкнулось при реализации этой программы. Доказательством тому служат резкие расхождения, возникшие при трансформации критической философии в трансцендентальный идеализм. Фихте, например, начинает с утверждения, что не пойдёт дальше сознания в смысле постулирования в качестве первого принципа бытия, трансцендирующего его. Следовательно, его первый принцип, чистое «Я», как оно проявляется в сознании, не может быть вещью, а должен быть деятельностью. Требования трансцендентального идеализма вынуждают его сместить последнюю реальность за пределы сознания, так что в последующем изложении своей философии Фихте постулирует бесконечное и абсолютное бытие, трансцендирующее мышление.
У Шеллинга мы наблюдаем обратный процесс. В то время как на одном этапе своего философского странствования он утверждает существование Абсолютного, трансцендирующего человеческое мышление и концептуализацию, в своей философии религии он пытается рефлексивно реконструировать внутреннюю сущность личностной божественности. Но в то же время он отказывается от идеи априорной дедукции существования и структуры эмпирической реальности и, напротив, настаивает на свободном самооткровении Бога. Однако сохраняется тенденция идеализма рассматривать конечное как логическое следствие бесконечного; но, введя идею личного и свободного Бога, он был вынужден расширять свои спекуляции всё дальше от первоначальной модели метафизического идеализма.
Бесполезно говорить, что тот факт, что и Фихте, и Шеллинг развивали и изменяли свои исходные позиции, не является доказательством необоснованности этих изменений и развитий. Я полагаю, что именно эти вариации свидетельствуют о трудности осуществления того, что я ранее назвал естественной программой идеализма. Можно утверждать, что ни у Шеллинга, ни у Фихте бытие не было сведено к мышлению.
Гегель предпринял наиболее последовательные попытки выполнить эту программу. Он не колеблясь утверждал, что разумное действительно, а действительное разумно. Он считал совершенно ошибочным думать, что человеческий ум есть нечто конечное, и, исходя из этого, нельзя сомневаться в его способности понять жизнь бесконечного Абсолютного. Ум имеет конечные аспекты, но он бесконечен в том смысле, что способен подняться на уровень абсолютного мышления, уровня, на котором знание Абсолютного о себе отождествляется с человеческим знанием об Абсолютном. Гегель пытается систематически и детально продемонстрировать, каким образом реальность есть жизнь абсолютного разума в его движении к самопознанию, пока он в своей актуальной действительности не станет тем, чем он всегда был по сути, а именно мыслью, мыслящей саму себя.
Очевидно, Гегель отождествляет знание, которое Абсолютное имеет о себе, со знанием, которое человек имеет об Абсолютном, и чем дальше заходит этот процесс, тем совершеннее выполняется естественная программа идеализма, требующая, чтобы философия была саморефлексией абсолютной мысли или разума. Если бы Абсолютное было личным Богом, обладающим вечным самосознанием, независимым от человеческого духа, то знание человека о Боге было бы внешним взглядом. Однако если бы Абсолютное было полностью реальностью – универсумом, интерпретированным как развитие абсолютной мысли, достигающей саморефлексии в человеческом духе, то знание человека об Абсолютном становилось бы знанием, которое Абсолютное имеет о себе. Философия есть продуктивное мышление, мыслящее само себя.
Что понимается под продуктивным мышлением? Можно сказать, что это универсум, рассматриваемый телеологически, как универсальный процесс, движущийся к самопознанию, и что это самопознание есть не что иное, как знание человеком природы, самого себя и своей истории. В этом случае нет ничего за пределами универсума, никакой мысли или разума, выражающего себя в природе и одновременно выражающего человеческую историю, как если бы действующая причина выражала себя в своих следствиях. Телеологически рассмотренное, мышление первично в том смысле, что оно одновременно является целью самого процесса и тем, что придаёт ему значение. Но то, что реально и исторически первично, – это бытие в форме объективной природы. В этом случае модель идеализма, предложенная первоначальным преобразованием из кантовской философии, претерпела значительное изменение, поскольку это преобразование предполагает образ деятельности бесконечной мысли, производящей или творящей объективный мир, в то время как только что изложенная идея предполагает исключительно реальный мир опыта, интерпретированный как телеологический процесс. Telos процесса считается саморефлексией мира в человеческом уме и благодаря ему. Но эта цель есть идеал, который никогда не может быть полностью достигнут. Поэтому отождествление бытия и мышления никогда по-настоящему не осуществляется.
Антропоморфный элемент в немецком идеализме.
Ещё один аспект расхождений с естественной моделью поскантианского идеализма заключается в следующем. Ф. Г. Брэдли, представитель абсолютного идеализма в Англии, настаивает на понятии Бога как понятии, которое неизбежно переходит в понятие Абсолютного, то есть если ум пытается мыслить бесконечное строгим образом, ему в конечном счёте приходится признать, что бесконечное может быть только универсумом бытия, реальностью как целым, тотальностью. Религия исчезает в этой трансформации Бога в Абсолютное. «Бог не может оставаться рядом с Абсолютным и, достигнув его, был потерян, а с ним и религия». Нечто подобное утверждал Р. Дж. Коллингвуд: «Бог и Абсолютное не тождественны, а различны. Но они тождественны в этом смысле: Бог есть имагинативная или интуитивная форма, в которой Абсолютное открывает себя религиозному сознанию». Если мы сохраняем спекулятивную метафизику, мы должны признать, что теизм находится на полпути между политеистическим антропоморфизмом и идеей всеобъемлющего Абсолютного.
Очевидно, что при отсутствии ясного представления об аналогии сущего невозможно понятие конечного бытия как онтологически отличного от бесконечного бытия. Но, оставляя это в стороне, важно то, что поскантианский идеализм по своей сути антропоморфичен. Модель человеческого сознания переносится на тотальность реальности. Предположим, что человеческое «Я» достигает самосознания лишь опосредованно, то есть оно сначала идёт к не-«Я». Тогда это не-«Я» должно быть положено рядом с «Я», не в смысле того, что не-«Я» онтологически сотворено «Я», а в том смысле, что оно должно быть признано объектом, чтобы существовало сознание. «Я» может вернуться к себе и таким образом стать рефлексивно сознающим себя. В поскантианском идеализме этот процесс человеческого сознания является ключевой идеей, служащей для интерпретации всей реальности. Абсолютное «Я», или абсолютный разум, или как бы его ни называли, считается (в онтологическом смысле) долженствующим полагать объективный мир природы как необходимое условие для возвращения к себе в человеческом духе и благодаря его деятельности.
Эта общая схема является следствием превращения кантовской философии в метафизический идеализм. Но это сверхразвитие кантовской теории познания до превращения в космическую метафизику подразумевает интерпретацию процесса реальности как целого в соответствии с моделью человеческого сознания. В этом смысле поскантианский идеализм содержит ярко выраженные антропоморфные элементы; это факт, на который следует указать, учитывая, что часто считалось, что идеалистическая концепция гораздо менее антропоморфична, чем теистическая. Очевидно, что Бог может быть понят только аналогически; мы также не можем мыслить божественное сознание иначе как по аналогии с человеческим сознанием. Но можно попытаться устранить те аспекты сознания, которые связаны с конечностью. Хотя можно утверждать, что для приписывания бесконечному процесса рефлексивного самосознания этот антропоморфный элемент необходим.
Теперь, если существует духовная реальность, которая – во всяком случае – логически предшествует природе и становится самосознающей в человеке и благодаря ему, как её можно мыслить? Если мы мыслим её как безграничную деятельность, не сознающую себя, но лежащую в основе сознания, мы практически повторяем тезис об абсолютном «Я» Фихте.
Понятие последней реальности, которая одновременно духовна и бессознательна, трудно постичь. Оно также не очень похоже на христианское понятие Бога. Если мы, подобно Шеллингу в его поздних сочинениях о религии, верим, что духовная реальность, скрывающаяся за природой, есть личностное существо, то модель идеалистической схемы оказывается сильно искажённой. В этом случае уже невозможно поддерживать идею о том, что последняя духовная реальность становится сознающей себя в мировом процессе. Поскольку Шеллинг прожил примерно на двадцать лет дольше Гегеля, можно сказать, что (хронологически рассмотренное) идеалистическое движение, непосредственно следующее за критической философией Канта, завершилось вторым приближением к философскому теизму. Мы уже видели, как Брэдли утверждал, что понятие Бога есть требование религиозного сознания, но, с философской точки зрения, это понятие должно быть преобразовано в понятие Абсолютного. Шеллинг принял бы первую часть утверждения, но отверг бы вторую, по крайней мере в том виде, в каком её сформулировал Брэдли. Философия последних лет Шеллинга была философией религиозного сознания. Он считал, что религиозное сознание требует преобразования его ранних идей об Абсолютном в идею личного Бога. В своих теософских спекуляциях он, очевидно, ввёл антропоморфные элементы. Но его путь к теизму представлял собой отход от основной линии идеализма.
Остаётся третья возможность. Мы можем устранить идею духовной реальности, сознательной или бессознательной, которая производит природу, и в то же время сохранить идею Абсолютного, становящегося самосознающим. В этом случае Абсолютное есть мир, универсум. Таким образом, мы получаем образ знания, которое человек имеет о мире и своей собственной истории, как самопознание Абсолютного. В этом образе, представляющем общую линию одной из важнейших интерпретаций идеализма, мир опыта есть не что иное, как результат телеологического процесса мира, то есть никакое трансцендентное существо не требуется с этой точки зрения; универсум интерпретируется как процесс, развивающийся к идеальной цели, а именно к саморефлексии в человеческом духе.
Эту интерпретацию Гегеля едва ли можно считать эквивалентной эмпирическому утверждению, что человек появляется в определённый момент мировой истории и что он способен познавать себя и увеличивать это знание, а также познавать свою историю и среду. Предположительно, никто, будь то материалист, идеалист, теист, пантеист или атеист, не станет возражать против принятия этих утверждений. Гегелевская интерпретация телеологична и предполагает движение универсума к человеческому знанию, и это движение есть знание, которое универсум имеет о себе. Но, если мы не готовы допустить, что это лишь один из возможных способов рассмотрения мирового процесса и, таким образом, остаёмся открытыми для возражения, что наш выбор этой конкретной модели определяется интеллектуальным предубеждением в пользу знания (что само по себе является частным ценностным суждением), мы вынуждены утверждать, что мир движется в силу внутренней необходимости к своему самопознанию в человеке и через него. Но на каком основании мы можем это делать, кроме как исходя из веры в то, что природа сама по себе есть бессознательный ум – то, что Шеллинг называл заснувшим духом, – стремящийся достичь сознания, или что за ней лежит бессознательный разум или ум, который спонтанно полагает природу как предварительное и необходимое условие для достижения сознания в человеческом духе и через него? Любое из этих двух допущений заставляет нас переносить на универсум как целое модель развития человеческого сознания. Эта процедура требует превращения критической философии в метафизический идеализм; но несомненно, что она не становится от этого менее антропоморфичной, чем теизм как явная философия.
Идеалистические философии человека.
Философия человека является одной из наиболее выдающихся черт идеалистического движения, что легко выводится из метафизических предпосылок его наиболее видных представителей. Согласно Фихте, абсолютное «Я» есть безграничная деятельность, которую можно представить как движение к достижению собственной свободы. Но сознание существует только как индивидуальное сознание; поэтому абсолютное «Я» выражает себя в ряде субъектов или конечных существ, стремящихся возвыситься до своей истинной свободы. Здесь, как и следовало ожидать, возникает моральное рассмотрение человеческой деятельности. Философия Фихте – это по существу динамический этический идеализм. Для Гегеля Абсолютное есть дух, или мысль, мыслящая саму себя, и, следовательно, может лучше всего раскрываться в человеческом духе, чем в природе. Следует настаивать на рефлективном рассмотрении духовной жизни – жизни человека как разумного существа – больше, чем на философии природы. Что касается Шеллинга, то, утверждая существование свободного и личного Бога, он сталкивается с проблемой человеческой свободы и возвращения человека к Богу.
Тезисы идеализма о человеке и обществе всегда утверждают свободу, но это слово не во всех случаях имеет одинаковое значение. Фихте видит свободу индивида, проявляющуюся в действии, возможно, вследствие собственного энергичного и решительного характера философа. В некотором смысле для Фихте человек есть система склонностей, инстинктов и природных побуждений; и с этой точки зрения нельзя говорить о человеческой свободе. Но человек, поскольку он есть дух, не обязан автоматически удовлетворять одно желание за другим и может направлять свою деятельность к идеальной цели согласно своему понятию долга. Как и для Канта, свобода означает нечто возникающее на более высоком уровне, чем жизнь чувственных побуждений, и соответствует действию морального и разумного существа. Фихте скорее склонен думать, что сама деятельность есть также своя собственная цель, и акцент, с которым он подчёркивает свободное действие, никогда не трансцендирует это действие.
Но, несмотря на то что для Фихте главным является деятельность индивида благодаря его способности возвыситься над рабством природного побуждения до жизни действия, согласной с его долгом, он считает, что в некотором смысле необходимо придать какое-то содержание идее свободного морального действия. Это возможно благодаря расширению понятия моральной миссии человека. Эта моральная миссия и ряд поступков, которые человек должен совершить в мире, в значительной степени определяются социальной ситуацией индивида, например, положением отца семейства. В конечном итоге мы получаем видение большого разнообразия моральных миссий, поскольку они сходятся к общей идеальной цели, а именно к установлению нравственного миропорядка.
Фихте в молодости был восторженным сторонником Французской революции, которая, как он верил, освободит людей от угнетающих форм социальной и политической жизни, которые, по его мнению, были главным препятствием для развития свободной нравственности человека. Впоследствии возник вопрос: какая форма социальной, экономической и политической организации лучше всего способствует развитию нравственности человека? Фихте был вынужден усилить роль политического общества как воспитательной и моральной силы. В последние годы он много занимался политическими событиями эпохи, особенно наполеоновским господством и освободительной войной. Эти размышления привели его к националистическому видению единого немецкого государства с культурной миссией, в котором немцы, наконец, обретут собственную свободу. Но для его мысли характерна идея, что государство – это необходимый инструмент для защиты прав человека до тех пор, пока он не разовьёт полностью свою моральную миссию. Когда человек достигнет моральной полноты, государство должно исчезнуть.
Если мы вернёмся к Гегелю, то окажемся перед иной позицией. Также в молодости он с симпатией относился к Французской революции, которую рассматривал как возможность свободы, и это слово играет важную роль в его философии. Как мы увидим позже, Гегель представляет человеческую историю как движение к полной реализации свободы. Он проводит чёткое различие между негативной свободой, которая есть просто отсутствие ограничений, и позитивной свободой. Как уже говорил Кант, моральная свобода подразумевает подчинение закону, который человек даёт себе как разумное существо; но разумное есть всеобщее. Позитивная свобода предполагает отождествление себя с целью, трансцендирующей собственные желания. Отождествляя личную волю индивида с общей волей Руссо, выражаемой в государстве, достигается позитивная свобода. Нравственность по сути есть социальная нравственность. Формальный моральный закон находит своё применение в социальной жизни, особенно в государстве.
Фихте и Гегель по этим причинам пытались преодолеть формализм кантовской этики, придавая нравственности социальную ситуацию. Но между ними наблюдается различие. Фихте настаивает на индивидуальной свободе и деятельности человека согласно долгу, который налагает на него личная совесть. Кроме того, следует добавить, что моральное призвание индивида является элементом системы моральных призваний и, таким образом, включается в общество. В этике Фихте самое важное – это борьба, которую ведёт индивид, чтобы превзойти самого себя, то есть привести себя в соответствие со свободной волей, стремящейся к тотальной свободе. Гегель, напротив, с самого начала подчёркивает политическое общество, в которое индивид включён, и, следовательно, выделяет социальный аспект этики. Позитивная свобода достигается благодаря участию в органической социальной целостности. Чтобы уравновесить этот несколько односторонний взгляд, добавим, что для Гегеля государство становится полностью рациональным только если признаёт ценность субъективной или индивидуальной свободы. Когда Гегель читал в Берлине лекции по политической теории, описывая государство в весьма риторических терминах, он хотел, чтобы его слушатели обрели социальное и политическое сознание, и его основной интерес заключался в преодолении того, что он назвал односторонним и пагубным преобладанием внутренней нравственности. Пропаганда тоталитаризма была далека от его намерений. С другой стороны, согласно Гегелю, политические институты являются необходимым основанием высших духовных деятельностей человека, таких как искусство, религия и философия, в которых духовная свобода находит своё высшее выражение.
Чего, возможно, не хватает как у Фихте, так и у Гегеля, так это ясной теории об абсолютных моральных ценностях. Если учесть, что для Фихте действие существует только для себя и свобода также заканчивается в себе, мы поймём уникальный характер морального призвания каждого человека. В то же время мы рискуем преувеличить значение творческой личности и оригинальность её морального призвания за счёт универсальности морального закона. Однако если мы социализируем нравственность, как это сделал Гегель, мы избегаем формализма кантовской этики, но подвергаемся опасности релятивизации моральных норм и ценностей в соответствии с различными культурными и социальными периодами, в которых они возникают. Очевидно, многие согласились бы с этим утверждением, но, если мы его не принимаем, мы чувствуем необходимость в более эксплицитной теории моральных ценностей, чем у Гегеля, в которой их абсолютный характер был бы несомненным.
Мысль Шеллинга значительно расходилась с мыслью Фихте и Гегеля. На одной из стадий своего развития он собрал многие из своих прежних идей и пришёл к представлению моральной деятельности человека как стремящейся создать вторую природу, то есть нравственный миропорядок, моральный мир внутри физического мира. Но различие между его позицией и позицией Фихте больше, потому что Шеллинг добавляет философию искусства и эстетической интуиции, которым приписывает решающее значение для метафизики.
У Фихте центр тяжести падал на моральную борьбу и свободное моральное действие, в то время как у Шеллинга он располагается в эстетической интуиции, которую он считал ключом к проникновению в конечную природу реальности. Гений художника сияет ярче, чем моральный герой в этической мысли Шеллинга. Однако, когда теологические проблемы полностью поглощают его внимание, его философия человека немедленно приобретает ярко выраженную религиозную окраску. Шеллинг считал, что свобода есть способность выбирать между добром и злом, и что моральная личность врождённа и сияет во тьме физического мира через сублимацию низшей природы человека и подчинение рациональной воле. Но эти темы появляются в метафизической форме. Например, упомянутые идеи о свободе и личности привели Шеллинга к теософским спекуляциям о природе Бога. Его тезисы о божественной природе отражаются на его видении человека.
Вернёмся к Гегелю, величайшему из немецких идеалистов. Его анализы человеческого общества и его философия истории впечатляют. Многие из тех, кто посещал его лекции по истории, должны были почувствовать важность прошлого и движение истории как нечто настоящее. Гегель заботился не только о том, чтобы понять прошлое. Мы видели, что его главный интерес заключался в том, чтобы помочь своим ученикам обрести социальное, политическое и этическое сознание. Он верил, что его анализ рационального государства даст схему политической жизни своего времени, особенно немецкой политике. Но Гегель всегда настаивает на понимании. Недаром он сказал, что сова Минервы расправляет крылья лишь с наступлением сумерек и что когда философия окрашивается в серый цвет, то какой-то характер жизни остыл. Гегель считал, что политическая философия служит для оправдания социальных и политических форм общества или культуры, которые находятся на грани исчезновения. Зрелая или даже перезрелая культура или общество становятся сознательными самих себя в философской рефлексии и именно благодаря ей. Это может произойти только в момент, когда развитие жизни требует и предлагает новые общества и новые социополитические формы.
С Марксом появляется иная установка. Задача философа заключается в том, чтобы понять движение истории, чтобы тем самым иметь возможность изменять институты и формы социальной организации в соответствии с телеологическим движением истории. Маркс не отрицает ценности и необходимости понимания, но настаивает на его революционной функции, и в этом смысле действительно можно сказать, что Гегель смотрит назад, а Маркс – вперёд. Нет необходимости обсуждать здесь обоснованность идей Маркса о функции философа. Достаточно указать на различные позиции великих идеалистов и социальных революционеров. Чтобы найти в идеалистическом лагере нечто подобное прозелитистскому рвению Маркса, мы должны вернуться к Фихте, а не к Гегелю. Как мы увидим, Фихте верил, что его собственная философия должна быть спасена для блага человеческого общества. Гегель, напротив, чувствовал всю тяжесть истории на своих плечах и, бросая ретроспективный взгляд на историю мира, его основной амбицией было понять её. Кроме того, хотя он никогда не думал, что история остановилась с наступлением XIX века, его историческое чувство было достаточно острым, чтобы уберечь его от какой-либо философской утопии относительно истории.
Основания наукоучения: интеллектуальная интуиция, три основополагающих принципа и дедукция сознания в философии Иоганна Готлиба Фихте.
1. Жизнь и сочинения
Иоганн Готлиб Фихте родился в 1762 году в Рамменау, в Саксонии. Его семья была бедной, и в обычных обстоятельствах он не смог бы получить высшее образование, но мальчик привлёк внимание местного дворянина, барона фон Мильтица, который позаботился о нём, отправив его в знаменитую школу Пфорта, где позже будет учиться Ницше. В 1780 году он начал изучать теологию в Йенском университете, продолжил в Виттенбергском, а затем в Лейпцигском.
В студенческие годы Фихте придерживался детерминистской философии. Один священник рекомендовал ему издание «Этики» Спинозы, включавшее опровержение Вольфа, чтобы молодой человек мог преодолеть свою детерминистскую позицию. Но Фихте нашёл это опровержение очень слабым, и книга произвела противоположный эффект. Однако детерминизм плохо сочетался с активным и энергичным характером Фихте, а также с его интересом к моральным темам, и вскоре был заменён ясным утверждением этической свободы. Позже он проявил себя как умный оппонент Спинозы, хотя этот философ всегда учитывался Фихте.
По экономическим причинам Фихте пришлось принять должность домашнего учителя в семье в Цюрихе, где он читал Руссо и Монтескьё и с симпатией воспринял известие о Французской революции с её посланием свободы. Его интерес к Канту пробудился, когда ему пришлось объяснять по просьбе студента критическую философию. В 1791 году, когда он вернулся из Варшавы, где претерпел унижения на должности домашнего учителя в аристократической семье, и возвращался в Германию, он посетил Канта в Кёнигсберге. Тот принял его холодно, и Фихте попытался заслужить признание Канта, написав эссе, в котором развивал кантовское обоснование веры в силу практического разума. Работа «Опыт критики всякого откровения» была оценена Кантом, и после некоторых трудностей с теологической цензурой была опубликована в 1792 году. Поскольку она вышла анонимно, многие полагали, что она написана Кантом. Когда Кант исправил эту ошибку, имя Фихте начало становиться известным.
В 1793 году Фихте опубликовал «Соображения, направленные на исправление суждений публики о Французской революции». Эта работа создала ему опасную репутацию демократа и якобинца; тем не менее, в 1794 году он стал профессором философии в Йене, отчасти благодаря горячей рекомендации Гёте. Помимо академических курсов, он прочитал ряд лекций о достоинстве человека и миссии интеллектуала, которые были опубликованы в том же году, когда он получил кафедру. Фихте всегда имел что-то от миссионера и проповедника. Его главная работа была опубликована в 1794 году под названием «Основа общего наукоучения», и в ней он изложил идеалистическое развитие критической философии Канта. Его предшественник на кафедре философии в Йене, К. Л. Рейнхольд, который принял приглашение в Киль, стремился превратить кантовскую критику в философскую систему, выведенную из основополагающего принципа. Фихте со своим наукоучением попытался довести попытку Рейнхольда до конца. Наукоучение задумывалось как изложение систематического развития последнего принципа основных положений, лежащих в основе частных наук, или путей, ведущих к знанию. Но излагать эту эволюцию – значит описывать развитие творческой мысли. Поэтому наукоучение – это не только эпистемология, но и метафизика.
Но Фихте был далёк от того, чтобы сосредотачиваться исключительно на теоретической дедукции сознания. Он настаивал на моральной цели развития сознания, а именно на моральном назначении человеческого существования. В 1796 году он опубликовал «Основание естественного права», а в 1798 году – «Систему учения о нравственности», заявляя, что эти темы трактуются «согласно принципам наукоучения», что абсолютно верно. Эти работы – нечто гораздо большее, чем просто приложения к Наукоучению, поскольку в них проявляется истинный характер философии Фихте как системы этического идеализма.
Критиковали, и не без оснований, темноту представителей метафизического идеализма. Выдающейся чертой литературной деятельности Фихте является его неустанное стремление ясно изложить идеи и принципы наукоучения. В 1797 году он опубликовал два введения в Наукоучение, а в 1801 году – «Ясное как день сообщение о новой философии». Это название, возможно, несколько оптимистично, но, в любом случае, является доказательством усилий автора ясно изложить свои идеи. В период с 1801 по 1813 год Фихте подготовил для своих университетских курсов ряд версий Наукоучения. В 1810 году он опубликовал «Наукоучение в его общих очертаниях», а в 1813 году вышло второе издание «Фактов сознания».
В 1799 году карьера Фихте в Йене была насильственно прервана. Его проекты реформы студенческих обществ, выраженные в его воскресных лекциях, создали определённое недовольство в университете. Однако причиной разрыва стала публикация эссе «О причине нашей веры в божественное мироправление». Публикация этой работы привела к обвинению в атеизме; в ней, казалось, Фихте отождествлял Бога с нравственным миропорядком, созданным и поддерживаемым человеческой волей. Философ негодующе защищался, но с таким малым успехом, что в 1799 году ему пришлось покинуть Йену и переехать в Берлин.
В 1800 году Фихте опубликовал «Назначение человека». Эта работа входит в число так называемых популярных сочинений, адресованных скорее широкой публике, чем профессиональным философам. Это манифест, который автор написал в защиту своей системы идеализма и против романтической концепции природы и религии. Возвышенный язык Фихте наводит на мысль о романтическом пантеизме, однако истинный смысл этой работы был хорошо понят самими романтиками. Шлейермахер заметил, что Фихте систематически отвергал любую попытку приближения к Спинозе, и в проницательной критике утверждал, что враждебная реакция Фихте на идею универсальной необходимости в природе была вдохновлена его большим интересом к человеку как независимому и конечному существу, которое всегда должно ставиться выше природы. Согласно Шлейермахеру, Фихте должен был бы достичь высшего синтеза, включающего истинное в философии Спинозы, а не просто противопоставлять человека природе.
В том же 1800 году Фихте опубликовал свою работу «Закрытое торговое государство», в которой предлагал нечто вроде социалистического государства. Ранее мы уже отмечали миссионерскую установку Фихте. Он считал свою систему не только философской истиной в абстрактном и академическом смысле, но и истиной спасения, которая могла бы послужить реформе общества. По крайней мере, в этом аспекте он имеет некоторое сходство с Платоном. Фихте надеялся, что масонство послужит инструментом для продвижения моральной и социальной реформы согласно принципам Наукоучения. Эта надежда была оставлена, и в конечном итоге он поддержал прусское правительство. «Закрытое торговое государство» было программой, которую философ предлагал правительству.
В 1804 году Фихте принял кафедру в Эрлангене, но вступил в должность только в апреле 1805 года, а в этот промежуток читал лекции в Берлине «Об основных чертах современной эпохи», в которых критиковал романтическое видение Новалиса, Тика и обоих Шлегелей. Тик способствовал знакомству Новалиса с работами Бёме; некоторые романтики были горячими сторонниками мистического сапожника из Гёрлица. Фихте не разделял этот энтузиазм и не испытывал ни малейшей симпатии к мечте Новалиса о восстановлении теократической и католической культуры. Фихте также критиковал в этих лекциях философию природы Шеллинга, своего бывшего ученика. Эти полемики в некотором смысле случайны для философии истории, которую он схематизирует в своих лекциях. «Современная эпоха» Фихте представляет один из периодов развития человека к концу истории, понятой как упорядочивающая все человеческие отношения со свободой согласно разуму. Эти лекции были опубликованы в 1806 году.
В 1805 году Фихте прочитал несколько лекций в Эрлангене «О сущности учёного». Зимой 1805-1806 годов он прочитал ещё одну серию лекций в Берлине «О назначении человека к блаженной жизни, или также учение о религии». Эта работа означает радикальный поворот в мысли Фихте о религии. В ней гораздо меньше говорится о «Я» и больше настаивается на Абсолютном и жизни в Боге. Шеллинг обвинил его в плагиате, заимствовав его идеи об Абсолютном и пытаясь интегрировать их в Наукоучение, не осознавая, что эти элементы несовместимы. Однако Фихте отказывался признать, что его идеи о религии, то есть те, что он изложил в «Учении о религии», противоречат его первоначальной философии.
В 1806 году, когда Наполеон вторгся в Пруссию, Фихте предложил сопровождать прусские армии в качестве проповедника. Но получил ответ, что король считает, что настало время отвечать делами, а не словами, и что его красноречие лучше послужит для празднования победы. Когда события приняли серьёзный оборот, Фихте уехал из Берлина. Он вернулся в 1807 году и в этом году написал свои «Речи к немецкой нации». В этих речах, в которых философ говорит риторическим и возвышенным языком о культурной миссии немецкого народа, постепенно проявляется явно националистический характер. Следует помнить, в оправдание Фихте, что они были написаны в трудных обстоятельствах наполеоновского господства.
В 1810 году при основании Берлинского университета Фихте был назначен деканом философского факультета. В 1811-1812 годах он был ректором университета. В 1814 году его жена заразила его тифом, и он умер 29 января того же года.
2. О поиске основополагающего принципа философии; выбор между идеализмом и догматизмом
Исходное понятие философии у Фихте мало связано с романтической идеей слияния философии и поэзии. Философия есть, или по крайней мере должна быть, наука. Во-первых, она должна быть рядом положений, составляющих систематическое целое, так чтобы каждое положение находило своё место в логическом порядке. Во-вторых, необходимо, чтобы существовало основополагающее и логически первичное положение. «Всякая наука должна иметь основоположение [Grundsatz]… и только одно. Иначе она была бы не одной наукой, а несколькими науками». Бесспорно, утверждение, что каждая наука должна иметь одно и только одно основоположение, весьма спорно, но, в любом случае, оно является частью того, что Фихте понимает под наукой.
Это понятие науки вдохновлено математической моделью. Геометрия, по Фихте, – лучший пример науки. Но это частная наука, в то время как философия есть наука о науке, то есть знание о знании, или же Наукоучение (Wissenschaftslehre). Иными словами, философия – основополагающая наука. Поэтому её основоположение недоказуемо и истинно в силу своей самоочевидности. «Остальные положения будут обладать относительной достоверностью, выведенной из него». Если бы оно не было основоположением и, следовательно, доказуемым в другой науке, философия не была бы основополагающей наукой.
Как мы увидим при изложении его мысли, Фихте не всегда придерживается программы, вытекающей из его понятия философии. То есть его философия не является строго логической дедукцией, какую могла бы осуществить машина. Но мы можем сейчас отвлечься от этого. Самый насущный вопрос следующий: каково основоположение философии?
Прежде чем ответить на этот вопрос, мы должны решить, как мы должны подходить к искомому положению. Согласно Фихте, мы с самого начала сталкиваемся с альтернативой. Выбор, который мы сделаем, зависит от того, какого рода человеком мы являемся. Одни люди посмотрят в одном направлении, другие – в другом. Эта идея исходного выбора требует объяснения, которое приведёт нас к пониманию концепции Фихте о миссии философии и отправной точке его мысли.
Фихте объясняет в своём «Первом введении в наукоучение», что философия призвана прояснить основание опыта (Erfahrung). Слово опыт здесь имеет очень ограниченный смысл. Если мы рассмотрим содержания сознания, то различим два рода. «Вкратце можно сказать, что некоторые из наших представлений [Vorstellungen] сопровождаются чувством свободы, тогда как другие сопровождаются чувством необходимости». Если я мысленно конструирую грифона, или золотую гору, или решаю поехать в Париж вместо Брюсселя, такие представления, кажется, зависят от меня самого. Поскольку они зависят от выбора субъекта, они сопровождаются чувством свободы. Если мы спросим, почему они таковы, каковы есть, нам придётся ответить, что субъект делает их таковыми. Но если я гуляю по улице Лондона, то то, что я слышу или вижу, зависит не исключительно от меня. Это те представления, которые сопровождаются чувством необходимости. То есть они навязываются мне. Всю систему представлений Фихте называет «опытом», хотя он не всегда использует это слово в таком ограниченном значении. Мы спрашиваем: какова причина или основание опыта? Как нам объяснить очевидный факт, что огромное количество представлений навязывается субъекту? «Ответить на этот вопрос – миссия философии».
Теперь перед нами открываются две возможности. Опыт всегда есть опыт чего-то через того, кто его испытывает; то есть сознание всегда есть сознание объекта в субъекте, или, как иногда выражается Фихте, это интеллигенция. В процессе, который Фихте называет абстракцией, философ может концептуально изолировать два фактора, которые всегда объединены в реальном сознании. Таким образом, он может сформировать понятия интеллигенции самой по себе и вещи-самой-по-себе. Перед ним открываются два пути. Он может попытаться объяснить опыт (в смысле, описанном в предыдущем абзаце) как продукт интеллигенции самой по себе, то есть творческой мысли, или же он может объяснить опыт как эффект вещи самой по себе. Первый путь, очевидно, – путь идеализма; второй – «догматизма», который включает материализм и детерминизм. Если вещь, объект, принимается за основополагающий принцип объяснения, интеллигенция сведётся к простому эпифеномену.
Эта альтернатива наиболее характерна для Фихте: он видит ясный выбор между двумя противоположными позициями, исключающими друг друга. Правда, некоторые философы, особенно Кант, пытались достичь компромисса, то есть найти средний путь между чистым идеализмом и догматизмом, который заканчивается детерминистским материализмом. Фихте, однако, не мирится с такими компромиссами. Философ, который желает избежать догматизма и всех его следствий и готов быть логичным, должен устранить вещь-саму-по-себе как фактор объяснения опыта. Представления, сопровождаемые чувством необходимости, чувством навязанности или воздействия со стороны объекта, существующего независимо от ума или мысли, должны быть объяснены без обращения к кантовской идее вещи-самой-по-себе.
Но на каком принципе философ может обосновать свой выбор между двумя возможностями, которые ему представляются? Он не может апеллировать ни к какому теоретическому принципу, поскольку до сих пор он не нашёл никакого принципа и ещё должен решить, в каком направлении его искать. Поэтому его решение будет основано на «склонности и интересе». То есть выбор философа зависит от того, каким человеком он является; бесполезно говорить, что Фихте убеждён, что превосходство идеализма над догматизмом как объяснения опыта становится очевидным при разработке обеих систем. Но эти системы ещё не разработаны. В поисках первого принципа философии нельзя апеллировать к теоретическому превосходству системы, которая ещё не построена.
Что Фихте хочет сказать этим, так это то, что зрелый философ, сознающий свою свободу, которая открылась ему в моральном опыте, склоняется к идеализму, тогда как философ, лишённый этого морального сознания и зрелости, склоняется к догматизму. «Интерес» в данном случае – это интерес к «Я» и за «Я»; Фихте считает, что в этом состоит высший интерес. Догматик, лишённый этого интереса, подчёркивает вещь, не-«Я». Но мыслящий человек, имеющий какой-либо подлинный интерес к свободному и моральному субъекту, найдёт основной принцип философии в интеллигенции, в «Я», а не в не-«Я».
Интерес Фихте к свободному и морально активному «Я» чётко определён с самого начала. Как нечто лежащее в основе и вдохновляющее теоретическое исследование оснований опыта, существует глубокое убеждение в первостепенном значении свободной и моральной деятельности человека, и поэтому он продолжает настаивание Канта на примате практического разума, моральной воли. Но Фихте считает, что для этого необходимо выбрать путь чистого идеализма. За кажущимся наивным сохранением кантовской вещи-самой-по-себе Фихте прозревает призрак спинозизма, возвеличивание природы и исчезновение свободы. Чтобы изгнать этот призрак, мы должны отвергнуть этот компромисс.
Конечно, мы можем отделить идею Фихте о влиянии «склонности» или «интереса» от его исторически обусловленной концепции исходного выбора, с которым сталкивается философ, и рассматривать её как предшественницу того, что Ясперс назвал «психологией мировоззрений». Но в истории философии стоит сопротивляться искушению вступить в столь привлекательную дискуссию.
3. Чистое «Я» и интеллектуальная интуиция
После выбора пути идеализма необходимо вернуться к первому принципу философии, интеллигенции самой по себе. Более уместно заменить это слово на «Я», как это обычно делает Фихте. Поэтому необходимо объяснить генезис опыта с точки зрения «Я». На самом деле Фихте пытался дедуцировать сознание вообще из «Я». Однако, говоря об опыте в ограниченном смысле, указанном ранее, Фихте сталкивается с трудностью, с которой чистый идеализм сталкивается так или иначе, а именно с очевидным фактом, что «Я» обнаруживает себя в мире объектов, воздействующих на него различными способами. Идеализм, который не умеет прямо сталкиваться с этим фактом, несостоятелен.
Каково «Я», лежащее в основе философии? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны выйти за пределы объективации «Я», «Я» как объекта интроспекции или эмпирической психологии, до чистого «Я». Фихте однажды сказал своим ученикам: «Господа, подумайте о стене» и продолжил: «Господа, подумайте о том, кто думал о стене». Ясно, что мы могли бы продолжать таким образом бесконечно: «Господа, подумайте о том, кто думал о том, кто думал о стене» и т.д. Иными словами, как бы мы ни пытались объективировать «Я», то есть превратить его в объект сознания, всегда остаётся «Я», трансцендирующее объективацию и являющееся само по себе условием любой возможности объективации, а также условием единства сознания. Первый принцип философии – именно это чистое или трансцендентальное «Я».
Беспочвенно возражать, что мы не можем найти абсолютное «Я», думая о нём. Именно это признаёт Фихте, несмотря на то что это необходимое условие для этого. По этой причине может показаться, что Фихте вышел за пределы опыта (в неограниченном смысле слова) или сознания и забыл о соблюдении ограничений, которые сам на себя наложил. То есть, подтвердив кантовский взгляд, что наше теоретическое знание не может выходить за пределы опыта, он, кажется, теперь перешагнул этот предел.
Фихте настаивает, что это не так. Он, кажется, пользуется интеллектуальной интуицией чистого «Я», но это не мистический опыт, доступный лишь немногим избранным; это также не интуиция чистого «Я» как сущности, существующей за пределами сознания или позади него. Это сознание чистого «Я», или принципа «Я» как деятельности внутри сознания. «Я не могу пошевелить даже пальцем руки без интеллектуальной интуиции моего самосознания и его актов. Только посредством интуиции я становлюсь сознающим, что я совершаю эти акты… Тот, кто признаёт эту деятельность, апеллирует к этой интуиции. Это основа жизни, без неё наступает смерть». Другими словами, кто бы ни был сознателен собственного акта, он также сознаёт себя как действующего. В этом смысле он достигает интуиции себя как деятельности, но отсюда не следует, что он рефлексивно признаёт эту интуицию как элемент или компонент своего сознания. Это может признать только философ посредством рефлексии. Трансцендентальная рефлексия, посредством которой внимание сосредотачивается на чистом «Я», есть философский акт; эта рефлексия направлена на обыденное сознание и не является привилегированным мистическим опытом. Таким образом, философ, желающий убедить кого-либо в реальности этой интуиции, должен сделать это, предложив обратить внимание на данные сознания и поразмышлять о них. Он не может доказать никому существование интуиции в чистом состоянии, без какой-либо примеси других компонентов ума; она не существует в таком состоянии. Он также не может предложить поразмышлять о собственном самосознании до тех пор, пока не станет видно, что оно включает интуицию чистого «Я», не как вещи, а как деятельности. «Нельзя доказать с помощью понятий существование такой интеллектуальной способности, и также нельзя развить её природу с помощью понятий. Каждый должен найти её непосредственно в себе самом, иначе он никогда не сможет её познать».
Тезис Фихте можно прояснить следующим образом. Чистое «Я» не может быть превращено в объект сознания таким же образом, как, например, желание. Было бы абсурдно сказать, что посредством интроспекции я вижу желание, образ и чистое «Я». Каждый акт объективации предполагает чистое «Я». По этой причине его называют трансцендентальным «Я». Из этого не следует, что чистое «Я» есть скрытая сущность, которую можно вывести, поскольку оно само проявляет себя в деятельности объективации. Когда я говорю «я иду», я объективирую действие ходьбы, поскольку делаю его объектом для субъекта. Чистое «Я» раскрывает себя рефлексии посредством своей объективирующей деятельности. Деятельность интуируется, но никакая сущность за сознанием не выводится. Поэтому Фихте заключает, что чистое «Я» – не нечто действующее, а просто деятельность или делание, «интеллигенция для идеализма есть делание [Tun] и ничего более; её никогда не следует называть действующей вещью [ein Tátiges]».
По крайней мере, на первый взгляд, Фихте, кажется, противоречит отрицанию Кантом способности интеллектуальной интуиции человеческого ума. Фихте, кажется, превращает трансцендентальное «Я» в объект интуиции; это «Я» было для Канта логическим условием единства сознания, которое нельзя было ни интуировать, ни доказать его существование как духовной субстанции. Фихте настаивает, что его расхождение с Кантом чисто словесное. Когда Кант отрицает, что человеческий ум обладает способностью интеллектуальной интуиции, он имеет в виду, что мы не можем обладать интеллектуальной интуицией сверхчувственных сущностей, трансцендирующих опыт. Наукоучение на самом деле не утверждает того, что отрицает Кант. В нём не утверждается, что мы интуируем чистое «Я» как духовную субстанцию или сущность, трансцендирующую сознание, а просто говорится, что это деятельность внутри сознания, которая раскрывает себя через рефлексию. С другой стороны, учение Канта о чистом апперцепции в некотором смысле допускает интеллектуальную интуицию, и Фихте указывает, что легко указать место, с которого Кант мог бы допустить эту интуицию. Он утверждал, что мы сознаём категорический императив; но если бы он внимательно рассмотрел этот вопрос, ему пришлось бы увидеть, что это сознание подразумевает интеллектуальную интуицию чистого «Я» как деятельности. Фихте продолжает этот ход мыслей и предлагает конкретный способ приблизиться к этой проблеме. «В сознании этого закона… основана интуиция самодеятельности и свободы… Только через этот моральный закон я могу постигать себя. Если бы я постигал себя таким образом, я был бы вынужден постигать себя как самодеятельного…». И, возвращаясь к этому, энергичное этическое качество мысли Фихте находит ясную форму выражения.
4. Замечания о теории чистого «Я»; феноменология сознания и метафизический идеализм
Рассматривая эту проблему с точки зрения феноменологии сознания, мы скажем, что Фихте, на мой взгляд, совершенно оправдан в утверждении «Я»-субъекта или трансцендентального «Я». Юм, рассматривая собственное мышление, находил только психические феномены и поэтому сводил «Я» к последовательности этих феноменов. Такой подход легко понятен, поскольку часть его программы заключалась в применении к человеку экспериментального метода, который с таким успехом опробовала «экспериментальная философия» или естествознание. Но озабоченность объектами или данными интроспекции привела его к забвению того факта, что психические феномены становятся феноменами (представляющимися субъекту) только посредством объективирующей деятельности субъекта, который в этом самом смысле трансцендирует объективацию. Очевидно, при этом мы не пытаемся свести человеческое существо к трансцендентальному или метафизическому «Я». Проблему отношения между человеком как чистым субъектом и другими аспектами его бытия нельзя обойти. Однако это не меняет того факта, что признание трансцендентального «Я» существенно в рамках феноменологии сознания. Фихте продемонстрировал в этом более высокую способность к интроспекции, чем Юм.
Однако Фихте не ограничивается рассмотрением феноменологии сознания, то есть он не ограничивается её описательным анализом. Его фундаментально интересует разработка системы метафизического идеализма, и эта озабоченность отражается в его теории трансцендентального «Я». С чисто феноменологической точки зрения говорить о «трансцендентальном Я» не позволяет нам с большим основанием утверждать отдельное существование этого «трансцендентального Я», чем врачам говорить о желудке вообще на основании желудков своих пациентов. Если мы намерены дедуцировать всю сферу объективного, включая природу и сознания как объекты для субъекта, мы не сможем преодолеть солипсизм, или же нам придётся интерпретировать трансцендентальное «Я» как сверхиндивидуальную продуктивную деятельность, проявляющую себя в конечном сознании. И именно потому, что Фихте не пытается защищать солипсизм, он должен интерпретировать чистое «Я» как сверхиндивидуальное абсолютное «Я».
То, как Фихте обращается с термином «Я» или «эго», наводит многих читателей на мысль, что он говорит о существе или индивидуальном «Я». Эта интерпретация облегчалась тем, что большинство метафизических аспектов его мысли не были развиты в его ранних работах. Фихте настаивал, что эта интерпретация ошибочна. В лекциях, прочитанных зимой 1810-1811 годов, он прокомментировал критические замечания, которые вызвало его Наукоучение, и подтвердил, что он никогда не говорил, что творящее «Я» является конечным и индивидуальным существом. «Обычно понимали наукоучение так, будто в нём приписывали индивиду такие эффекты, как производство всей совокупности материального мира… Это совершенно ошибочно: не индивид, а непосредственная духовная жизнь творит все феномены, включая индивидуальные феномены».
В этом пассаже следует отметить, что он использует слово «жизнь» вместо «Я». Фихте, отправляясь от тезисов Канта, чтобы превратить их в чистый идеализм, в первую очередь изложил свои идеи о чистом или абсолютном «Я». По мере того как время шло, он понял, что бесконечную деятельность, лежащую в основе сознания, включая само конечное «Я», нельзя описывать как «Я» или субъект. Не нужно больше на этом настаивать. Достаточно указать на протесты Фихте против того, что он считал ошибочной интерпретацией его доктрины. Абсолютное «Я» – не конечное и индивидуальное существо, а бесконечная (скорее, безграничная) деятельность.
В этом смысле Наукоучение одновременно является и феноменологией сознания, и метафизикой идеализма. До определённой степени можно различать эти два аспекта и рассматривать ценность его мысли без принятия его метафизического идеализма. Это мы и указывали, когда говорили о его доктрине трансцендентального «Я», но это различие применимо к более широкой области.
5. Три основополагающих принципа философии
Во втором разделе этой главы упоминалось, что, согласно Фихте, философия должна иметь основоположение, недоказуемое и самоочевидное. Читатель, возможно, уже подумал, что «Я» может быть чем угодно, но только не положением. Это совершенно верно. Мы ещё не знаем, в чём состоит основоположение философии. Что мы знаем, так это то, что оно должно быть выражением исходной деятельности чистого «Я».
Теперь мы можем различать, с одной стороны, спонтанную деятельность чистого «Я», а с другой – само мышление философа или философскую реконструкцию этой деятельности. Спонтанная деятельность чистого «Я» не сознательна в себе, полагая сознание. Чистое «Я» не существует «для себя» как спонтанная деятельность. Оно только приходит к существованию для себя как «Я» в интеллектуальной интуиции, посредством которой философ постигает спонтанную деятельность «Я» благодаря своей трансцендентальной рефлексии. Именно этим актом философа, «через деятельность, направленную на деятельность… «Я» становится изначально [ursprünglich] для себя». Поэтому говорят, что чистое «Я» «полагает» (setzt sich) себя в интеллектуальной интуиции.
Основоположение философии – это то, что ««Я» полагает изначально своё собственное бытие». В трансцендентальной рефлексии философ возвращается к конечной причине сознания, и чистое «Я» утверждает себя посредством интеллектуальной интуиции. Таким образом, трансцендентальное «Я» не доказывается как заключение из предпосылок, а усматривается в том, что оно утверждает себя и, следовательно, существует. «Полагание себя и бытие суть одно и то же для «Я».
Чистое «Я» стало утверждать себя в том, что Фихте называет «деятельностью, направленной на деятельность»; исходная спонтанная деятельность «Я» не сознательна в себе. Она, скорее, есть конечная причина сознания, то есть обыденного и естественного сознания себя в мире. Но это сознание не дано без того, чтобы не-«Я» не противопоставлялось «Я». Отсюда следует, что второе основоположение философии – это «не-«Я» просто противополагается «Я». Это противопоставление должно быть осуществлено «Я», иначе пришлось бы отказаться от чистого идеализма.
Теперь не-«Я», к которому относится второе положение, безгранично в том смысле, что это скорее объективность вообще, чем определённый объект или совокупность конечных объектов. Это безграничное не-«Я» противопоставляется «Я» внутри того же «Я». Мы имеем дело с систематической реконструкцией сознания; и сознание есть единство, включающее «Я» и не-«Я». Безграничная деятельность, составляющая чистое или абсолютное «Я», должна «положить» не-«Я» внутри себя. Но если оба безграничны, они неизбежно будут стремиться исключить друг друга. Они будут стремиться препятствовать, уничтожать друг друга. Тогда сознание будет чем-то невозможным. Но поскольку сознание должно существовать, навязывается взаимное ограничение «Я» и не-«Я». Каждое из них ограничивает и закрывает другое. В этом смысле и «Я», и не-«Я» должны быть «делимыми» (teilbar). В своём «Основании общего наукоучения» Фихте даёт следующую формулировку третьего основоположения философии: «Я полагаю в «Я» делимое не-«Я» как противоположное делимому «Я». То есть абсолютное «Я» полагает внутри себя конечное «Я» и конечное не-«Я». Оба взаимно ограничивают и определяют друг друга. Очевидно, Фихте не считает, что может существовать только одно из них. Как мы увидим, он утверждает, что самосознание требует существования другого (и, аналогично, множественности конечных существ). Эта точка зрения означает, что сознание не может существовать, если абсолютное «Я», рассматриваемое как безграничная деятельность, не производит внутри себя конечное «Я» и конечное не-«Я».
6. Пояснительные комментарии о диалектическом методе Фихте
Если под сознанием мы понимаем, как и Фихте, человеческое сознание, нетрудно понять утверждение, что не-«Я» есть необходимое условие сознания. Конечное «Я» может отражаться в самом себе, но эта рефлексия есть для Фихте возвращение внимания от не-«Я» к «Я». Поэтому не-«Я» есть необходимое условие даже самосознания. Мы должны спросить, почему должно существовать сознание. Иными словами, как можно дедуцировать из первого второе основоположение философии?
Фихте отвечает, что невозможно сделать чисто теоретическую дедукцию. Мы должны прибегнуть к практической дедукции. То есть мы должны рассматривать абсолютное или чистое «Я» как безграничную деятельность, стремящуюся к сознанию своей собственной свободы через моральную самореализацию. Мы должны понимать полагание не-«Я» как нечто необходимое для достижения этой цели. Правда, абсолютное «Я» не действует сознательно с какой-либо целью. Но философ, размышляя об этой деятельности, обнаруживает общее движение, направленное к определённой цели. Он также увидит, что самосознание требует не-«Я», исходя из того, что безграничная деятельность «Я», сравнимая с неопределённой прямой линией, может вернуться к себе; а также что моральная деятельность требует объективного поля, мира, в котором она может действовать.
Второе основоположение философии становится антитезисом тезиса. Мы уже видели, как «Я» и не-«Я» стремятся ограничить друг друга. Учитывая это, философ выдвигает третье основоположение, которое становится синтезом предыдущих тезиса и антитезиса. Фихте не хочет сказать, что не-«Я» существует таким образом, чтобы уничтожить чистое «Я», или даже чтобы могло попытаться это сделать. Это уничтожение могло бы произойти только если безграничное не-«Я» было бы положено внутри «Я»; по этой причине навязывается третье положение. Иными словами, синтез показывает, что означает антитезис, чтобы не возникало противоречия между безграничным «Я» и безграничным не-«Я». Если мы предположим, что должно возникнуть сознание, деятельность, полагающая сознание, вынуждена производить ситуацию, в которой «Я» и не-«Я» взаимно ограничивают друг друга.
Если рассматривать то же самое с другой точки зрения, диалектика тезиса, антитезиса и синтеза у Фихте принимает форму прогрессирующего определения значений исходного положения. Возникающие противоречия разрешаются, потому что они только кажущиеся. «Все противоречия разрешаются посредством более тесного определения противоречащих положений». Например, говоря об утверждении, что «Я» полагает себя как бесконечное, и что оно полагает себя как конечное, Фихте делает следующее замечание: «В случае, если это «Я» было бы положено как конечное и бесконечное, противоречия не разрешились бы…». Кажущееся противоречие разрешается определением значений этих двух утверждений, и тогда их взаимная совместимость становится очевидной. В данном случае нужно рассматривать бесконечную деятельность в том смысле, что она выражает себя в конечных «Я» и через них.
Правильно было бы сказать, что диалектика Фихте не сводится только к прогрессирующему определению или прояснению значений. Фихте вводит идеи, которые нельзя получить путём анализа исходного положения или остальных положений. То есть, чтобы перейти от второго основоположения к третьему, Фихте постулирует ограничивающую деятельность «Я», хотя идея ограничения не может быть получена логическим анализом ни первого, ни второго положения.
Гегель критиковал этот способ продвижения, говоря, что он малоспекулятивен, то есть малософичен. Согласно Гегелю, философу недостойно представлять нечто как дедукцию и одновременно говорить, что она не строго теоретична, вводя таким образом, подобно deus ex machina, не выведенные из «Я» деятельности, чтобы иметь возможность осуществить переход от одного положения к другому.
Думаю, трудно отрицать, что способ продвижения Фихте не вполне соответствует его исходной идее философии как дедуктивной науки. В то же время стоит вспомнить, что для Фихте миссия философа – сознательно реконструировать активный процесс, который совершается в себе бессознательно, то есть полагать сознание. Философ отправляется для этого от самополагания абсолютного «Я» и приходит к человеческому сознанию так, как оно нам представляется. Если невозможно шаг за шагом продвигаться к реконструкции продуктивной деятельности «Я», не приписывая ему определённой функции или способа деятельности, приходится приписывать ему эту активную природу. Даже если понятие ограничения нельзя получить с помощью строго логического анализа двух первых основоположений, необходимо, согласно Фихте, прояснить их соответствующие значения.
7. Наукоучение и формальная логика
Настаивая на учении Фихте о трёх основоположениях философии, я опустил логическую процедуру, используемую в «Основании общего наукоучения», которую сам Фихте выделяет в некоторых своих пассажах. Однако эта логика не является действительно необходимой, поскольку Фихте также обходился без неё в некоторых изложениях своей философской системы. Но в то же время её стоит учитывать, поскольку она полезна для прояснения идей Фихте об отношениях между философией и формальной логикой.
В «Основании общего наукоучения» Фихте рассматривает первое основоположение философии, размышляя над недоказуемым логическим положением; его истинность принимается повсеместно. Это принцип тождества, выраженный следующим образом: А есть А, или же А = А. В этом утверждении ничего не говорится о содержании А; также не утверждается, что А существует. Утверждается лишь необходимое отношение между А и самой собой. Если существует А, она необходимо тождественна самой себе. Это необходимое отношение между А как субъектом и А как предикатом Фихте называет положением.
Это суждение полагается только в «Я» и через него. Таким образом, утверждается существование «Я» в его деятельности осуществления суждений, хотя никакое значение не присваивается А. «Если верно положение А = А, то обязательно должно быть верно положение я есмь». Утверждая принцип тождества, «Я» утверждает или полагает себя как тождественное самому себе.
Отметим, что хотя Фихте использует формальный принцип тождества, чтобы прийти к первому основоположению философии, сам по себе он не является этим положением. Очевидно, что нельзя далеко продвинуться в дедукции или реконструкции сознания, если предлагать формальный принцип тождества в качестве отправной точки.
Но отношение между формальным принципом тождества и первым основоположением философии, согласно Фихте, гораздо теснее, чем описание первого как шага к достижению второго. Принцип тождества есть, так сказать, первое основоположение философии с переменными, замещающими определённые значения или его содержание. То есть, если мы возьмём первое основоположение философии и превратим его во нечто чисто формальное, мы получим принцип тождества. В этом смысле принцип тождества основывается на первом основоположении философии и может быть выведен из него.
Подобным образом то, что Фихте называет формальной аксиомой противоположения не-А не=А, используется для прихода ко второму основоположению. Полагание не-А предполагает полагание А и, таким образом, нечто противоположное А. Это противоположение даётся только в «Я» и через него. Формальная аксиома противоположения имеет своё основание во втором положении философии, которое утверждает «Я», противополагая себе не-«Я» вообще. Логическое положение, которое Фихте называет аксиомой причины или достаточного основания, А частично = —А; и наоборот, основывается на третьем основоположении философии, поскольку оно выводится путём абстрагирования конкретного содержания третьего положения и замещения переменными.
Вкратце Фихте говорит, что формальная логика зависит и выводится из Наукоучения, а не наоборот. Это отношение между формальной логикой и основной философией остаётся несколько затемнённым, потому что в «Основании общего наукоучения» Фихте отправляется от размышления о принципе тождества. В последующем изложении он проясняет идею производного характера формальной логики. Эта идея усиливает его понятие, что Наукоучение есть основополагающая наука.
Можно добавить, что Фихте, дедуцируя основоположения философии, также дедуцирует категории. По его мнению, дедукция Канта была недостаточно систематична. Однако если мы начнём с рассмотрения «Я», полагающего себя, мы можем последовательно выводить их в ходе реконструкции сознания. Таким образом, первое основоположение даёт нам категорию реальности, поскольку «то, что положено простым положением вещи… есть её реальность, её сущность [Wesen]». Второе положение даёт нам категорию отрицания, а третье, очевидно, категорию определения или ограничения.
8. Общая идея двух дедукций сознания
Идея взаимного ограничения предоставляет основу для двойной дедукции сознания. Утверждение, что абсолютное «Я» полагает внутри себя конечное «Я» и конечное не-«Я», поскольку они взаимно ограничивают или определяют друг друга, подразумевает два положения. Во-первых, абсолютное «Я» противополагает себя, ограниченное не-«Я», и, во-вторых, абсолютное «Я» полагает (внутри себя) не-«Я», ограниченное или определённое «Я» (конечным). Эти два положения являются, соответственно, основоположениями теоретической и практической дедукций сознания. Рассматривая «Я», затронутое не-«Я», мы можем приступить к теоретической дедукции сознания, которую Фихте называет «реальными» рядами актов, то есть актов «Я», определённого не-«Я». Например, ощущение принадлежит к этому классу актов. Однако если мы рассматриваем «Я» в отношении к не-«Я», мы можем приступить к практической дедукции сознания, которая включает «идеальные» ряды актов, включая желание и свободное действие.
Эти две дедукции дополняют друг друга, поскольку вместе составляют тотальную философскую дедукцию или реконструкцию сознания. Теоретическая дедукция подчинена практической. Абсолютное «Я» есть непрерывное усилие реализовать себя через свободную моральную деятельность, и не-«Я», мир природы, есть инструмент для достижения этой цели. Практическая дедукция есть причина, по которой абсолютное «Я» полагает не-«Я», ограничивая и воздействуя на конечное «Я», и таким образом вводит нас в область этики. Теории Фихте о праве и морали являются продолжением практической дедукции, содержащейся в Наукоучении. Ранее уже настаивалось на том, что философия Фихте по существу является динамическим этическим идеализмом.
Невозможно изложить здесь все этапы дедукции сознания. В любом случае, в этом нет большого интереса. Будет упомянуто несколько черт теоретической и практической дедукции, чтобы читатель мог составить представление о линии мысли Фихте.
9. Теоретическая дедукция
Идеалистическая система Фихте требует, чтобы вся деятельность в конечном счёте относилась к самому «Я», то есть к абсолютному «Я». Не-«Я» существует только для сознания. Чтобы можно было принять идею существования не-«Я» независимо от сознания и воздействующего на «Я», пришлось бы принять идею вещи-в-себе и отказаться от идеализма. Но очевидно, что, отправляясь от точки зрения обыденного сознания, навязывается различие между представлением (Vorstellung) и вещью. Мы спонтанно верим, что вещи, существующие независимо от «Я», действуют на нас. Эта вера полностью оправдана, и Фихте попытается доказать её в рамках своего метафизического идеализма, объясняя, как возникает точка зрения обыденного сознания и как, с этой точки зрения, наша спонтанная вера в объективную природу оказывается оправданной. Идеалистическая философия намеревается объяснить факты сознания согласно принципам идеализма.
Фихте вынужден приписать «Я» способность производить идею не-«Я», которое существует независимо от него, даже если на самом деле оно зависимо, таким образом, что деятельность не-«Я» должна быть деятельностью самого «Я». Подобным образом очевидно, что эту способность нужно приписать абсолютному «Я», а не индивидуальному существу, и оно должно действовать спонтанно, неизбежно и без обращения к сознанию. Когда сознание вступает на сцену, акт уже должен был совершиться, поскольку иначе невозможно было бы объяснить нашу спонтанную веру в природу, существующую независимо от «Я». Иными словами, природа должна быть чем-то данным, когда мы рассматриваем её в отношении к эмпирическому сознанию. Только философ обнаруживает продуктивную деятельность абсолютного «Я» посредством трансцендентальной рефлексии и делает сознательным то, что в себе производится без сознания. Человек, не являющийся философом, и эмпирическое сознание философа рассматривают природный мир как нечто данное, как ситуацию, в которой оказывается само конечное «Я».
Эту способность Фихте называет силой воображения или, лучше, продуктивной силой воображения, или силой продуктивного воображения. Способность воображения была заметной чертой мысли Канта и служила для связи чувственности с рассудком. Для Фихте эта сила воображения играет решающую роль в полагании обыденного или эмпирического сознания. Это не третья сила, добавляемая к «Я» и не-«Я»; это деятельность «Я», то есть абсолютного «Я». В своих ранних работах Фихте производит впечатление, что говорит о деятельности индивидуального существа. Но, пересматривая эволюцию своей мысли, он протестует, говоря, что никогда не было так.
Фихте описывает «Я» как будто бы спонтанно ограничивающее собственную деятельность и, таким образом, полагающее себя как пассивное, затронутое, в том, что он называет прагматической историей сознания. Это состояние составляет ощущение (Empfindung). Деятельность «Я» вновь утверждает себя и объективирует ощущение. То есть, в деятельности интуиции, направленной вовне, «Я» спонтанно относит ощущения к не-«Я». Этот акт полагает различие между представлением или образом (Bild) и вещью. В эмпирическом сознании конечное «Я» рассматривает различие между образом и вещью как различие между субъективной модификацией и объектом, существующим независимо от его деятельности, игнорируя, что проекция не-«Я» была работой продуктивного воображения, функционирующего на инфра-сознательном уровне.
Теперь сознание требует не только неопределённого не-«Я», но и определённых и отличных объектов. Чтобы были различные объекты, должна быть также общая сфера, в которой объекты, в силу их отношения к ней, взаимно исключают друг друга. Сила воображения производит протяжённое, непрерывное и бесконечно делимое пространство как форму интуиции.
Подобным образом должна быть необратимая временная последовательность, чтобы были возможны последовательные акты интуиции и чтобы каждый конкретный акт интуиции мог возникать в данный момент, исключая другие. Поэтому продуктивное воображение полагает время как вторую форму интуиции. Излишне говорить, что формы пространства и времени являются спонтанными продуктами деятельности чистого или абсолютного «Я», поскольку они полагаются не сознательно и преднамеренно.
Развитие сознания требует, чтобы продукт творческого воображения определялся далее. Это определение осуществляют сила рассудка и сила суждения. «Я» «фиксирует» (fixiert) представления как понятия на уровне рассудка; сила суждения превращает эти понятия в мыслимые объекты, в том смысле, что они начинают существовать не только в, но и для рассудка. Оба необходимы для полного понимания. «В рассудке нет ничего, никакой силы суждения; ничего не существует в рассудке для рассудка…». Чувственная интуиция неразрывно связана с частными объектами; но на уровне рассудка и суждения происходит абстрагирование от частных объектов и установление универсальных суждений. В прагматической истории сознания мы видели, как «Я» возвышается над бессознательной деятельностью продуктивного воображения, приобретая таким образом некоторую свободу движений.
Но самосознание требует нечто большее, чем способность абстрагировать универсальные объекты от частных. Это предполагает способность абстрагироваться от объектов вообще, чтобы таким образом достичь рефлексии о субъекте. Эту способность абсолютной абстракции Фихте называет разумом (Vernunft). Когда разум абстрагируется от сферы не-«Я», остаётся «Я», и тем самым достигается самосознание. Но нельзя полностью устранить «Я» как объект и отождествить себя в сознании с «Я» как субъектом. То есть, чистое самосознание, в котором «Я» как субъект совершенно прозрачно для себя, становится недостижимым идеалом. «Чем больше индивид может перестать мыслить себя как объект, тем больше его эмпирическое сознание приближается к чистому самосознанию».
Сила разума позволяет философу постигать чистое «Я» и реконструировать в трансцендентальной рефлексии его продуктивную деятельность в движении к самосознанию. Мы уже видели, что интеллектуальная интуиция абсолютного «Я» никогда не перестаёт быть смешанной с другими элементами. Даже философ не достигает идеала того, что Фихте называет чистым самосознанием.
10. Практическая дедукция
Практическая дедукция сознания идёт дальше работы продуктивного воображения и раскрывает её основание в природе абсолютного «Я» как бесконечного стремления (ein unendliches Streben). Говоря о стремлении, подразумевается, что мы имеем в виду стремление к достижению чего-то; то есть мы предполагаем существование не-«Я». Но если мы начнём с абсолютного «Я», рассматривая его как бесконечное стремление, мы не можем предполагать существование не-«Я». Делать так означало бы вновь вводить кантовскую вещь-в-себе. Фихте настаивает, что это стремление требует контрдвижения, которое есть стремление против чего-то, предполагающее препятствие. Если бы не было сопротивления, оно было бы удовлетворено, и стремление прекратилось бы. Но абсолютное «Я» не может перестать стремиться. Сама природа абсолютного «Я» требует, чтобы продуктивное воображение полагало не-«Я», то есть чтобы абсолютное «Я» полагало его в своей «реальной» деятельности.
Мы можем объяснить это так: нужно мыслить абсолютное «Я» как деятельность, и эта деятельность в основе есть бесконечное стремление. Но, согласно Фихте, стремление предполагает точку опоры, то есть препятствие. «Я» должно полагать не-«Я», природу, как препятствие, которое нужно преодолеть. Иными словами, природа – необходимый инструмент для моральной реализации «Я», поле действия.
Однако Фихте не отправляется от идеи «Я» как стремления, чтобы прийти непосредственно к положению не-«Я». Он говорит, что сначала стремление принимает определённую форму подсознательного влечения или склонности (Trieb) и существует «для «Я» в форме чувства (Gefühl). Теперь влечение или склонность намерено быть причинностью, осуществляя нечто вне себя. Рассматриваемое как простое влечение или склонность, очевидно, что оно не может ничего осуществить. Чувство влечения или склонности есть чувство ограничения, неспособности, препятствия. «Я», которое чувствует, вынуждено полагать не-«Я» как чувство я-не-знаю-что, препятствия. Влечение тогда может стать «влечением к объекту».
Неважно, что для Фихте чувство есть основа веры в реальность. «Я» чувствует влечение как содержащуюся в нём силу (Kraft). Чувство силы и чувство препятствия неразделимы. Целостное чувство составляет основание веры в реальность. «Вот основа всякой реальности. Только через отношение между чувством и «Я»… становится возможной реальность как для «Я», так и для не-«Я»». Вера в реальность основывается в конечном счёте на чувстве, а не на теоретических аргументах.
Теперь чувство влечения как силы представляет очень рудиментарную степень рефлексии, поскольку «Я» само есть влечение, которое чувствуется. Поэтому чувство есть чувство себя. В последующих разделах практической дедукции сознания излагается развитие рефлексии. Влечение как таковое постепенно определяется в различные влечения и желания, и в «Я» появляются различные впечатления удовлетворения. Но «Я» как бесконечное стремление неспособно остановиться на одном удовлетворении или определённой группе удовлетворений. И так мы видим, как оно направляется к идеальной цели посредством своей свободной деятельности. Однако эта цель всегда будет оставаться впереди него; так должно происходить, поскольку «Я» есть бесконечное стремление. В конечном итоге приходят к действию ради действия, хотя Фихте в своей этической теории показывает, каким образом абсолютное «Я» осуществляет это бесконечное стремление для достижения свободы и обладания собой посредством ряда определённых моральных действий в мире, который оно предварительно полагает, и через сходимость определённых моральных призваний конечных субъектов к идеальной цели.
Фихте подробно излагает развитие практической дедукции сознания, но очень трудно следовать за ним. Что остаётся ясным, так это то, что для Фихте «Я» с самого начала есть морально активное «Я». То есть оно есть таковое в потенции. Актуализация потенциальной природы «Я» требует, чтобы было положено не-«Я» и вся работа продуктивного воображения. За теоретической деятельностью «Я» находится его природа как влечения или стремления. Так, например, работа теоретической способности – производить представления (Vorstellung), и это не дело практической способности или влечения как такового. Производство предполагает склонность к представлениям (der Vorstellungstrieb). Обратно, полагание чувственного мира даётся необходимо, чтобы фундаментальное стремление или склонность могло принять определённую форму свободной моральной деятельности, направленной к идеальной цели. Две дедукции взаимодополнительны, хотя теоретическая дедукция находит своё окончательное объяснение в практической. В этом Фихте пытается удовлетворить по-своему требованиям учения Канта о примате практического разума.
Также можно сказать, что в своей практической дедукции сознания Фихте пытается преодолеть дихотомию, присутствующую в кантовской философии, между высшей и низшей природой человека, между человеком как моральным агентом и человеком как суммой инстинктов и побуждений. Потому что то же самое фундаментальное и неизменное стремление принимает разные формы, пока не достигает свободной моральной деятельности. Иными словами, Фихте видит моральную жизнь как развитие жизни инстинктов и побуждений, а не как нечто противоположное им. Он даже находит предвосхищение категорического императива на уровне аппетитов (Sehnen) и физических желаний. В своей этике он должен признать, что этот факт может иметь место и имеет место как конфликт между голосом долга и требованиями чувственного желания. Но он пытается разрешить эту проблему в рамках унифицированного видения деятельности «Я».
11. Комментарий о дедукции сознания у Фихте
С определённой точки зрения дедукцию сознания можно рассматривать как систематическое представление условий сознания, каким мы его знаем. Если рассматривать её только так, то любые вопросы о временных или исторических отношениях между различными условиями становятся нерелевантными. Например, Фихте считает, что отношение между субъектом и объектом существенно для сознания. В этом случае должны существовать как объект, так и субъект, «Я» и не-«Я», если должно быть сознание. Исторический порядок, в котором появляются эти условия, не имеет значения для обоснованности этого утверждения.
Уже было показано, что дедукция сознания также является метафизическим идеализмом, и, таким образом, придётся интерпретировать чистое «Я» как сверхиндивидуальную и трансфинитную деятельность, то есть как абсолютное «Я». Поэтому понятно, что исследователь Фихте спросит, считает ли философ абсолютное «Я» полагающим чувственный мир до конечного «Я», или же одновременно, или же через него.
На первый взгляд это может показаться глупым вопросом. Для Фихте историческая и временная точка зрения предполагает конституирование эмпирического сознания. Поэтому трансцендентальная дедукция эмпирического сознания необходимо трансцендирует временной порядок и обладает вневременностью логической дедукции. В конце концов, временной ряд сам также дедуцирован. Фихте не намерен отрицать точку зрения эмпирического сознания, согласно которой природа предшествует конечным существам. Фихте озабочен её полаганием, а не отрицанием.
Всё это не так просто, как кажется. В кантовской философии человеческий ум осуществляет конституирующую деятельность, придавая феноменальной реальности её априорную форму. В этой деятельности ум действует спонтанно и бессознательно и делает это как ум как таковой, как субъект как таковой, а не как ум Томаса или Иоанна.
Однако это не человеческий ум и не божественный ум осуществляет эту деятельность. Если мы устраним вещь-в-себе и гипостазируем трансцендентальное «Я» Канта как абсолютное или метафизическое «Я», то становится вполне естественным спросить, полагает ли абсолютное «Я» природу непосредственно или через инфра-сознательные уровни человеческого существа. В конце концов, дедукция сознания у Фихте часто предлагает эту вторую альтернативу. Если бы это было то, что философ хотел сказать, он столкнулся бы с очевидной трудностью.
Фихте отвечает очень ясно. В начале своей практической дедукции сознания он выделяет кажущееся противоречие. С одной стороны, «Я» как интеллигенция зависит от не-«Я», с другой стороны, говорится, что «Я» определяет не-«Я» и, следовательно, должно быть независимым от него. Это противоречие разрешается (то есть только кажущееся), если мы понимаем, что абсолютное «Я» непосредственно определяет не-«Я», которое входит в представление (das vorzustellende Nicht-Ich), тогда как определяет «Я» как интеллигенцию опосредованно («Я» как субъект представления, das vorstellende Ich). Иными словами, абсолютное «Я» полагает мир не через конечное «Я», а непосредственно. То же самое он утверждает в пассаже из своих лекций «Факты сознания», упомянутых ранее. «Материальный мир был дедуцирован, во-первых, как абсолютное ограничение продуктивной силы воображения. Но мы ещё не утверждали ясно и эксплицитно, является ли сила продуктивного воображения в этой функции самопроявлением жизни как таковой или же проявлением индивидуальной жизни; то есть, был ли материальный мир положен через жизнь, тождественную себе, или через индивида как такового… Не индивид как таковой, а жизнь интуирует объекты материального мира».
Развитие этой точки зрения, очевидно, требует, чтобы Фихте отошёл от своей кантовской отправной точки и чтобы чистое «Я», понятие, произведённое через рефлексию о человеческом сознании, стало абсолютным существом, проявляющим себя в мире. Это путь, который Фихте пройдёт в своей поздней философии, к которой принадлежат «Факты сознания». Но, как мы увидим позже, Фихте никогда не удаётся освободиться от лестницы, по которой он поднялся к метафизическому идеализму. Хотя он мыслит природу как положенную Абсолютным как поле моральной деятельности, Фихте до конца утверждает, что мир существует только в сознании и для него самого. За исключением его эксплицитного отрицания, что материальные вещи положены «индивидом как таковым», его позиция неоднозначна. Хотя сознание есть сознание Абсолютного, также говорится, что Абсолютное сознаёт через человека, а не в себе, рассматриваемом без отношения к человеку.
От морального закона к закрытому государству: этика, право и политика в практической философии Иоганна Готлиба Фихте.
1. Вводные замечания
В разделе, посвящённом жизни и творчеству Фихте, мы видели, как он опубликовал «Основание естественного права» в 1796 году, за два года до публикации «Системы учения о нравственности». По его мнению, теория права и политического общества могла и должна была выводиться независимо от дедукции этических принципов. Это не означает, что Фихте считал, будто две ветви философии не имеют никакой связи между собой. С одной стороны, обе дедукции укоренены в понятии «Я» как стремления и свободной деятельности, а с другой стороны, система прав и политического общества предоставляет адекватное поле для применения морального закона. Но Фихте думал, что это поле выходит за пределы этики, в том смысле, что это не дедукция фундаментальных этических принципов, а рамки, внутри которых и по отношению к которым может развиваться моральная жизнь. Например, человек может иметь моральные обязанности по отношению к государству, которое, в свою очередь, должно установить условия, в которых может развиваться моральная жизнь. Но государство мыслится как гипотетически необходимое средство для охраны и защиты системы прав. Если бы моральная природа человека могла развиться полностью, государство исчезло бы. Кроме того, хотя право частной собственности получает от морали то, что Фихте называет дополнительной санкцией или ратификацией, его первоначальная дедукция не имеет ничего общего с моралью.
Одной из главных причин, по которой Фихте проводит это различие между теорией права и политической теорией, с одной стороны, и этикой – с другой, является то, что он рассматривает этику связанной только с внутренней нравственностью, совестью и формальными принципами моральности, в то время как теория права и политического общества занимается внешними отношениями между человеческими существами. С другой стороны, если бы кто-то сказал, что учение о праве можно рассматривать как прикладную этику, в том смысле, что оно может быть выведено как применение морального закона, Фихте, несомненно, поспешил бы отрицать это предположение. Тот факт, что человек имеет право, не означает обязательно, что он обязан его осуществлять, и иногда общее благо может требовать ограничения или препятствования осуществлению прав. Моральный закон, однако, категоричен, ограничиваясь тем, что говорит «Делай это» или «Не делай того», поэтому нельзя утверждать, что система прав и обязанностей выводится из морального закона, хотя мы, конечно, обязаны уважать систему действующих законов в определённом сообществе. В этом смысле можно сказать, что моральный закон ратифицирует юридические законы, но они не составляют их первоисточник.
Согласно Гегелю, Фихте не смог преодолеть формализм кантовской этики, хотя предоставил многие средства для этого. В действительности именно Гегель, а не Фихте, синтезировал понятия правовой нормы, внутренней нравственности и общества в рамках общего понятия нравственной жизни человека. Причина, по которой я остановился в первой части этой главы на различении, которое проводит Фихте между учением о праве и этической теорией, – моё намерение рассмотреть моральную теорию философа прежде, чем перейти к изложению его теории о правовых нормах и государстве. И такое расположение, возможно, могло бы ошибочно привести к мысли, что Фихте рассматривал теорию правовой нормы как производную от этического закона.
2. Обыденное моральное сознание и наука этики
Человек может познать, говорит Фихте, свою моральную природу, свою подчинённость этическому императиву двумя различными способами. Во-первых, он может знать это на уровне обыденного морального сознания. То есть он может быть сознательным этического императива, который приказывает ему делать это или не делать то. Это непосредственное знание достаточно для знания собственных обязанностей и поведения, которое ему следует соблюдать. Во-вторых, человек может принять это обыденное моральное сознание как нечто данное и посвятить себя углублению в его основания. Систематическая дедукция морального сознания из его корней в «Я» составляет так называемую этическую науку и предоставляет «учёное знание». В некотором смысле это учёное знание оставляет всё на том же месте, где было ранее, поскольку не создаёт новых обязанностей и не заменяет одни обязанности другими, которые человек знает, что имеет. Оно не даст человеку моральную природу, но позволит ему понять ту, что у него уже есть.