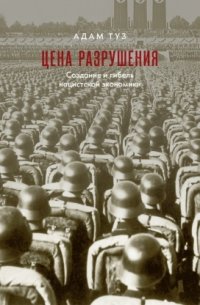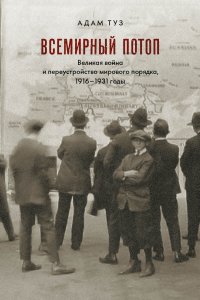Читать онлайн Карантин. COVID-19 – вирус, который потряс мир бесплатно
- Все книги автора: Адам Туз
SHUTDOWN
Copyright © 2021, Adam Tooze
All rights reserved
© Издательство Института Гайдара, 2023
* * *
Нашим друзьям-путешественникам
Благодарности
Я НЕ ПЛАНИРОВАЛ писать эту книгу. Тем больше я благодарен Саре Чалфант и Джеймсу Пуллену, которые подтолкнули меня к мысли «сделать книгу „2020“». Я также искренне признателен Венди Вулф и Саймону Вайндеру, моим редакторам из США и Великобритании, – благодаря им книга «Карантин» появилась на свет. Работа шла необычайно быстро, в очень плотном сотрудничестве. Спасибо Терезе Сисел и всей ее технической группе за их участие. Особые слова благодарности – Детлефу Фелкену из издательства C. H. Beck, с которым я сотрудничал впервые.
Грэм Уивер оказал мне неоценимую помощь в своевременной подготовке рукописи. Мне не удалось бы совладать с цифровой стороной моей жизни без поддержки Кейт Марш, за что я в огромном долгу перед ней.
2020-й был годом горячих дебатов и обсуждений. Мои подписчики в Twitter (а их слишком много, чтобы перечислить всех) в этой книге опознают фрагменты наших дискуссий и реплики, которыми мы с ними вяло перекидывались. В первую очередь это относится к персонажу, который выступает в Twitter под именем Albert Pinto, также известный как @70sBachchan.
Мой редактор из Foreign Policy, Камерон Абади, является идеальным помощником и замечательным слушателем. Спасибо тебе, Джонатан Тепперман, за то, что не бросил меня. Спасибо Джонатану Шайнину, Йоганну Коши и Дэвиду Вулфу из The Guardian, Полу Майерскофу из London Review of Books, а также Хеннинг Мейер и Робину Уилсону из SocialEuropee.com.
Когда книга уже была готова, мне вновь посчастливилось найти интеллектуальную поддержку – ее мне оказала группа моих друзей. В течение многих лет накапливался мой интеллектуальный долг перед ними. Сегодня он настолько велик, что его размер не поддается разумной оценке. Для меня большая честь, что первыми читателями этой книги стали Матт Иннисс, Тед Фертиг, Стефан Айх, Ник Малдер, Барнаби Рейн и Грей Андерсон. Их комментарии нашли отражение целиком во всей книге. Особенно я признателен Даниеле Габор, которая в самые сжатые сроки дала мне технические рекомендации по поводу нескольких ключевых глав. Если эта работа внесет свой вклад в коллективный проект критически важного микрофинансирования, то в основном это будет благодаря Даниеле.
В течение всего этого года я участвовал в круглых столах и семинарах, организованных Йоргом Хаасом в Heinrich Boell Stiftung в рамках проекта Transformative Responses. С большой радостью я посещал онлайн салон центрального банка, руководимый Леа Дауни и Стефаном Айхом. Огромным удовольствием для меня были беседы с Полом Такером. Кейт Брекенридж собрала замечательную группу коллег для участия в трех онлайн-семинарах под эгидой WiSER – Института социальных и экономических исследований Витса при Университете Витватерсранда. Я признателен Якобу Фогелю, моему старинному берлинскому приятелю, за потрясающий семинар, который состоялся в Центре Марка Блока. Мартин Конингз организовал превосходную дискуссию в Сиднейском университете в рамках программы Wheelright Lecture. Очень многое я почерпнул из специализированных круглых столов с Верой Зонгве и Бартеломью Арма из UNECA. Джош Янгер дал мне разъяснения по поводу рынков облигаций, а Лев Менанд – по поводу ФРС. Меган Грин рассказала мне о двойных процентных ставках. Робин Брукс и его команда в IIF стали для меня чрезвычайно важным источником данных и анализа. На всех рисунках в этой книге проставлен их логотип.
Мне бы хотелось поблагодарить ряд людей за увлекательные разговоры, которые я вел в течение этого года. Их имена приведены здесь в свободном порядке: Эрик Левитц, Жилльян Тетт, Дэвид Пиллинг, Гидеон Рахман, Майкл Петтис, Роберт Хэррис, Джордж Диез, Карин Петтерссон, Джо Вайзенталь, Трэйси Эллоуэй, Натан Танкус, Бенджамин Браун, Марк Собел, Роан Грей, Алекс Доерти, Марк Ширитц, Менака Доши, Брэд Сестер, Эзра Кляйн, Элизабет фон Тадден, Бен Йуда, Матт Кляйн, Йордан Шнайдер, Хелен Томпсон, Дэвид Рансиман, Уго Скотт-Галл, Лиза Спланеманн, Эрик Грейдон, Дэвид Уоллас-Уэллз, Аарон Бастани, Ли Винзел, Кайзер Куо, Ной Смит, Ян Бреммер, Вольфганг Шмидт, Оле Функе, Мориц Шуларик, Дэвид Бэкворт, Кристиан Одендаль, Эвальд Энгелен, Джон Аутерз, Луи Гарикано.
Так получилось, что первую половину 2020 г. я находился в отпуске, за что я премного благодарен Колумбийскому университету. В это время должность заведующего кафедрой занимал Адам Косто. Я хотел бы выразить ему свою глубокую признательность за все, что он сделал для нашей кафедры. Адам не просто большой ученый. Он потрясающий академический руководитель: жизнерадостный, принципиальный, трезвомыслящий, сосредоточенный на том, что составляет основу академической кафедры, – на идеях и на книгах. Нам нужны такие люди, как Адам. Если кому-то удалось встретить такого человека в нужном месте и в нужное время, то ему очень повезло.
В 2020 г. мы пережили очень глубокий шок, который затронул практически каждого человека в мире. Этот шок вмешался в нашу повседневную жизнь, перекроил наши планы, нарушил хрупкий распорядок нашей семейной жизни. Все книги, написанные мною за последние 20 лет, переплетались с этапами взросления моей дочери Эди. В этой книге я впервые писал о потрясениях, которые коснулись ее жизни, моей жизни, а также жизней всех тех, кого мы знаем и кто нам дорог. Острее всего я ощутил шок через призму отцовских чувств в связи с переживаниями Эди. Мне трудно забыть, как в спешке я эвакуировал ее из университетского общежития. В моей памяти навсегда сохранится картина странных, вяло текущих последующих недель. Тот год был очень горьким для огромного количества молодых людей по всему миру. Год, проведенный в вынужденном заточении, – это невосполнимая утрата. Никому не дано вновь пережить свой второй курс университетской жизни. Меня потрясало, как Эди и ее сверстникам удавалось сделать это время максимально полезным.
Что касается меня самого, то я в неоплатном долгу перед своими терапевтами – д-ром Дональдом Моссом и д-ром Монти Миллз Михан. Хотя жизненный инструктаж – это последнее, чего мы ждем от эффективного курса терапии, я сомневаюсь, что без них обоих я смог бы написать эту книгу. Мне очень повезло – мне не пришлось даже пытаться.
В 2020 г. тяжелее всего было оставаться наедине с собой. В одиночестве я не был. Меня окружали буквально толпы родственников и друзей, с которыми я бесчисленное количество раз общался по Zoom. Честь и хвала моему кузену Джеми, благодаря усилиям которого удалось объединить весь наш огромный клан Виннов и Тузов. Как здорово было вновь начать общаться с Джеймсом Томпсоном и Максом Джоунсом. Я разговаривал с Полом Солманом, Дэвидом Эджертоном, Гансом Кунднани, Данило Шольцем – эти беседы надолго останутся в моей памяти.
Однако, как мы все хорошо осознали, ничто не может сравниться с живым общением. Практически каждый день я встречался со своими знакомыми, которые так же, как и я, выгуливали собак «на горе» в парке Риверсайд. С ними мы делили утренние часы – и пасмурные, и солнечные. С ними мы обсуждали жизненные проблемы и ход работы над этой книгой. Крикнем «ура» нашей команде собачников – Джиму и Меррилл, Саймону и Мередит, Терри и Адриан, Арисе, Али и, конечно же, Мишель Лерман – душе нашей компании. Спасибо и веселым беззаботным созданиям, которые нас объединили, – Ян-Яну, Эффи, Бетти Буу, Айро, Кейле, Аполло и нашей дорогой Руби по прозвищу Похитительница Сердец, нашей неизменно жизнерадостной прелестной компаньонке.
Кроме того, у нас сложился еженедельный ритуал – вместе с Саймоном и Джейн мы устраивали вечеринки с соблюдением безопасной дистанции. Мы обедали прямо на лестничной площадке седьмого этажа, расположившись перед лифтом нашего многоквартирного дома. Ели мы стоя, вооружившись полным комплектом СИЗ, пользовались индивидуальными приборами и не брали еду с общей тарелки. В трудные дни в Нью-Йорке нас неизменно согревало наше ежедневное общение с друзьями. Я рад, что мы никуда не уехали. Но это было очень напряженное время. Нам надо было сменить обстановку, и мы погостили у наших дорогих друзей – Бренты Донован, Изабель Барзун и Гавина Парфи, Джанет и Эд Вудов. Это дало нам возможность на время отвлечься в замечательной компании.
С самого начала и до конца я прожил этот год рядом с Даной Конли, что для нас совершенно непривычно. Дана самым внимательным образом прочла рукопись от корки до корки и сделала свои замечания. Но самое главное – она была для меня источником вдохновения. Туристическая индустрия сильнее других пострадала из-за карантина. Я был рядом с ней, и глубочайшее впечатление на меня произвело то, как она реагировала на кризис, ежедневно работала с коллегами со всего мира, чтобы не допустить изменений в их жизни, чтобы всем вместе справиться с безработицей, потерей доходов, страхами и шоком. У меня голова шла кругом, когда я пытался осознать, что все это происходит не только с нами, но со всеми, кого мы знаем по сфере туризма, в которой работает Дана, – с Джулианом и Софи, Лионелем и Доминик, с Тимом, Теком, Робертом и Сеф. Что то же самое люди испытывают в Великобритании и во Франции, в Италии, Танзании и Камбодже; в отелях, ресторанах, винных погребах, заповедниках и на туристических объектах. Еще более поразительным было для меня наблюдать, как Дана сводит вместе всех этих людей онлайн, демонстрирует их таланты, добавляет к их кругу общения новых друзей, заводит разговоры (это о вас, Росс и Крейг), которые захватывают людей со всего мира. Я видел, как энергия, энтузиазм, доброта и очарование Даны творят чудеса в самых разных уголках земного шара. Самым удивительным в 2020 г. было ощущение общей радости и единения, которое отражалось теперь на десятках экранов компьютеров со включенным Zoom, – виртуальное, но стопроцентно реальное. Этому ощущению единства, создаваемому Даной, моей неподражаемой супругой, я посвящаю свою книгу.
Введение
ВПЕЧАТЛЕНИЕ о пережитом в 2020 г. можно передать одной короткой фразой – «в это невозможно поверить». В промежуток между 20 января 2020 г., когда Си Цзиньпин публично заявил о начале эпидемии, вызванной коронавирусом, и 20 января 2021 г., когда ровно год спустя состоялась инаугурация Джозефа Байдена, 46-го президента США, весь мир охватило заболевание, которое за 12 месяцев унесло жизни более 2,2 млн человек. Десятки миллионов переболели в очень тяжелой форме. На конец апреля 2021 г., когда эта книга была готова к печати, количество умерших от этой инфекции во всем мире превысило 3,2 млн человек[1]. Мы столкнулись с серьезной угрозой, из-за которой изменилась повседневная жизнь практически каждого жителя нашей планеты. Практически остановилась общественная жизнь, закрылись школы, семьи оказались разделенными, прервалось сообщение как внутри стран, так и между странами, произошли кардинальные изменения в мировой экономике. Чтобы смягчить возможные негативные последствия, правительства предприняли беспрецедентные меры для поддержки домохозяйств, бизнеса и рынков. Ранее мероприятия такого масштаба производились лишь в военное время. То, что сегодня происходит в экономике, – не просто самая серьезная рецессия со времени Второй мировой войны. Эта рецессия уникальна по своей природе. Никогда ранее в мире не принималось такое коллективное решение, пусть даже незапланированное и несистемное, – остановить функционирование крупных сегментов глобальной экономики. По словам Международного валютного фонда, произошел «кризис, не похожий ни на какой другой»[2].
Пусковым механизмом этого кризиса послужил вирус. Но еще до того, как мы узнали, с чем нам предстоит столкнуться, были все основания предполагать, что 2020 г. окажется очень беспокойным. Начинал разгораться конфликт между Китаем и США[3]. В воздухе витала «новая холодная война». В 2019 г. произошло серьезное замедление темпов мирового экономического роста. МВФ опасался, что геополитическое напряжение может оказать дестабилизирующий эффект на мировую экономику, которая и так переживала нелегкие дни под грузом огромных долгов[4]. Экономисты придумывали новые статистические индикаторы для того, чтобы оценить степень неопределенности, которая негативно сказывалась на инвестициях[5]. Данные однозначно указывали на то, что источник всех бед находится в Белом доме[6]. Дональду Трампу, 45-му президенту США, удалось создать себе репутацию мирового пугала. В ноябре он собирался переизбираться на новый срок и, казалось, намеревался дискредитировать весь электоральный механизм, даже если бы он обеспечил ему победу. Не случайно Мюнхенская конференция по безопасности 2020 г., считающаяся Давосом по политике национальной безопасности, прошла под девизом «Беззападность» (Westlessness)[7].
Беспокойство вызывал не только Вашингтон – истекал срок для затянувшихся переговоров по Брекзиту. Еще бóльшую тревогу для Европы в начале 2020 г. создавала перспектива нового миграционного кризиса[8]. Кроме того, на горизонте маячили две угрозы: резкая эскалация гражданской войны в Сирии, а также хроническая проблема экономической отсталости. Единственным средством, которое могло помочь в такой ситуации, было более энергичное инвестирование и экономический рост в регионе глобального юга. Однако приток капитала был, с одной стороны, нестабильным, а с другой стороны, недостаточным. В конце 2019 г. половина стран-должников Африки южнее Сахары, имевших максимально низкий уровень доходов, уже приближалась к состоянию долгового кризиса[9].
Ускорение темпов экономического роста не было панацеей. Экономический рост создавал бóльшее экологическое напряжение. Год 2020 должен был стать решающим для климатической политики. Планировалось, что в ноябре 2020 г. в Глазго состоится Конференция ООН по изменению климата – 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-26 РКИК ООН)[10]. Она должна была начаться вскоре после выборов президента США[11]. Предполагалось, что она будет приурочена к пятой годовщине подписания Парижского соглашения по климату. Если бы победил Трамп, что в начале года казалось вполне реальным, то будущее планеты оказалось бы в критическом положении.
Мировая экономика повсеместно вызывала тревогу и беспокойство, и это было удивительной сменой вектора развития. Еще не так давно казалось, что такие достижения, как безусловная победа Запада в холодной войне, развитие механизмов рыночного финансирования, потрясающий прогресс информационных технологий, расширение орбиты экономического роста, укрепили капиталистическую экономику, превратив ее во всепобеждающий двигатель современной истории[12]. В 1990-е гг. на большинство политических вопросов можно было очень просто ответить известным мемом: «Это же экономика, тупица»[13]. Поскольку экономический рост преобразовал жизни миллиардов людей, «иной альтернативы не было», как любила повторять Маргарет Тэтчер. То есть не было альтернативы порядку, основанному на приватизации, ограниченном регулировании экономики и свободе перемещения капитала и товаров. А в 2002 г. премьер-министр Великобритании, центрист Тони Блэр мог заявить, что спорить о глобализации так же бессмысленно, как спорить о том, придет ли осень на смену лета[14].
К 2020 г. появились сомнения если не поводу смены времен года, то по поводу глобализации. К этому времени экономика претерпела трансформацию, превратившись из ответа в вопрос. Естественной реакцией на фразу «это же экономика, тупица» стали вопросы: «Чья экономика?», «Какая именно экономика?» и даже «А что такое экономика?». Ряд глубоких кризисов, которые начались в Азии в конце 1990-х и охватили Атлантическую финансовую систему в 2008 г., кризис еврозоны в 2010 г., а также кризис мировых производителей товаров 2014 г. – все эти события поколебали уверенность в рыночной экономике[15]. Эти кризисы удалось преодолеть, однако для этого потребовалось прибегнуть к расходованию государственных денег и интервенции центральных банков, при использовании которых удалось обойти укоренившиеся принципы «малого правительства» и «независимых» центральных банков. А кто от этого выиграл? Доходы поступали частным лицам, а расходы были общественными. Упомянутые выше кризисы были спровоцированы рыночной спекуляцией. Масштаб интервенций, необходимых для стабилизации кризисов, был поистине беспрецедентным. И все же богатство мировых элит продолжало увеличиваться. Уже никого не удивляет, что растущее неравенство приводит к популистским катастрофам – такая постановка вопроса теперь выглядит банальной[16]. Многие из тех, кто голосовал за Брекзит и за Трампа, на самом деле хотели только одного – вернуть «свою» национальную экономику.
Тем временем стремительный экономический взлет Китая лишил мировую экономику невинности, но несколько в ином отношении. Теперь появились сомнения в том, что великие боги экономического роста поддерживают Запад. И это, как оказалось, нанесло удар по важной предпосылке, лежавшей в основе Вашингтонского консенсуса, – скоро Америка перестанет быть страной номер один. На самом деле становилось все яснее, что боги (по крайней мере богиня земли Гея) не согласны с полной остановкой экономического роста[17]. Проблема изменения климата, которая раньше интересовала только участников движения в защиту окружающей среды, стала символизировать более широкую проблему – появление дисбаланса между природой и человечеством. Со всех сторон начались обсуждения «Зеленого нового курса» и энергетического перехода.
А потом, в январе 2020 г., поступили новости из Пекина. В Китае началась полномасштабная эпидемия, вызванная новым вирусом. К этому моменту ситуация была уже намного хуже, чем при вспышке SARS в 2003 г., когда от страха у нас по спине бегали мурашки. Это было то самое «возмездие» природы, о котором уже давно предупреждали нас активисты зеленого движения. Однако если климатические изменения заставили нас взглянуть на эту проблему в планетарном масштабе и составить расписание мероприятий для ее решения на десятилетия вперед, то вирус имеет микроскопические размеры, для него нет никаких преград и он перемещается в течение дней и недель. Он поражает не ледники и не океанические потоки, а наши тела. Он переносится нашим дыханием. Этот вирус поставил под удар не только отдельные национальные экономики, но и мировую экономику.
Вирус, который к январю 2020 Г. получил название SARS-CoV-2, не был черным лебедем – совершенно неожиданным и невероятным событием. Скорее, он был серым носорогом – он был так хорошо известен, что к нему стали относиться как к чему-то привычному и в результате его риски остались недооцененными[18]. По мере того как SARS-CoV-2 выходил из тени, этот серый носорог все больше принимал вид ожидаемой катастрофы. Это была та самая крайне заразная, гриппоподобная инфекция, появление которой давно предсказывали вирусологи.
Вирус пришел к нам оттуда, откуда, как и предполагалось, он должен был появиться, – из Восточной Азии[19]. В этом регионе в тесном взаимодействии находятся живая природа, сельское хозяйство и городское население. Вполне предсказуемо, что вирус начал распространяться по каналам мирового транспорта и коммуникаций. Положа руку на сердце, можно утверждать, что его появление было ожидаемым.
Экономисты посвятили много времени обсуждению феномена «китайского шока» – его влиянию на глобальный западный рынок труда и внезапный рост импорта из Китая в начале 2000-х гг.[20] SARS-CoV-2 стал «китайским шоком» в полном смысле этого слова. В далекие дни существования Шелкового пути инфекционные заболевания распространялись по Евразии с востока на запад. В более ранние времена их распространение было ограничено в связи с медленной скоростью перемещений. В эпоху парусов тот, кто заболевал, как правило, умирал в пути. В 2020 г. коронавирус распространялся со скоростью реактивного самолета и высокоскоростного поезда. В 2020 г. Ухань был богатым мегаполисом, население которого составляли недавние мигранты. Половина жителей обычно уезжает из города на празднование китайского Нового года. SARS-CoV-2 потребовалось всего несколько недель, чтобы распространиться из Уханя по всему Китаю и большой части остального мира.
РИСУНОК: Прогнозы глобальной катастрофы, июнь 2020 г.
Доля экономик с годовым сокращением ВВП на душу населения.
Серым цветом обозначены периоды глобальных рецессий.
Для 2020–2021 гг. – прогнозируемые данные.
A. Kose and N. Sugarawa, “Understanding the Depth of the 2020 Global Recession in 5 Charts,” World Bank Blogs, June 15, 2020.
Год спустя мир стало лихорадить. В истории современного капитализма еще не было зафиксировано такого факта, чтобы почти у 95 % мировых экономик одновременно снизился ВВП на душу населения. Это случилось в первой половине 2020 г.
Более 3 млрд взрослых жителей планеты были вынуждены уйти в отпуск без сохранения содержания или начать работать из дома[21]. Почти у 1,6 млрд молодых людей прервалось обучение[22]. По подсчетам Всемирного банка, помимо беспрецедентных изменений, произошедших в связи с этим в семейной жизни, потеря общих доходов на протяжении жизни по причине неиспользования человеческого капитала может достигнуть 10 млрд долл.[23] Временная приостановка работы была общим пожеланием всего мира, и это делает сложившуюся в экономике ситуацию в корне отличной от любой случавшейся ранее рецессии. Выяснение того, кто принимал это решение, где именно и при каких обстоятельствах, является важнейшей задачей данной книги.
Мы все испытали на собственном опыте, что приостановка работы приняла такие масштабы, которые трудно выразить в цифрах валового внутреннего продукта (ВВП), статистики торговли и безработицы. У большинства людей в их повседневной жизни никогда не случалось таких серьезных изменений. А это привело к стрессам, депрессиям и психическим расстройствам. К концу 2020 г. бóльшая часть научных исследований, связанных с COVID-19, была посвящена изучению психического здоровья населения[24].
Люди ощущали кризис по-разному. Это зависело от того, в какой части мира и в какой стране они жили. В 2020 г. Великобритания и США испытали не только форс-мажорную ситуацию в системе общественного здравоохранения или значительный спад производства – этот год стал кульминацией периодов углубления национальных кризисов, которые можно описать словами «Трамп» и «Брекзит». Как получилось, что страны, ранее претендовавшие на мировую гегемонию и являвшиеся признанными лидерами в вопросах общественного здравоохранения, потерпели столь печальное фиаско в попытках совладать с вирусом? Должно быть, в этом проявилась более серьезная болезнь[25]. Может быть, в этом обнаружилась их общая увлеченность идеями неолиберализма? Или завершение процесса упадка, который растянулся на многие десятилетия? Или обособленность их политических культур?[26]
«Поликризис» – термин, который начал использоваться в Евросоюзе лишь в последнее десятилетие. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заимствовал эту идею в трудах Эдгара Морена, французского философа, создателя теории сложности[27], и ввел термин «поликризис» в оборот для обозначения событий, которые произошли приблизительно в одно и то же время, в период с 2010 по 2016 г.: кризис еврозоны, конфликт на Украине, миграционный кризис, Брекзит, а также общеевропейский подъем национального популизма[28].
Хотя термин «поликризис» передает идею о том, что различные кризисы совпадают по времени, он не описывает их взаимодействия[29]. В январе 2019 г. председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил с речью, которая вызвала широкое обсуждение во всем мире. В ней он упомянул о том, что кадры Коммунистической партии Китая должны быть в состоянии предвидеть риски, связанные как с черными лебедями, так и с серыми носорогами[30]. Летом того же года в Study Times и Qiushi – двух журналах, через которые Коммунистическая партия Китая транслирует своим наиболее образованным кадрам главные постулаты своего учения, – опубликовали статью Чэнь Исиня, в которой тот более подробно интерпретировал афористические высказывания Си Цзиньпина[31]. Чэнь Исинь – протеже Си Цзиньпина – некоторое время спустя, во время пандемии коронавируса, был назначен руководителем операции по партийной чистке в провинции Хубэй[32]. В своей статье 2019 г. Чэнь ставит следующие вопросы: «Как сочетаются риски?», «Как экономические и финансовые риски превращаются в политические и социальные?», «Каким образом „рискам киберпространства“ удалось стать „реальными социальными рисками“?», «Как внутренние риски становятся международными?».
Чтобы понять, как развиваются поликризисы, Чэнь предложил китайским чиновникам, отвечающим за безопасность, сосредоточиться на шести основных факторах:
• по мере того как Китай начинает занимать центральное положение на мировой арене, государственные чиновники должны обеспечивать защиту от эффекта «обратного ответа», который может быть получен в результате взаимодействия с внешним миром;
• в то же время они должны постоянно быть начеку и не допускать, чтобы происходил «эффект конвергенции» между тем, что сегодня может показаться маловероятной угрозой, и новой реальной угрозой. Нельзя забывать о том, насколько легко размывается граница между внутренним и внешним, между новым и старым;
• помимо возможной конвергенции необходимо также не допускать «эффекта наслаивания», в результате которого «требования групп интересов из различных сообществ могут пересекаться и создавать „многослоевые“ социальные проблемы, то есть наслаивание одних проблем на другие: текущих на исторические, материальных на идеологические, политических на неполитические. При этом все эти проблемы пересекаются и перемешиваются друг с другом»;
• по мере того как облегчается коммуникация между разными странами, может возникнуть «эффект взаимосвязи». Разные сообщества теперь «могут вступать друг с другом в контакт на расстоянии и поддерживать друг друга…»;
• интернет не только сделал возможной «обратную связь» и взаимосвязь – благодаря ему внезапно произошло быстрое распространение новостей. КПК, предостерегал Чэнь, должна учитывать «эффект усиления», при котором «любая мелочь может превратиться… в водоворот; пара слухов… легко могут создать „бурю в стакане воды“ и внезапно вызвать реальное „торнадо“ в обществе»;
• и наконец, Чэнь назвал еще один фактор – «эффект индукции», в результате которого проблемы, которые испытывает один регион, косвенным образом вызывают сочувствие другого региона. Это может приводить к копированию и создавать еще не существующие и не решенные проблемы[33].
Хотя все это описано несколько витиеватым стилем, характерным для Коммунистической партии Китая, факторы, описанные Чэнем, каким-то сверхъестественным образом подходят для описания опыта 2020 г. Вирус – это пример «обратной связи» вселенского масштаба, от китайской глубинки до города Ухань, от Уханя до всего остального мира. Западные политики, так же как и политики в Китае, боролись с конвергенцией, наслаиванием и взаимосвязями. Протестное движение Black Lives Matter явило собой пример гигантского усиления и индукции, создав резонанс по всему миру[34].
На самом деле, если не обращать внимания на исходный контекст, то контрольный перечень факторов, предназначенный для китайских партийных кадров, вполне может стать путеводителем для нашей частной жизни, самоучителем выживания в условиях кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией. Сколько семей, сколько супружеских пар, сколько нас всех, изолированных из-за карантина и находящихся взаперти в четырех стенах, были защищены от эффектов усиления и индукции? Порой возникает ощущение, что невидимый враг в виде вируса готов поразить самые слабые стороны нашей личности и наших самых близких людей.
Бывали и более смертоносные пандемии. Пандемия 2020 г. коренным образом отличалась от других пандемий масштабом ответа. И здесь напрашивается вопрос, который главный политический обозреватель газеты Financial Times Мартин Вульф сформулировал следующим образом:
Почему… экономический ущерб от такой относительно мягкой пандемии оказался столь огромным? Ответ: потому, что это было возможно. Обеспеченные люди с легкостью могут отказаться от большей части своих привычных ежедневных расходов, а их правительства могут оказать широкомасштабную поддержку пострадавшим людям и бизнесу… Сегодня в ответе на пандемию отражаются экономические возможности и социальные ценности. По крайней мере, так происходит в богатых странах[35].
На самом деле, поразительной чертой пандемии 2020 г. было то, что за ее преодоление огромную цену были готовы заплатить и бедные страны, и страны со средним достатком. К началу апреля бóльшая часть стран (кроме Китая, где распространение вируса уже удалось сдержать) прилагали беспрецедентные усилия, чтобы остановить пандемию. Как сказал выбивавшийся из сил Ленин Морено, президент Эквадора – страны, наиболее сильно пострадавшей от пандемии, «это была реально первая война, охватившая весь мир… Другие войны происходили на каких-то одних континентах и не затрагивали других… в этот раз под удар попали все. Эта война не ограничена географическим пространством. От нее никуда не убежать»[36].
Если это и была война, от которой невозможно спрятаться, то все равно в этой войне нужно было сражаться. Именно этот факт служит объяснением того, что события, происходившие в 2020 г., мы называем кризисом. В своем первоначальном значении слово «кризис» (от греческого krisis) означает перелом в ходе болезни. Этот термин также имеет отношение к слову krinein, которое означает «разделять, решать и высказывать суждение». От этого глагола происходят существительные «критик» и «критерий» (то есть оценка степени верности суждения)[37]. Таким образом, термин «кризис» в обоих своих значениях прекрасно подходит для описания воздействия вируса, который заставил людей, организации, правительства разных стран всего мира принять целый ряд исключительно сложных и судьбоносных решений.
Термин «локдаун» вошел в привычное употребление для описания нашей коллективной реакции. Само это слово неоднозначно. «Локдаун» предполагает принуждение. До 2020 г. этот термин использовался для обозначения коллективного наказания в тюрьмах, когда заключенные заперты в своих камерах. В современной ситуации этот термин хорошо подходит для описания мер, направленных на борьбу с COVID-19, которые были приняты рядом стран. В Дели, Дурбане, Париже вооруженные полицейские, патрулируя улицы, фиксировали имена и адреса нарушителей комендантского часа, для которых затем устанавливалось наказание[38]. В Доминиканской Республике за нарушение локдауна было арестовано на удивление много людей – 85 тыс. человек, или почти 1 % населения[39].
Даже если не учитывать нарушения комендантского часа, указ правительств о закрытии всех предприятий общественного питания и баров может ощущаться владельцами и клиентами как репрессивная мера. Однако если мы зададимся целью рассмотреть эти события в более широком контексте, в частности сфокусироваться на том, как на пандемию реагировала экономика (а именно это и будет сделано в данной работе), то окажется, что локдаун был лишь одной из мер борьбы с коронавирусной инфекцией. Мобильность населения стремительно уменьшалась еще до того, как были изданы правительственные распоряжения об ограничении передвижения. Попытки обезопасить финансовые рынки начались еще в конце февраля. При этом не было никакого тюремного надзирателя, который хлопал бы дверью и поворачивал ключ в замке. Инвесторы искали защиты. Потребители сидели по домам. Бизнес закрывался или переходил на дистанционную работу. Бангладешских работников фабрик по пошиву одежды и так запирали на рабочих местах еще до того, как им было приказано оставаться дома. В некоторых случаях правительства приступали к действиям после принятия решений частными лицами. В других случаях они их опережали. К середине марта все страны жили под прессингом пристального внимания друг к другу и копирования действий. Карантин стал нормой. Те, кто оказался за пределами своих стран, стали изгнанниками. Так, например, сотни тысяч моряков оказались заточенными на кораблях.
В этой книге я ввожу термин «карантин» для того, чтобы поставить следующие вопросы: кто и что решил? Где? Как? Кто кого заставил что-то делать? Что именно заставили делать? Если я порой избегаю термина «локдаун», то это вовсе не означает, что сам процесс был добровольным и что люди сами могли принимать решения. Конечно же, нет. Цель этой книги и состоит в том, чтобы проследить, как в сфере экономики взаимодействовали решения, вынужденно принятые во всем мире в условиях полной неопределенности. Эта неопределенность проявлялась на различных уровнях: на центральных улицах и в центральных банках, в семьях и на промышленных предприятиях, у жителей трущоб и у трейдеров, которые фанатично работают в импровизированных офисах, размещенных в подвальных помещениях загородных домов. Решения принимались под воздействием страха или на основе научных прогнозов. Они определялись правительственными указами или социальными традициями. Кроме того, мотивацией для принятия решений могло быть и перемещение сотен миллиардов долларов, спровоцированное мелкими, почти незаметными изменениями в процентных ставках.
Широкое распространение термина «локдаун» свидетельствует о том, насколько неоднозначной была противовирусная политика. В различных странах, социальных группах и семьях шли горячие споры об использовании масок, о социальной дистанции и карантине. Нередко казалось (а иногда это вполне соответствовало действительности), что на кону стоял вопрос о жизни и смерти. Порой отличить видимость от действительности было нелегко. Нам пришлось столкнуться с тем, что немецкий социолог Ульрих Бек в 1980-е гг. обозначил термином «общество риска», только в гораздо большем масштабе[40]. В результате развития современного общества оказалось, что нам всем угрожает невидимая опасность, известная только науке. Это был риск, который оставался абстрактным и нематериальным, пока человек не заболевал. Самые невезучие медленно умирали из-за того, что в легких у них накапливалась жидкость.
В ответ на ситуацию, в которой вам угрожает такая опасность, можно просто ее отрицать. Такой подход может сработать. Было бы наивным ожидать иной реакции. Многие распространенные заболевания и социальные недуги, включая и те, которые приводят к крупным людским потерям, мы подчас просто игнорируем и считаем их чем-то естественным – просто «фактами жизни». Что же касается наиболее серьезных природных рисков, в частности климатических изменений, то вполне можно утверждать, что обычной моделью поведения является широкомасштабное отрицание и сознательное неприятие фактов[41]. Даже такие чрезвычайные медицинские ситуации, как пандемии, при которых речь идет о жизни и смерти людей, могут по-разному интерпретироваться политиками и властями. Столкнувшись с коронавирусом, некоторые из них наверняка предпочли бы выбрать стратегию отрицания. В этой стратегии есть элемент азартной игры, и она несет риск внезапной скандальной политизации. При сложившихся обстоятельствах вновь и вновь оценивались все за и против. Те, кто выступал с лозунгом «Ничего страшного, мы справимся», позиционировали себя защитниками здравого смысла и реализма, однако в итоге им пришлось убедиться, что их хладнокровие было гораздо более убедительным в теории, чем на практике.
Мужественно встретить пандемию – именно к этому стремилась бóльшая часть населения земного шара. Однако, как писал Бек, проблема состоит в том, что вступить в противоборство с современными макрорисками легче на словах, чем на деле[42]. Мы должны прийти к общему пониманию того, чтó это за риски. Это неизбежно вовлекает в наше обсуждение ученых, а у тех, кто не связан с наукой, порождает ощущение неопределенности научных выводов[43]. Кроме того, для этого требуется полученное путем саморефлексии критическое осознание нашего поведения и общественного устройства, в рамках которого мы находимся. Поэтому мы должны быть готовы отстоять выбор тех или иных политических решений – решений, связанных с распределением ресурсов и расстановкой приоритетов на всех уровнях. Однако это противоречит тому, что мы так настойчиво старались не делать в течение последних 40 лет, противоречит нашему стремлению к деполитизации и желанию так использовать рынки или законодательную систему, чтобы не принимать подобных решений[44]. Это главный импульс, который лежит в основе явления, получившего название «неолиберализм», или «рыночная революция». И этот импульс состоит в том, чтобы деполитизировать вопросы, связанные с распределением. При этом надо учитывать и неравноценные последствия общественных рисков, независимо от того, чем они обусловлены: структурными изменениями в мировом разделении труда, нанесением вреда окружающей среде или заболеванием[45].
Коронавирус со всей очевидностью выявил нашу институциональную неготовность – то, что Бек называл нашей «организованной безответственностью». Новое заболевание обнаружило слабость базовых аппаратов государственного администрирования, таких как современные реестры граждан и правительственные базы данных. Чтобы дать достойный отпор кризису, нам было нужно общество, которое гораздо более приоритетное место отводило бы вопросам здоровья населения[46]. Из самых неожиданных источников звучали призывы к «новому общественному договору», согласно которому вклад базовых работников будет по достоинству оценен. Предполагалось также, что в таком контракте будут учтены риски, возникающие вследствие глобализации образа жизни, плодами которой смогла воспользоваться лишь наиболее состоятельная часть населения[47]. Подобно таким программам, как «Зеленый новый курс», которые неоднократно появлялись с начала нового тысячелетия, этот грандиозный проект должен был бы воодушевить граждан[48]. Его задача состояла в том, чтобы мобилизовать население. Однако для его реализации требовалось решить вопрос о власти. Если это был новый общественный договор, то кто и с кем должен был его заключать?
Странное послевкусие осталось от многочисленных призывов к проведению крупных социальных реформ, прозвучавших в 2020 г. По мере того как коронавирус продолжал свое наступление, левое крыло по обеим сторонам Атлантики, по крайней мере та его часть, которую воодушевляли идеи Джереми Корбина и Берни Сандерса, начинало терпеть поражение. В разгар пандемии обещание о появлении радикализированного и получившего приток новой энергии левого крыла, объединенного вокруг программы «Зеленый новый курс», рассеялось как дым. Отпор кризису пришлось давать в основном центристским и правым правительствам. Они представляли собой странную компанию. Президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Дональд Трамп решили поэкспериментировать со стратегией отрицания. Что скепсис по поводу климата, что скепсис по поводу вируса – никакой разницы для них не было. В Мексике правительство левого толка, возглавляемое Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, также пошло по своему собственному пути и отказалось предпринимать решительные меры. Такие сильные национальные лидеры, как Родриго Дутерте на Филиппинах, Нарендра Моди в Индии, Владимир Путин в России и Реджеп Тайип Эрдоган в Турции, не отрицали существование вируса, но сделали ставку на патриотические призывы и выбрали тактику запугивания населения. Наибольшее давление испытывали государственные деятели центристского толка, такие как Нэнси Пелоси и Чак Шумер в США, Себастьян Пиньера в Чили, Сирил Рамафоса в Южной Африке, в Европе – Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель, Урсула фон дер Ляйен и другие. Они решили пойти по пути, предложенному учеными. Отрицать опасность вируса они не собирались. Они отчаянно старались доказать, что они лучше «популистов». Пытаясь противостоять кризису, наиболее умеренные политики стали использовать откровенно радикальные меры, большинство из которых были импровизацией и компромиссом. Правда, им удалось облечь свои инициативы в форму программ. Будь то программа «ЕС нового поколения» или программа Байдена «Восстановим лучше, чем было» – многие идеи были почерпнуты из репертуаров движений за зеленую модернизацию, за устойчивое развитие или из концепции «Зеленого нового курса».
Результатом была горькая историческая ирония. Даже хотя приверженцы «Зеленого нового курса» потерпели политическое поражение, 2020 г. ярко продемонстрировал реалистичность их диагноза. Ведь именно сторонники «Зеленого нового курса» убедительно показали необходимость срочного решения серьезнейших проблем, связанных с окружающей средой, а также увязали их с фактом вопиющего социального неравенства. Не кто иной, как пропагандисты «Зеленого нового курса» продемонстрировали, что при решении этих проблем на демократические общества не должны негативно влиять консервативные фискальные и монетарные теории, которые были унаследованы из давно завершившихся политических баталий 1970-х гг. и которые были полностью дискредитированы в ходе финансового кризиса 2008 г. «Зеленый новый курс» смог собрать вокруг себя энергичных, заинтересованных, перспективных молодых людей, от которых, безусловно, зависела демократия, – если демократия состояла в том, чтобы иметь надежное будущее. Неудивительно, что одно из требований «Зеленого нового курса» состояло в том, чтобы радикально реформировать систему, создающую и воссоздающую неравенство, нестабильность и кризисы, вместо того чтобы постоянно пытаться ее залатать. Для центристов это была чрезвычайно сложная задача. Но если в кризисе и были положительные моменты, то одним из них была возможность отложить на время вопрос о долгосрочном будущем. В 2020 г. нужно было решать главную проблему – как выжить.
Непосредственная реакция экономической политики на шок коронавируса была обусловлена уроками, извлеченными во время кризиса 2008 г. Фискальная политика была более активной и энергичной. Интервенции центрального банка оказались еще более масштабными. Если умозрительно объединить эти два фактора, то есть к фискальной политике добавить монетарную политику, то тогда подтвердятся главные предположения экономических теорий, некогда поддерживаемых радикальными кейнсианцами и вновь вошедшими в моду благодаря таким доктринам, как современная монетарная теория (Modern Monetary Teory, MMT)[49]. Государственные финансы ничем не ограничены в отличие, например, от финансов домохозяйств. Если правительство страны, обладающей монетарным суверенитетом, рассматривает вопрос об организации финансирования, причем не только с технической стороны, то оно уже делает политический выбор. В разгар Второй мировой войны Джон Мейнард Кейнс напоминал своим читателям: «Мы можем позволить себе только то, что в состоянии сделать»[50]. Реальный вызов, то есть настоящий политический вопрос, состоял в том, чтобы решить, чего на самом деле мы хотим, а потом спланировать, как это можно сделать.
В 2020 г. эксперименты с экономической политикой проводили не только богатые страны. Правительства многих развивающихся стран в ответ на кризис также проявляли высокую активность, получив поддержку благодаря большому количеству долларов, напечатанных Федеральной резервной системой. При этом они учитывали опыт последних десятилетий, в течение которых движение мирового капитала сопровождалось флуктуациями. Страны с развивающимися рынками использовали весь арсенал средств, который позволял им хеджировать риски, связанные с глобальной финансовой интеграцией[51]. Как это ни парадоксально, но в отличие от 2008 г., на фоне более успешных мероприятий по сдерживанию эпидемии, экономическая политика Китая выглядела относительно консервативной. У таких стран, как Мексика и Индия, все хуже получалось идти в ногу со временем: пандемия там распространялась с огромной скоростью, а правительства оказались неспособными в ответ на это использовать широкомасштабные экономические меры. В 2020 г. можно было наблюдать умопомрачительное зрелище, когда МВФ в пух и прах разносил формально левое правительство Мексики за то, что ему не удалось принять бюджет с достаточно крупным дефицитом[52].
Было трудно избавиться от ощущения, что поворотная точка уже пройдена. Что это было: окончательная смерть ортодоксальных взглядов, преобладавших в экономической политике с периода 1980-х гг.? Или погребальный звон по неолиберализму?[53] Если рассматривать неолиберализм как стройную государственную идеологическую систему, то вполне возможно. Идея о том, что естественной оболочкой экономической активности можно пренебречь или надеяться, что ее будут регулировать рынки, со всей очевидностью утратила связь с реальностью. Столь же нежизнеспособным оказалось представление о том, что рынки якобы могут осуществлять саморегулирование в ответ на все возможные социальные и экономические шоки. Для того чтобы выжить, было нужно государственное вмешательство, причем эта необходимость ощущалась гораздо острее, чем в 2008 г. Потребовались интервенции небывалого масштаба – сравнить их можно было только с государственным вмешательством периода Второй мировой войны.
У экономистов-доктринеров от всего этого перехватило дыхание, что само по себе неудивительно. Ортодоксальное понимание экономической политики всегда отличалось отсутствием реалистичности. Неолиберализм в качестве стратегии власть имущих неизменно был предельно прагматичным. В реальной истории неолиберализма зафиксирован ряд эпизодов, когда с целью накопления капитала государство вмешивалось в дела экономики, не брезгуя использованием силовых методов для подавления оппозиции[54]. Какими бы ни были теоретические тонкости, можно утверждать, что неизменными сохранились социальные реальности, которые начиная с 1970-х гг. стали неотъемлемыми характеристиками рыночной революции, – сильное влияние капитала на политику, судебную систему и средства массовой информации, а также отсутствие у рабочих возможности оказывать какое-либо влияние. Что же это была за историческая сила, которая разрушила устои неолиберального порядка? История, которую я хочу рассказать в этой книге, – это не история об оживлении классовой борьбы или о возрождении радикальных популистских схваток. Реальный вред экономике был нанесен катастрофой, которая разразилась вследствие безудержного мирового роста и огромного маховика накопления финансов[55].
В 2008 г. кризис был спровоцирован непомерным ростом банковской системы и избыточной секьюритизацией ипотеки. Удар, который коронавирус нанес финансовой системе в 2020 г., поступил извне, а ее хрупкость, обнаружившаяся в результате кризиса, была ее внутренним свойством. В этот раз слабым звеном оказались не банки, а сами рынки активов. Кризис поразил самое сердце системы – рынок американских казначейских облигаций. Считалось, что эти облигации были самым надежным активом, лежащим в основании всей пирамиды кредитов. Если бы это основание рассыпалось, то вслед за ним рухнули бы финансовые системы всего мира. К третьей неделе марта 2020 г. кризис также охватил Лондонский Сити и Европу. В очередной раз Федеральная резервная система, Казначейство США и конгресс на скорую руку организовали ряд интервенций, которые оказали эффективную поддержку большей части негосударственной кредитной системы. Позитивное влияние, оказанное этими мероприятиями, распространилось и на другие страны мира благодаря тому, что в основе их финансовых систем лежит доллар. На кону стояло выживание мировой сети рыночной финансовой системы, которую Даниэла Габор удачно назвала «консенсусом Уолл-стрит»[56].
Масштаб стабилизирующих интервенций, осуществленных в 2020 г., был поистине впечатляющим. Это подтвердило правильность тезиса «Зеленого нового курса» о том, что при желании демократические государства могли бы установить контроль над экономикой, поскольку имеют для этого все необходимые инструменты. Однако такой контроль мог бы стать палкой о двух концах, так как, хотя эти интервенции были проявлением суверенной власти, они были реакцией на кризис[57]. Как и в 2008 г., они служили интересам тех, кому было что терять. В этот раз было объявлено, что не только отдельные банки, но и все рынки в целом имеют слишком большие размеры, чтобы потерпеть крах[58]. Для того чтобы разорвать этот порочный круг, в котором кризисы сменяются периодами стабильности, и чтобы превратить экономическую политику в инструмент истинной демократической суверенности, необходимо было осуществить коренную реформу. А для этого, в свою очередь, потребовалось бы произвести реальные сдвиги во властных структурах. Однако шансов на это практически не было.
Безусловно, рыночная революция 1970-х гг. была революцией экономических идей, хотя и не ограничивалась только этим. Война с инфляцией, которую вели Тэтчер и Рейган, была масштабной кампанией против общественных беспорядков. Представлялось, что угроза таких беспорядков шла как извне, так и изнутри. Эта кампания проводилась достаточно жесткими средствами, потому что в 1970-х и в начале 1980-х гг. классовые конфликты, возникавшие в Европе, Азии и США, продолжали нести на себе отпечатки мировой борьбы за освобождение колоний, а также холодной войны[59]. Такая консервативная кампания была необходима еще и потому, что распад Бреттон-Вудской системы в период между 1971 и 1973 гг. означал отказ от «золотого стандарта» и открывал двери для экспансионистской экономической политики. Теперь угроза исходила не от благопристойного кейнсианства послевоенного периода, а от чего-то гораздо более радикального. Для того чтобы ее сдержать, было необходимо заново прочертить государственные и общественные границы. В этой схватке наиболее важным институциональным ходом было отделение контроля над деньгами от демократической политики и передача этого контроля в руки независимых центральных банков. Как сказал в 2000 г. Рудигер Дорнбуш, профессор Массачусетского технологического института, один из наиболее влиятельных экономистов своего поколения, «прошедшие 20 лет и сам факт укрепления влияния независимых центральных банков – это попытка расставить правильные приоритеты, избавиться от демократических денег, которые всегда были недальновидными, плохими деньгами»[60].
Все это имеет горькие последствия. Если начиная с 2008 г. центральные банки и пошли на масштабное расширение эмиссии ценных бумаг, то это было сделано по необходимости – для того, чтобы сохранить стабильность финансовой системы. Но, хотя и делалось без звона фанфар, политически это стало возможным благодаря тому, что в 1970–1980-е гг. все баталии завершились победами. Больше не существовало угрозы, нависавшей над поколением Дорнбуша. Демократия не представляла опасности, как это было когда-то, в неолиберальный период борьбы. В области экономической политики все это проявилось в поразительном открытии – оказывается, риска инфляции больше нет. Несмотря на кликушество центристов по поводу «популизма», классовый антагонизм ослаб, давление заработных плат стало минимальным, а забастовки прекратились.
Так же, как и в 2008 г., в 2020-м массированные экономико-политические интервенции были подобны двуликому Янусу. С одной стороны, их размах вырвался за границы неолиберальных ограничений, а их экономическая логика подтвердила базовые параметры макроэкономической политики интервенций, описанные еще Кейнсом. Интервенции центральных банков не могли восприниматься иначе, как предвестники появления еще одного режима помимо неолиберального. С другой стороны, они проводились сверху. Они стали осуществимыми с политической точки зрения только благодаря тому, что, во-первых, левые силы этому никак не препятствовали, а, во-вторых, их насущность определялась необходимостью стабилизировать финансовую систему. И они были осуществлены. За период 2020 г. чистая стоимость домохозяйств в США увеличилась более чем на 15 трлн долл. В результате бенефициаром оказался, главным образом, 1 % самой богатой части населения, владеющий почти 40 % всех капиталов[61]. При этом 84 % находится в руках 10 % из их числа.
В действительности это был «новый социальный контракт», причем он был заключен в интересах только одной стороны, что не могло не вызвать беспокойства. Тем не менее было бы неправильным видеть в мерах, предпринятых в ответ на кризис 2020 г., только усиление ограбления населения. Центристы, которые боролись за свое политическое выживание, не могли просто не замечать огромной мощи социального и экономического кризисов. Появилась серьезная угроза со стороны правого националистического крыла. Сильный резонанс вызывали призывы к большей социальной солидарности в деле восстановления национальной экономики. «Зеленые», хотя они и были в меньшинстве, набирали силу, и с этим политическим движением теперь приходилось считаться[62]. Хотя представители правого крыла пытались играть на сильных чувствах, текущему моменту больше соответствовал стратегический анализ, который предлагали сторонники «Зеленого нового курса». Дальновидные центристы хорошо это понимали. Может быть, руководству Евросоюза или Демократической партии США и не хватало мужества, чтобы решиться на проведение структурной реформы, но им удалось осознать взаимосвязь между эпохой модерна, проблемами окружающей среды, несбалансированным и нестабильным экономическим ростом и неравенством.
В конечном счете факты говорили сами за себя, и для того, чтобы их проигнорировать, нужно было проявить силу воли. Именно по этим причинам 2020-й был подходящим годом не только для наживы, но и для экспериментирования с реформами. В ответ на угрозу социального кризиса в Европе, в США и во многих развивающихся странах были опробованы новые способы поддержания благосостояния населения. И в поисках позитивной повестки центристы как никогда активно использовали политику, связанную с проблемами окружающей среды и климатических изменений. Движение «Зеленый новый курс», в отличие от других, не боялось, что COVID-19 отвлечет от иных приоритетных задач, поэтому его политико-экономическая программа оставалась в мейнстриме. Участники зеленого движения имели разные лозунги – «Зеленый рост», «Строй лучше, чем было», «Зеленое дело», но их деятельность так или иначе касалась зеленой модернизации, которая была общим ответом центристов на кризис[63].
2020-й отчетливо продемонстрировал, насколько сильно экономическая деятельность зависит от стабильности природной среды. Самые ничтожные мутации вируса в микробе могут нести в себе угрозу для всей мировой экономики. Этот год также показал, каким образом в экстремальных ситуациях всю монетарную и финансовую систему можно направить на поддержку рынков и жизнедеятельности людей. При этом встал острый вопрос, кому и как оказывать поддержку. Осознание этих двух фактов размыли разграничения, которые были основополагающими для политической экономии в течение последних 50 лет: границы между экономикой и природой, между экономикой и социальной политикой, а также политикой как таковой. Кроме этого, имелся еще и третий фактор, который в 2020 г. полностью разрушил краеугольные положения эпохи неолиберализма, – подъем Китая.
Согласно лучшим из имеющихся у нас сегодня научных источников, не должен вызывать удивления тот факт, что вирус пришел из Китая. Быстрые природно-очаговые мутации были вполне предсказуемым результатом биологических, социальных и экономических условий в регионе Хубэй. Было принято считать, что этот процесс носит природный характер, и такое понимание не позволило оценить, в какой степени он был обусловлен экономическими и социальными факторами. Однако находились люди, которые считали, что не все так просто. Одна из наиболее правдоподобных альтернативных теорий утверждала, что вирус распространился вследствие утечки из китайского научно-исследовательского института[64]. Если верить этому, то это происшествие следует воспринимать как новый Чернобыль, происходящий в глобальном масштабе, но лучше завуалированный, как своего рода пример общества риска. Но скорее это была неудачная попытка получить господство над природой, а вовсе не халатность, в результате которой появились опасные побочные эффекты. Более алармистской была точка зрения, согласно которой вирус был разработан в рамках программы создания биологического оружия. Сторонники этой концепции полагали, что Пекин сознательно допустил распространение этого вируса с целью дестабилизации западных государств[65]. Пекин добавил масла в огонь, отказываясь разрешить проведение независимого международного расследования. Китай распространял конспирологические нарративы противоположного содержания, отрицающие все обвинения в свой адрес[66]. В любом случае, какую бы интерпретацию ни содержали эти теории, они исследовали не только вирус и его происхождение. В них давалась интерпретация процесса глобализации и подъема Китая. Такое сочетание этих двух тревожных факторов было чем-то новым.
Когда в 2005 г. Тони Блэр иронизировал над критиками глобализации, главной мишенью его насмешек были их страхи. Их местечковой озабоченности он противопоставлял энергию азиатских стран, твердо вставших на путь модернизации. Для этих стран глобализация открывала широкие горизонты. Блэр признавал, что угрозы глобальной безопасности исходят от исламского терроризма, а также от оружия массового уничтожения, производство которого начал Саддам Хусейн[67]. Это были серьезные угрозы. Если бы они на самом деле реализовались, то это привело бы к гибели огромного количества людей. Это были симптомы того, что глобализация идет не тем путем. Но, несмотря на агрессивность этих угроз, в действительности у них не было ни малейшего шанса изменить статус-кво. В них, по сути, была заложена самоубийственная потусторонняя иррациональность. Если что-то и было утрачено за 10 лет после 2008 г., так это уверенность в устойчивости статус-кво.
Возродившаяся Россия, пополнившая свои закрома с помощью экспорта нефти и газа, первой продемонстрировала незрелость концепции геополитической глобализации. Претензии России были умеренными, чего нельзя было сказать о Китае. В 2011 г. администрация Обамы сделала «ставку на Азию»[68]. В декабре 2017 г. США обнародовали свою Новую стратегию безопасности (National Security Strategy). В ней Индо-Тихоокеанский регион впервые был назван главной ареной, на которой будет происходить соперничество ведущих держав[69]. В марте 2019 г. Евросоюз выпустил аналогичный документ[70]. Этому же примеру последовали министерства иностранных дел Франции и Германии[71]. Тем временем Великобритания совершила крутой политический по ворот – от празднования в 2015 г. новой «золотой эры» в отношениях между Китаем и Великобританией к посылке авианосца в Южно-Китайское море[72].
Военная логика была широко известна. Все ведущие державы являются соперниками, или, по крайней мере, это следует из логики «реалистов». В случае с Китаем существовал дополнительный фактор в виде идеологии. В 2021 г. Коммунистическая партия Китая отметила свою столетнюю годовщину – событие, которое так и не довелось отпраздновать Коммунистической партии СССР. Пекин не скрывал своей приверженности к идеологическому наследию, которое создавалось сначала Марксом и Энгельсом, затем развивалось Лениным, а после него – Мао Цзедуном. Вряд ли можно было с бóльшим чувством, чем это сделал Си Цзиньпин, сказать о том, насколько важно сохранять верность этой традиции, и с бóльшей откровенностью осудить Михаила Горбачева за то, что тот выпустил из рук идеологический компас Советского Союза[73]. Таким образом, новая холодная война была в действительности оживлением старой холодной войны – холодной войны в Азии. Войны, в которой Запад никогда не был победителем.
Однако между старой и новой холодными войнами существовали два существенных различия. Первое – экономическое. Угроза, которую представлял Китай, возникла в результате самого мощного экономического бума, когда-либо происходившего в мировой истории. Этот бум нанес удар по ряду категорий рабочих в западном полушарии, однако бизнесмены и потребители Западной Европы (и не только они) получили огромную выгоду от развития Китая. Будущее дало бы им еще бóльшую прибыль. Такая ситуация была весьма двусмысленной. Возобновленная холодная война сулила выгоду во всем, кроме экономики. (Вспомним: «это же экономика, тупица».)
Вторым фундаментальным отличием была глобальная проблема ухудшения экологии и роль экономического роста в этом процессе. Когда в 1990-х гг. глобальная климатическая политика появилась в своем современном формате, она проводилась под знаком однополярности. В то время США наносили наибольший вред окружающей среде и всегда отказывались от выполнения международных экологических требований. Китай был бедной страной, и объем производимых им выбросов вредных веществ вряд ли сильно ощущался в мировом масштабе. К 2020 г. выбросы Китаем углекислого газа были больше, чем выбросы США и Европы, вместе взятых. Согласно прогнозам, в ближайшее десятилетие этот разрыв увеличится еще больше. Решение вопроса о климате невозможно представить без участия Китая. Точно так же невозможно вообразить, что без Китая будет дан достойный отпор угрозе возникновения инфекционных заболеваний. Китай обладает самым мощным потенциалом для решения обеих проблем.
Сторонники зеленой модернизации из Евросоюза разрешили эту дилемму в своих стратегических документах, обозначив Китай стратегическим соперником, стратегическим конкурентом и, одновременно, партнером в работе над вопросом климатических изменений. Администрация Трампа решила облегчить себе жизнь, объявив, что такой проблемы не существует. Но Вашингтон тоже метался, решая экономическую задачу и не зная, что выбрать: осудить идеологию Китая, следовать стратегическим расчетам, осуществить долгосрочное корпоративное инвестирование или исполнить желания президента и поскорее заключить сделку. Такая ситуация была нестабильной, и в 2020 г. чаша весов дрогнула. Несмотря на то что президент уже приготовился в начале года отпраздновать завершение первой фазы в торговой сделке с Китаем, летом того же года стратегическая конкуренция и идеологическая борьба перевесили экономические интересы. Теперь Китай был объявлен стратегической и экономической угрозой для США. Китай отнял работу у многих американцев и нелегально присвоил себе американскую интеллектуальную собственность, которая была использована на благо враждебному режиму[74]. В ответ на это правительственные структуры США, занимающиеся разведывательной деятельностью, безопасностью и юридическими вопросами, объявили экономическую войну Китаю. Они умышленно пытались затормозить развитие в Китае высоких технологий – основы современной экономики.
То, что эта эскалация напряженности произошла не раньше и не позже, было в некотором смысле случайностью. Подъем Китая являлся долговременным мировым историческим трендом, событием, на которое каждая мировая держава в конечном счете должна была прореагировать. Но успехи Пекина в борьбе с коронавирусом и проявленная им настойчивость стали для администрации Трампа красной тряпкой. Более того, накалившаяся атмосфера во время выборов в США создала эффекты усиления и индукции, если воспользоваться несколько эвфемистической терминологией Чэня. Команда Трампа не только обвинила Китай в появлении вируса, но перенесла начатую в Америке культурную войну на американских коллаборационистов, сотрудничающих с Китаем. Помимо этого, к лету 2020 г. становилось все более очевидным, что в Америке что-то происходит. Что-то было не в порядке.
Такая нездоровая обстановка в современной Америке складывалась не в первый раз. Президенту Картеру скандальную известность принесло его обращение к американской нации, посвященное этой же проблеме. С обращением он выступил летом 1979 г., в то время когда США ощутили на себе последствия иранской революции и второго энергетического кризиса[75]. В числе прочего рыночная революция 1980-х гг. обещала, что благодаря «американскому утру», прорекламированному Рональдом Рейганом, страна оправится от кризиса. То же самое обещала Тэтчер для Великобритании. Дональд Трамп, тусовщик с Манхэттена 1980-х гг., был живым воплощением новой эры показного богатства. Однако Трамп также олицетворял собой горькую правду того периода – рыночная революция отбросила назад большую часть американского общества. Глобальная мощь Америки в финансовой сфере, в области технологий и в военной промышленности неуклонно росла, но экономика страны, составлявшая основу этого роста, напоминала колосса на глиняных ногах. Пандемия COVID-19 обнаружила печальную картину: система здравоохранения США находилась в плачевном состоянии, а система социальной защиты поставила десятки миллионов граждан США на грань нищеты. Если предложенная Си Цзиньпинем программа «Китайская мечта» и оставалась жизнеспособной в течение 2020 г., то о программах социального развития США этого сказать нельзя.
Таким образом, общий кризис неолиберализма в 2020 г. оказал специфическое и травматичное влияние на Америку в целом и особенно на определенную часть американского политического спектра. Система взглядов правительства США, сформированная сменявшими друг другу администрациями демократов, начиная с Вудро Вильсона и Франклина Делано Рузвельта, дали в руки либералам механизмы, с помощью которых можно было ответить на вызовы, связанные с коронавирусом. Даже новое поколение американских радикалов, возглавляемое Александрией Окасио-Кортес, смогли найти что-то привлекательное для себя в «Новом курсе»[76]. Республиканская же партия и ее националистические и консервативные избиратели, наоборот, в 2020 г. пережили что-то вроде экзистенционального кризиса, который имел крайне негативные последствия для американского правительства, для американской конституции и для отношений Америки с другими мировыми державами. Этот кризис привел к предельной напряженности в период с 3 ноября 2020 г. по 6 января 2021 г. Тогда Трамп отказался признать свое поражение, большая часть республиканцев активно поддержали его попытку опротестовать результаты выборов, а для преодоления социального кризиса и пандемии не предпринималось никаких мер. Наконец, 6 января президент и другие видные представители его партии спровоцировали вторжение толпы демонстрантов в Капитолий.
Разумеется, эти события не могли не вызвать глубокой обеспокоенности за судьбу американской демократии. Кроме того, в американском крайнем правом политическом крыле имеются политики, которых без преувеличения можно назвать фашиствующими[77]. Однако для того, чтобы говорить о них как о настоящих фашистах, Америке 2020 г. не хватало двух элементов. Первый из них – это наличие тотальной войны. Американцы не забывают о Гражданской войне и могут представить себе грядущие гражданские войны. Совсем недавно они принимали участие в экспедиционных войнах, и это вернуло в американское общество милитаристскую политику и военные фантазии[78]. Однако при тотальных войнах общество трансформируется совершенно иначе. В нем формируется единый сплоченный организм, а не отдельные коммандос, как это было в 2020-м.
Второй недостающий элемент в классическом фашистском уравнении, который является более важным для этой книги, – это социальный антагонизм, воображаемая или реальная угроза для общественного и экономического статус-кво. По мере того как в 2020 г. над США сгущались конституционные грозовые тучи, американский бизнес решительно сплотил свои ряды и выступил против Трампа. Кроме того, крупнейшие компании США не побоялись открыто заявить о том, какие бизнес-проблемы их на это сподвигли, включая стоимость акционерного капитала, проблемы, возникающие при управлении компаниями с работниками, разделяющими различные политические взгляды, экономическая важность верховенства закона, а также, что удивительно, ожидаемый спад продаж в случае гражданской войны. Такое единство капитала и демократии в США в 2020 г. должно было бы выглядеть до некоторой степени весьма обнадеживающим. Но только представьте себе на секунду альтернативный сценарий. Что, если бы вирус появился в США на несколько недель раньше, распространяющаяся эпидемия спровоцировала бы массовую поддержку Берни Сандерса и его призывов к универсальной системе здравоохранения, а на проводимых демократами праймериз был бы выдвинут какой-нибудь известный социалист, а не Джо Байден?[79] Не так сложно представить себе сценарий, при котором все влияние американского бизнеса было бы по тем же причинам использовано в противоположном направлении: поддержка оказывалась бы Трампу, чтобы не дать возможность Сандерсу победить[80]. А что, если бы у Сандерса оказалось большинство голосов? Это стало бы проверкой на прочность американской Конституции и преданности ей наиболее влиятельной социальной группы.
Если мы будем считать 2020-й годом всестороннего кризиса неолиберальной эпохи – кризиса, который затронул окружающую экосистему, внутренние социальные, экономические и политические основы, а также международный порядок, то это поможет нам найти исторические ориентиры. Если рассматривать кризис, вызванный коронавирусом, в таком контексте, то мы должны признать, что он знаменует собой конец периода, начало которого нужно искать в 1970-х гг. Этот кризис также следует считать первым всесторонним кризисом грядущей эпохи антропоцена – эпохи, главной чертой которой являются негативные последствия наших несбалансированных отношений с природой[81].
Однако вместо того, чтобы пытаться поспешно обрисовать непрерывный ход событий этой полувековой истории или стараться мысленно устремиться в будущее, в этой книге я пытался, насколько это возможно, оставаться только в настоящем. Когда в повествовании возникнет такая необходимость, мы будем путешествовать в прошлое и в будущее, но наше основное внимание будет сфокусировано исключительно на событиях, которые произошли между началом пандемии в январе 2020 г. и инаугурацией Джо Байдена.
Такие жесткие хронологические рамки – мой сознательный выбор. С помощью этого подхода можно будет проследить конфликт между прошлым и настоящим, а именно в этом и состоит смысл исторического исследования. Такой подход также представляет собой персональную стратегию, которая помогает справиться с интеллектуальными и психологическими стрессами. В сложившейся ситуации без этого было бы весьма сложно существовать.
Коронавирус заставил миллиарды людей изменить свои планы. То же самое случилось и со мной. В начале этого года я работал над книгой, посвященной проблемам энергетической политики. В ней я хотел проследить политическую экономику углеводородов, начиная с эпохи нефтяных кризисов, а также осветить предысторию «Зеленого нового курса». Подобно многим другим, меня очень интересовал вопрос об эпохе антропоцена – о трансформациях этого периода, вызванных ростом капиталистической экономики; трансформациях, которые ставят под сомнение правомочность разделения истории на историю природы и историю человечества[82].
В феврале, по мере того как вирус незаметно распространялся по всему миру, я путешествовал по Восточной Африке и впервые глубоко погрузился в историю этого континента. Время от времени я замечал непривычный медицинский контроль в аэропортах, но, как и большинство людей, я еще не понимал, какие драматические события начинают разворачиваться у меня перед глазами. И только 6 марта, в пятницу, когда по пути домой я очутился в похожем на пещеру новом аэропорте Стамбула, я начал осознавать, в какой степени паника охватила людей. Путешественники из разных уголков земного шара щеголяли в защитных масках самых разных видов и форм. Эти маски были чем-то новым, совершенно неподходящим и невозможным во время долгого перелета.
Тот уикенд в Нью-Йорке, когда после прилета из-за разницы во времени моя голова еще была как в тумане, показался мне адом кромешным. Вирус постепенно привел к тому, что началось невероятное снижение экономической активности. Мне внезапно пришлось экспромтом отвечать на шквал вопросов – журналисты буквально атаковали меня, пытаясь выяснить, что могло бы стать продолжением моей книги «Крах», посвященной финансовому кризису 2008 г.
Сама книга «Крах» стала историей, опередившей события. Я планировал приурочить ее к десятилетней годовщине финансового кризиса 2008 г. и завершил работу вскоре после Брекзита и победы Трампа, в самый разгар кризиса, который, казалось, никогда не закончится. Один из моих прозорливых друзей пошутил, что теперь мне придется начать новую книгу – книгу, у которой не будет конца. В марте 2020 г. я был полон сил и готовности засесть за работу. Нарратив «Краха» все больше заставлял думать о нем по мере того, как стремительно падали цены на акции, проседал рынок облигаций, на первые страницы газет попадали новости о сбоях на рынках операций репо, а на повестке дня вновь появился вопрос об установлении центральными банками своповых линий.
К апрелю я убедился, что для меня слишком большая нагрузка – жить в режиме «здесь и сейчас» и одновременно размышлять о политике Джимми Картера в области энергетики. Я сдался перед сложившимися обстоятельствами.
Год 2020 оказался Историческим (с заглавной буквы «И»). Он кардинальным образом отличался от всего, что было раньше. Поэтому эта книга еще более своевременна, чем «Крах». Может показаться парадоксальным, но в связи с этим появляется риск, что окажется «пропущенным» какой-нибудь еще более драматический момент. Если мы попытаемся описать беспокойное время, в котором сейчас живем, то любой нарратив неизбежно окажется субъективным и впоследствии будет пересмотрен. Но если мы хотим осознать события, которые сегодня происходят вокруг нас, мы должны пойти на такой риск. Единственным утешением является то, что такие попытки предпринимают многие. Ведь 2020-й с полным правом можно назвать годом длинных разговоров и рассказов, годом споров и анализа.
Не исключено, что время для такого нарратива еще не пришло, однако, когда мы обдумываем какие-то интерпретации, держим интеллектуальное пари (при этом неважно, проспорим мы его или нет), мы приобретаем что-то весьма ценное – более глубокое понимание того, что в действительности означает высказывание «любая правдивая история – это современная история»[83]. Действительно, в свете года 2020 эта мысль Бендетто Кроче приобретает новый смысл. Книга, посвященная проблеме климатического кризиса, то есть исторической трансформации природы и последствий этого процесса для нашей истории, написанная в тиши и спокойствии квартиры на Аппер Вест-Сайд, могла бы показаться в чем-то весьма далекой от реальности. Эпоха антропоцена осталась абстрактной интеллектуальной идеей. Кризис, спровоцированный коронавирусом, лишил иллюзии безопасности даже самых защищенных из нас.
Часть I. Заболевание X
Глава 1. Организованная безответственность
СКЕПТИКИ – а скептики были с самого начала – любят подчеркивать самую поразительную, на их взгляд, черту кризиса COVID-19: нечто самое обыденное нам удалось превратить в глобальный кризис. Неважно, какие меры будут приняты, но люди умирают. От COVID-19 умирают такие же люди, которые умирают и от естественных причин, – пожилые люди с букетом сопутствующих заболеваний. В обычной ситуации они умирают от гриппа и пневмонии. Миллионы людей, которые не входят в привилегированное меньшинство богатого мира, умирают от инфекционных заболеваний, таких как малярия, туберкулез и ВИЧ. Но, несмотря на это, «жизнь продолжается». Новый коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром, по всем стандартам когда-либо зафиксированных инфекционных заболеваний не должен был бы вызывать большое количество летальных исходов. Однако в связи с его появлением были приняты беспрецедентные меры. Во всем мире замерла общественная жизнь, прервалась большая часть торговых операций и приостановился бизнес. Во всем мире это крупномасштабное прерывание нормальной жизни вызвало в той или иной степени недоумение, возмущение, сопротивление, нежелание подчиняться и протест. Совершенно не обязательно принимать точку зрения ковид-диссидентов, чтобы понять историческую подоплеку их позиции. Кризис в области здравоохранения привел к гораздо более широкому кризису. Это было чем-то новым и совершенно неожиданным. Если не искать причину этого феномена в слабой и чересчур протекционистской политической культуре или в сознательной репрессивной политике, а объяснить, что он мог произойти в результате структурного напряжения, возникшего в обществах в начале XXI в., то это помогло бы подготовить почву для понимания причин кризиса 2020 г.
Да, пожилые люди действительно умирают, но при этом важно понимать, в каком количестве, какими темпами и от каких причин. Для любого момента времени показатель смертности можно описать в виде набора вероятностей, которые различаются для разных временных периодов и зависят от возможностей медицины, экономики, системы здравоохранения, а также от достоинств и недостатков системы социального обеспечения населения.
Если говорить в целом, то в последние десятилетия произошел серьезный прорыв в сокращении смертности от болезней, связанных с нищетой населения, – инфекционных болезней, болезней матерей и младенцев, болезней, спровоцированных недостаточным питанием. Тем не менее малообеспеченные люди и жители стран с низкими доходами продолжают умирать в более раннем возрасте и по причинам, которые можно было бы предотвратить. В странах с низким уровнем доходов, например в Нигерии, где ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 55 лет, 68 % смертей происходят из-за болезней, связанных с нищетой. В Германии, где продолжительность жизни составляет 81 год, доля таких смертей – 3,5 %, в Великобритании – 6,8 %. США по этому показателю находятся где-то между Германией и Великобританией. В 2017 г. затраты на здравоохранение из расчета на душу населения в странах с высоким уровнем дохода были в 49 раз выше (по паритету покупательной способности), чем в странах с низким уровнем дохода[84].
В богатых странах существуют ужасающие различия в уровне младенческой смертности и смертности при родах, а также ожидаемой продолжительности жизни между представителями разных расовых групп и социальных слоев. Остаются нерешенными такие проблемы, как эпидемия наркомании среди малоимущих и маргинализированных групп населения, астма и отравление свинцом. В Германии 27 % мужского населения с самым низким уровнем дохода умирают, не дожив до 65 лет, в то время как в группе с самым высоким уровнем дохода этот показатель составляет 14 %. Для женского населения эти различия лишь несколько менее драматичны[85]. В Германии, где система медицинского страхования предполагает наличие двух видов страховок, ожидаемая продолжительность жизни 11 % граждан, застрахованных частными компаниями, на 4 года больше, чем у граждан, имеющих государственную страховку[86]. Согласно исследованию 2009 г., в США – стране, которую часто называют самой богатой в мире, – 45 000 человек умирают по причине отсутствия медицинской страховки[87]. В США граждане, которые, согласно данным переписи населения, относятся к группам с низким уровнем доходов, госпитализируются с гриппом и умирают от этого заболевания в два раза чаще, чем граждане, имеющие высокие доходы[88]. Это различие проявляется еще сильнее для возрастной группы 65+.
ТАБЛИЦА I. Причины смерти*
* В некоторых случаях сумма процентов отличается от 100 %, очевидно, это вызвано округлениями.
Источник: https://ourworldindata.org/causes-of-death.
Было бы преувеличением сказать, что данные об этих вероятностях признаются всеми. На первый взгляд они выглядят шокирующими. Они опровергают декларации о том, что нашей главной коллективной задачей является сохранение жизни людей. Но какими бы значительными ни были эти различия, их соотношение, по крайней мере, не вызывает особого удивления. Эти вероятности меняются, правда, постепенно и, как правило, в лучшую сторону. Если говорить о ситуации с коронавирусом, то необходимо отметить чрезвычайно важный факт: в начале 2020 г. единственными инфекционными заболеваниями, которые поражали среднестатистического гражданина в странах с уровнем доходов выше среднего, были инфекции нижних дыхательных путей и грипп, причем в целом они представляли опасность только для лиц преклонного возраста. В США в обычные годы количество смертей от гриппа и пневмонии составляло только 2,5 % от всех смертей. Если добавить к этому смерти от инфекций нижних дыхательных путей, то это составит 10 % от всех смертных случаев[89]. Смерти от гриппа, пневмонии и инфекций нижних дыхательных путей, вместе взятых, составляют 80 % смертей от инфекционных заболеваний. ВИЧ/СПИД, а также заболевания, вызванные желудочно-кишечными инфекциями, в частности бактерией C. difcile, составляют оставшиеся 20 %. Инфекция SARS-CoV-2 пошатнула уверенность в этих вероятностях.
Победа над главными инфекционными заболеваниями была одним из триумфальных событий, произошедших после 1945 г. Это было одно из исторических достижений, сопоставимых с такими, как устранение угрозы голода, обеспечение всеобщей грамотности, создание систем водоснабжения или введение мер контроля над рождаемостью. Повысившаяся продолжительность жизни была тем «секретным соусом», который обеспечивал экономический рост[90]. Замечательно, когда мы потребляем как можно больше. Еще лучше – если мы проживем как можно дольше, чтобы иметь возможность радоваться процессу потребления. Согласно одному из исследований, если в расчетах правильным образом учесть бóльшую продолжительность жизни, которая была достигнута в XX в., то это удвоит оценку роста американского уровня жизни[91]. К 1970-м гг., когда стала реальной окончательная победа над оспой и полиомиелитом, этот триумфальный успех породил идею эпидемиологического перехода[92]. Инфекционные заболевания были обречены на то, чтобы остаться в прошлом.
Самых больших успехов в этом направлении удалось добиться западным странам. Однако осуществление эпидемиологического перехода было общим стремлением всех стран в эпоху модернизации. Такие же чаяния, как и у западных стран, были у СССР и у коммунистического Китая[93]. И это неудивительно – ведь в качестве коллективистского проекта, во главе которого стояли государственные структуры, такая программа в большей степени соответствовала политической идеологии СССР и Китая, чем западных стран. Крайнее проявление такой политики демонстрировала переживавшая тяжелые времена Куба, которая создала крепкую систему здравоохранения и разработала масштабную программу глобальной медицинской помощи. Коммунистические режимы не видели никакого противоречия между принесением в жертву десятков миллионов жизней во имя построения социализма, принудительными кампаниями по контролю над рождаемостью (подобно китайской политике «одна семья – один ребенок») и масштабными коллективными усилиями по спасению жизней и по борьбе с инфекционными заболеваниями.
Каким бы чрезвычайно важным ни был этот процесс, в самый момент триумфа 1970-х гг. борьба с инфекционными заболеваниями начала подвергаться сомнениям. Грипп так и остался непобежденным. Это заболевание, с одной стороны, является широко распространенным, а с другой стороны, часто недооценивается как возможная причина смерти. Вследствие этой болезни наблюдается увеличение количества умерших от любых заболеваний – такие смерти ежегодно фиксируются на регулярной основе[94]. Это выглядит как нормальная ситуация, поскольку большое количество этих смертей объясняется иными, более конкретными причинами, такими как пневмония или инфаркт. Грипп – очень заразное заболевание. Попадание вируса в организм и инфицирование происходят практически одновременно. А это, в свою очередь, означает, что тестирование и введение карантина в этом случае бесполезны. Поскольку вирус гриппа мутирует очень быстро, вакцинация эффективна в лучшем случае лишь частично. Спасает лишь то, что летальность от гриппа невысокая.
Иначе обстоят дела с новыми инфекционными заболеваниями, с которыми специалисты начали сталкиваться еще в 1970-е гг. Вызывающий ужас вирус Эбола был выявлен в 1976 г., СПИ Д – в 1981 г. На Западе ВИЧ/СПИД продолжает распространяться в основном среди стигматизированных меньшинств. В Африке к югу от Сахары это заболевание стало кризисом поколения молодых гетеросексуальных людей и в первую очередь женщин[95]. К 2020 г. ВИЧ/СПИД уже унес 33 млн жизней. В 2020 г. от этой болезни умрет приблизительно 690 000 человек[96]. Итак, если говорить об инфекционных заболеваниях, то, как оказалось, история борьбы с ними еще далека от завершения.
Действительно, по мере того как ученые продолжали исследовать мутации заболеваний и их циркуляцию, обнаруживалась ситуация весьма хрупкого равновесия. Современная наука, новые технологии, медицина, экономическое развитие – все это могло бы обеспечить нас более надежными средствами борьбы с заболеваниями. Однако эти же самые факторы способствовали появлению угроз, связанных с новыми инфекциями[97]. Парадигмы возникновения инфекционных заболеваний, предлагаемые учеными начиная с 1970-х гг., так же как модели климатических изменений и экологических систем, которые создавались в это же время, содержали серьезную критику нашего современного образа жизни, нашей экономики и выстроенной на ее основе общественной системы[98]. Использование всех мировых земельных ресурсов, постоянное вторжение в те места, где еще сохранилась дикая природа, разведение в промышленных масштабах свиней и кур, гигантские города с пригородами, глобальная мобильность в наш век высоких скоростей, стимулируемое торговыми структурами бездумное использование антибиотиков, безответственное распространение фейковых новостей о вакцинах – все эти факторы сошлись воедино и создали для новой болезни такую окружающую среду, которая, вместо того чтобы сокращать риски, создавала все более опасную обстановку. Разумеется, все эти факторы в той или иной степени существовали в течение как минимум двух последних тысячелетий. Передовые для своего времени городские поселения Римской империи когда-то пали жертвой пандемий, охвативших всю Евразию. Однако в конце XX в., несмотря на успехи медицины и вновь обретенный достаток, началась стремительная эскалация другой потенциальной угрозы. Осознавали мы это или нет, но все мы так или иначе оказались втянутыми в новую «гонку вооружений» между человеком и природой.
Это была серьезная диагностика угроз, порождаемых современным образом жизни. Сегодня существуют группы, возглавляемые антипрививочниками, которые пытаются оспорить эту логику. Но эти люди – своего рода маргиналы. Противоречивыми оказались не сами предостережения о появлении инфекционного заболевания, а то, насколько мы готовы взять их на вооружение. Если специалисты предупреждают нас о том, что наша современная социально-экономическая система постоянно создает риски появления инфекционных заболеваний, как мы на это реагируем?
Если мы хотим радикально решить эту проблему, мы должны приложить разносторонние усилия для того, чтобы выявить потенциальные вирусные угрозы. Эти действия должны сопровождаться регулярным контролем за использованием земли и внесением принципиальных изменений в систему промышленного фермерства[99]. Такие трансформации неизбежно приведут к столкновению различных интересов, включая гигантские мировые агропромышленные компании, азиатских птицеводческих магнатов, коррумпированных городских чиновников в Южном Китае и нелегким трудом добывающих свой хлеб фермеров из самых бедных регионов мира[100]. Необходимо будет изменить гастрономические привычки граждан с более высокими доходами, которые включают в рацион все больше мяса и молочных продуктов. Неудивительно, что реальные политические изменения пока являются явно недостаточными. Чиновники, курирующие вопросы здравоохранения, предпринимают попытки внедрить контроль над соблюдением санитарных норм на промышленных фермах и навести порядок на рынках, торгующих мясом диких животных. Время от времени издаются местные запреты на отлов диких животных. Однако борьба с более важными источниками распространения инфекционных заболеваний так и не ведется.
На мировом уровне существует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В этой организации тысячи высокопрофессиональных, мотивированных представителей со всего мира, имеющих самые хорошие намерения, ведут упорную борьбу за здоровье людей. Однако в качестве всемирного агентства здравоохранения для быстро развивающегося мира, населенного 7,8 млрд людей, ВОЗ представляет собой что-то вроде потемкинских деревень. ВОЗ приняла программу бюджета на два года (2018–2019), в которой было заложено не более 4,4 млрд долл., то есть меньше, чем бюджет одной больницы какого-нибудь крупного города[101]. Финансирование ВОЗ поступает из самых разных источников, включая национальные правительства, частные благотворительные фонды, Всемирный банк, а также крупные фармацевтические компании. В 2019 г. взнос одного из ее крупнейших доноров – фонда Билла и Мелинды Гейтс (Gates Foundation) – был сопоставим со взносами национальных правительств США и Великобритании и превысил взнос Германии. Влиятельная международная ассоциация Rotary International внесла такую же, если не бóльшую, сумму, что и правительства Китая или Франции. В общей сложности ВОЗ может позволить себе тратить не более 30 центов в год на одного жителя Земли.
Деятельность ВОЗ обусловлена ее зависимостью от доноров. Кампании по ликвидации опасных заболеваний, таких как полиомиелит, являются ее приоритетными задачами. ВОЗ играет ключевую роль в мониторинге появления и исчезновения заболеваний по миру. Это техническая сторона ее деятельности. Кроме того, эта организация осуществляет и чисто политическую миссию. Начиная с первой половины XIX в. международное регулирование в области здравоохранения сталкивалось с двумя главными проблемами. Во-первых, это были опасения западных стран, связанные с угрозой распространения заболеваний с востока на запад, а во-вторых, интересы приверженцев свободной торговли, которые стремились ограничить использование таких обременительных мер контроля над общественным здоровьем, как, например, длительные карантины[102]. За этим стояло их стремление не допустить, чтобы эпидемия стала поводом для прерывания торговли.
Эти два фактора продолжают быть головной болью ВОЗ. Стремясь скоординировать борьбу за здоровье общества в глобальном масштабе, ВОЗ оказывается в плену самых противоречивых чувств. С одной стороны, в этих факторах она видит корень зла в распространении инфекций, с другой стороны, в ее профессиональные обязанности входит своевременное принятие решительных мер. Кроме того, ВОЗ опасается, что она может столкнуться с негативными последствиями, если в результате ее решений будут приняты ненужные и дорогостоящие ограничения на перемещения граждан и на торговлю. После глобальной паники, возникшей в связи с обнаружением чумы в индийском городе Сурат в 1994 г., и после полного запрета на путешествия во время кризиса, вызванного распространением SARS в 2003 г., в адрес ВОЗ поступили требования выработать более сдержанный подход к ограничениям на путешествия[103]. Точно так же после окончания эпидемии свиного гриппа в 2009 г. против ВОЗ была начата шумная кампания. Некоторых из ее чиновников обвиняли в искусственном увеличении объема рынка дорогостоящих вакцин[104]. Принятие крайне непростого решения в пользу той или иной стратегии в условиях нестабильного и ограниченного бюджета грозило катастрофой[105].
Финансирование ВОЗ (объемы донорских вкладов на 30 июня 2020 г., в %)
Источник: WHO, via A. Gross and J. Pickard, “Johnson to Boost W HO Backing with £571m Vaccine Pledge,” Financial Times, September 25, 2020.
Британский экономист лорд Николас Стерн однажды заметил, что изменения климата являются результатом самого серьезного из когда-либо зафиксированных провалов рынка – его неспособности установить цену для издержек, вызванных эмиссией CO2[106]. Если это так, то, как обнаружил коронавирусный кризис 2020 г., неспособность рынка создать адекватную защиту от глобальной пандемии может занять второе место в этом списке провалов. Никаких гарантий не может дать даже глобальная инфраструктура здравоохранения, имеющая лучшее финансирование, а в начале 2020 г. инвестиции в мировую систему здравоохранения были смехотворно малы для того, чтобы справиться с рисками, возникшими в связи с пандемией.
Если мы будем рассуждать о пандемии только с точки зрения «провалов рынка», мы преуменьшим серьезность существующей проблемы. Наши действия в ответ на вызовы пандемии затрагивают не только экономические ценности. На кону стоят базовые проблемы сохранения общественного порядка и политической легитимности.
Если бы правительства могли просто не обращать внимание на эпидемические угрозы, для предотвращения которых их действия были явно недостаточными, или если бы обычная жизнь могла и дальше продолжаться, невзирая на резкий всплеск смертности среди населения, тогда неадекватное инвестирование в здравоохранение имело бы свое циничное оправдание. Но на самом деле одной из основ, на которой строится современное общество, является обещание государства беречь жизни своих граждан. Неслучайно на фронтисписе к «Левиафану» Томаса Гоббса размещен рисунок, на котором изображены чумные доктора[107]. При таком понимании проблемы, для того чтобы современное государство могло позволить опасной пандемии беспрепятственно бушевать в стране, потребовалась бы решительная деполитизация или, как минимум, постепенный процесс «ожесточения» общества. В 2020 г. внедрять в умы граждан идею о том, что COVID-19 – «это просто грипп», оказалось гораздо сложнее, чем могли представить себе защитники этой концепции.
Правительства разных стран и не собирались игнорировать угрозу пандемии. За последние десятилетия по всему миру были созданы специализированные структуры, задача которых состоит в том, чтобы осуществлять подготовку к потенциальным биомедицинским катастрофам[108]. У сотрудников этих структур военное мышление. Они изначально предполагают, что угрозу на самом деле преодолеть нельзя, а вера в то, что инфекционное заболевание можно взять под контроль, – это сказки, которые нам рассказывают оптимистичные чиновники из сферы общественного здравоохранения. Работа специалистов по пандемиям состоит в том, чтобы подготовиться к угрозе, которая никогда полностью не будет устранена. Кроме того, эта угроза постепенно становится более серьезной. Показательно, что начиная с 1990-х гг. «подготовка» стала основной миссией все большего количества таких структур в различных странах мира.
Это крайне серьезное, но при этом весьма неблагодарное занятие. Оно связано с огромными рисками. Все мы легко можем себе представить, что мир охватила вспышка заболевания типа лихорадки Эбола или высококонтагиозного гриппа, сравнимого по уровню летальности с испанкой. Однако в то же время у нас нет никакой готовности произвести коренные структурные изменения в продовольственной цепочке или в транспортной системе, что позволило бы снизить риски или даже инвестировать в создание адекватной системы общественного здравоохранения. Поэтому неудивительно, что в 2019 г. практически все правительства мира обнаружили явно недостаточную степень подготовленности к пандемии[109]. Это классический случай ситуации, которую Ульрих Бек назвал «организованной безответственностью»[110]. А в этом заложен потенциал не только социально-экономического срыва, но также и политического кризиса.
Перед лицом неожиданно возникшей угрозы для жизни публичные органы власти не могут оставаться безучастными. Они всячески пытаются так или иначе отреагировать на появление нового заболевания. И при этом их реакция может оказаться какой угодно. В самый разгар эпидемии губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сделал смелое заявление: «Сколько стоит человеческая жизнь? Если вы спросите меня, какова цена человеческой жизни, то я скажу, что человеческая жизнь бесценна»[111]. Несмотря на очевидную нереалистичность этих слов, никто не захотел с ним спорить.
В публичном дискурсе – в отличие от реальной практики повседневной жизни, где реально существуют шансы на жизнь и шансы на смерть, – жизнь и смерть не соизмеряются с другими приоритетами. Если бы нам нужно было ранжировать жизнь и смерть, то они попали бы в разные категории. Перспектива смерти любого человека, не говоря уже о массовых смертях, неизбежно прерывает общественные или политические дебаты. Такой шок, как пандемия, подталкивает нас к действиям. Однако даже нормальная, еще доэпидемическая матрица жизни и смерти политически нестабильна. Поскольку эта матрица отражает существующее в обществе скандальное неравенство, обычная смерть воспринимается как нечто привычное – до тех пор, пока она не требует оправдания. Таким образом, то, что пандемия совпала с широкомасштабными политическими волнениями, связанными с движением Black Lives Matter, которые продолжались все лето 2020 г., было совершенно логичным. Как ярко продемонстрировали эти события, даже одна-единственная жизнь, отнятая незаконным способом, может спровоцировать мощное политическое движение. Если смерть становится актом мученичества, она приобретает огромную силу.
Движение Black Lives Matter подпитывалось существованием глубокой исторической несправедливости. Оно увязало настоящее с прошлым и продемонстрировало связь убийства, произошедшего 25 мая 2020 г., с предшествующими веками несправедливости. Это движение оказалось таким сильным еще и потому, что в контексте вышедшей из-под контроля пандемии гнев и возмущение по поводу прошлого были перемешаны со страхом будущего[112]