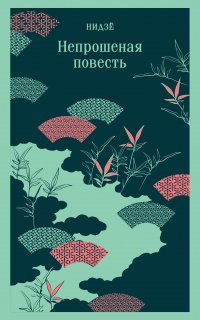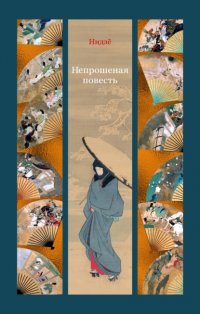
Читать онлайн Непрошеная повесть бесплатно
- Все книги автора: Нидзё
© А. А. Долин, перевод стихотворений, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024 Издательство Азбука®
Предисловие
У этой книги удивительная судьба. Созданная в самом начале XIV столетия придворной дамой по имени Нидзё, она пролежала в забвении без малого семь веков и только в 1940 г. была случайно обнаружена в недрах дворцового книгохранилища среди старинных рукописей, не имеющих отношения к изящной словесности. Это был список, изготовленный неизвестным переписчиком XVII столетия с утраченного оригинала. Ценность находки не вызывала сомнений, но рукописи снова не повезло – обстановка в Японии начала 1940-х годов не располагала к публикациям такого рода, несмотря на всю их художественную и познавательную значимость. Четвертый год шли военные действия в Китае, Япония готовилась к вступлению во Вторую мировую войну. Стержнем милитаристской идеологии был культ императора, принимавший все более реакционные формы. Повесть Нидзё, правдиво рисующая быт и нравы, существовавшие, пусть даже в далеком прошлом, при дворе японских императоров, «божественных предков», звучала бы в тех условиях недопустимым диссонансом. Так случилось, что «Непрошеная повесть» увидела свет лишь сравнительно недавно, в 60-х годах XX в. Появление этой книги стало сенсацией в литературных кругах Японии, привлекло внимание японских и зарубежных ученых, а со временем и широких читательских кругов. Ныне автобиографическая повесть Нидзё заняла достойное место в классическом наследии японской литературы, приоткрыла новые, яркие грани самобытной культуры японского средневековья.
Своеобразной была обстановка в Японии второй половины XIII столетия, на которую приходятся годы жизни Нидзё (1258–?). Прошло уже больше полувека с тех пор, как после долгой кровопролитной междоусобицы власть в стране перешла от старинной родовой аристократии во главе с императорским домом к сословию воинов-самураев. На востоке страны, в селении Камакура, возникло новое правительство самураев, так называемое правительство Полевой Ставки (Бакуфу). Новая власть, в лице могущественных военно-феодальных домов Минамото, а затем Ходзё, конфисковала бóльшую часть земельных владений, принадлежавших императорскому дому и многим аристократическим семьям, тем самым подорвав экономическую и политическую основу господства аристократии. Разумеется, со стороны былых властителей-императоров предпринимались попытки сопротивления, даже вооруженного (Смута годов Сёкю, 1219–1222), но правительство самураев без особых усилий справлялось с этими заговорами, не подкрепленными сколько-нибудь реальной силой, казня зачинщиков и бесцеремонно отправляя в ссылку императоров.
Ко времени действия «Непрошеной повести», т. е. в конце XIII в., о сопротивлении уже не было речи. Во всех важнейших пунктах страны сидели наместники-самураи, зорко наблюдавшие не только за тем, чтобы рис – основа богатства в ту эпоху – неукоснительно поставлялся властям в Камакуре, но и за малейшими проявлениями неподчинения режиму. В столице, резиденции императоров, было даже двое наместников, следивших за императорами и их окружением, а заодно и друг за другом[1]. Правительство Полевой Ставки полностью контролировало жизнь двора, ему принадлежало решающее слово даже в таком вопросе, как престолонаследие.
Новые правители, самураи, не уничтожили институт монархии; напротив, они его полностью сохранили, продолжая оказывать внешние почести императорскому дому. Больше того, заимствовав от былого режима систему регентства, теперь даже самого сёгуна, этого «Великого полководца, покоряющего варваров», назначали из числа малолетних принцев, отпрысков императорского семейства, а фактический глава нового режима (теперь он именовался не регентом, а правителем – сиккэн) вступал в должность лишь после соответствующего императорского указа. Излишне говорить, сколь фиктивный характер носили эти якобы высшие императорские прерогативы. Система регентства сохранялась и при дворе. Трон занимал ребенок (иногда годовалый!) или подросток, а его отец именовался «прежним» государем или, в случае принятия монашеского сана, государем-монахом. Такой порядок приводил к тому, что одновременно с «царствующим» императором имелось еще и несколько «прежних»[2]. У каждого из них был свой двор, свой штат придворных и т. п.
Междоусобные войны конца XII – начала XIII в. разорили и опустошили некогда пышную столицу Хэйан (современный г. Киото). Грандиозный дворцовый комплекс сгорел дотла. Постоянной императорской резиденции не существовало. Императоры жили в усадьбах знати, главным образом своей родни по женской линии. Так, часто упоминаемый в повести дворец Томикодзи, где с детства жила и до двадцати шести лет служила Нидзё, фактически принадлежал знатному семейству Сайондзи. Монополия брачных союзов с императорским домом принадлежала этой семье, потомкам некогда могущественного рода Фудзивара. «Законных» супруг обычно бывало две, реже три. Обе нередко доводились друг другу родными или двоюродными сестрами, а своему супругу, императору, – двоюродными сестрами или тетками[3]. Браки между кровной родней были обычным делом и заключались, как правило, в раннем возрасте и только по политическим соображениям. При средневековом японском дворе не существовало гарема, зато процветал институт наложниц.
Знатным мужчинам и женщинам, служившим при дворе, приходилось самим содержать себя, своих слуг и служанок, иметь свой выезд, они должны были заботиться о подобающих положению нарядах. Средств, поступавших в императорскую казну с санкции самурайского правительства, отнюдь не хватило бы для содержания пышной свиты. А свита по-прежнему была пышной, сохранялась многоступенчатая иерархия придворных званий и рангов, соблюдался сложный придворный ритуал, традиционные, освященные веками церемонии, празднества, всевозможные развлечения. Это был причудливый мир, где внешне все как будто бы осталось без изменений. Но только внешне – по существу же жизнь аристократии, всего императорского двора была своеобразным вращением на холостом ходу, ибо безвозвратно канул в прошлое былой порядок, когда власть в феодальном японском государстве принадлежала аристократии.
Разумеется, богатая культурная традиция, сложившаяся в аристократической среде в минувшие века, не могла погибнуть в одночасье. При дворе продолжались занятия искусством – музыкой, рисованием, литературой, главным образом поэзией, но также и прозой. Об этом убедительно свидетельствует «Непрошеная повесть» Нидзё, придворной дамы и фаворитки «прежнего» императора Го-Фукакусы.
Проза предшествующих веков была разнообразной не только по содержанию, но и по форме, знала практически все главные жанры: рассказ (новелла), эссе, повесть и даже роман – достаточно вспомнить знаменитую «Повесть о Гэндзи» («Гэндзи-моногатари», начало XI в.), монументальное произведение Мурасаки Сикибу, надолго ставшее образцом для подражания и в литературе, и даже в быту.
Уникальной особенностью классической средневековой японской прозы[4] может считаться ее лирический характер; проникновенное раскрытие духовной жизни, чувств и переживаний, человека как главная задача повествования – явление, не имеющее аналогов в мировой средневековой литературе. Лирический характер этой прозы особенно проявился в жанре, по традиции именуемом японцами дневниками (никки). Повествование строилось в форме поденных записей, отсюда и название, хотя по существу это были повести разнообразного содержания, чаще всего автобиографические. Это мог быть рассказ о путешествии или об эпизоде из жизни автора (история любви, например), а иногда и история целой жизни. К жанру дневников восходит и «Непрошеная повесть» Нидзё, написана она в русле давней литературной традиции. Перед нами не дневник в современном понятии этого слова. Правда, повесть строится по хронологическому принципу, но очевидно, что создана она, если можно так выразиться, «в один присест», на склоне жизни, как воспоминание о пережитом. Начитанная, образованная женщина, Нидзё строго соблюдает выработанный веками литературный канон, прибегает к аллюзиям и прямому цитированию из знаменитых сочинений не только Японии, но и Китая, обильно уснащает повествование стихами, наглядно показывая, какую важную, можно сказать, повседневно необходимую роль играла поэзия в той среде, в которой протекала жизнь Нидзё. Широко используются так называемые формульные слова: «рукава, орошаемые потоками слез» – для выражения печали, «жизнь, недолговечная, как роса на траве» – для передачи быстротечности, эфемерности всего сущего.
В текст повести не только вплетаются образы или фразы, заимствованные из классической литературы; нетрудно заметить, что многие эпизоды, как они поданы здесь, основаны на чисто литературных источниках, а не подсказаны личным опытом автора. Перепевом традиционных мотивов являются, например, сцены прощания с возлюбленным при свете побледневшей луны на предутреннем небе или сетования по поводу пения птиц, слишком рано возвестивших наступление утра, т. е. разлуку, – мотив, перешедший в литературу из древнейших народных песен. Заимствование поэтических ситуаций и образов – это почти непременное правило средневекового «литературного этикета» – для своего времени, безусловно, было весьма эффективным приемом. Современникам Нидзё, людям той среды, в которой она жила, были понятны многочисленные аллюзии, они расширяли поэтический диапазон текста, усиливали его эмоциональное звучание.
Как и другие средневековые авторы, Нидзё не стремится к созданию индивидуальных характеров. «Человек был в центре внимания искусства феодализма, – пишет акад. Д. С. Лихачев, – но человек не сам по себе, а в качестве представителя определенной среды, определенной ступени в лестнице феодальных отношений»[5]. Этим объясняются пространные описания в повести нарядов, мужских и женских, при почти полном отсутствии внимания к изображению внешности персонажей. И дело тут не в тщеславии или чисто женском интересе – наряд наглядно и зримо определял место человека в социальной системе той эпохи. Даже описывая одну из самых скорбных минут своей жизни, когда слуга принес ей предсмертное послание ее возлюбленного, Нидзё не забывает сообщить, во что и как был одет этот слуга.
Означает ли все это, что повесть Нидзё – произведение эпигонское?
Нет, продолжая формально линию «высокой» литературы, повесть Нидзё явно отмечена новизной в сравнении с классическими образцами прошлого. Бросаются в глаза динамизм повествования, стремительное развертывание событий, короткие, полные экспрессии фразы, обилие прямой речи, диалогов, особенно в первых трех главах повести.
Главной, неформальной особенностью повести Нидзё, дающей право говорить не только о ее оригинальности, но и о трансформации веками устоявшегося литературного жанра дневников на рубеже XIII–XIV вв., является широта отображения современной автору жизни. Классические повести-дневники, созданные в так называемую эпоху Хэйан (IX–XII вв.), всегда носили сугубо лирический характер, изображали только переживания автора, его личную жизнь и то, что имело отношение к его судьбе. Нидзё, рассказывая историю своей жизни, включает в повествование не только многочисленные предания и легенды (преимущественно религиозного, буддийского содержания), но и сюжеты, выразительно рисующие быт, нравы и даже политические события средневековой Японии: изгнание очередного сёгуна, принца императорской крови, оказавшегося неугодным правительству самураев в Камакуре, соперничество родных братьев – «прежнего» императора Го-Фукакусы и его младшего брата, «царствующего», а затем «прежнего» императора Камэямы, убийство самурайского наместника в столице, огорчения «прежнего» государя Го-Фукакусы по поводу назначения наследника и «благополучное» решение этого вопроса самурайским правительством. Правда, о последнем событии сказано почти вскользь, но само упоминание о делах подобного рода в повести, написанной женщиной, можно считать явным нарушением былых литературных канонов. Нидзё считает возможным с сочувствием упомянуть о тяжелой доле простых людей. Она догадывается о горькой жизни так называемых дев веселья, пишет о жестоком обращении самурая с подневольными слугами – темы, немыслимые в прежней литературе. Сочетая традиционные и новаторские черты, повесть Нидзё будто перебрасывает мост от классической литературы эпохи Хэйан к литературе развитого средневековья.
Читатель не сможет не заметить, что «Непрошеная повесть» распадается как бы на две половины. Первая посвящена описанию светской жизни Нидзё, во второй (свитки четвертый и пятый) она предстает перед нами спустя четыре года уже буддийской монахиней, совсем одинокой, в изношенной черной рясе, а в заключительном, пятом свитке – еще через девять лет[6], когда ей уже исполнился сорок один год.
Монашество – обычный финал многих женских судеб в эпоху феодализма. И все-таки можно сказать, что жизнь Нидзё сложилась особенно несчастливо. Судьба дважды, и притом в самом начале жизненного пути, нанесла ей удар, в значительной мере определив ее дальнейшую участь. Ей было пятнадцать лет, когда умер ее отец, и немногим более шестнадцати, когда умер ребенок, рожденный ею от императора. Останься маленький принц в живых, судьба Нидзё, быть может, не была бы такой трагичной. Смерть императорского отпрыска развеяла мечты о личной карьере, отняла надежду на восстановление былой славы ее знатного, но захудалого рода, а смерть отца означала утрату не только духовной, но и материальной опоры в жизни. Кто только не заботился о Нидзё! Ее поддерживали все понемножку – и родичи (дед, дядя), и любовник Сайондзи, и сам «прежний» император Го-Фукакуса, и его брат, тоже «прежний» император Камэяма, и даже старый министр Коноэ. Женщина, не имевшая поддержки влиятельной семьи, была совсем беспомощна в ту эпоху. Нидзё поневоле пришлось быть послушной чужим страстям и мимолетным капризам.
И все же, несмотря на все испытания, Нидзё не пала духом. На страницах ее повести возникает образ женщины, наделенной природным умом, разнообразными дарованиями, тонкой душой. Конечно, она была порождена своей средой, обременена всеми ее предрассудками, превыше всего ценила благородное происхождение, изысканные манеры, именовала самураев «восточными дикарями», с негодованием отмечала их невежество и жестокость. Но вместе с тем какая удивительная энергия, какое настойчивое, целеустремленное желание вырваться из порочного круга дворцовой жизни! Требовалось немало мужества, чтобы в конце концов это желание осуществилось. Такой и остается она в памяти – нищая монахиня с непокорной душой…
Перевод сделан по книге «Непрошеная повесть» (комментарий и послесловие Хидэити Фукуды, серия «Собрание классической японской литературы», выпуск 20. Токио: изд-во «Синтёся», 1980).
Необходимо отметить, что ряд мест в рукописи XVII в. (единственном сохранившемся экземпляре мемуаров Нидзё) вызывает разноречивые толкования японских комментаторов. В этих случаях мы придерживались вариантов, представлявшихся наиболее убедительными, в основном предложенных проф. Хидэити Фукудой в указанном выше издании.
И. Львова
Непрошеная повесть
Свиток первый
Миновала ночь, наступил новый, 8-й год Бунъэй1, и, как только рассеялась туманная дымка праздничного новогоднего утра, дамы, служившие во дворце Томикодзи, словно только и ждали наступления этого счастливого часа, вышли в зал для дежурных, соперничая друг с другом блеском нарядов. Я тоже вышла и села рядом со всеми. Помню, в то утро я надела семислойное нижнее одеяние – цвет изменялся от бледно-розового к темно-красному, сверху – длинное, пурпурного цвета косодэ2 и еще одно – светло-зеленое, а поверх всего – красное карагину, парадную накидку с рукавами. Косодэ было заткано узором, изображавшим ветви цветущей сливы над изгородью в китайском стиле… Обряд подношения праздничной чарки исполнял мой отец, дайнагон3, специально приехавший для этого во дворец. Когда торжественная часть церемонии закончилась, государь Го-Фукакуса4 удалился в свои покои, позвал отца, пригласили также женщин, и пошел пир горой, так что государь совсем захмелел. Мой отец, дайнагон, во время торжества по обычаю трижды подносивший государю саке, теперь предложил:
– За этой праздничной трапезой выпьем трижды три раза!
– Нет, на сей раз поступим иначе, – отвечал государь, – выпьем трижды по девять раз, пусть будет двадцать семь чарок!
Когда все уже окончательно опьянели, он пожаловал отцу чарку со своего стола и сказал:
– Пусть дикий гусь, которого я ждал так долго и так терпеливо, этой весной прилетит наконец в мой дом!
Отец с низким поклоном вернул государю полную чарку и удалился, кланяясь с особым почтением.
Я видела, прежде чем он ушел, государь что-то тихонько сказал ему, но откуда мне было знать, о чем они говорили?
Праздник закончился, я вернулась к себе и увидела письмо. «Еще вчера я не решался писать тебе, но сегодня наконец открою сердце…» – так начиналось послание. Тут же лежал подарок – восемь тонких, прозрачных нижних одеяний, постепенно переходящих от алого к белому цвету, темно-красное верхнее одеяние, еще одно, светло-зеленое, парадная накидка, шаровары-хакама, три косодэ одной расцветки, два косодэ – другой. Все завернуто в кусок ткани. Вот неожиданность! К рукаву одной из одежд был прикреплен тонкий лист бумаги со стихами:
- Если нам не дано,
- как птицам, бок о бок парящим,
- крылья соединить —
- пусть хотя бы наряд журавлиный
- о любви напомнит порою!
Нужно было быть вовсе бесчувственной, чтобы оставить без ответа такой подарок, продуманный столь тщательно и любовно… Но я все-таки отправила обратно весь сверток и написала:
- Ах, пристало ли мне
- в златотканые платья рядиться,
- доверяясь любви?
- Как бы после в слезах горючих
- не пришлось омыть те одежды…
Но если бы ваша любовь и впрямь была вечной, я с радостью носила бы эти одежды…
Около полуночи, той же ночью, кто-то вдруг постучал в калитку. Девочка-прислужница, ничего не подозревая, отворила калитку. «Какой-то человек подал мне это и тотчас же исчез!» – сказала она, протягивая мне сверток. Оказалось, это тот самый сверток, что я отослала, и вдобавок – стихотворение:
- Если клятвы любви
- будут в сердце твоем неизменны,
- эти платья надев,
- успокойся и в час полночный
- без меня почивай на ложе…
На сей раз я уже не знала, куда и кому возвращать эти наряды. Пришлось оставить их у себя.
Я надела эти одежды в третий день нового года, когда стало известно, что к нам, во дворец Томикодзи, пожалует государь-монах Го-Сага5, отец нашего государя.
– И цвет, и блеск ткани на диво хороши! Это государь Го-Фукакуса подарил тебе такой наряд? – спросил мой отец, дайнагон. Я невольно смутилась и ответила самым небрежным тоном:
– Нет, это подарок бабушки, госпожи Китаямы…
Вечером пятнадцатого дня из дома за мной прислали людей. Я была недовольна – что за спешка? – но отказаться не посмела, пришлось поехать. Усадьба удивила меня необычно праздничным видом. Все убранство – ширмы, занавеси, циновки – одно к одному нарядное, пышное. Но я подумала, что, вероятно, все это устроено по случаю наступления Нового года. Этот день прошел без каких-либо особых событий.
Назавтра с самого утра поднялась суматоха – совещались об угощении, обсуждали, где разместить кареты вельмож, куда поставить верховых коней…
– В чем дело? – спросила я, и отец, улыбнувшись, ответил:
– Видишь ли, по правде сказать, сегодня вечером государь Го-Фукакуса осчастливит своим посещением нашу усадьбу по случаю Перемены места6. Оттого и убрали все, как подобает. К тому же сейчас как раз начало нового года… А тебя я велел позвать, чтобы прислуживать государю.
– Странно, ведь до дня равноденствия еще далеко, с чего это вздумалось государю совершать Перемену места? – сказала я. Тут все засмеялись: «Да она еще совершеннейшее дитя!»
Но я все еще не понимала, в чем дело, а меж тем в моей спальне поставили роскошные ширмы, небольшую переносную перегородку – все нарядное, новое.
– Ой, разве в мою комнату пожалуют гости? Ее так разукрасили!.. – сказала я, но все только загадочно улыбались, и никто не стал мне ничего объяснять.
С наступлением вечера мне велели надеть белое кимоно и темно-пурпурные шаровары-хакама. Поставили дорогие ароматические курения, в доме стало как-то по-особому торжественно, празднично.
Когда наступило время зажечь светильники, моя мачеха принесла мне ослепительно прекрасное косодэ.
– Вот, надень! – сказала она.
А немного погодя пришел отец и, развешивая на подставке одеяние для государя, сказал:
– Не ложись спать до приезда государя, будешь ему прислуживать. И помни – женщина должна быть уступчивой, мягкой, послушно повиноваться всему, что бы ни приказали!
Так говорил он, но тогда я еще вовсе не понимала, что означали его наставления. Я ощутила только какое-то смутное недовольство, прилегла возле ящика с древесным углем для жаровни и сама не заметила, как уснула. Что было потом, не помню. Я не знала даже, что тем временем государь уже прибыл. Отец поспешил встретить его, предложил угощение, а я все это время спала безмятежно, как младенец. Кругом суетились, шумели: «Разбудите же Нидзё!» – но государь сказал:
– Ничего, ничего. Пусть спит, оставьте ее! – И никто не решился меня трогать. А я, накрывшись с головой одеянием, ни о чем не ведая, все спала, прислонившись к ящику с углем, задвинутому за перегородку у входа в мои покои.
Внезапно я открыла глаза – кругом царил полумрак; наверное, опустили занавеси, светильник почти угас, а рядом со мной, в глубине комнаты, как ни в чем не бывало расположился какой-то человек. «Это еще что такое!» – подумала я, мигом вскочила и хотела уйти, как вдруг слышу:
– Проснись же! Я давным-давно полюбил тебя, когда ты была еще малым ребенком, и долгих четырнадцать лет ждал этого часа… – И он принялся в самых изысканных выражениях говорить мне о любви, у меня не хватило бы слов, чтобы передать все эти речи, но я слушать ничего не хотела и только плакала в три ручья, даже рукава его одежды и те вымочила слезами.
– Долгие годы я скрывал свои чувства, – сказал государь, не зная, как меня успокоить, и, конечно же, не пытаясь прибегнуть к силе. – И вот приехал, надеясь, что хоть теперь представится случай поведать тебе о моей любви. Не стоит так холодно ко мне относиться, все равно все уже об этом узнали! Теперь ни к чему твои слезы!
Вот оно что! Стало быть, он хочет удостоить меня своей монаршей любви не втайне ото всех, всем уже об этом известно! Стало быть, завтра, когда эта ночь растает, словно призрачный сон, мне придется изведать такую муку! – я заранее страдала от этой мысли. Сейчас я сама дивлюсь: неужели, совсем не зная, что ждет меня в будущем, я уже предчувствовала грядущие горести?
– Почему никто не предупредил меня, почему не велели отцу моему, дайнагону, откровенно поговорить со мной? – сокрушалась и плакала я. – Теперь я не смогу смотреть людям в глаза!.. – И государь, очевидно решив, что я слишком уж по-детски наивна, так и не смог ничего от меня добиться. Вместе с тем встать и уйти ему, по-видимому, тоже было неудобно, он продолжал лежать рядом, и это было мне нестерпимо. За всю ночь я не промолвила ни единого слова в ответ на все его речи. Но вот уже занялась заря, послышался чей-то голос: «Разве государь не изволит вернуться сегодня утром?»
– Да, ничего не скажешь, приятное возвращение после отрадной встречи! – как бы про себя проговорил государь. – Признаться, никак не ожидал встретить столь нелюбезное обращение! Как видно, наша давняя дружба для тебя ничего не значит… А ведь мы подружились еще в ту пору, когда ты причесывалась по-детски… Тебе бы следовало вести себя так, чтобы со стороны все выглядело пристойно. Если ты будешь все время прятаться и молчать, что подумают люди? – то упрекал он меня с обидой в голосе, то всячески утешал, но я по-прежнему не произносила ни слова.
– Беда с тобой, право! – сказал государь, встал, надел кафтан и другие одежды и приказал подавать карету. Слышно было, как отец спрашивал, изволит ли государь откушать завтрак, и что-то еще, но мне уже казалось, что это не прежний государь, а какой-то новый, совсем другой человек, с которым я уже не могу говорить так же просто, как раньше, и мне было до слез жаль самое себя, ту, прежнюю, какой я была до вчерашнего дня, когда еще ничего этого не знала.
Я слышала, как государь отбыл, но по-прежнему лежала, не двигаясь, натянув одежды на голову, и была невольно поражена, когда очень скоро от государя доставили Утреннее послание7. Пришли мои мачеха и монахиня-бабушка.
– Что с тобой? Отчего не встаешь? – спрашивали они, и мне было мучительно слышать эти вопросы.
– Мне нездоровится, еще с вечера… – ответила я, но, как видно, они посчитали это обычным недомоганием после первой брачной ночи, и это тоже было мне досадно до слез. Все носились с письмом государя, волновались и суетились, а я не желала даже взглянуть на его послание. Человек, доставивший письмо, в растерянности спрашивал:
– Что такое?.. В чем дело?.. – И настойчиво приставал к отцу. – Покажите же послание государя госпоже Нидзё!
Мне казалось прямо невыносимой вся эта суматоха.
– Кажется, она не совсем здорова… – отвечал отец и вошел ко мне.
– Все встревожены из-за письма государя, а ты что же?! Уж не собираешься ли ты, чего доброго, вовсе оставить без ответа его послание? – сказал он, и слышно было, как он шуршит бумагой, разворачивая письмо. На тонком листе лилового цвета было написано:
- За долгие годы
- мне, право, ты стала близка.
- Пускай в изголовье
- рукава твои не лежали —
- не забыть мне их аромата!
«Наша барышня совсем не похожа на нынешних молодых девиц!» – восклицали мои домашние, прочитав это стихотворение. Я же не знала, как мне теперь вести себя, и по-прежнему не поднималась с постели, а родные беспокоились: «Не может же кто-то другой написать за нее ответ, это ни на что не похоже!» В конце концов посланцу вручили только подарки и отпустили, сказав:
– Она совершеннейшее дитя, все еще как будто не в духе и потому не видела письма государя…
А днем пришло письмо от него, от Санэканэ Сайондзи8, хотя я вовсе этого не ждала.
- О, если к другому
- склонишься ты сердцем, то знай:
- в тоске безутешной
- я, должно быть, погибну скоро,
- словно дым на ветру, растаю…
Дальше было написано: «До сих пор я жил надеждой когда-нибудь с тобой соединиться, но теперь о чем мне мечтать, ради чего жить на свете?» Письмо было написано на тонком синеватом листе бумаги, на котором цветной вязью была оттиснута старинная танка:
- Уйдите, о тучи,
- с вершины Синобу-горы,
- с вершины Терпенья —
- из души моей омраченной
- без следа исчезните, тучи!
Его собственное стихотворение было написано поверх этих стихов.
Я оторвала от бумаги кусочек, как раз тот, на котором стояли слова «Синобу-гора», и написала:
- Ах, ты ведь не знаешь,
- что в сердце творится моем!
- Объята смятеньем,
- я другому не покорилась,
- ускользнула, как дым вечерний.
Я и сама не могла бы сказать, как я решилась отправить ему такой ответ.
Так прошел день, я не притронулась даже к лекарственному настою. «Уж и впрямь, не захворала ли она по-настоящему?» – говорили домашние. Но когда день померк, раздался голос: «Поезд его величества!» – и не успела я подумать, что же теперь случится, как государь, открыв раздвижные перегородки, как ни в чем не бывало вошел ко мне с самым дружелюбным, обычным видом.
– Говорят, ты нездорова? Что с тобой? – спросил он, но я была не в силах ответить и продолжала лежать, пряча лицо. Государь прилег рядом, стал ласково меня уговаривать, спрашивать. Мне хотелось сказать ему: «Хорошо, я согласна, если только все, что вы говорите, правда…», я уже готова была вымолвить эти слова, но в смятении подумала: «Ведь он будет так страдать, узнав, что я всецело предалась государю…» – и потому не сказала ни слова.
В эту ночь государь был со мной очень груб, мои тонкие одежды совсем измялись, и в конце концов все свершилось по его воле. А меж тем постепенно стало светать, я смотрела с горечью даже на ясный месяц – мне хотелось бы спрятать луну за тучи! – но, увы, это тоже было не в моей власти…
- Увы, против воли
- пришлось распустить мне шнурки
- исподнего платья —
- и каким повлечет потоком
- о бесчестье славу дурную?.. —
неотступно думала я. Даже ныне я удивляюсь, что в такие минуты была способна так здраво мыслить…
Государь всячески утешал меня.
– В нашем мире любовный союз складывается по-разному, – говорил он, – но наша с тобой связь никогда не прервется… Пусть мы не сможем все ночи проводить вместе, сердце мое все равно будет всегда принадлежать одной тебе безраздельно!
Ночь, короткая, как сон мимолетный, посветлела, ударил рассветный колокол.
– Скоро будет совсем светло… Не стоит смущать людей, оставаясь у тебя слишком долго… – сказал государь, встал и, выходя, промолвил: – Ты, конечно, не слишком опечалена расставанием, но все-таки встань, хотя бы проводи меня на прощание!..
Я и сама подумала, что и впрямь больше нельзя вести себя так неприветливо, встала и вышла, набросив только легкое одеяние поверх моего ночного платья, насквозь промокшего от слез, потому что я плакала всю ночь напролет.
Полная луна клонилась к западу, на восточной стороне неба протянулись полосками облака. Государь был в теплой одежде зеленого цвета на алой подкладке, в сасинуки9 с гербами, сверху он набросил светло-серое одеяние. Странное дело, в это утро его облик почему-то особенно ярко запечатлелся в моей памяти… «Так вот, стало быть, каков союз женщины и мужчины…» – думала я.
Дайнагон Дзэнсёдзи, мой дядя, в светло-голубом охотничьем кафтане, подал карету. Из числа придворных государя сопровождал только вельможа Тамэката. Остальная свита состояла из нескольких стражников-самураев да низших слуг. Когда подали карету, громко запели птицы, как будто нарочно дожидались этой минуты, чтобы возвестить наступление утра; в ближнем храме богини Каннон10 ударили в колокол, мне казалось – он звучит совсем рядом, на душе было невыразимо грустно. «Из-за любви государя промокли от слез рукава…» – вспомнились мне строчки «Повести о Гэндзи»11. Наверное, там написано именно о таких чувствах…
– Проводи меня, ведь мне так грустно расставаться с тобой! – все еще не отъезжая, позвал меня государь. Возможно, он понимал, что творится в моей душе, но я, вся во власти смятенных чувств, продолжала стоять не двигаясь, а меж тем с каждой минутой становилось светлей, и месяц, сиявший на безоблачном небе, почти совсем побелел. Внезапно государь обнял меня, подхватил на руки, посадил в карету, и она тут же тронулась с места. Точь-в-точь как в старинном романе, так неожиданно… «Что со мной будет?» – думала я.
- Уж звон колокольный
- вещает, что близок рассвет.
- Лишь горечь осталась
- от печальных снов этой ночи,
- проведенной в слезах и пенях…
Пока мы ехали, государь твердил мне о любви, обещал любить меня вечно, как будто впервые в жизни похищал женщину. Все это звучало прекрасно, но, по правде сказать, чем дальше мы ехали, тем тяжелее становилось у меня на душе, и, кроме слез, я ничем не могла ему ответить. Наконец мы прибыли во дворец на улице Томикодзи.
Карета въехала в главные ворота Углового дворца.
– Нидзё – совсем еще неразумный ребенок, – выходя из кареты, сказал государь дайнагону Дзэнсёдзи. – Мне было жаль ее покидать, и я привез ее с собой. Хотелось бы, чтобы некоторое время государыня об этом не знала. А ты о ней позаботься! – И с этими словами он удалился в свои покои.
Дворец, к которому я привыкла с младенческих лет, теперь показался мне чужим, незнакомым, мне было страшно, стыдно встречаться с людьми, не хотелось выходить из кареты, я неотступно думала, что со мной теперь будет, а слезы все текли и текли. Внезапно до меня донесся голос отца, – стало быть, он приехал следом за нами, значит все-таки тревожится обо мне… Я была глубоко тронута отцовской заботой. Дайнагон Дзэнсёдзи передал отцу слова государя, но отец сказал:
– Нет, напротив, никакого особого обращения не нужно! Пусть все остается по-старому, пусть она прислуживает ему, как до сих пор. Чем больше делать из всего тайну, тем скорее пойдут слухи и пересуды! – Затем послышались шаги: отец вышел.
«В самом деле, отец прав… Что меня теперь ждет?» – подумала я, и снова горестно сжалось сердце, я места себе не находила от снедавшей меня тревоги, но в это время ко мне опять вошел государь, снова зазвучали слова о вечной, неугасимой любви, и мало-помалу я успокоилась. «Такова уж, видно, моя судьба; наверное, этот союз уготован мне еще в прошлой жизни12, а стало быть, неизбежен…» – решила я.
Так прошло не менее десяти дней. Государь проводил со мной ночь за ночью, и мне самой было странно, отчего в моем сердце все еще живет образ того, кто написал мне:
- О, если к другому
- склонишься ты сердцем, то знай…
Мой отец, дайнагон, считал, что теперь мне не следует жить во дворце, как раньше, и я в конце концов оставила придворную службу. Мне было там грустно, я не смела по-прежнему открыто смотреть людям в лицо и, под предлогом болезни, возвратилась домой. Вскоре от государя пришло ласковое письмо.
«Я привык, чтобы ты всегда была рядом, – писал он, – мне кажется, прошла уже целая вечность с тех пор, как мы расстались. Поскорей возвращайся!» Письмо заканчивалось стихотворением:
- Вспоминая меня,
- ты в разлуке не станешь томиться.
- Рассказать бы тебе,
- сколько слез я пролил украдкой,
- рукава одежд увлажняя!..
Еще недавно письмо государя внушало мне отвращение, а теперь я с нетерпением ждала от него послания, тотчас прочитала, и сердце забилось радостью. Я ответила:
- Ах, едва ли по мне
- слезы вы проливаете ночью —
- но при вести такой
- я сама слезами печали
- увлажнила рукав атласный…
Вскоре после этого я вернулась во дворец, теперь уже без особых волнений, но на душе было тревожно. И в самом деле – очень скоро злые языки принялись судачить на мой счет:
– Дайнагон Масатада недаром носился со своей Нидзё, недаром дорожил ею, словно невесть какой драгоценностью… Прислал ее во дворец с такими почестями, будто она – младшая государыня…13 Как он о ней заботится!
Злобные намеки сделали свое дело: государыня с каждым днем относилась ко мне все хуже, а у меня на душе становилось все тревожней и холоднее. Моя связь с государем продолжалась, он по-прежнему относился ко мне с любовью, но мне было грустно, когда он долго не звал меня. Конечно, я не могла пожаловаться, как многие другие женщины во дворце, что государь вовсе забыл меня, он часто проводил со мной ночи, но всякий раз, когда мне приходилось провожать к нему какую-нибудь даму из свиты, я с болью сознавала, что, однажды вступив на путь любви, нужно быть готовой к страданиям. И все-таки, думалось мне, кто знает, – может быть, когда-нибудь я буду вспоминать это время, полное тяжких переживаний, как самые счастливые дни моей жизни…
- По прошествии лет
- на тяготы бренного мира
- я иначе взгляну —
- ведь недаром дороги сердцу
- все печали, все горести жизни…
Так жила я, дни сменялись ночами, а меж тем уже наступила осень.
Государыне предстояло разрешиться от бремени в восьмую луну. В ожидании родов она переехала в Угловой павильон. Во дворце все очень тревожились, ибо государыня была уже не так молода и к тому же предыдущие роды проходили у нее тяжело, неудачно. Поэтому служили молебны, непрерывно возносили молитвы, общеизвестные и самые сокровенные; молились целителю Якуси во всех его семи ипостасях, богу Фугэну, продлевающему жизнь, защитнику веры Конгододзи, богу Айдзэну и Пяти Светлым богам – Фудо, Гундари, Конгояся, Годзандзэ и Дайитоку. По заведенному обычаю молебны богу Фудо совершались на средства края Овари, но на сей раз мой отец, правитель Овари, пожелал проявить особое усердие и взял на себя также устройство молебнов богу Конгододзи. Для заклятия злых духов во дворец пригласили праведного монаха из храма Вечная Обитель – Дзёдзюдзи.
Двадцатого числа поднялся переполох – начались роды. Мы ждали, что ребенок вот-вот родится, но миновал день, другой, третий… Не описать всеобщего беспокойства! Тут сообщили, что состояние роженицы, непонятно почему, внезапно резко ухудшилось. Доложили об этом государю, он распорядился, чтобы заклинатель творил молитвы в непосредственной близости от роженицы, как можно ближе к ней, отделенной только переносным занавесом. Кроме него, к государыне призвали праведного священника из храма Добра и Мира, Ниннадзи, он расположился совсем рядом, с внутренней стороны занавеса.
– Боюсь, она совсем безнадежна… – обратился к нему государь. – Что делать?!
– Будды и бодхисатвы властны изменять даже закон кармы, они торжественно в том поклялись, – ответил ему святой отец. – Ни о чем не тревожьтесь, все завершится благополучно! – И он начал читать молитвы. Одновременно по другую сторону занавеса заклинатель молился перед рисованным изображением бога Фудо – если не ошибаюсь, то было прославленное изображение, к которому взывал праведный монах Сёку, когда бог Фудо, воплотившись в него, сохранил ему жизнь. Перебирая четки, заклинатель вещал:
- Каждого, каждого карма ведет,
- судьбы изначальной нить.
- Много превратностей в жизни ждет,
- но карму как изменить?
- Ты в моленьях усердье удвой, утрой,
- о спасенье вечном радей —
- и тогда заслужишь в жизни земной
- перемену кармы своей!
– С детских лет я проводил в молитвах все ночи, – продолжал заклинатель, – а возмужав, долгими днями подвергал свою плоть суровым испытаниям. Стало быть, светлый бог не может не внять моим молитвам! – говорил он, и казалось, государыня вот-вот разродится, а заклинатель еще усерднее раздувал ритуальный огонь, так что клубы дыма вздымались к небу.
В это время придворные дамы подавали из-под бамбуковых штор отрезы шелка-сырца и сшитые одеяния, церемониймейстер принимал эти дары и раздавал их придворным, а стражники-самураи средних и младших рангов вручали дары священникам, читавшим молитвы. У парадной лестницы в ожидании известия о рождении принца сидели вельможи. На дворе расставили жертвенные столики жрецы Инь-Ян и произносили Тысячекратную молитву Очищения. Предметы, прошедшие очищение, снова передавали дамам, и те принимали их на рукав, опять-таки просунутый из-под шторы. Стражники и личные слуги государя проводили перед ним «божьих коней»14, предназначавшихся в дар двадцати одному храму. Что говорить, каждая женщина была бы счастлива удостоиться такого торжества, так прекрасно все это было! Преподобный Дзидзэн, верховный иерарх секты Тэндай15, прибыл в сопровождении трех монахов, отличавшихся особенно звучными голосами; они начали читать сутру целителя Якуси, и как только дошли до слов: «Ликуйте все, кто это видит!» – в тот же миг младенец родился. Раздался всеобщий крик радости, но тут все увидели, что глиняную миску скатили по северному скату крыши16. Конечно, огорчительно было, что родилась девочка, а не мальчик; но все равно всех, творивших молитвы и заклинания, наградили так же щедро, как если б родился принц.
Итак, родилась принцесса. Прежний государь Го-Сага был в восторге от внучки, церемонии Пятой и Седьмой ночи совершались с особой пышностью. После окончания церемонии Седьмой ночи государь беседовал с отцом в одном из покоев дворца Томикодзи, как вдруг, в час Быка17, в Померанцевом саду подул сильный ветер и раздался такой оглушительный грохот, будто волны ударились о прибрежные скалы.
– Что это, пойди посмотри! – приказал мне государь. Я вышла и увидела привидения, не меньше десятка; они сновали по всему саду, синевато-белые, с головами, напоминавшими черпаки, и длинными, тонкими хвостами. Я закричала от страха и бросилась назад, в комнату. На веранде дворца стояли придворные, в ужасе глядя в сад.
– Это души умерших! – крикнул кто-то. – Смотрите, смотрите, там, под ивой, на земле разбросано что-то похожее на вареные овощи… – в испуге шумели люди.
Спешно произвели гадание, и оказалось, что душа государя-отца Го-Саги временно покинула тело. Тотчас же начали молиться богу горы Тайшань и служить молебны, призывающие душу вернуться.
А в начале девятой луны я услышала, что государь-отец захворал. Говорили, что у него бери-бери18, делали прижигания моксой, лечили и так и эдак, весьма усердно, но все напрасно – больному с каждым днем становилось хуже. Так закончился этот год.
Наступил Новый год, но в состоянии больного не заметно было ни малейших признаков улучшения. К концу первой луны стало ясно, что надежды на выздоровление нет, и больного в паланкине перевезли во дворец Сага.
Государь Го-Фукакуса тоже сразу поехал следом, я сопровождала его в одной с ним карете. Матушка и супруга государя ехали вместе в другой карете. Придворные лекари Танэйари и Моронари изготовили лекарственный настой, чтобы давать больному в дороге, на глазах у него разлили настой по двум бутылям, и Цунэтоо приказал двум стражникам-самураям нести напиток. Однако, когда по прибытии в Утино решили дать больному лекарство, оказалось, что в обеих бутылях не осталось ни капли… Поистине странное, непонятное происшествие! Больной государь был очень испуган и, кажется, совсем пал духом. Мне рассказывали, что самочувствие его сразу резко ухудшилось. Государь Го-Фукакуса расположился в павильоне Оидоно и посылал всех подряд, кто попадался ему на глаза, будь то мужчина или женщина, узнавать о состоянии больного отца. Нужно было пройти по длинной галерее, а внизу и днем и ночью так уныло шумели волны реки, что меня невольно пробирала дрожь.
С началом второй луны больному стало так худо, что с минуты на минуту ждали, когда наступит конец. Помню, проведать больного приехали оба наместника из Южной и Северной Рокухары19 – если не ошибаюсь, в девятый день; оба выражали глубокую скорбь. Наместников принял дайнагон Санэканэ Сайондзи, он же передал больному их соболезнование. В одиннадцатый день прибыл сам царствующий император Камэяма20, он провел у больного отца весь следующий, двенадцатый день и на тринадцатый день отбыл, так что хлопот у всех было по горло, но во дворце было мрачно, посещение императора не отмечалось ни музыкой, ни какими-либо торжествами. Государь Го-Фукакуса встретился с микадо, и когда я увидела, что братья непрестанно льют слезы, сама невольно заплакала.
Прошел день, другой, и вскоре, пятнадцатого числа, мы заметили вдали, над столицей, густой, черный столб дыма.
– Чья это усадьба горит? – спросила я и услыхала в ответ:
– Убили наместника Токискэ и подожгли его дом!
Ни кистью, ни словами не передать, как сжалось у меня сердце. О бренность нашего мира! Человек, совсем недавно, всего лишь в минувший девятый день, приезжавший проведать государя-монаха Го-Сагу, умирает раньше больного, дни которого уже сочтены! Конечно, никто не знает, кто раньше сойдет в могилу, юноша или старец, это давно известная истина, и все же я была охвачена глубокой скорбью. У больного государя еще в ночь на тринадцатое число отнялся язык, поэтому рассказывать об этом печальном событии ему, разумеется, не стали.
А в семнадцатый день с самого утра поднялся страшный переполох – близился смертный час. Для последнего наставления умирающему прибыли священнослужитель высокого ранга Кёкай и настоятель храма Вечной Жизни, они читали молитвы.
– В награду за соблюдение Десяти добродетелей в прежней жизни вы удостоились в этом мире императорского престола, повелевали сотнями вельмож и военачальников, стало быть, и грядущая ваша участь в мире потустороннем не внушает ни малейшей тревоги! Мгновенно воссядете вы в чаше чистого лотоса21 и, с высоты взирая на землю, будете помогать всем созданиям в сей печальной юдоли обрести путь, ведущий в Чистую землю рая! – на все лады утешали и наставляли они умирающего, но государь-монах, все еще, как видно, привязанный к нашему греховному миру, не подал никаких признаков обращения на путь истинный и, не вняв благим увещаниям, не проявив стремления отрешиться от сего мира, в конце концов скончался в час Петуха22 восемнадцатого дня второй луны 9-го года Бунъэй пятидесяти трех лет от роду.
С его кончиной, казалось, тучи закрыли небо, народ погрузился в скорбь, яркие наряды в одно мгновение сменились темными траурными одеждами.
В восемнадцатый день тело покойного государя отправили для сожжения в храм Якусоин. Из императорского дворца для участия в похоронах прибыл вельможа Санэфую, присутствовали настоятели храмов Добра и Мира – Ниннадзи, Эмаин, Сёгоин, Додайин, Сёрэнъин. Кисть бессильна передать скорбную красоту этой ночи!
«Покойный государь так любил Цунэтоо… Он несомненно пострижется в монахи!» – думали все, но, вопреки ожиданиям, Цунэтоо нес ларец с прахом, одетый, на удивление всем, в яркое парчовое платье.
Государь Го-Фукакуса горевал больше всех, не осушал глаз ни днем ни ночью; видя это, приближенные тоже невольно плакали. Мир погрузился в траур, все замерло, не стало слышно ни переклички стражи, ни голосов, возвещающих наступление очередного часа. Казалось, даже деревья сакуры на горе Камэяма в знак скорби расцветут черным цветом. Мой отец надел одежды темнее, чем у всех остальных, мне он тоже велел одеться в черное, но государь сказал:
– Нидзё еще слишком молода, пусть она носит платье обычного цвета, незачем облачаться в чересчур темные одеяния!
Отец уже не раз обращался к нашему государю и его матушке с просьбой отпустить его, позволить удалиться от мира, но ему отвечали: «Еще не время…» – и разрешения не давали. И все же отец больше всех горевал по покойному государю-монаху, ежедневно ходил на его могилу и через дайнагона Сададзанэ снова подал нашему государю прошение, в котором просил позволить ему принять постриг. Прошение гласило:
«Девяти лет от роду я впервые преклонил колени перед покойным государем Го-Сагой, и за все долгие годы, проведенные при его дворе, не было случая, чтобы при раздаче наград меня обошли монаршей милостью. Когда умер мой отец и меня покинула мачеха, покойный государь отнесся ко мне с особым участием. Со своей стороны, я всегда служил ему верой и правдой, оттого и продвижение мое в чинах шло быстрее обычного. В дни присвоения новых званий и должностей я всякий раз радовался, разворачивая наградные листы, и без устали занимался делами службы, довольный и своей личной судьбой, и тем, как вершится управление страной.
Жизнь при дворе дарила мне радость, много лет кряду я участвовал в празднике Вкушения первого риса, пил допьяна на пиршествах, принимал участие в пении и танцах, исполнял священные пляски в ритуальных одеждах на праздниках храмов Ива-Симидзу и Камо, и в водах священной реки отражался мой счастливый, веселый облик. Я стал старшим среди вельмож, дайнагоном старшего второго ранга, и одновременно – главой всего нашего рода. Мне пожаловали должность министра, но я почтительно отклонил это назначение, поскольку, как справедливо указал Митимаса, военачальник Правой дворцовой стражи23, в прошлом не имел воинских званий. Однако к этому времени государь-монах Го-Сага скончался. Засохло могучее древо, в тени коего обретал я прибежище и укрытие. Какую бы почетную должность ни занимал я отныне, чувствую – все напрасно. Уже пятьдесят лет живу я на свете – много ли еще мне осталось? Отказавшись от милостей двора, вступить на путь недеяния – вот подлинная благодарность за покровительство, оказанное мне незабвенным государем Го-Сагой! Получив разрешение принять постриг, я выполнил бы заветное свое желание и молился бы за упокой святой души почившего государя».
Так почтительно просил мой отец, но государь Го-Фукакуса опять не согласился на его просьбу, самолично всячески отговаривал, а меж тем время шло, и хоть память о покойном государе, конечно, не поросла травой забвения в душе отца, все же скорбь несколько притупилась, и пока утром и вечером он неустанно свершал молитвы, со дня смерти государя Го-Саги прошло уже сорок и девять дней.
Миновал срок, положенный для заупокойных молебствий, и все вернулись в столицу. С этого времени государственные дела перешли в руки государя Го-Фукакусы, нужно было отправить посла на восток страны, в Камакуру24, все это было чревато осложнениями, беспокойно и хлопотно, и не успели мы оглянуться, как уже наступила пятая луна.
В пятую луну рукава всегда влажны от весенних дождей, а в том году влаги выпало даже больше, чем осенью, когда обильна роса, – то были слезы моего отца, дайнагона, неутешно горевавшего по покойному государю. Человек, раньше не проводивший без женщин ни одной ночи, теперь полностью отказался от всех любовных утех, забросил развлечения, пиры… не по этой ли причине он так неузнаваемо исхудал? – тревожилась я. В пятнадцатый день пятой луны отец возвращался с богослужения в Отани, когда его слуга-скороход и прочие челядинцы заметили:
– Лицо у вас совсем пожелтело… Что с вами?
Отец и сам нашел это странным, призвал врача, и тот сказал, что отец захворал желтухой.
– Этот недуг часто возникает из-за сильного горя… – пояснил врач.
Больного стали лечить, усердно делали прижигания моксой, но день ото дня ему становилось хуже. В довершение беды в это самое время, в начале шестой луны, я убедилась, что жду ребенка, страшно перепугалась, но, разумеется, не решилась сообщить эту новость больному. Он говорил:
– Чувствую, что на сей раз уже не встану… Умереть как можно скорее, стать спутником покойного государя – вот единственное мое желание! – И не хотел возносить молитвы о выздоровлении.
В первое время отец оставался в нашей городской усадьбе Роккаку-Кусигэ, но в седьмую луну, вечером, в четырнадцатый день, переехал в загородную усадьбу Кавасаки. Мои маленькие братья и сестры остались, согласно его воле, в столице – отцу хотелось в одиночестве подготовиться к смертному часу. Только я одна как старшая дочь неотлучно находилась у ложа больного. Меня уже тошнило, пища внушала отвращение, есть совсем не хотелось, отец всячески меня ободрял, а вскоре, сам догадавшись о моем положении, прямо спросил:
– Ты в тягости? – И когда узнал, что я и вправду беременна, в нем проснулась жажда жизни. – В таком случае хочу жить! – объявил он, и если раньше решительно запрещал всяческие богослужения, то теперь сам заказал семидневный молебен о продлении жизни в главном храме на Святой горе Хиэй, ритуальные песнопения в Семи храмах Хиёси, целодневное чтение сутры Высшей мудрости, Хання, в храме Ива-Симидзу, а в храме Камокавара приказал воздвигнуть каменную ступý25.
Все это он предпринял не потому, что сожалел о собственной жизни, а лишь затем, что стремился увидеть, как сложится дальнейшая моя участь, – ведь я носила семя самого государя. Поняв отца, я еще острее осознала свою греховность26.
В конце пятой луны отцу стало как будто полегче, я несколько успокоилась и снова на некоторое время уехала во дворец. Узнав, что я в тягости, государь стал ко мне еще ласковее, но я с невольной тревогой думала, долго ли будет длиться его любовь? А тут еще случилось, что в эту шестую луну скончалась родами госпожа Микусигэ. Со страхом узнала я эту новость – ведь и мне предстояли роды. К тому же болезнь отца все еще внушала мне опасения. «Что будет со мной, если его не станет?» – неотступно терзали меня горькие думы.
Меж тем незаметно подошла к концу и седьмая луна. Помнится, был вечер двадцать седьмого дня.
– Пора спать! – сказал государь и позвал меня с собой в опочивальню. Мы остались вдвоем, можно было никого не стесняться, и государь проникновенно и обстоятельно беседовал со мной о делах нынешних и минувших…
– Непостоянство – извечный закон нашего мира, – говорил он, – и все же болезнь твоего отца печалит меня до глубины души… как бы мы ни жалели о дайнагоне, вряд ли он выздоровеет. С его кончиной ты станешь круглой сироткой, совсем беззащитной… Бедняжка, как я тебя жалею! Я один о тебе позабочусь, ты мне близка и дорога! – со слезами на глазах говорил государь.
Его ласковые слова успокоили меня, и в то же время вся боль, все тревоги, которые я так долго молча скрывала, как будто разом нахлынули на меня, и мне стало так горько, что казалось, сердце не вынесет, разорвется… Была темная, безлунная ночь, только на дворе чуть заметно светились огоньки, дворец погрузился во мрак, и в этой темноте за полночь длилась наша беседа на ночном ложе. Вдруг послышались громкие шаги: кто-то шел по веранде, окликая меня по имени.
– Кто там? – спросила я. Оказалось, что из усадьбы Кавасаки прислали человека с известием – отцу внезапно стало хуже, он при смерти.
Торопливо, в чем была, я покинула дворец и по дороге чуть не сошла с ума от страха, что опоздаю, не застану отца в живых, а дорога была такой бесконечной! Мучительно тяжелым показался мне этот путь, точь-в-точь как если б я пробиралась сквозь заросшие лесом тропинки в краю Адзума, на востоке! К счастью, когда мы наконец приехали, я услышала, что отец еще жив.
– Моя жизнь подобна росинке… Повиснув на кончике лепестка, она ждет лишь дуновения ветра, чтобы упасть и исчезнуть… Но видишь, я еще жив. Горько причинять вам всем столько хлопот… И все же с тех пор, как я узнал, что ты в тягости, мне больно уходить, оставлять тебя одну в целом свете… – горевал больной, проливая малодушные слезы. В это время ударил колокол, возвестив середину ночи, и почти в тот же миг раздался голос: «Поезд его величества!» От неожиданности больной совсем растерялся.
Я поспешно выбежала и встретила подкатившую к дому карету. Государь прибыл тайно, в сопровождении всего лишь одного придворного и двух стражников. Как раз в этот миг поздний месяц двадцать седьмого дня взошел над зубцами гор, ярко озарив фигуру государя, он был в повседневном сером траурном платье. Увидев этот наряд, я поняла, что решение приехать было принято внезапно, и преисполнилась благодарности, сочла его посещение за честь для нашего дома.
– Я так ослабел, что не могу даже встать и одеться, как подобает, и посему недостоин лицезреть государя… Но одно лишь сознание, что он соизволил пожаловать, чтобы проведать меня на ложе болезни, будет самым драгоценным воспоминанием об этом мире в потустороннем существовании… – велел отец передать государю, но тот, даже не дослушав, сам раздвинул перегородки и вошел в комнату больного. Отец в испуге попытался привстать, но у него не хватило сил.
– Лежите, лежите! – сказал государь, придвинув круглое сиденье к изголовью постели и опускаясь на подушку. – Я услышал, что близится ваш конец, и так огорчился, что захотелось повидаться в последний раз…
– О радость удостоиться высочайшего посещения! Я вовсе не заслужил такого счастья! У меня не хватает слов, чтобы выразить мою благодарность… Позвольте сказать вам – мне нестерпимо жаль вот эту мою юную дочку. Еще младенцем она потеряла мать, я один растил ее, кроме меня, у нее никого нет на свете… Сейчас она в тягости, носит, недостойная, августейшее семя, а мне приходится оставлять ее, уходить на тот свет… Вот о чем я горюю больше всего, вот что причиняет мне невыразимое горе, – говорил отец, проливая слезы.
– Горечь разлуки не утешить никакими словами, – отвечал государь, – но за ее будущее будьте спокойны, за нее я в ответе. Покидая сей мир, ни о чем не тревожьтесь, пусть ничто не омрачает ваше странствие по подземному миру… – ласково успокаивал он отца. – А теперь отдыхайте! – вставая, добавил государь.
С рассветом государь заторопился уехать: «Меня могут увидеть в столь неподобающем облачении…» Он уже уселся в карету, когда отец прислал ему подношения – драгоценную лютню, наследство моего деда – главного министра Митимицу Кога, и меч, полученный в дар от государя Го-Тобы, когда того сослали на остров Оки в минувшие годы Сёкю27. К шнурам меча была привязана полоска голубой бумаги, на которой отец написал стихотворение:
- Пусть расстанемся мы,
- но коль в трех поколеньях пребудет
- связь меж нами крепка, —
- в ожиданье конца взыскую
- лишь грядущих милостей ваших…
– Я до глубины души тронут подарками и стихами, – сказал государь, – и буду бережно их хранить. Передайте дайнагону, пусть он будет совершенно спокоен! – снова повторил он и с этим отбыл, а в скором времени отец получил от него собственноручно начертанное ответное послание.
- Верно, свидеться нам
- суждено уж не в скорбной юдоли —
- только в мире ином.
- Этой встречи я ожидаю,
- как зари порой предрассветной!
– Как бы то ни было, теперь он знает, что у меня на душе, – сказал отец. – Мои тревоги тронули его сердце! – И грустно, трогательно было видеть, как он рад этому.
На второй день восьмой луны, совсем скоро после посещения нашей усадьбы, государь прислал мне с дайнагоном Дзэнсёдзи ритуальный пояс, который носят женщины в тягости.
– …и приказал, чтобы мы не надевали траурных одеяний! – пояснил дайнагон. Он был в парадном кафтане, слуги и стражники-самураи торжественно разодеты. Я поняла, что государь нарочно поспешил с этим обрядом, чтобы все свершилось еще при жизни отца. Больной очень обрадовался, приказал угостить посланцев и всячески беспокоился, чтобы им был оказан должный прием. При мысли, что он и хлопочет и радуется, наверное, в последний раз, мое сердце сжималось от невыразимой печали.
Дайнагону Дзэнсёдзи отец подарил превосходнейшего вола по кличке Сиогама, которым прежде весьма дорожил. В свое время этого вола подарил отцу настоятель храма Добра и Мира.
Днем отцу стало как будто немного лучше. «Кто знает, вдруг все обойдется и отец выздоровеет?..» – с надеждой подумала я; у меня отлегло от сердца, и с наступлением вечера я прикорнула у постели больного, хотела лишь чуточку вздремнуть, но сама не заметила, как уснула. Внезапно я открыла глаза – отец разбудил меня.
– Ах, какой ты еще ребенок! Спишь себе безмятежно, совсем позабыв, что дни мои сочтены, что я только о тебе и тревожусь, жалею тебя, бедняжку! С тех пор как смерть разлучила тебя с матерью – тебе было тогда всего два года, – я один неустанно о тебе пекся, любил больше всех остальных детей… Бывало, ты улыбнешься – я радуюсь, опечалишься – я горюю вместе с тобой. Мое счастье и горе – все зависело от тебя… Незаметно промчались годы, тебе уже пятнадцать лет, и вот приходится расставаться. Служи государю усердно, старайся быть безупречной, береги честь, веди себя скромно! Если в будущем любовь государя остынет, если у тебя недостанет средств по-прежнему жить при дворе и нести придворную службу, без колебаний, не мешкая, от чистого сердца прими постриг! Став монахиней, ты спасешься в будущем, потустороннем существовании и утешишь покойных родителей, сможешь молиться, чтобы всем нам снова встретиться в едином венчике лотоса в мире ином… Если государь разлюбит тебя и ты лишишься опоры в жизни, не вздумай сделать позорный шаг – отдаться кому-нибудь другому или найти приют в чужом доме, – пусть я буду уже в могиле, все равно прокляну тебя с того света! Союз женщины и мужчины возникает не только в теперешней жизни, он предопределен еще в прошлых воплощениях, не в нашей власти его расторгнуть. Повторяю снова и снова – ни в коем случае не отвергай пострига, не опускайся до положения девы веселья, дабы после смерти не оставить по себе дурной славы, не прослыть суетной и развратной. Если же ты станешь монахиней, то, как бы ты ни нуждалась, как бы трудно ни пришлось тебе добывать пропитание, все это суета сует!
Так говорил отец, заботливей и подробнее, чем обычно, а мне было больно при мысли, что это его последнее наставление. Когда рассвело и колокол возвестил наступление утра, пришел Накамицу и, как обычно, принес охапку пропаренной травы обако, чтобы подстелить ее под больного, но отец сказал:
– Не надо, смертный час уже близок. Сейчас все напрасно… Лучше принеси-ка что-нибудь поесть этой девочке!
«Разве я смогу проглотить хоть кусок в такую минуту?» – подумала я, но отец все твердил:
– Скорее, скорее! Пока я еще могу это видеть!.. – А у меня сердце сжималось от этой его заботы: отец так обо мне тревожится, а что будет в дальнейшем, кто позаботится обо мне, когда его не станет на свете?..
Накамицу принес пирожки с бататом, но отец приказал убрать: «Разве женщине в тягости дают такую еду?»
Было уже совсем светло, когда он сказал:
– Позовите священника!
Еще в седьмую луну он пригласил настоятеля храма Ясака, обрил волосы, принес обет соблюдения всех Пяти заповедей28, принял монашеское имя Рэнсё и просил этого священника быть его наставником в смертный час. Однако госпожа-монахиня Кога, мачеха отца, почему-то настойчиво требовала, чтобы пригласили монаха Сёкобо из храма Кавара, и в конце концов послали за ним.
Ему сообщили, что больной при смерти, но Сёкобо не торопился. А меж тем отец сказал:
– Наступает конец! – И, позвав Накамицу, приказал ему приподнять себя. Накамицу, старший сын и наследник Накацуны, вырос при отце и служил ему безотлучно. Отца приподняли, Накамицу поддерживал его сзади. Я была рядом, при нас находилась только одна служанка.
– Возьми меня за руку! – сказал отец. Я сжала его запястье. – Подайте мне оплечье29, которое подарил мне преподобный настоятель храма Ясака! – Он набросил оплечье поверх длинного шелкового одеяния.
– Накамицу, ты тоже молись вместе со мной! – сказал отец, и они вместе стали читать молитву. Так прошло около получаса. Солнце поднялось уже довольно высоко, когда мне показалось, что отец дремлет. «Надо бы его разбудить, – подумала я, – пусть он еще немного почитает молитвы», – и слегка дотронулась до его колена. Отец разом проснулся, устремил на меня долгий пристальный взгляд, произнес:
– Интересно, в кого суждено мне воплотиться в новом рождении? – И не успел договорить, как дыхание его прервалось. Это случилось в час Дракона30, в третий день восьмой луны 9-го года Бунъэй.
О, почему смерть не настигла его во время чтения молитвы, как благостно было бы это для его грядущей участи на том свете! Зачем я так дерзновенно, так неразумно разбудила его, и дыхание его прервалось, когда на устах у него были совсем не подобающие в торжественный миг бессмысленные слова! Впоследствии я горько сожалела об этом, но в ту минуту была неспособна ни о чем думать, взглянула на небо – оно показалось мне черным-черным, как будто солнце и луна разом рухнули с небосвода. Я упала на землю, и слезы ручьем потекли из глаз.
Мне было всего два года, когда умерла моя мать, я была слишком мала, ничего не разумела, ее смерть прошла для меня незаметно. Миновало пятнадцать лет с тех пор, как на сорок первый день после моего рождения отец впервые взял меня на руки, и все эти годы, каждое утро, глядясь в зеркало, я радовалась: «Я жива благодаря отцу!» Каждый вечер, ложась спать, я с благодарностью думала об отце. Он дал мне жизнь, высокое положение, благодеяния его были превыше горы Сумэру31, он бережно пестовал меня, его любовь, заменившая мне материнскую ласку, была глубже четырех океанов, окружающих нашу землю…32 «Нет, никогда не смогу я в полной мере отплатить отцу за заботу и ласку!» – всегда думала я. Слова, с которыми он обращался ко мне при жизни, глубоко врезались в память, мне не забыть его поучений… Я охотно отдала бы жизнь взамен его жизни, но и этого было бы недостаточно, чтобы отплатить за все добро, которое я от него видела!
Мне хотелось неотлучно находиться при покойном отце, не отрываясь глядеть на его изменившийся облик, но, увы, это было невозможно, вечером четвертого дня покойника отправили для сожжения на гору Кагурагаока, и тело его обратилось в бесплотный дым. «Ах, если бы существовала дорога, по которой я могла бы уйти с ним вместе!» – думала я. Возвращаясь домой, я уносила с собой лишь память о нем да мокрые от слез рукава.
При виде пустой комнаты, где уже никогда не будет отца, я с тоской и любовью вспоминала его таким, каким видела лишь вчера, и горевала, что отныне смогу встретиться с ним только во сне. Даже в последние мгновения перед кончиной он все еще наставлял меня. Одно за другим всплывали в моей памяти воспоминания… Никакими словами не выразить мое горе!
- О горькие слезы!
- Вы в лоно реки Трех быстрин33
- вольетесь потоком —
- и, быть может, вновь мне предстанет
- тень его, незабвенный образ!
Вечером пятого дня пришел Накацуна в глубоком трауре, в одежде черной, как у монаха. Недаром он облачился в столь черные одеяния. «Если бы отец стал министром, Накацуна смог бы получить следующий, четвертый придворный ранг! – подумала я. – А теперь рухнули его упования…» – И опять мучительно сжалось сердце.
– Я иду на могилу… Не нужно ли что передать? – спросил он. Никто не мог бы удержаться от слез, увидев, как он горюет.
В первый день Семидневья – это было девятого числа – моя мачеха и с нею две служанки и двое самураев приняли монашество. Позвали преподобного настоятеля храма Ясака, и он, провозглашая молитву «В трех мирах круговращенье…», обрил им головы. Я испытывала и грусть, и зависть, наблюдая этот обряд. Мне тоже хотелось бы вступить на праведный путь, но для меня это было невозможно, ведь я была в тягости, нужно было продолжать жить в миру, горюя и плача. Тридцать седьмой день траура опять отметили особым богослужением, в этот день государь прислал мне письмо, полное нежных, ласковых слов соболезнования. Его посланцы приезжали чуть ли не каждый день или через день. «Ах, если б покойный отец видел это, как бы он радовался!» – думала я, и на душе у меня становилось еще тяжелее.
Как раз в это время внезапно скончалась супруга микадо, госпожа Кёгоку-но-Нёин, дочь министра Санэо Тоин. Император любил ее чрезвычайно, мало того – рожденный ею принц был объявлен наследником; окруженная всеобщим почетом, она была еще совсем молода. Все очень ее жалели. Она прихварывала давно – ее преследовал чей-то злой дух34. Нынешнему недугу не придали особого значения, посчитав обычным недомоганием, и вдруг весть о внезапной смерти повергла всех в неописуемое смятение. Мне, недавно потерявшей отца, было особенно понятно горе ее отца-министра, отчаяние супруга-императора.
На пятьдесят седьмой день со смерти отца государь прислал мне хрустальные четки, привязанные к цветку шафрана, изготовленному из золота и серебра, чтобы я поднесла этот дар священнику, служившему заупокойные службы. К цветку был прикреплен лист бумаги со стихами:
- В осеннюю пору
- всегда выпадает роса,
- рукав увлажняя, —
- но сегодня много обильней
- россыпь росная на одеждах…
Покойный отец всегда так дорожил посланиями государя… Я ответила: «Благодарю вас. Отец тоже, конечно, бесконечно рад на том свете!» – и закончила стихотворением:
- О, пойми же меня!
- Ведь рукав, что и так уже влажен
- от осенней росы,
- ныне весь до нитки промокнет —
- слезы скорби я лью в разлуке…
Настала осень; просыпаясь посреди долгой осенней ночи, я прислушивалась к унылому постукиванию деревянных вальков35, долетавшему в тишине к моему изголовью, и, внимая этим печальным звукам, тосковала по покойному отцу, увлажняя слезами одинокое ложе.
В то печальное утро, когда скончался отец, все обитатели дворца, начиная с самого государя, посетили нашу усадьбу или прислали письма с выражением соболезнования. Не счел нужным явиться, вопреки принятому в мире обычаю, только дайнагон Мототоно.
В середине девятой луны, озаренный ярким лунным сиянием, меня навестил Акэбоно, Снежный Рассвет36.
После смерти отца он чуть ли не каждый день справлялся обо мне, тревожился о моем самочувствии.
По случаю кончины государя Го-Саги весь мир погрузился в скорбь, он тоже надел одежду темных тонов, и грустно мне было видеть, что платье на нем такое же мрачное, как мое. Я приняла его в покое на южной стороне дома, это был близкий мне человек, с ним можно было говорить без посредников. Полные грусти, мы беседовали о прошлом и настоящем.
– Нынешний год особенно несчастливый, так много горестных событий пришлось пережить нам, что рукава не успевали просохнуть, – говорил он. Всю ночь мы провели за беседой, то плакали, то смеялись, и вот уже колокол в ближнем храме возвестил наступление утра. Долго длятся осенние ночи, но иной раз пролетают поистине слишком быстро…37 Мне казалось, мы еще не наговорились вдосталь, а уж запели птички…38
– Люди, пожалуй, подивились бы столь целомудренному ночному свиданию… – сказал он мне на прощание, а я жалела, что приходится расставаться. Он уже уселся в карету, когда я послала служанку передать ему стихи:
- Простившись с отцом,
- вкусила я горечь разлуки —
- и вновь поутру
- довелось мне прозрачной росою
- окропить рукава на прощанье…
Он ответил тоже стихами:
- Ужель обо мне
- горюешь, расстаться не в силах?
- Но нет, о другом
- скорбишь, обливаясь слезами, —
- о том, кто ушел безвозвратно!..
Да, мое изголовье не лелеяло память об этой встрече; смутная печаль томила мне душу, я целый день размышляла об этом ночном свидании, как вдруг увидела – у главных ворот стоит какой-то самурай в коричневом охотничьем кафтане, с ларцом для писем в руках. Это был его посланец. Нежное, ласковое письмо заканчивалось стихотворением:
- На тайном свиданье
- безгрешным застигнуты сном,
- мы ночь скоротали.
- Ужели нас люди осудят
- и скажут: «В росе их одежды!»
В те дни все мои чувства были обострены, даже этот невинный обмен стихами глубоко запал в душу. Со своей стороны, я тоже написала ему ласковое послание, закончив его стихами:
- Осенней росою
- покрыты в предутренний час
- деревья и травы —
- и кто нас осудит, заметив
- росу, что рукав окропила?
На сорок девятый день после кончины отца отслужили поминальную службу. Семью покойного представлял мой сводный брат Масааки, офицер дворцовой стражи. Вначале преподобный Сёкобо провозгласил старые, всем известные слова: «Как две уточки-неразлучницы, как две птицы об одном крыле…» Затем службу возглавил праведный Кэндзити; он возложил на алтарь Будды бумаги отца, на обороте коих покойный собственноручно начертал текст сутры Лотоса39. Дайнагоны Сандзё-но-Бомон, Мадэно-Кодзи, Такааки Дзэнсёдзи – все присутствовали на заупокойной службе; но когда, выразив соболезнование, они удалились, скорбь с новой силой сжала мое сердце. Траур окончился, родные и близкие, участвовавшие в богослужении, разъехались по домам. Я тоже уехала в дом кормилицы. Поминальные обряды все же в какой-то степени отвлекали меня от грустных мыслей, голова была хоть чем-то занята, но, когда все уехали и я осталась одна, меня охватила такая скорбь, что словами не выразить.
В эти дни, полные безысходного горя, государь часто украдкой навещал меня. «Как только окончится первый срок удаления40, тотчас же приезжай во дворец, – говорил он. – Можешь не снимать траурных одеяний, сейчас все носят траур по покойному государю-монаху…» Но я по-прежнему была во власти печальных мыслей, тоска по усопшему нисколько не убывала, и я все дни проводила в уединении.
Сорок девятый день – окончание первого срока траура – пришелся на конец девятой луны. Осень уже полностью вступила в свои права, тише звучал звон цикад; прислушиваясь к их замирающим голосам, я еще острее ощущала неизбывное горе. «Напрасно ты так долго остаешься у родных, дома. Не лучше ли поскорее вернуться во дворец?» – непрерывно звал меня государь, но у меня душа не лежала к дворцовой жизни, мне не хотелось возвращаться туда, а меж тем наступила уже десятая луна.
Помнится, это было в середине десятой луны… Снова появился посланец Акэбоно с письмом.
«Я был бы готов писать тебе ежедневно, но опасался, как бы мой слуга не встретился с посланцем государя, – чего доброго, государь подумает, что ты ему неверна… Вот и вышло, что я долго не подавал о себе вестей…» – писал он.
Дом кормилицы, у которой я поселилась, стоял на углу Четвертой дороги и широкого проезда Оомия. Глинобитная стена, окружавшая двор, в одном месте развалилась, и, чтобы загородить проем, посадили колючий кустарник. Он так разросся, что высился над оградой. Толстых стволов, однако, было не больше двух.
– А сторож у вас есть? – бросив взгляд на эти стволы, спросил человек Акэбоно у нашего слуги. И, услышав в ответ, что сторожей нет, промолвил: – В таком случае здесь может быть отличный проход! – С этими словами он внезапно одним махом срубил оба толстых ствола и был таков. «К чему бы это?» – в недоумении подумала я, когда мне рассказали об этом, но не придала этому случаю никакого значения и вскоре о нем забыла.
И вдруг, в ту же ночь, когда наступило уже самое глухое, позднее время, кто-то, ведомый лунным сиянием, тихонько постучал в ставню.
– Какой странный стук! Как будто птица стучит… Наверное, болотная курочка! – сказала Тюдзё, моя прислужница-девочка, и пошла взглянуть, но вдруг прибежала назад в смертельном испуге.
– Там какой-то мужчина… Говорит, что ему нужно видеть госпожу Нидзё… – сказала она.
Это было так неожиданно, что в первое мгновение я не знала, что и сказать, и в растерянности молчала, а он меж тем проник в дом и, по голосу девочки отыскав дорогу в мои покои, уже входил в комнату. На нем был охотничий кафтан из ткани с узором кленовых листьев и темно-лиловые шаровары – и то и другое выглядело очень изысканно; по всему было видно, что он пришел тайком, стараясь, чтобы никто его не заметил.
Я была в тягости, когда о любовном свидании невозможно даже помыслить, и твердо решила уж на сей-то раз отказать ему: «Если вы меня любите, встретимся когда-нибудь потом, после…»
– Как раз оттого, что ты сейчас в тягости, тебе нечего опасаться, я ни в коем случае не позволю себе ничего лишнего… Мне хотелось только смиренно поведать тебе о своей любви – ведь я так давно, так долго люблю тебя! Это будет чистая, невинная встреча, я пальцем до тебя не дотронусь, сама богиня Аматэрасу41 не осудит нас за такое свидание! – убеждал он меня, и я, по всегдашней слабости духа, не решилась наотрез сказать ему: «Нет!» – а пока я колебалась, он уже очутился в моей постели.
Всю долгую ночь он нашептывал мне о любви так нежно и ласково, что даже тигр, обитатель Танского царства42, и тот прослезился бы в умилении… А ведь и у меня сердце было не из дерева, не из камня, в конце концов я невольно поддалась его страсти и, словно в каком-то призрачном сне, впервые разделила с ним греховное ложе, а сама трепетала от страха: вдруг государь увидит нашу встречу во сне сегодняшней ночью?
Но вот, разбуженный пением птицы, он удалился, и, глядя ему вслед, я жалела, что приходится расставаться. Проводив его, я снова легла в постель, но уснуть, разумеется, не могла. Еще не полностью рассвело, а мне уже принесли от него послание.
- Я шел со свиданья,
- и слезы туманили взор
- порой предрассветной.
- Даже ясный месяц на небе
- мне казался мрачным и хмурым…
Сам не знаю, отчего я полюбил тебя так сильно? Пойми же, как я тосковал по тебе все это время, чуть не умер с тоски, как мучительно мне таить свои чувства, опасаясь людской молвы… – писал он. Я ответила:
- Не знаю, унес ли
- мой образ ты в сердце своем,
- я и в разлуке
- будто вижу тебя воочью,
- орошая рукав слезами…
…А ведь я всячески старалась избегать греха в моем положении, и что же? Тщетны оказались усилия, и некому было излить душу, пожаловаться на горькую участь. Вдобавок меня терзала тревога: что теперь со мной будет, как взгляну я государю в глаза? Но что я могла? Оставалось лишь, таясь от людей, украдкой лить слезы. И как раз в тот же день, около полудня, пришло письмо от государя.
«Хотел бы я знать, зачем ты так долго живешь в доме кормилицы? В последнее время во дворце стало так малолюдно, что невольно уныние закрадывается в душу…» – писал он даже ласковей, чем обычно, и сердце у меня сжалось еще больнее.
С нетерпением ждала я наступления ночи, а потом снова дрожала от страха, потому что Акэбоно пришел еще засветло. Никогда в жизни я не знала тайных свиданий, от страха у меня на мгновение даже отнялся голос. Как на грех, именно в этот день к кормилице пришел ее муж, Накацуна. После смерти отца он принял постриг и постоянно проживал при храме Сэмбон-Сякадо, но сегодня вернулся домой. «Вы так редко у нас бываете, захотелось проведать вас!» – сказал он мне. По этому случаю собрались и все взрослые дети кормилицы, в доме стало шумно и многолюдно. К тому же сама кормилица была ужасно суетливой и громогласной, что ей вовсе не подобало, ибо она долгое время воспитывалась при дворе покойной принцессы Сэнъёмонъин… Было в ней что-то бесцеремонное, точь-в-точь как у кормилицы принцессы Има-химэ из «Повести о Сагоромо»43. Немудрено, что я заранее тревожилась – как поступить? Не могла же я отговориться, будто любуюсь лунным сиянием! Я тихонько спрятала Акэбоно в спальне, а сама как ни в чем не бывало уселась у входа и только успела принять непринужденную позу, облокотившись на ящик с древесным углем, как вдруг ко мне пожаловала кормилица. «Ох, беда!..» – подумала я, а она вдруг затараторила, да так настойчиво, громко:
– Осенние вечера тянутся долго… Муж говорит – надо развлечь госпожу, давайте поиграем хотя бы в го…44 Извольте пожаловать, ну!.. Проведем вечер повеселее… Вся моя семья в сборе! – И она принялась перечислять всех своих детей, родных и приемных. – Устроим маленький пир, немножко повеселимся! – громогласно говорила она, так назойливо перечисляя собравшихся, что казалось, этому не будет конца.
– Мне нездоровится… – притворно сказала я, отказавшись от приглашения, и кормилица, рассердившись, ушла, бросив на прощание:
– Ясное дело, мои слова для вас всегда – звук пустой! – Мне вспомнилось, как она, бывало, постоянно твердила, что за девочками с младенческих лет глаз да глаз нужен.
Отведенные мне покои отделялись от главного дома только маленьким двориком, так что ясно слышалось все, что творилось в доме, совсем как в главе «Вечерний лик» из «Повести о Гэндзи», где описано, как к ложу любовников доносился из соседнего дома грохот рисовой ступки. «Наверное, точь-в-точь как здесь!» – думалось мне, и было стыдно перед гостем и оттого еще более неловко.
Я заранее представляла себе, как встречу Акэбоно, о чем ему расскажу, но в такой обстановке было бы даже неуместно, неприлично высказать все, наболевшее на душе, и в то же время молчать оказалось тягостно и неловко. Из-за этого шума и суеты пошли прахом мои мечтания. «Подождем, пока они наконец угомонятся и уснут…» – с тревогой думала я. В ожидании этого часа мы, затаившись, тихонечко лежали в постели, как вдруг услышали громкий стук в ворота. Это пришел сын кормилицы Накаёри, служивший при дворе государя Камэямы.
– Прислуживал за ужином государю, вот и запоздал… – пояснял он, входя. – Кстати, по пути сюда я видел на углу проезда Оомия весьма загадочную плетеную карету… Заглянул внутрь – а там полным-полно слуг, спят вповалку… А вол привязан к ступице. Интересно, куда и к кому прикатила эта карета?
О ужас! Я насторожила уши и услыхала голос кормилицы:
– Что за люди? Ну-ка, кто-нибудь сходите и поглядите!
Затем послышался голос ее мужа:
– Брось, зачем ты их посылаешь? Нам-то какое дело? К чему нам знать, чья это карета, какой нам с этого толк? А вдруг это кто-нибудь проведал, что госпожа Нидзё сейчас находится здесь, и ждет, пока мы уснем, чтобы пробраться к ней через пролом в ограде? Недаром говорится, что с дочерью не оберешься хлопот, едва она появится на свет… И так у всех – у благородных, у простолюдинов…
– Типун тебе на язык! Кому к ней приезжать? Если это государь, зачем бы он стал таиться? – явственно послышалась речь кормилицы, а так как в плетеной карете ездят чиновники шестого, низшего, ранга, она бесцеремонно добавила: – Все равно, было бы непростительно, если б она связалась с человеком всего лишь шестого ранга!
Акэбоно тоже слышал эти слова, это было ужасно! Тут вмешался в разговор кто-то из сыновей кормилицы, начал громко рассуждать о том о сем… Одним словом, покоя нам не было.
К этому времени, судя по всему, поспело и угощение, потому что послышались голоса: «Позовите же госпожу Нидзё!» Пришла служанка и стала меня звать. А когда служанка доложила: «Госпожа Нидзё нездорова, плохо себя чувствует!» – тотчас же раздался настойчивый стук в раздвижную перегородку – это явилась сама кормилица.
– Что с вами? Что у вас болит? Я принесла вам угощение, покушайте! Вы меня слышите? – стучала она в перегородку у самого изголовья. Дальше отмалчиваться было нельзя, и я откликнулась:
– Мне что-то не по себе…
– Но ведь это ваше любимое лакомство… Когда в доме пусто, вы, как нарочно, требуете подать, а когда приготовят специально для вас, по всегдашнему обыкновению, отказываетесь даже отведать… Ну, как знаете! – И она удалилась с недовольным ворчанием. В обычное время я нашла бы что ей ответить, но сейчас молчала, ни жива ни мертва от страха, а он спросил:
– Что это ты так любишь?
Назови я что-нибудь поэтичное, утонченное, вроде «инея», «снега» или «изморози», он все равно не поверил бы, и я чистосердечно призналась:
– Может быть, вам покажется это прихотью… Иногда я прошу приготовить немножко сладкого белого саке… Кормилица поднимает вокруг этого такой шум… Можно подумать невесть что…
– Стало быть, сегодня мне повезло! Теперь я знаю, чем тебя угостить, когда ты придешь ко мне в гости. Обязательно припасу сладкое саке, хотя бы пришлось посылать за ним в Танскую землю! – с улыбкой произнес он. Никогда не забуду этой улыбки! Не было и не будет для меня дороже воспоминания, чем об этих, в сущности, мучительных встречах.
…Так продолжались наши свидания, и, по мере того как любовь к нему становилась все сильнее и глубже, мне все меньше хотелось возвращаться во дворец к государю. А тут случилось, что в конце десятой луны захворала Гон-Дайнагон, моя бабка с материнской стороны.
Не прошло и нескольких дней, как я, не слишком озабоченная ее болезнью, получила известие, что она внезапно, можно сказать скоропостижно, скончалась. Гон-Дайнагон уже с давних пор жила в Аято, близ храма Дзэнриндзи, у Восточной горы, Хигасиямы, вдали от родных. Тем не менее сообщение о ее смерти вновь повергло меня в тоску и горе – с ее смертью как бы рвалась последняя призрачная связь с покойными родителями. Несчастья сыпались на меня одно за другим…
- Осенние росы
- сменяются зимним дождем —
- я снова и снова
- рукава одежд выжимаю,
- что промокли от слез горючих…
В последнее время государь совсем перестал писать мне, и я тревожилась – уж не проведал ли он о моем прегрешении? Но как раз в эти дни пришло от него письмо, даже более нежное, чем обычно. «Как ты живешь, я давно не имею от тебя весточки…» – писал государь, а в конце письма стояла приписка: «Сегодня вечером пришлю за тобой карету». Я ответила: «Позавчера скончалась моя бабка. Я приеду, как только пройдет срок траура, ведь это близкая мне родня…» – и приложила к письму стихотворение:
- Пойми, умоляю!
- к холодной осенней росе
- добавился ливень —
- и от слез разлуки намокли
- рукава атласного платья…
В ответ я получила от государя стихотворение:
- Не знал я, что вновь
- покрылась росою печали
- обитель твоя, —
- и, вчуже о том сожалея,
- невольно рукав увлажняю…
В начале одиннадцатой луны я вернулась во дворец, но жизнь при дворе совсем перестала мне нравиться, здесь все напоминало мне о покойном отце, его образ неотступно витал передо мной. Я чувствовала себя стесненно, неловко, к тому же государыня относилась ко мне все более неприветливо; одним словом, все вокруг мне было не по сердцу. Государь приказал деду моему Хёбукё и дяде, дайнагону Дзэнсёдзи, стать моими опекунами: «Нидзё останется служить при дворе, а вы заботьтесь, чтобы все было так, как при жизни ее отца-дайнагона; наряды и все прочее, что понадобится, выдавайте из податей, поступающих во дворец!»
Конечно, я была очень благодарна ему за такое распоряжение, но самой мне больше всего хотелось поскорее разрешиться от бремени, снова обрести прежнее здоровье, подвижность, а потом поселиться где-нибудь в тихом, уединенном жилище и молиться там за упокой матери и отца, дабы освободились они от круговращения в Шести мирах. Только об этом я помышляла и в конце той же луны вновь покинула дворец.
Монахиня Синганбо, настоятельница обители в Дайго, доводилась мне дальней родней; я решила поехать к ней, участвовать в богослужениях, слушать молитвы. Это был убогий приют, где зимой едва вилась тонкая струйка дыма над горевшим в очаге хворостом. Вода в желобе то и дело переставала журчать, скованная морозом, едва заметны были скудные приготовления к Новому году. И вдруг в самом конце двенадцатой луны, поздней ночью, когда в небе светился ущербный месяц, сюда тайно пожаловал государь.
Он приехал в простой плетеной карете, в сопровождении дайнагона Дзэнсёдзи.
– Сейчас я живу во дворце Фусими, поблизости, вспомнил о тебе и, видишь, приехал! – сказал он, а я удивилась, откуда он проведал, что я живу здесь. Этой ночью государь был со мной особенно ласков, беседовал так сердечно, проникновенно, но вскоре, пробужденный утренним колоколом, поднялся и уехал. Рассветный месяц клонился к западу, над зубцами гор на восточной стороне неба протянулись полоски облаков, снежинки, как лепестки цветов сакуры, падали на подтаявший снег, будто нарочно решив украсить отъезд государя.
Его темный, без гербов, кафтан и такого же цвета шаровары были под стать моему траурному одеянию и выглядели изысканно и прекрасно. Монахиням, идущим в этот час к заутрене, было невдомек, что перед ними карета самого государя. В грубых одеждах, поверх которых было накинуто некое подобие оплечья, они шли мимо, переговариваясь между собой: «Ох, не опоздать бы на молитву!.. А где монахиня Н.? А монахиня такая-то? Все еще спит?..» Я смотрела на них с чувством, похожим на зависть. Но тут монахини заметили наконец самураев, тоже одетых в темное, – они подавали государю карету – и, кажется, только тогда сообразили, кто перед ними. Некоторые с перепугу даже бросились прятаться.
– До встречи! – сказал мне государь и отбыл, а на моем рукаве остались слезы грусти, пролитые в час расставания. Мне казалось, мое платье насквозь пропиталось ароматом, исходящим от его одеяний. Со смешанным чувством, вдыхая это благоухание, я прислушивалась к голосам монахинь, служивших заутреню, к словам гимна, который они распевали:
- Властелина трон высок.
- Но сойти ему
- по одной из Трех дорог
- суждено во тьму… —
и мне было даже жаль, что служба окончилась слишком быстро.
Когда полностью рассвело, мне принесли письмо. «Прощание с тобой сегодня утром, – писал государь, – наполнило мою душу дотоле неизведанным очарованием печали…»
В ответ я послала ему стихи:
- О, память той встречи
- и твой очарованный взор
- в лучах предрассветных!
- Если б мог ты видеть сегодня
- мой рукав, все слезы впитавший…
Вечером – до окончания года оставалось всего три дня – мне было особенно грустно, и я пришла к настоятельнице.
– Вряд ли где-нибудь сыщется такая тишина, как у нас, – сказала она и, как видно желая скрасить мое уединение, созвала пожилых монахинь поговорить и послушать о старине. Кругом царила глубокая тишина, лед сковал струйки воды, падавшие из желоба в саду, лишь вдалеке, в горах, стучал топор дровосека, это создавало проникновенное настроение, напоминало сцену из какой-то старинной повести. Вскоре совсем стемнело, замерцали редкие огоньки.
Закончилась служба первой предновогодней ночи. «Сегодня ляжем спать пораньше!» – говорили монахини, когда внезапно послышался чей-то осторожный стук в ставню. «Странно… Кто бы это мог быть в столь поздний час?» – подумала я, приоткрыла ставню, и что же? Это был он, Акэбоно, Снежный Рассвет.
– Что вы, что вы!.. Здесь монастырь… Какой стыд, если монахини увидят столь нескромное поведение! К тому же у меня сейчас совсем не то на уме, оттого я и затворилась в этом монастыре… А пребывать здесь надо с чистой душой, иначе какой в том смысл? Посещения государя – другое дело, я бессильна им помешать, но свидание ради пустой утехи – великий грех… Ступайте, ступайте прочь, прошу вас! – говорила я, стараясь не слишком его обидеть. На беду, как раз в это время повалил густой снег, налетел свирепый порыв ветра, поднялась метель, и он стал спорить:
– Жестокая! Дай же мне хотя бы войти под крышу! Я уйду, как только снегопад прекратится!
Монахини услышали наши голоса.
– Ах, какое жестокосердие!.. Так нельзя! Кто бы ни был этот пришелец, он явился в нашу обитель по зову сердца… На улице дует такой холодный ветер, а вы… В чем дело, почему вы не хотите его впустить? – И они отодвинули задвижку на ставнях, раздули огонь в очаге, а ему только это и было нужно, он уже прошел в дом.
Словно в оправдание его поступка, снег повалил с удвоенной силой, погребая и горные вершины, и строения чуть ли не по самый карниз, и всю ночь напролет так жутко завывал ветер, что и с наступлением утра Акэбоно беспечно остался лежать подле меня, я же все время трепетала от страха. Однако что я могла? Я ломала голову, как мне быть, а меж тем, когда солнце стояло уже высоко, прибыли двое его слуг, нагруженные различными дарами. «Час от часу не легче!» – думала я, глядя, как они раздают подарки монахиням – вещи, нужные в обиходе.
– Теперь нам не страшны ни ветры, ни зимние холода! – ликовала настоятельница.
Это была монашеская одежда – рясы, оплечья – дары, предназначенные, в сущности, Будде, и я была немало поражена, услыхав, как монахини говорят друг другу: «Наконец-то и нашу обитель, убогую, как бедная хижина дровосека, озарило благостное сияние!»
Казалось бы, для них не должно быть более радостного события, чем посещение государя, разве что явление самого Будды, однако, когда государь уезжал, они очень сдержанно его проводили, никто из монахинь не восторгался: «О, прекрасно! Великолепно!» Столь неподобающее поведение, безусловно, следует осудить; зато сейчас все прямо голову потеряли, так обрадовались щедрым подаркам. Поистине, причудливо устроен суетный мир!.. Мне достались новогодние одеяния, не слишком яркие, темно-пурпурного цвета, их было несколько, и к ним – тройное белое косодэ. И хоть я по-прежнему терзалась тревогой, как бы кто-нибудь не проведал моей тайны, день прошел как сплошной оживленный праздник.
Назавтра он ушел, сказав, что оставаться надолго ему никак невозможно, и попросил: «Проводи же меня хотя бы!..» На фоне бледного предрассветного неба искрился снег на горных вершинах, виднелись фигуры нескольких его слуг в белых охотничьих кафтанах, и, когда он уехал, я сама не ожидала, что боль разлуки будет столь нестерпимой! В последний день года за мной приехали кормилица, слуги.
– В вашем положении не следует оставаться в глухом горном краю! – сказала она, и мне пришлось возвратиться в столицу. Так окончился этот год.
Минувший год принес горе не только мне – по случаю смерти государя Го-Саги весь мир погрузился в траур, и потому новогодние празднества отметили во дворце очень скромно, а мне опять вспомнился покойный отец, и снова слезы увлажнили рукав… Обычно с наступлением весны я всегда ходила молиться в храм бога Хатимана45, но в этом году из-за траура не смела переступить священный порог и молилась, стоя поодаль, за воротами. О том, как покойный отец явился мне во сне, я уже упоминала, поэтому снова писать об этом не буду.
Во второй луне, вечером десятого дня, я почувствовала приближение родов. Ничего радостного не было у меня в ту пору; государь как раз в эти дни был весьма озабочен46, в делах трона многое вершилось вопреки его воле, я тоже пребывала в унынии. Все хлопоты, связанные с родами, взял на себя дайнагон Дзэнсёдзи. От государя вышло распоряжение монастырю Добра и Мира – Ниннадзи – молиться в главном храме богу Айдзэну47, настоятелю монастыря Высшей Мудрости – Ханнядзи – священнослужителю высокого ранга Нарутаки приказано было взывать о благополучном разрешении от бремени к продлевателю жизни бодхисатве Фугэну48, а настоятелю монастыря Бисямон молиться целителю Якуси49 – все эти молебны должны были совершаться в главных храмах.
Как раз в это время из монастыря Кимбусэн в столицу прибыл младший брат отца, священнослужитель высокого ранга Дотё.
– Не могу забыть, как тревожился о тебе покойный дайнагон! – сказал он и тоже пришел молиться.
После полуночи родовые муки стали еще сильнее. Приехала моя тетка, госпожа Кёгоку, – ее прислал государь; явился дед Хёбукё, возле меня собралось много народа. «Ах, если б жив был отец!» – при этой мысли слезы выступили у меня на глазах. Прислонившись к служанке, я ненадолго задремала, и мне приснился отец, совсем такой, каким я знала его при жизни. Мне почудилось, будто он с озабоченным видом подошел, чтобы поддержать меня сзади, и в этот самый миг родился младенец. Полагалось бы, наверно, сказать «родился принц…». Роды прошли благополучно, это, конечно, было большое счастье, и все же меня не покидала мысль о грехе, которым я связала себя с тем, другим, с Акэбоно, и сердце мое рвалось на части.
Хотя роды происходили, можно сказать, тайно, все же дядя Дзэнсёдзи прислал новорожденному принцу меч-талисман и все прочее, что положено для младенца, а также награды, пусть и не такие уж щедрые, священникам, возносившим молитвы.
«Будь жив отец, я, конечно же, рожала бы в усадьбе Кавасаки, под отчим кровом…» – думала я, но дайнагон Дзэнсёдзи, надо отдать ему справедливость, действовал весьма расторопно, позаботился обо всем, вплоть до одежды для кормилицы, не забыл и «звон тетивы»50. Да и все другие обряды совершались, как предписывает обычай, один за другим, в строгом порядке.
Так незаметно, словно во сне, пролетел этот год. Много было радостного, торжественного – роды, «звон тетивы», но много и горестного – отец, явившийся мне во сне… Возле меня все время толпились люди, и хотя так уж повелось исстари, но мне было тяжко думать, что я против воли оказалась выставленной на обозрение чужим, посторонним взорам… Младенец родился мужского пола – это, конечно, была милость богов, но душа моя пребывала в ту пору в таком смятении, что невольно думалось: «Все напрасно, такой грешнице, как я, не поможет даже такая благодать…»
В двенадцатую луну, по заведенному обычаю, все во дворце очень заняты – служат молебны, непрерывно происходят богослужения; я тоже намеревалась отслужить дома молебен, когда совсем неожиданно Акэбоно снова отважился навестить меня при свете невеселой зимней луны. Всю ночь длилось наше свидание. «Утро настанет еще не скоро, это кричат ночные птицы…» – думала я. Увы, я ошиблась; возвещая близкий рассвет, запели птички, незаметно наступило утро, стало совсем светло. «Теперь возвращаться опасно!» – сказал он и остался у меня в комнате. Мы проводили время вдвоем, мне было страшно, а в это время принесли письмо государя, больше, чем обычно, полное ласковых слов любви. Письмо заканчивалось стихотворением:
- Мне в безлунную ночь,
- что чернее, чем ягоды тута,
- отчего-то во сне
- вдруг привиделось, будто к чужому
- твой рукав на ложе прижался…
Сердце у меня упало, я терзалась тревогой, что и как он видел во сне, но что мне оставалось ответить?
- От тебя вдалеке,
- что ни ночь, подстилаю печально
- в изголовье рукав.
- Лишь сиянье луны со мною
- одинокое делит ложе… —
написала я, сама содрогаясь от собственной дерзости, но, как бы то ни было, отделалась пристойным ответом.
Сегодняшний день мы спокойно провели вместе, а меж тем все служанки в родовой усадьбе и все живущие по соседству уже знали о нашей любви. Так я жила, невыносимо страдая в душе и не находя себе никаких оправданий… Той же ночью мне приснилось, будто Акэбоно преподнес мне подарок – серебряную бутылочку с ароматическим маслом, поданную на веере, украшенном изображением сосны. Мне снилось, будто я беру у него сосуд и прячу за пазуху… Удивленная, я проснулась, и как раз в этот миг зазвонил колокол в храме Каннон, возвещая утро. «Какой странный сон!» – подумала я, а он, спавший со мною рядом, рассказал мне потом, что видел точно такой же сон. «Что сие означает?» – не могла надивиться я.
Как только наступил Новый год, государь в благодарность за благополучное окончание хлопот и тревог минувшего года, приказал, чтобы двенадцать монахов-писцов изготовили новый свиток сутры Лотоса, переписывая его в храме Зал Поучений – Тёкодо, на Шестой дороге, где некогда находился «Приют отшельника»51 государя-монаха Го-Сиракавы. Чтобы не обременять расходами подданных, вознаграждение монахам было выдано целиком из дворцовой казны. В первую луну государь, надрезав себе палец, объявил воздержание и пост вплоть до семнадцатого дня второй луны и совсем перестал призывать к себе женщин.
Меж тем с конца второй луны я почувствовала недомогание, отвращение к еде. Сперва я посчитала это нездоровье обычной простудой, но, мысленно сопоставив его с тем странным сном, постепенно поняла, что опять понесла, и на сей раз – от Акэбоно. Обмануть никого не удастся, вот оно, возмездие, наконец-то постигшее меня за мои прегрешения! Не выразить словами обуявшие меня страх и тревогу! В последнее время я подолгу под различными предлогами жила дома, в усадьбе, – и как только мне это удавалось? – Акэбоно постоянно навещал меня и вскоре сам догадался, что я в тягости.
– Нужно сохранить это в тайне от государя! – сказал он. «Чей это грех?» – думала я, глядя, как он усердно возносит молитвы богам.
В конце второй луны я снова приехала во дворец и, когда наступила пятая луна, сумела внушить государю, будто четвертый месяц, как понесла, тогда как на самом деле шел шестой. «Но ведь разница в сроках неотвратимо обнаружится… Как же быть?» – замирая от страха, думала я.
В седьмой день шестой луны Акэбоно прислал ко мне во дворец одного за другим нескольких посланцев, требуя, чтобы я непременно возвратилась домой. «Что еще там стряслось?» – подумала я. Когда же приехала, оказалось, он приготовил для меня ритуальный пояс.
– Мне хотелось, чтобы ты надела пояс, который преподнес тебе я, а не кто-то другой… По-настоящему, полагалось бы надеть его после четырех месяцев… Но, опасаясь людских пересудов, я хотел повременить с подарком и вот дотянул до этих пор… Однако, услышав, что на двенадцатый день этой луны назначено поднесение пояса от государя, все же решился! – сказал он, и я подумала, что Акэбоно в самом деле всей душой меня любит, но мысль о том, к чему это приведет, что будет дальше, снова наполнила меня скорбью.
Целых три дня Акэбоно, как обычно, прятался у меня. В десятый день я могла бы вернуться во дворец, но вечером почувствовала недомогание и не поехала. По этой причине двенадцатого числа – в день, заранее назначенный для обряда надевания пояса, – мне привез его, как привозил в прошлый раз, дайнагон Дзэнсёдзи. Мне вспомнилось, как обрадовался тогда покойный отец, как он воскликнул: «Что это?!» – когда сам государь пожаловал к нам, и я залилась слезами – увы, роса, увлажняющая рукав, выпадает не только осенью!..52 Но что придумать, как скрыть правду? Нет, мне не отыскать выхода, ведь речь идет о целых двух месяцах!
Все же мне не приходило в голову утопиться, похоронить себя на дне морском. Не оставалось ничего другого, как притворяться и вести себя как ни в чем не бывало, хотя страх – «Как быть? Что делать?» – неотступно терзал мне душу. А меж тем уже наступила девятая луна.
Страшась людских взоров, я покинула дворец, якобы для того чтобы сделать приготовления к предстоящим родам. Акэбоно пришел ко мне в тот же вечер, и мы стали советоваться, как быть.
– Прежде всего, сообщи, что ты тяжело захворала, – сказал он. – И объяви всем и каждому, будто жрец Инь-Ян53 говорит, что болезнь заразна, опасна для посторонних…
Я последовала его совету и постаралась распустить слух, будто лежу, не поднимаясь, в постели и так больна, что даже капли воды не могу проглотить. Не допуская посторонних, приблизила к себе только двух служанок… Дескать, болезнь настолько тяжелая… Впрочем, можно было обойтись без столь строгих предосторожностей, никто особенно не спешил навещать меня, и я невольно снова с горечью думала: «Ах, если б жив был отец…» Государю я написала, чтобы он не слал ко мне людей, но он все же время от времени писал мне, а я непрестанно трепетала от страха, как бы моя ложь не открылась. Однако покамест все шло гладко, казалось, все поверили, что я и впрямь больна не на шутку. Только дайнагон Дзэнсёдзи все же несколько раз приезжал, пытаясь меня проведать.
– Хорошо ли, что ты лежишь здесь одна? Что говорит лекарь? – спрашивал он.
– По словам лекаря, болезнь на редкость заразная, встретиться с вами мне никак невозможно! – отвечала я и отказывалась его принять. Иногда он настаивал:
– Как хочешь, а меня это беспокоит!
Тогда, затемнив комнату, я накрывалась с головой, лежала, не проронив ни слова, и он, поверив, что я и впрямь тяжело больна, уходил, а я терзалась угрызениями совести. Люди, не столь близкие, как дайнагон, и вовсе не приходили, так что Акэбоно проводил у меня все ночи. В свою очередь, он тоже объявил, будто затворился в храме Касуга54, а сам послал кого-то вместо себя, велев этому человеку не отвечать на письма, приходившие в его адрес, и мне было грустно видеть, к каким ухищрениям ему приходится прибегать.
Меж тем примерно в конце девятой луны я почувствовала приближение родов. Никто из родных об этом не знал, при мне находились только две доверенные служанки. Я глядела, как они суетятся, занятые разными приготовлениями, и думала, какую дурную славу оставлю по себе в мире, если умру родами… Как стыдно будет моим родным, которые заботились обо мне! Но день прошел, а ребенок все не родился. Зажгли светильник, и тут я наконец почувствовала, что вот-вот разрешусь от бремени. Конечно, при таких обстоятельствах никто не звенел тетивой, не свершалось никаких таинств, отгоняющих злых духов. Я одна, накрывшись с головой, мучилась болью. Помнится, прозвучал колокол, возвещающий полночь, когда Акэбоно сказал:
– Я слыхал, что в такие мгновения надо сзади поддерживать роженицу… А мы забыли об этом, оттого ты до сих пор и не разродилась… Ну же, соберись с духом, держись покрепче! – И он приподнял меня. Я изо всех сил уцепилась за его рукав, и в этот миг дитя благополучно появилось на свет.
– Вот и хорошо! Дайте ей рисового отвара! – сказал Акэбоно. Помогавшие мне женщины и те удивились – когда он успел узнать все порядки? – Ну а каков же младенец? – Он приблизил светильник, и я увидала черные волосики и широко раскрытые глазки.
Один лишь взгляд бросила я на дитя, и таким дорогим оно мне показалось! Наверное, это и есть материнская любовь, чувство, которое я тогда ощутила… Меж тем Акэбоно отрезал пуповину лежавшим в изголовье мечом, завернул ребенка в белое косодэ, взял его на руки и, не промолвив ни слова, вышел из комнаты. Мне хотелось сказать: «Почему ты не дал мне хотя бы посмотреть на младенца подольше?» – но это был бы напрасный упрек, и я молчала, однако он, увидав, что я плачу, наверное, догадался о моем горе и, вернувшись, сказал, стараясь меня утешить:
– Если суждено вам обоим жить на свете, обязательно когда-нибудь свидишься с этим ребенком!
Но я никак не могла позабыть дитя, которое видела только мельком, это была девочка. «А я даже не узнаю, куда она подевалась…» – думала я, и поэтому мне было особенно горько. Я твердила: «Будь что будет, мне все равно… Почему ты мне ее не оставил?» – но сама понимала, что это было бы невозможно, и утирала рукавом тайные слезы. Так прошла ночь, и, когда рассвело, я сообщила государю:
– Из-за тяжкой болезни я выкинула ребенка. Уже можно было различить, что то была девочка.
Государь ответил:
– При сильной лихорадке это не редкость. Врачи говорят, что такое часто бывает… Теперь выздоравливай поскорее! – И прислал мне много лекарств, а я прямо места себе не находила, так меня замучила совесть!
Никакой болезни у меня не было; вскоре после родов Акэбоно, ни на минуту меня не покидавший, возвратился к себе, а из дворца я получила приказ: «Как только минует положенный срок в сто дней, – немедленно приезжай во дворец». Так я жила, наедине с моими горестными раздумьями, Акэбоно по-прежнему навещал меня почти каждую ночь, и я думала: рано или поздно люди непременно узнают о нашем греховном союзе, и оба мы не ведали ни минуты, когда тревога отлегла бы от сердца.
Меж тем маленький принц, родившийся у меня в минувшем году, бережно воспитывался в доме дайнагона Дзэнсёдзи, моего дяди, но вдруг я услышала, что он болен, и поняла: ребенку не суждено поправиться, это кара, ниспосланная за то, что я так грешна… Помнится, в конце первой декады десятой луны, когда непрерывно струился холодный осенний дождь, я узнала, что его уже нет на свете, – исчез, как капля росы… Мысленно я уже готовилась к этому, и все-таки эта весть потрясла меня неожиданностью, не описать, что творилось в моей душе! Пережить собственное дитя – что может быть тяжелее? Это та «боль разлуки с дорогими твоему сердцу», о которой говорится в священных сутрах, и вся эта боль, казалось, выпала только на мою долю. В младенчестве я потеряла мать, когда выросла – лишилась отца, и вот снова льются слезы, увлажняя рукав, и некому поведать мою скорбь. И это еще не все: я привязалась сердцем к Акэбоно, так горестно было мне расставаться с ним по утрам, когда он уходил. Проводив его и снова ложась в постель, я проливала горькие слезы, а вечерами в тоске ждала, когда снова его увижу, и плач мой сливался со звоном колокола, возвещавшего полночь. Когда же мы наконец встречались, наступали новые муки – тревога, как бы люди не проведали о наших свиданиях. Возвращаясь из дворца домой, я тосковала по государю, а живя во дворце, снова терзалась сердцем, если ночь за ночью он призывал к себе других женщин, и горевала, как бы не угасла его любовь, – такова была моя жизнь.
Так уж повелось в нашем мире, что каждый день, каждая ночь приносят новые муки; говорят, будто страдания неисчислимы, но мне казалось, будто вся горесть мира выпала только на мою долю, и невольно все чаще думалось: лучше всего удалиться от мира, от любви и благодеяний государя и вступить на путь Будды…
Помнится, мне было девять лет, когда я увидела свиток картин под названием «Богомольные странствия Сайгё»55. С одной стороны были нарисованы горы, поросшие дремучим лесом, на переднем плане – река, Сайгё стоял среди осыпающихся лепестков сакуры и слагал стихи:
- Только ветер дохнет —
- и цветов белопенные волны
- устремятся меж скал.
- Нелегко через горную реку
- переправиться мне, скитальцу…
С тех пор как я увидела эту картину, душа моя исполнилась зависти и жажды сих дальних странствий. Конечно, я всего лишь женщина, я неспособна подвергать свою плоть столь же суровому послушанию, как Сайгё, и все же я мечтала о том, чтобы, покинув суетный мир, странствовать, идти куда глаза глядят, любоваться росой под сенью цветущей сакуры, воспевать грустные звуки осени, когда клен роняет алые листья, написать, как Сайгё, записки об этих странствиях и оставить их людям в память о том, что некогда я тоже жила на свете… Да, я родилась женщиной и, стало быть, неизбежно обречена изведать горечь Трех послушаний56, я жила в этом бренном мире, повинуясь сперва отцу, затем государю… Но в душе моей мало-помалу росло отвращение к нашему суетному, грешному миру.
Эта осень государю тоже принесла огорчения. Глубоко оскорбленный тем, что младший брат его, прежний государь Камэяма, вознамерился оставить за собой «Приют отшельника», иными словами, право ведать всеми делами, он решил сложить с себя звание Старшего экс-императора и уйти в монахи. Собрав свою личную охрану, он щедро наградил каждого и объявил, что отныне отпускает их всех со службы: «При мне останется один Хисанори…» Стражники удалились, утирая рукавом слезы. «А из женщин оставлю при себе только госпожу Хигаси и Нидзё», – объявил государь. Так случилось, что печальная эта новость, напротив, сулила обернуться для меня радостью, ведь я давно мечтала уйти от мира. Но правители-самураи в Камакуре сумели уладить дело и утешили государя, назначив наследником престола сына государя, маленького принца, рожденного от госпожи Хигаси. Государь сразу воспрянул духом и отменил свое решение уйти в монахи. Портрет покойного государя Го-Саги, хранившийся в Угловом павильоне, перенесли во дворец на улице Огимати, а в Угловом павильоне поселился юный наследник, отныне там была его резиденция.
Госпожу Кёгоку, прежде служившую при дворе, определили воспитательницей к наследнику; она доводилась мне родственницей, и, хотя мы никогда не были особенно близки, ее отъезд еще сильней усугубил мою грусть. Мне хотелось скрыться от печалей этого мира куда-нибудь далеко, в горную глушь.
- О, если бы мне
- там, в Ёсино, в пýстыни горной
- приют обрести,
- чтобы в нем отдыхать порою
- от забот и горестей мира!..
Но, видно, злой рок препятствовал исполнению моих стремлений. Меж тем год подошел к концу. Государь все настойчивей звал меня назад, во дворец, и, раз уж обстоятельства никак не позволяли мне уйти от мира, я вернулась.
Моя жизнь при дворе проходила под покровительством деда моего Хёбукё, его заботами не знала я недостатка в нарядах и ни в чем не нуждалась. Пусть не так, как отец, но все же дед всячески меня опекал, и это, прямо скажу, было отрадно. Однако, с тех пор как скончался маленький принц, мой сын, я все время грустила, считала его смерть наказанием за грех, который совершили мы с Акэбоно. Я вспомнила, как государь, тайно навещавший младенца, говорил, глядя на его улыбку, на его по-детски милое личико: «Я как будто вижу свое изображение в зеркале! Да ведь мальчик – вылитый я!..» Эти воспоминания повергали меня в глубокую скорбь, служба при дворе причиняла одни страдания, ни днем, ни вечером я не знала покоя. Меж тем государыня по непонятной причине – право, я ни в чем перед ней не провинилась! – запретила мне появляться в ее покоях и приказала вычеркнуть мое имя из списка ее приближенных, так что жизнь во дворце тяготила меня все больше. «Но ведь это не означает, что я тоже тебя покинул!» – утешал меня государь, но на душе у меня было по-прежнему безотрадно, все складывалось не так, как надо, я избегала людей, стремилась к уединению; видя, как я грущу, государь все больше жалел меня, и я, со своей стороны, была ему за это так благодарна, что, кажется, ради него была бы готова пожертвовать жизнью.
В эти годы главной жрицей – Сайгу – богини Аматэрасу в храме Исэ была принцесса, одна из дочерей императора-монаха Го-Саги, однако после его кончины принцессе пришлось облачиться в траур, и, стало быть, она уже не могла по-прежнему оставаться жрицей. Тем не менее, все еще не получая разрешения вернуться, она так и жила в Исэ, оставшись там еще на целых три года. Так вот, нынешней осенью эта госпожа возвратилась в столицу и поселилась в местности Кинугаса, неподалеку от храма Добра и Мира. Покойный отец мой приходился ей дальним родичем, при жизни служил ей, оказал в особенности большое содействие, когда собирали ее в путь, в Исэ; все это привлекало меня к принцессе. К тому же мне нравилось ее уединенное жилище, куда почти никто не заглядывал, и я часто наведывалась туда, разделяя с принцессой часы ее одинокого досуга. Но вот однажды – помнится, это было в середине одиннадцатой луны – принцесса собралась навестить мать государя, вдовствующую государыню Омияин, и та прислала во дворец Томикодзи человека, велев передать государю: «Приезжайте вы тоже, нехорошо, если принимать ее буду лишь я одна!»
В последнее время, из-за споров о назначении наследника, государь не ладил с матерью и по этой причине уже давно у нее не бывал, но на сей раз, не желая давать повод для новых упреков, согласился приехать. Я сопровождала государя и ехала с ним в одной карете. На этот раз я надела тройное длинное одеяние – цвет изменялся от желтого к светло-зеленому – и поверх еще одно из легкого алого шелка на лиловом исподе, а так как после назначения наследника все женщины при дворе стали носить парадную китайскую накидку, я тоже набросила поверх моего наряда парадное красное карагину. Из всех служивших при дворе женщин лишь я одна сопровождала государя.
Итак, мы приехали во дворец госпожи Омияин; потекла веселая, непринужденная беседа. В разговоре государь упомянул обо мне.
– Эта девушка воспитывалась при мне с самого детства, – сказал он, – она привычна к придворной службе, поэтому я всегда беру ее с собой, когда выезжаю. А государыня, усмотрев в этом что-то предосудительное, запретила Нидзё бывать у нее и вообще стала плохо к ней относиться. Но я не намерен из-за этого лишить Нидзё своего покровительства. Ее покойные родители, и мать и отец, перед смертью поручили мне дочку. «В память о нашей верной службе просим вас позаботиться об этом ребенке…» – говорили они.
Госпожа Омияин тоже сказала:
– Ты прав, обязательно заботься о ней по-прежнему! К тому же опытный человек незаменим для придворной службы. Без таких людей всегда приходится терпеть ужасные неудобства! – И, обратившись ко мне, милостиво добавила: – Можешь всегда без всякого стеснения обращаться ко мне, если понадобится!
«О, если б всегда так было! – думала я. – Больше мне ничего не надо!»
Этот вечер государь провел в сердечной беседе со своей матушкой, у нее и отужинал, а с наступлением ночи сказал:
– Пора спать! – И удалился в отведенный ему покой на той стороне двора, где играют в ножной мяч. Слуг при нем не было. В поездке его сопровождали только вельможи – дайнагоны Сайондзи, Нагаскэ, Тамэканэ, Канэюки и Сукэюки.
С наступлением утра послали людей за Сайгу – карету, слуг, стражников. Для встречи с Сайгу государь оделся с особым тщанием: надел светло-желтый кафтан на белой подкладке, затканный цветочным узором, сверху – длинное бледно-лиловое одеяние с узором цветов горечавки и такого же цвета, только чуть потемнее, хакама, тоже на белой подкладке, все густо пропитанное ароматическими снадобьями.
Вечером прибыла Сайгу. Встреча состоялась в покое на южной стороне главного здания. Повесили занавеси тусклых, серых тонов, поставили ширмы. Перед тем как встретиться с Сайгу, госпожа Омияин послала к государю прислужницу, велев сказать: «Пожаловала прежняя жрица богини Аматэрасу. Соблаговолите и вы пожаловать и поговорить с ней, без вас беседа не будет достаточно интересной!» – и государь тотчас же пришел. Как обычно, я сопровождала его, несла за ним его меч. Госпожа Омияин, в темно-сером парчовом монашеском одеянии с вытканными по нему гербами, в темной накидке, сидела у низенькой ширмы таких же темных тонов. Напротив, роскошное тройное красное косодэ принцессы на лиловой подкладке и поверх него синее одеяние были недостаточно изысканны. Ее прислужница, – очевидно, ее любимица – была в пятислойном темно-лиловом кимоно на светло-лиловой подкладке, но без парадной накидки. Сайгу было уже за двадцать, она казалась вполне зрелой женщиной в самом расцвете лет и была так хороша собой, что невольно думалось: немудрено, что богиня, жалея расстаться с такой красавицей, задержала ее у себя на целых три года! Она была прекрасна, как цветущая сакура, такое сравнение никому не показалось бы чрезмерным. В смущении пряча лицо, она закрывалась рукавом – точь-в-точь цветущее дерево сакуры, когда оно кутается в весеннюю дымку… Я любовалась ею, а уж государь – тем более; мне, знавшей его любвеобильный характер, было ясно, какие мысли возникли у него при виде принцессы, и на сердце у меня защемило. Государь говорил о том о сем, Сайгу отрывисто рассказывала о своей жизни в храме Исэ, но вскоре государь сказал:
– Час уже поздний… Спите спокойно! А завтра, по дороге домой, полюбуйтесь осенним видом горы Арасиямы… Деревья там уже совсем обнажились… – С этими словами он удалился, но не успел войти в свои покои, как сразу обратился ко мне: – Я хотел бы передать Сайгу, что я от нее без ума… Как это сделать?
Мне стало даже смешно – все в точности, как я и предполагала. А он продолжал:
– Ты служишь мне с детских лет, докажи свою преданность! Если ты исполнишь мою просьбу, я буду знать, что ты и впрямь предана мне всей душой!
Я сразу же отправилась с поручением. Государь велел передать только обычные, подобающие случаю слова: «Я рад, что смог впервые встретиться с вами…»; «Удобно ли вам почивать в незнакомом месте?» – и в таком роде, но, кроме того, я должна была тихонько отдать принцессе его письмо. На тонком листе бумаги было написано стихотворение:
- О нет, ты не знаешь,
- как ярко пылает в груди
- твой образ желанный,
- хоть тебя впервые увидеть
- довелось мне только сегодня!
Была уже поздняя ночь, в покоях Сайгу все ее прислужницы спали. Сайгу тоже спала, со всех сторон окруженная высоким занавесом. Я подошла к ней, рассказала, в чем дело, но Сайгу, зардевшись краской смущения, в ответ не промолвила ни словечка, а письмо отложила в сторону, как будто вовсе не собиралась даже взглянуть на него.
– Что прикажете передать в ответ? – спросила я, но она сказала только, что все это чересчур неожиданно, она даже не знает, что отвечать, и снова легла. Мне тоже стало как-то неловко, я вернулась, доложила государю, как обстоит дело, и окончательно растерялась, когда он потребовал:
– Как бы то ни было, проводи меня к ней, слышишь? Проводи, слышишь!
– Хорошо, разве лишь показать вам дорогу… – ответила я, и мы пошли.
Государь, по-видимому решив, что парадное одеяние будет выглядеть слишком торжественно в таких обстоятельствах, крадучись направился вслед за мной в покои Сайгу только в широких шароварах-хакама. Я пошла вперед и тихонько отворила раздвижные перегородки. Сайгу лежала все в той же позе. Прислужницы, как видно, крепко уснули, кругом не раздавалось ни звука. Государь, пригнувшись, вошел к Сайгу через прорези занавеса. Что будет дальше? Я не имела права уйти и поэтому прилегла рядом с женщиной, спавшей при госпоже. Только тогда она открыла глаза и спросила: «Кто тут?» Я ответила:
– Нехорошо, что при госпоже так мало людей, вот я и пришла вместе с вами провести эту ночь. – Женщина, поверив, что это правда, пыталась заговорить со мной, но я сказала: – Уже поздно, спать хочется! – И притворилась, будто уснула. Однако занавес, за которым лежала Сайгу, находился от меня очень близко, и вскоре я поняла, что Сайгу, увы, не оказав большого сопротивления, очень быстро уступила любовным домогательствам государя. «Если бы она встретила его решительно, не сдалась бы так легко, насколько это было бы интереснее!» – думала я. Было еще темно, когда государь вернулся к себе.
– Цветы сакуры хороши, – сказал он, – но достать их не стоит большого труда – ветви чересчур хрупки!
«Так я и знала!» – подумала я, услышав эти слова. Солнце стояло уже высоко, когда он наконец проснулся, говоря: