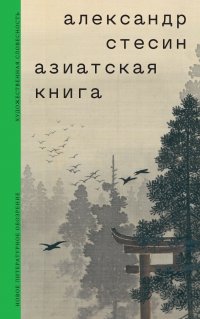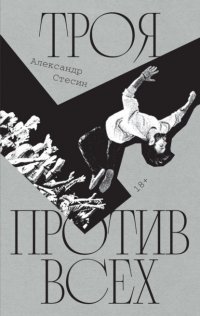
Читать онлайн Троя против всех бесплатно
- Все книги автора: Александр Стесин
Во мне – два человека, и оба держатся на расстоянии друг от друга, словно несросшиеся сиамские близнецы.
Фернандо Пессоа. Книга непокоя 1
Кто приходит к чужим, тот отвечает, а не поет.
Пословица амбунду
Глава 1
Это помню отчетливо: как Рэйчел, соседка по общежитию, учившаяся на факультете танца (я и не знал, что есть такой факультет), сообщила, что знакома с девушкой, которая могла бы стать моей «второй половинкой».
– Ты себе не представляешь, до чего вы похожи. Просто близнецы какие-то. По-моему, тебе надо срочно завести с ней роман.
– Честно говоря, мне не хотелось бы заводить роман со своим близнецом.
– Да нет, я не говорю, что вы внешне похожи. Внешность у нее вообще супер. Ну, просто у вас много общего. Короче, вы друг другу понравитесь. Ну что, будешь знакомиться?
– Куда ж я денусь?
Я записал телефон на желтый листок «post-it», который затем спрятал в бумажник, прижав клейким краем к банковской карточке (самый верный способ не потерять). Позвонил в тот же вечер. «Вторую половинку» звали Вероникой. Она ждала моего звонка, слышала обо мне от Рэйчел: да-да, близнецы и все такое. Наверно, потому, что оба из России? Рэйчел – добрая душа, но, как говорят американцы, «не самая яркая лампочка в коридоре». Как это будет по-русски? Есть такое выражение? «Не семи пядей во лбу», – подсказал я… Или не было в нашем разговоре такого момента? По правде сказать, я не помню даже, на каком языке мы тогда говорили. Скорее всего, по-английски. А имя? Как я ей представился? С именем у меня сложности с подросткового возраста – с того момента, как мы с родителями приехали в Америку. В иммиграционных документах написали Vadim, не сообразив, что по-английски это будет читаться как «вейдэм». Правило открытого слога. В школе меня тут же наградили кличкой Дарт Вейдэм. Я очень старался не обидеться, подыгрывал: «Люк, я твой отец». Но в конце концов не выдержал и поменял орфографию на Vadeem. В результате мое имя стали произносить почти правильно, но заочно принимали за пакистанца. Я предпринял еще одну попытку: сократил до Vad. Но мне объяснили, что это вообще не имя. Тогда я взял себе американское имя Damian. В обратном переводе на русский я получался теперь Демьяном; те, кто знал меня не очень близко, так и называли. В конце концов, где Дима, там и Дема. Близкие друзья называли Димой, неблизкие – Демой, и только родители – Вадиком. Кажется, я выдал ей все это в первые же пять минут. Хороший зачин, ничего не скажешь. Знакомство а-ля Вуди Аллен (вот уж кого никогда не любил!).
Вероника оказалась Вероникой, как по-русски, так и по-английски. Помолчав, добавила, что дома ее называют Викой. Она, как и я, родом из Saint Petersburg. Как и я, приехала в Америку ребенком. И так же, как я, мечтает стать адвокатом. Кроме того, она пишет стихи. Вернее, писала. Она написала одно стихотворение. Ей было семь лет, ее родители разводились, и ей приходилось все время мотаться с одного конца города на другой. Стихи пришли ниоткуда, как будто их ей надиктовали. Она до сих пор помнит первое четверостишие: «Висит картина на стене, / на ней – растопленные лица / танцуют с тенью в полусне / в надежде с комнатою слиться…» Кажется, неплохо, да? Для семилетнего ребенка – просто здорово.
Мы провисели на телефоне почти три часа. Прощаясь, вспомнили про Рэйчел («лампочка-то оказалась ярче, чем мы думали…») и договорились встретиться на следующий вечер у входа в административное здание, торжественно именуемое Палатой общин. Располагалось оно в самом центре кампуса, в окружении зданий поменьше – кофеен и едален для студентов. Все дорожки, ведущие к лекториям и общежитиям, лучами расходились от Палаты или, наоборот, вели к ней, и потому в этой точке, у вечно закрытых дверей ампирного здания, чье предназначение было никому не ведомо и не интересно, по традиции назначались все свидания. Она была вроде того фонтана в ГУМе. Ни фонтана, ни ГУМа, который родители показывали мне во время скомканной поездки в Москву, я, конечно, не помню. Но фраза «в ГУМе у фонтана» застряла в памяти среди беспорядочных ошметков советского детства.
А вот это помню: промозглый день, серое небо с расплывчатой пробелью тумана, который поднимается от искусственного озерца на окраине кампуса; первокурсники, зябко и неприветливо кучкующиеся у входа в Палату. В одной кучке – рейверы, в другой – геймеры, в третьей – готы; у всех своя форма одежды. Точно фишки, рассортированные по цвету и расставленные по разным углам поля перед началом настольной игры. Сейчас кто-нибудь бросит кости, сделает первый ход и – пошло-поехало. Все цвета смешаются, карточки из колоды будут неровно ложиться на свободные квадраты, а фишки – одна за другой выбывать из игры.
Вероника не пришла. Я пробовал дозвониться, оставил несколько сообщений, одно наигранней и нелепей другого. Через неделю, превозмогая стыд, невзначай поинтересовался у Рэйчел: «Как там, кстати, поживает мой астральный близнец Вероника? Не звонит, не пишет… Ты, случайно, не знаешь, куда она пропала?» Рэйчел ответила с неожиданной прохладцей: «Просто ты показался ей слишком напористым, вот и все».
***
Просыпаясь в поту, я думаю, что соскучился по нормальному одеялу. Вот чего здесь нет. Уже полтора года я укрываюсь чем-то вроде вафельного полотенца, какие выдавали во времена моего детства в поездах дальнего следования. Небось советские друзья и прислали – еще в ту пору, когда Ангола шла путем строителей коммунизма. Советский big brother облагодетельствовал их вафельными полотенцами, а местные соткали из них эти лоскутные покрывала. В здешнем климате только ими и можно укрываться, но как избавиться от тоски по ватному одеялу, тому самому, которое мать дала мне с собой в колледж? Я спал под ним все четыре года, проведенные в общежитии, и потом, когда начал семейную жизнь, купил себе точно такое же, но не захотел делиться им с женой, да и она не захотела – спала под пледом. «Под пледом невозможно спать, под ним можно только дремать», – ворчал я и, завернувшись в свой ватный кокон, отворачивался к стене. Теперь это далеко – и плед, и кокон. Вафельная же простынка не предназначена для личного пользования, она предназначена для безличного, и подтверждением тому одно интересное наблюдение: эта материя не удерживает запаха пота, хотя потею я будь здоров, особенно с тех пор, как у меня сломался кондиционер. Кондиционер, надо сказать, был почти новый, гарантия на починку еще не истекла. Но здесь, в Луанде, эта гарантия – пустой звук. О том, что тебе что-то там починят, да еще в разумные сроки, и думать нечего. Привыкай спать как местные, маринуясь в собственном соку. А покрывало, даже если его не стирать целый месяц, продолжает пахнуть чем-то стерильно-больничным, карболкой, что ли: не признает своего хозяина, не впитывает его пота. И мое пребывание здесь – в этой постели, в этом городе – остается бесследным. Но я не опускаюсь до такой метафоры не потому, что отказываюсь видеть в вафельном покрывале символ моей нынешней жизни, а потому, что уж слишком на поверхности он лежит, этот символ. Он мог бы сгодиться для какого-нибудь романа Пепетелы. Я заставлял себя читать Пепетелу и прочих классиков ангольской литературы, когда только сюда приехал. Что-то там про партизан. В этих книгах в духе соцреализма, написанных под одну гребенку, речь шла словно бы о другой стране, не было ни вкуса, ни запаха, не было того, что я вижу вокруг.
Сам я никогда раньше не писал романов. Это – первая проба пера. Моя мать, в прошлом учительница русского и литературы, хотела воспитать литературного мальчика. В ее прежней, доэмигрантской картине мира начитанность была чуть ли не главной человеческой добродетелью. В эмиграции от той картины почти ничего не осталось – кроме желания, уже ни к чему не привязанного: чтобы сын сохранил русский язык. Чтобы вырос начитанным. Не бог весть какая мечта, но она сбылась, мама: я всегда любил читать. А теперь вот и писателем решил заделаться. Звучит гордо: пишу роман. Точкой отсчета послужил дневник, который я раньше вел от случая к случаю, а по прибытии в Африку стал вести регулярно. Причем пишу на языке, которым почти не пользуюсь изо дня в день. Говорю я в основном по-английски и по-португальски. А пишу по-русски. Мне нужна эта постоянная дистанция самоперевода. Подальше от себя, поближе к другому себе, которого нет.
Кажется, разрозненных историй, которые я собрал за то время, что здесь нахожусь, и впрямь могло бы хватить на целую книгу. «Перед вами рассказ русского американца, переехавшего в Анголу и вобравшего в себя непривычные реалии этой страны, ее невероятные истории. Это не просто очередная книга об Африке, а именно роман. Роман с Анголой». Путеводитель по местам, где никто, кроме меня, никогда не бывал. Это приятно – чувствовать себя первопроходцем. Писать с позиции эксперта. В повседневной жизни ты, экспат-новобранец, с трудом ориентирующийся в местных реалиях, ежеминутно чувствуешь уязвимость своего положения. Зато на бумаге говорящий обретает апломб всезнайки; твой гипотетический читатель знает еще меньше, чем ты, и это придает тебе сил. Лучший способ помочь слабому ученику – дать ему выступить в роли учителя.
Итак, первая проба пера. Почти первая. В юности я баловался стихами, текстами для песен, но с самого начала знал, что это не всерьез. Всегда метил в юристы, в старших классах был участником дискуссионного клуба, упражнялся там в красноречии, а в колледже ездил на Гарвардские дебатные турниры, даже призы получал. И стал кем хотел, и взмыл по карьерной лестнице – не в самые, конечно, эмпиреи, но до определенного уровня. И ушел от жены (если быть до конца честным, не я от нее, а она от меня); и, земную жизнь пройдя до половины, почти «вернулся в детство», как я привык говорить себе и другим, «эмигрировал по второму разу». Приняв предложение от британской инвестиционной компании, перебазировался в Луанду, столицу Анголы, город будущего на юго-западном побережье Африки. И если детство это, собранное наугад из отдельных кадров, из сувенирной рухляди, переполнившей барахолки всего постсоветского пространства, а здесь, в постсоветской Анголе, еще не отжившее и не отболевшее до конца, – если это детство не оправдывает моих ожиданий, то нечего пенять на одеяло, одеяло тут ни при чем.
По выходным я завтракаю на балконе, защищенном от мира металлической решеткой, несмотря на то что квартира находится на седьмом этаже. Неужели местные бандиты способны залезть так высоко? Или это исключительно для успокоения склонных к паранойе квартирантов-экспатов вроде меня? С высоты седьмого этажа мне видна вся улица, ее полупонятная жизнь. Я запихиваю в рот остатки вчерашнего ужина, запиваю чуть теплым кофе. В детстве у меня был плохой аппетит. Родителям то и дело приходилось напоминать мне, что кусок, который я мог часами держать за щекой, в конце концов надо разжевать и проглотить. «Жуй и глотай, Вадя, жуй и глотай!» Теперь я, взрослый дядя, у которого с аппетитом все в порядке, так же напоминаю себе любоваться этим видом с балкона. Видом, который вот уже полтора года служит профильным фото на моей странице в Фейсбуке. «Смотри и радуйся, Дэмиен Голднер, смотри и радуйся!» Говорят, десять лет назад здесь были сплошные трущобы, а сейчас – джентрификация почище нью-йоркской. Выселяют, сносят и строят новое, массивное. Из богатого ассортимента луандской архитектуры – старые панельные дома (ближайшие родственники нью-йоркских проджектов2), развалюхи из кирпича и листового железа в муссеках3, аляповатая китайщина небоскребов или последние из колониальных построек с красными черепичными крышами, кое-где еще облицованные традиционной глазурованной плиткой «азулежу», – я предпочитаю пережитки португальского колониализма.
Белые ехали сюда, как и в Южную Африку, с тем чтобы поселиться на веки вечные. Только здесь, в отличие от ЮАР, не было длительного противостояния между разными мастями колонизаторов, никаких англо-бурских войн. С голландцами, заключившими союз с правительницей Ндонго и Матамбы4, расправились еще в XVII веке. Остались одни португальцы. Вероятно, по части колониального насилия они не уступали другим европейцам, но отличались от остальных хотя бы тем, что перемешались с местным населением куда более основательно, чем англосаксы – с зулусами или французы – с баконго. Как утверждает один из моих здешних знакомых, «креольские гены – самые живучие». Охотно верю. Я и сам такой: мама – русская, папа – еврей. Полукровка – и в Африке полукровка. Креольские гены. Так победим.
В Луанде все говорят по-португальски. Кроме китайцев. После ухода португальских властей тут ненадолго обосновались кубинцы и русские, а в начале 2000‐х пришли китайцы. Колонизаторы-строители. Пришельцы из Китая ни с кем мешаться не собираются, хоть и не брезгуют столовками и общественным транспортом, разъезжают по городу вместе с ангольцами в бело-голубых кандонгейруш5 (среднего американца в такой транспорт калачом не заманишь). Хотя нет, не только португальский да китайский; кое-где слышится и английская речь. В первом десятилетии нового века рост цен на сырьевые товары согнал сюда толпы англоязычных экспатов. Новый Клондайк, нефтедобыча по два миллиона баррелей в день. Сулили неограниченные возможности, говорили, что Луанда – следующая столица мира. Вот и я оказался частью толпы, хотя к моему прибытию пик уже прошел и запоздалым старателям достались, в сущности, жалкие остатки. Но я и не рассчитывал стать богачом в одночасье, не за этим сюда ехал или, скажем так, не только за этим.
Могу похвастаться: за первые полгода здесь я довольно сносно заговорил по-португальски (помог испанский, который я учил в школе) и хотя бы этим выгодно выделяюсь на фоне бывших соотечественников, как русских, так и американских. Что же касается местных наречий, кимбунду и умбунду, мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что это – разные языки. На кимбунду говорят северные мбунду, живущие в окрестностях Луанды, а на умбунду – те, кто живет на юге, в Уамбо и Бенгеле. Старшие товарищи объяснили мне, что в эти тонкости можно и не вникать. В Луанде африканские языки не в ходу, разве что среди стариков или тех, кто только-только из деревни, но ни с теми ни с другими у экспата, работающего на инвестиционную компанию, нет повода общаться. «Все очень просто: кимбунду – это побережье, МПЛА6, нефть; умбунду – внутренние районы, УНИТА7, золото и алмазы. Вот и все, что тебе нужно знать».
Африканские языки слышны урывками в уличной какофонии. Если прислушаться, в ней можно различить и умбунду, и кимбунду, и киконго, и чокве со всеми их бесчисленными диалектами, а заодно – французский, арабский, иврит. Мне нравится это вавилонское многоязычие: почти как в Нью-Йорке или в Чикаго. В детстве я знал доморощенного лингвиста, помешанного на идее универсального языка. Он был отцом одного из моих чикагских одноклассников. Контуженый ветеран Вьетнама, он посвятил полжизни своей не слишком оригинальной идее. Составлял словари, разрабатывал грамматику. Когда ему указывали, что такой проект уже пытались осуществить создатели эсперанто, он мотал головой: «Из эсперанто ничего не получилось, потому что его придумали для взрослых. А мой язык смогут выучить дети, он будет понятен для всех. Это долгосрочный проект, одной жизни не хватит. Но я закладываю фундамент. Потом мое дело продолжат. Гарантирую: через тысячу или даже через пятьсот лет все люди станут говорить на этом языке. И на свете не будет войны». Такого персонажа, чокнутого ветерана-визионера, легко можно представить и здесь, в послевоенной Луанде. Какой из тридцати девяти национальных языков Анголы он взял бы за основу своего универсального языка? Смесь киконго с французским? Или, может быть, смесь умбунду с мандаринским? Все это можно услышать, если прислушиваться и уметь отличать один язык банту от другого. Но у экспата, с грехом пополам вписавшегося в здешнюю жизнь, нет на это времени. Кто-то из сослуживцев шутки ради подарил мне кимбунду-португальский словарь. Я положил его к другим сувенирам – африканским маскам, статуэткам, обрезам узорчатой ткани. Когда-нибудь, когда я вернусь домой, мне понадобятся все эти собирающие пыль безделушки. Безотказный способ взбудоражить память и фантазию новоиспеченного романиста. Артефакты другой, непредставимой жизни. Возможно, тогда я даже открою этот толстенный словарь и выучу несколько слов на кимбунду.
***
С Вероникой я познакомился через год после той провальной попытки назначить свидание. Познакомился случайно, не подозревая, что она – это она, а главное, так и не выдав ей, что я – это я. Обычный пятничный загул в колледжском баре. Она была с подругой, я – один и в сильном подпитии. Она оказалась крашеной блондинкой, вполне миловидной. Правильная фигура, правильные черты лица. Правильное – это усредненное, это не комплимент. Глаза большие, темные. Взгляд казался то насмешливым, то слегка безумным. Странный взгляд. Тем интересней. Действовать надо наверняка, и чем проще заход, тем оно лучше. Для таких случаев у меня был припасен alias: я представлялся Бобом Райли (так звали одного качка у нас в школе).
– Привет, я – Боб. Потанцуем?
– Боб? А фамилия?
– А что, разве для танца требуется фамилия?
– Требуется, требуется.
– Ну, Райли.
– Ну, привет, Боб Райли. Я – Вероника.
– А фамилия?
– Просто Вероника. А это моя подруга Дженни. Ну, так что мы будем пить?
К тому моменту, как я сообразил, кто передо мной, переигрывать было уже поздно, и я провел остаток вечера в образе Боба Райли. Вышло глупо: на прощание Вероника сама попросила у меня телефон, и мне ничего не оставалось, кроме как дать ей выдуманный номер. Настоящий мой номер она уже знала и знала, кому он принадлежит. А если и выбросила, вычеркнула из памяти и записной книжки, то – все равно не выкрутиться. Можно себе представить, как я буду подходить к телефону («Боб слушает»), отбиваясь от соседей, Криса с Джошем. Как они будут назло выхватывать трубку: «Он – не Боб Райли, он – Дарт Вейдэм!» Нет, нет, не нужно нам такого счастья. Вот вам, мадемуазель Вероника, липовый телефон Боба Райли. Или, как поется в песне, «Jenny, don’t change your number: 8-6-7-5-3-0-9…».
В колледже у меня было два круга знакомых, русский и американский. Они практически не пересекались между собой, и если американский круг был в целом ничем не примечателен («Хорошие ребята, не знаю, нормальные» – так описывал я своих друзей родителям), то русский круг, о котором родителям не сообщалось, никак нельзя было назвать нормальным. По правде говоря, я и сам не вполне понимал, как меня занесло в эту компашку. Одни кликухи чего стоят: Кулак, Профессор, Кот, Ву-танг, Жека-со-шрамом, Жека Forget-about-it… Я даже не был до конца уверен, студенты ли они или только приходят на кампус потусоваться. «Демчик, пойдем курнем!» «Демчик, мы с Кулаком сегодня по клубам. Ты с нами или как всегда?» По крайней мере, про Костю Кулака я точно знал, что тот учится, и не где-нибудь, а на юридическом, то есть там, куда я и сам стремился попасть. Есть такие люди: и кокс по клубным туалетам нюхает, и здоровенного вышибалу отметелить может (отсюда – кликуха), и в престижной law school учится на отлично, готовится стать успешным юристом. Я тоже хотел быть таким. Кулака побаивался и безотчетно лебезил перед ним, отчего становился сам себе противен. Вообще, чувствовал себя не слишком уютно среди этой шпаны, хотя по четвергам исправно ходил с ними в злачный клуб «Микки-рекс». В кругу однокашников-американцев, где я был не Демчиком, а Дэмиеном, мне было комфортней. При этом я не без гордости расписывал американцам эскапады моих crazy Russian friends, а иногда попросту врал, записывая выходки того же Кости на свой счет.
Но ведь случалось и со мной всякое… Один пуэрто-риканский эпизод чего стоит! На какой-то тусовке приобнял незнакомую девушку, она ко мне прильнула, и тут выскочил ее бойфренд, бешеный пуэрториканец. Все удары – в голову и открытой ладонью, «по-бруклински». Я упал, ударился головой о каменную плиту. Пуэрториканец не отступился, а наоборот – бил ногами по голове, но этого я, естественно, уже не помню. Узнал потом от Криса с Джошем, это они меня, окровавленного, дотащили до приемного покоя. Оказалось, сильное сотрясение мозга. Врач с длинным индийским именем на нагрудном кармане белого халата (в кармане – целый набор ручек, на рукаве – кофейное пятно) резюмировал: легко отделался. А через месяц справляли мой день рождения, заказали стол в армянском ресторане. Владелец ресторана, Серега, бывший моряк, клеился к каждой юбке; когда же ему напоминали, что у него есть жена, потешно удивлялся: «Жена who?» И вот в самом разгаре шабаша подходит ко мне Кулак:
– Слышь, Демчик, нам пора. Кот уже тачку подогнал.
– А куда мы едем? – спрашиваю я с пьяным благодушием.
– Воевать едем. В Латинскую Америку. Тебе табло начистили? Ну, мы с ребятами, понятно, огорчены таким поворотом событий. Надо поучить Пуэрто-Рико.
– Так я ж понятия не имею, что это за пуэрториканец был и где его искать!
– А, это мы уже без тебя выяснили. И что за хер, знаем, и где живет. И даже то, что он сейчас дома. Небось красавицу свою шпилит. Поехали, короче. Считай, это наш коллективный подарок тебе на день рождения.
На следующее утро я никак не мог восстановить в памяти все детали. С тревогой подумал, что мне уже во второй раз отшибло память. Так или иначе, я не запомнил ни собственного избиения, ни ответной расправы. Несколько разрозненных и расплывчатых картин, не более того. Вот мы идем дворами, продираемся в потемках через какие-то заросли и, вынырнув, оказываемся на лужайке за двухэтажным домом. На веранде сидит невменяемый хиппи. Кулак говорит: «Это наш связной». Невменяемый хиппи впускает нас в дом. При этом он безостановочно хохочет, повторяя слово «вендетта». Кулак и Жека-со-шрамом идут в бой первыми. К тому моменту, как заплетающийся и шатающийся именинник их догоняет, бешеный пуэрториканец уже валяется на полу в гостиной. Тот ли это, по чьей милости я месяц назад угодил в больницу? Я не могу опознать моего обидчика. Никакой красавицы-подруги с ним нет. Но Кулак уверяет, что это он, тот самый, и хиппарь-наводчик между приступами хохота подтверждает слова вожака.
После этого случая я изменил свое отношение к Кулаку и компании. Друг познается в беде, и, если в беде, постигшей меня, истинными друзьями оказались не интеллигентные Джош и Крис, а мордоворотистые ребята с блатными кликухами, значит, так тому и быть. Теперь и я буду им настоящим другом, примкну к их компании уже не наполовину, как раньше, а на все сто. К счастью, решимости моей хватило ненадолго.
Вероника не принадлежала к «русскому кругу»; скорее всего, она даже не знала о его существовании. И все же это именно Рафаэль (кличка – Кот) снова свел нас вместе. Вернее, не сам Кот, а его приятель Кир (для американцев – Сайрус). Это произошло в клубе «Микки-рекс», куда мы все ходили, не пропуская ни одного «thirsty Thursday».
– Знакомьтесь, – сказал Кир, – это Вероника. Мы с ней дружим с двенадцати лет. С того момента, как меня привезли в Америку. Она – мой первый американский друг.
– А я – твой сосед, – перебил его Кот. – Ты иранец, а я из Узбекистана. У нас в общине говорят на фарси. Значит, мы с тобой кто? Правильно, соседи. Да, чуть не забыл, это мой друган Дэмиен. Мы по-русски его называем Дема или Демчик.
– Вот как? – Теперь во взгляде Вероники не читалось ничего, кроме насмешки. – А мне почему-то казалось, что его зовут Бобом Райли.
– Не Бобом Райли, а Бобом Марли! – жалкая попытка отшутиться.
– Не пизди! – возмутился Кот. – У Боба Марли были шикарные дреды, а у тебя просто жидовская шевелюра!
– Это правда, – с готовностью согласился я. Спасибо тебе, друг, ты и не знаешь, как выручил меня своими плоскими остротами. Еще минуту назад мне хотелось провалиться сквозь землю, но теперь ситуация, только что казавшаяся безвыходной, как-то неожиданно разрешилась сама собой.
Весь остаток учебного года мы гуляли такой вот странной компанией: Кир, Вероника и мы с Котом. Вероника стала «своим парнем»; теперь мы с ней общались запросто, по-приятельски. Ничего романтического в наших отношениях не было. Как не было, впрочем, и настоящей дружеской близости. Да и ни у кого из нас ее не было.
Глава 2
Вспоминается и такое: как Ар-Джей Бернарди выходит из клуба, всем своим видом демонстрируя, что ему никто не указ. На нем белая бейсболка, какие носят в снобском Клифтон-Парке, а в Трое-Кохоузе не носят, считается дурным тоном. Да что бейсболка, он весь – от очков до новых кроссовок – выкормыш Клифтон-Парка. И все-таки на маменькиного сынка из частной школы он похож только на первый взгляд. Кепка, очки, кроссовки. Но – походка вразвалку, хулиганский задор. Ему, Ар-Джею Бернарди, море по колено: он – гитарист из легендарной группы Eats Shoots and Leaves. Пятнадцатилетний пацан, а уже звезда.
– Ну, чё там?
– Волосатые рубятся. Говно, – отвечает Ар-Джей, глядя мимо собеседника.
– А наши где?
– Подтягиваются. Скоро начнем.
Через некоторое время у входа в клуб выстраивается ожидаемая очередь. Пирсинги, наколки, бритые головы в байкерских косынках или в лыжных шапках, надвинутых на глаза; безразмерные худи, джинсы-шаровары JNCO, холщовые кеды. Это и есть «наши»: буйная поросль из промышленного захолустья под названием Троя на севере штата Нью-Йорк. Если сосчитать всех, кто когда-то топтался здесь в ожидании концерта Eats Shoots and Leaves или One Man Less, наберется человек триста, а то и больше. На этом групповом снимке Вадику шестнадцать лет, он учится в одиннадцатом классе. За плечами – рюкзак в заплатах, из кармана джинсов торчит ржавая велосипедная цепь, пристегнутая к кошельку. На тыльной стороне кисти черным фломастером выведен символ стрэйт-эдж8 в виде буквы Х. На дворе девяносто четвертый год.
Эта Троя пала еще во времена Великой депрессии: один из некогда отвоеванных рубежей, наспех застроенных в период предпринимательского бума и впоследствии почти заброшенных, пришедших в упадок, но сохранивших гордое название. Почему Троя? Название казалось чистой случайностью. Как и все остальное, впрочем. Люди привыкли к засилью случайности. Случайные заработки как единственный источник дохода, случайные знакомства в спорт-барах как единственный способ найти себе подобных. Даже сама планировка города и та выглядела случайной: бесконечное петляние безлюдных улиц. Среди заброшенных зданий с выбитыми стеклами, автомастерских, складских дворов и свалок металлолома нет-нет да и промелькнет одноэтажная хибара с покосившейся вывеской «Салон красоты» или «Доктор Дж. Риззо, фармацевт». Случайность – genus loci, гений места, предстающий в виде змеи. Только, в отличие от той античной змеи, эта не оберегала свою территорию, а примеривалась к ней, как это делает удав прежде, чем проглотить жертву.
Но территория никогда не сдавалась без боя. Она и теперь еще выпутывается из уличной петли, чтобы затеять строительство нового сити-холла. Или посвящает себя организации музыкального фестиваля «Двадцать пять лет спустя» – в память о тех достославных днях (середина девяностых), когда в трущобах Трои и сопредельного Кохоуза процветала контркультура хардкор-панков, впоследствии распространившаяся по всему Восточному побережью. Кажется, это явление тоже было случайным, но теперь о нем говорят с гордостью (так в каком-нибудь Квинсбридже не устают перечислять имена вышедших оттуда знаменитых рэперов). Непонятно, откуда возник новый звук, а вместе с ним – социальный протест, недолговечная романтика возрождения, гормональный выброс с идейной подоплекой. Сначала на сцену вышли Chain Link, Game For Abuse, No Savior и Street Hounds; вслед за ними появились Down And Out, Redress и Formation; а затем, в том самом девяносто четвертом году, плотину прорвало, и групп стало едва ли не больше, чем слушателей. Слушатели же, хоть их было и немного, не только ходили на все концерты, но и знали наизусть бóльшую часть песен. Демоальбомы, записанные в одной и той же полудомашней студии на Ларк-стрит, переписывались на двухкассетниках и за пару дней расходились по всей Трое.
К началу нового века этот порыв угаснет, вчерашний андеграунд станет частью поп-культуры. Стареющие панки, по инерции продолжающие проповедовать стрэйт-эдж, веганство и фэнзиновский самиздат, перекочуют из подвалов в прайм-тайм MTV, чтобы ненадолго превратиться в кумиров избалованной молодежи из пригородов. Но рано или поздно все встанет на свои места. И тогда офисный работник Ар-Джей Бернарди, упитанный человек средних лет, после двадцатилетнего перерыва запишет альбом с новой группой. В пятнадцать он был вундеркиндом и рок-звездой локального масштаба, хотя на гитаре играл не ахти. За последние же двадцать лет он вырос в виртуозного гитариста, исполняющего никому не нужный арт-метал в духе Эдди Ван Халена или Ингви Мальмстина. Теперь на его концерты приходят пять–десять человек из числа старых друзей. Если бы Вадик до сих пор обитал в окрестностях Трои, он бы тоже сходил. Не по старой дружбе, а просто послушать. Наплевать, что нынешний репертуар Бернарди насквозь вторичен. Зато играет здорово, Вадик даже не ожидал.
– А у тебя ведь тоже была группа, – вспоминает офисный работник Ар-Джей, когда они с Вадиком раз в год общаются в чате. – Как же ее… Era Of Division? Arrow Of Division?
– Error Of Division, – подсказывает Вадик.
– Во-во. Классное название. Я бы стырил.
Забавно: Ар-Джей всегда был занят поиском идеального названия для группы. Хотя что может быть лучше, чем Eats Shoots and Leaves? В зависимости от выбора пунктуации это может означать «Ест, стреляет и уходит» или «Ест побеги и листья». С одной стороны, кредо маньяка; с другой – строгое вегетарианство. В этом названии – вся нехитрая суть хардкора. Но Error Of Division тоже неплохо.
– Спокойно можешь тырить, – разрешает Вадик. – Нас все равно никто не помнит.
Название хоть куда, а сама группа была хуже некуда. Вадик писал пафосные тексты и пел, вернее, орал визгливым голосом: настоящий скрим у него никогда не получался. Но группа была. В тот или иной момент у каждого «троянца» была своя группа. Недаром в лексиконе хардкоров вместо слова «тусовка» употреблялось слово «сцена». Все были на сцене, воображали себя музыкантами, ощущали творческий зуд.
– А я твоего Дэйва недавно видел, – ни с того ни с сего вспоминает Ар-Джей. – Он на наш прошлый концерт приходил.
– Как у него дела?
– Ничего вроде. Только разнесло его, в дверь не пролазит. Говорит, это из‐за таблеток. Болеет он, что ли?
Одно время Дэйв был у них ударником, таким же никудышным, как Вадик – вокалистом. Но визг Вадика как-то терпели, а Дэйва после нескольких репетиций поперли из группы. Уровень игры на барабанах был ни при чем. Просто Дэйв был сбоку припеку, не принадлежал к хардкор-сцене. Это Вадик притащил его в Error Of Division. В школе белых бейсболок он, как и Вадик, был изгоем, и Вадик подумал, что Дэйву тоже найдется место среди люмпенов-музыкантов. Тем более что тот всегда любил тяжелую музыку. Но музыка музыкой, а субкультуру хардкор-панков примет не каждый.
Казалось бы, с татуированными парнями из Трои у Вадика должно быть еще меньше общего, чем с шайкой Кости Кулака. Но эмигрантское детство наложило своеобразный отпечаток: у Вадика развился вкус к экстремальным перевоплощениям. Традиционная кепка с логотипом бейсбольной команды сидела на нем криво, косить под нормального подростка не удавалось. Зато полинялая бандана, джинсы JNCO и кофта с капюшоном пришлись в самый раз, и в шестнадцать лет он, остриженный под ноль и беспрестанно щурящийся (лишь бы не носить очки), фактически переселился в панковский сквот, сочинив что-то неубедительное для успокоения родителей.
Дэйв – другое дело, у него не было ни эмигрантского детства, ни тяги к экстриму. Он тянулся к знаниям. Читал труды Ф. Джексона Тернера и Шлезингера9 по политической истории США, курил по две пачки в день, жил в своем мире и дубасил по барабанам, стараясь заглушить пронзительный голос старшей сестры, доносившийся из соседней комнаты.
Вадик дружил с Дэйвом много лет. Вместе учились в школе, потом – в университете, где Дэйв затмевал всех студентов истфака, даром что на занятиях появлялся не чаще чем раз в две недели. Это было в самом конце девяностых в Покипси; панк-рок и Троя были уже далеко. Дэйву прочили блестящую академическую карьеру. На последнем курсе университета он получил стипендию Фулбрайта. Предполагалось, что он поедет в Германию, чтобы работать там над диссертацией – что-то про Веймарскую республику. Запомнилось, как они праздновали его успех в немецком трактире и виновник торжества весь вечер пытался заговорить с официанткой по-немецки, хотя та была чистой американкой ирландского происхождения. Все было на мази, впереди аспирантура в Гейдельберге.
Но за пару недель до поездки в Германию Дэйв совершил, как ему казалось, грандиозное открытие. Он открыл, что сон и пища вызывают у человека химическую зависимость, от которой надо немедленно избавляться. Это был первый приступ биполярки. Вместо аспирантуры бедный Дэйв отправился в психиатрическую лечебницу. С академической карьерой было покончено. Когда его выписали, он вернулся под родительский кров, где живет и по сей день. В периоды между рецидивами он подрабатывает учителем на замену в школе, где они с Вадиком когда-то учились. От барабанов он давно отказался, зато обзавелся мотоциклом и мотовездеходом. Каждый вечер он вывозит свой «Харлей» из гаража и несколько раз объезжает на нем вокруг квартала. Затем мотоцикл возвращается в гараж, и настает очередь мотовездехода. Тот же маршрут вокруг квартала, несколько привычных кругов с легким ветром в ушах. И – обратно в гараж, до следующего раза.
В девяносто четвертом году пропахший куревом, пивом и потом бар-клуб A2Z был одной из трех площадок, чьи двери были открыты для меломанов из Трои. Во всех прочих заведениях их капюшоны и рюкзаки примелькались, владельцы были уже в курсе, что на хардкоровских концертах творится черт-те что, и предпочитали не связываться. И только в самых заплеванных клубах – A2Z, Gelato’s и Saratoga Generals – на их бесчинства смотрели сквозь пальцы, поскольку другой клиентуры у них не было. Generals и Gelato’s выглядели несколько приличнее, чем A2Z, там было больше места и не так грязно. Тем не менее основная часть мероприятий проводилась именно в A2Z.
Узкая сцена была отгорожена от зрительского зала металлическими перилами; во время концерта на них забирались любители стейдждайвинга и, проделав кульбит, ныряли в толпу. На памяти Вадика было как минимум пять или шесть случаев, когда в результате неудачного прыжка приходилось вызывать скорую. Шоу останавливали, в зале включали свет. Санитары уносили раненых с поля боя. А затем, после десятиминутного перерыва, все начиналось по новой. Одни прыгали со сцены, другие – на сцену, где фронтмен пускал микрофон по кругу, предоставляя всем желающим возможность продемонстрировать вокальные данные. Ребята наваливались друг на дружку, рычали в микрофон, хватались за перила и делали стойки на руках.
Центральная часть зала была отведена для танцев. То, что впоследствии получило название «мош», – всего лишь жалкая пародия на нью-йоркский хардкор-данс девяностых, который при качественном исполнении выглядел почти так же эффектно, как знаменитый брейк или бразильская капоэйра. Во всяком случае, так Вадику казалось. Ноги скользят, как у конькобежца, а руки ритмично выбрасываются назад – движение, без которого это уже не хардкор-данс, а что-то еще. Резкость этих выбросов в сочетании с полным контролем, сложная хореография. Энтузиаст танцевальных турниров, Вадик потратил три года на совершенствование «ски-стэп», «бэк-свинг», «раундхаус» и других козырных движений. В процессе он получил несколько переломов, а заодно освоил нехитрую медицинскую процедуру – научился вправлять себе сломанный нос перед зеркалом в загаженном туалете клуба. Теперь невозможно поверить, что когда-то он был способен на всю эту акробатику. Взрослому человеку, оглядывающемуся на жизнь из своего осторожного сегодня, гораздо легче вспомнить себя в детстве, чем в юности. Детство наполнено страхами, зрелый возраст – неврозами и тяжестью в желудке. Одна несвобода понимает другую, а юность остается загадкой.
Расположенный в одном из худших районов города, легендарный гадючник A2Z соседствовал с китайской забегаловкой Szechuan Palace. Собственно, никакой забегаловки там давно уже не было; она закрылась в конце восьмидесятых. Но клиенты упорно продолжали приходить. И хотя унылая вывеска с иероглифами все еще сулила дешевый и вкусный китайский ужин, всем в округе было известно, что нынешний Szechuan Palace – не ресторан, а наркоманский притон. Периодически туда наведывалась и полиция. Когда это случалось, концерты в A2Z проходили без антрактов: на улицу лучше было не высовываться. Хозяин клуба предусмотрительно запирал двери, а фанаты старались вести себя потише. У большинства из них в послужном списке было уже достаточно нарушений, лишний раз сталкиваться с полицейскими никому не хотелось.
Перед началом концерта на сцену поднимался бритоголовый человек в спортивном костюме. На вид ему было лет тридцать пять, на самом же деле – под пятьдесят. Его звали Тим Мартоун. Представляя музыкантов, он держал микрофон в левой руке, на которой не хватало мизинца и безымянного, а четырехпалой правой рукой поглаживал свою безупречно лысую голову. На каждом из его оставшихся семи пальцев блестело золотое кольцо, в каждом ухе – по две серьги. Джим Фарино, солист группы One Man Less, ехидно шутил, что Тим – golden boy, то есть счастливчик.
– Сегодня у нас улетное шоу, – объявлял Мартоун. – Кто выступает, вы и без меня знаете. Звезды хардкора. One Man Less, Icing 9, Eats Shoots and Leaves. Караул, короче! – Это было его любимое словечко, «караул», и еще «безумие, просто безумие». В целом он был недалек от истины. – Да, пока не забыл: если кто еще не знает, сегодня в крэк-хаусе менты. Нас это не касается, но, пока торчков крутят, на улицу не выходим и, главное, никакого месилова, ясно? А то у нас тут много умных, чуть что руки распускают, а мне потом за всех отдуваться. Заебало. Это ж рок-н-ролл, блядь, мы все должны любить друг друга!
Предыдущие восемь лет Тим Мартоун провел за решеткой. За что он сидел, никто толком не знал. В легенде, которая то и дело обрастала новыми деталями, фигурировало «причинение тяжких телесных», но ребята сомневались. Говорили, что он просто кидает понты, а сидел-то небось за «хищение денежных средств» или что-нибудь в этом роде.
Получив УДО с привлечением к общественным работам, Мартоун решил попробовать себя в качестве музыкального импресарио, хотя до этого никакого отношения к музыке не имел. Что побудило его заинтересоваться маргинальным жанром хардкор, неизвестно. Может, чутье, а может, стечение обстоятельств. Во всяком случае, идея сосредоточить промоутерские усилия на хардкор-сцене была безусловно правильной. Даже в те годы, когда все движение состояло из ста – ста пятидесяти человек, A2Z был набит битком: на концерты ходили как на работу. Иными словами, Тим получал довольно неплохие деньги (самим музыкантам не доставалось почти ничего). При этом, отчитываясь перед реабилитационной комиссией, он объяснял, что воспитывает трудных подростков Трои-Кохоуза, то есть выдавал свою культуртрегерскую деятельность за общественные работы.
К его чести надо сказать, что он действительно занимался воспитанием по крайней мере одного трудного подростка – двенадцатилетнего сироты Дэниела, которого подобрал чуть ли не на улице и, взяв под опеку, назначил своим «младшим бизнес-партнером». Выглядело это так: всякий раз, когда кто-нибудь из музыкантов обращался к Мартоуну с финансовыми вопросами (сетовал на недоплату), жалобщика направляли к Дэниелу. Замухрышка Дэниел надувал щеки и нес ахинею, изобилующую бухгалтерским канцеляритом, которого он неизвестно где нахватался. В итоге обманутому панк-рокеру ничего не оставалось, кроме как плюнуть и уйти: бить такого хлюпика, да к тому же сироту, рука не поднималась.
Все соглашались, что Тим и его подопечный – редкое жулье. Но другого организатора, способного договориться с владельцами клубов и вообще все устроить, в Трое не было. Поэтому всех воспитывал Тим Мартоун. Ходили слухи, что он приторговывает «ангельской пылью», то бишь фенциклидином, который одно время пользовался большим спросом. Если это так, то призывы «не распускать руки» были чистым лицемерием: все знают, что фенциклидин вызывает неукротимую агрессию. Впрочем, слухи о наркодилерстве Мартоуна вряд ли были правдивы. Во-первых, он был слишком осмотрителен, чтобы рисковать таким образом – особенно после отсидки. Во-вторых, к началу девяностых мода на курение «ангельской пыли» пошла на убыль. Многие хардкорщики и вовсе отказались от наркоты. На смену лозунгу шестидесятых «секс, наркотики, рок-н-ролл» пришла идеология стрэйт-эдж, предписывающая строгое воздержание от любых психоактивных веществ – вплоть до кофеина. Трезвость и целомудрие стали предметом панковской гордости. Маргинальное молодежное движение, ведущее свою родословную от дегенератов-анархистов вроде Сида Вишеса, неожиданно оказалось последним оплотом реликтового американского пуританства. Пока нормальный тинейджер хлестал пиво, баловался марихуаной и терял девственность, то есть делал все, что положено делать в этом возрасте, бритоголовые отщепенцы из Трои и Кохоуза не ели мяса, ратуя за права животных, и не пили ничего крепче кефира. В сущности, это была вполне закономерная реакция протеста: отвергать растиражированную фабулу Вудстока с ее «запретными плодами», все поощряемое и насаждаемое в явной или неявной форме. Никаких «sex, drugs, rock’n’roll», никакой свободной любви и никакого пацифизма. Хардкорщик любит и будет любить месилово, он распускает руки на трезвую голову, без «ангельской пыли» и без бухла. Каждый концерт начинается с драки, а заканчивается потным братанием под традиционный панковский «синг-алонг». Если бы бедняга Вишес дожил до наших дней, он бы, возможно, тоже стал стрэйтэджером – всем назло.
Короче говоря, отповедям Тима Мартоуна не придавали никакого значения. Куда большим успехом пользовались речи Бухарика Дина – сивоусого бомжа, который вечно околачивался у входа в A2Z. Когда-то он был аж профессором английской литературы в частном колледже. Имел семью, жил как все. Но – спился и в один прекрасный день оказался на улице. С тех пор он стал Бухариком Дином, полноправным участником хардкор-сцены. Многие специально задерживались после концерта, чтобы послушать его пьяные выкладки. Ребята считали себя вправе над ним потешаться, получив это право ценой показного сочувствия, которое проявляли, когда ему становилось совсем худо. А может, и не показного. Как-никак даже самые отчаянные поборники стрэйт-эджа относились к Дину с пониманием – давали денег на еду и выпивку. Дин покупал чекушку омерзительной водки «Вольфшмидт» и, сделав пару жадных глотков, начинал расхаживать взад-вперед. Вероятно, в его проспиртованной памяти всплывали отрывки из любимых книг.
– А ну поди сюда, – обращался он к коллективному «ты» хриплым голосом бездомного. – Поди, говорю, сюда. Вы, суки, вообще… читали что-нибудь? «Книгу джунглей» хотя бы читали?
– Да я ее написал! – отзывался кто-то из толпы.
– Кто это сказал?! – ревел Дин и со всей силы запускал в толпу пустой бутылкой. К счастью, бутылка была пластмассовой.
Глава 3
С балкона мне видна улица, которую я с самого начала готов был считать своей. Она названа в честь португальского поэта Жайме Кортезау и находится в самом сердце Майанги, недалеко от пересечения с проспектом Мариана Нгуаби. Если я когда-нибудь вернусь и обо всем расскажу не на бумаге, а вживую, то вряд ли признаюсь, что долгое время не отваживался гулять по «своей» улице даже в дневное время, хотя улица эта – довольно спокойная. Не сказать, что совсем безопасно, но уж точно не опасней, чем в Нью-Йорке.
Несмотря на бурную стройку, в Майанге до сих пор не очень много высотных зданий, это не Маржинал10. Горизонт не загроможден, с высоты седьмого этажа еще можно увидеть если не весь район, то во всяком случае значительную его часть. Архитектура советских спальных районов чередуется с постройками в два-три этажа, крытыми красной черепицей, как в Лиссабоне. Улицы в основном асфальтированы, усажены рядами деревьев, кое-где даже освещены по вечерам (для Африки – большая редкость). Словом, если смотреть сверху, все выглядит вполне прилично. Правда, стоит отойти чуть дальше, и начнутся трущобы, шанти-тауны, тунга-нго11, где тысячи, а может, и сотни тысяч людей живут без электричества, водопровода и канализации.
При первом знакомстве Луанда не выглядит городом, где хотелось бы жить или даже находиться. Ты видишь облезлые многоэтажки семидесятых, глазницы окон с едва не выпадающими из них кондиционерами. Колониальные руины, пастельные фасады Нижнего города, стремительно поглощаемые бурной стройкой. Обочины, где нищие целыми семьями просят милостыню, сидя на земле среди помоев. А рядом – дорогие автомобили, часами томящиеся в пробках. Тучный чиновник на заднем сиденье «лендкрузера» орет по двум мобильникам сразу. В бело-синих маршрутках грохочет музыка; их водители лихачат, маневрируя в плотном движении, всегда на волоске от аварии. Регулировщик в белых перчатках бессмысленно жестикулирует и рыщет глазами в поисках дойного экспата. Между колоннами машин бредут уличные торговцы, уныло, но настойчиво предлагающие скучающим в пробке автомобилистам самый неожиданный товар: у одного в руках зеркало для ванной, у другого – аляповатый мужской костюм, у третьего – потрепанное издание «Камасутры». Вслед за торговцами бредут по проезжей части и попрошайки, беспризорные дети, норовящие протереть грязной губкой ваше лобовое стекло. И над этим всем – рекламные щиты с предвыборным враньем: «МПЛА – все в надежных руках».
Но красоту можно найти где угодно, а там, где ее совсем мало, этот поиск становится и азартной игрой, и вопросом чести. Мало, да не совсем. Где-нибудь в Нижнем городе среди отполированных новостроек еще попадаются колониальные постройки, а в них – уютные кондитерские или лавки старьевщиков, полные всякого брик-а-брака. Кафе с внутренними двориками. Окруженная высокими пальмами церковь XVII века с бронзовыми желобами, похожими на разинутые пасти морских чудищ. Кружевные колонны, стрельчатые окна с цветными витражами, орнаменты в виде канатов и узлов. Входя в эту кармелитскую церковь, ты переносишься в эпоху конкистадоров; выходя из нее, попадаешь в мир, где эпохи наезжают одна на другую. Советские названия улиц выгравированы на изразцовой плитке «азулежу» – керамическом символе колониального времени. На тротуаре перед подъездами зунгейры12 продают изрытые черными пятнами плантаны, одновременно перешучиваясь и журя своих непослушных детей. Мимо проносятся безумные мотоциклисты, любители гонок с препятствиями. Препятствия – это мусорные кучи, колдобины и шарахающиеся в сторону прохожие. На паперти кармелитской церкви стоит бомж с матюгальником и проповедует Слово Божие.
Плотный поток машин на проспекте Мариана Нгуаби сжимается, растягивается и снова сжимается, точно мех аккордеона. Если бы эту автомобильную гармошку снять на видео и сопроводить каким-нибудь подходящим саундтреком, могло бы выйти неплохо. Но я давно прошел стадию подобных, в сущности, туристических развлечений. Теперь это моя улица, мой район, и никакого музыкального сопровождения не надо. Пусть вместо инородной музыки звучит местная какофония. Пятьдесят процентов автомобилей в Луанде – маршрутки. Бело-голубые микроавтобусы «тойота-хайс». Из каждой высовывается зазывала. Он без конца повторяет пункт назначения, стараясь перекричать конкурента. «Мутамба, Мутамба, Мутамба!» «Конголенсе, Конголенсе, Конголенсе!» И вот эти беспрестанные выкрики вперемешку с клаксонами, сиренами, громыханием строительных кранов и есть звукоряд Луанды. Тетушка Сесса, пожилая торговка, у которой я покупаю манго, силится сообщить мне что-то интересное, а может, даже что-то важное. Но из‐за уличного шума никто никого не слышит. Ни я ее, ни она меня. В конце концов она разводит руками и произносит свое всегдашнее: «Только в Луанде».
Только в Луанде, где полчища маршруток и джипов мечутся в броуновском движении по дорогам города, не соблюдая никаких правил, не обращая внимания на разметку, беспрестанно надрывая клаксоны. Каждый идет напролом, берет на слабо, вклиниваясь и подрезая, и расстояние между твоей машиной и соседними составляет не более нескольких миллиметров. Но сколько ни подрезай, где-нибудь в центре все равно застрянешь. Иногда кажется, что вся моя жизнь в этом городе сводится к бесконечному стоянию в пробках и выслушиванию привычных ламентаций шофера, грузного человека с робкой бородкой. «Эх, будь у меня сейчас бронированная машина… – начинает он старую песню о главном. – Вот, помню, в девяносто первом у нас тут можно было купить бронированную. С мигалкой. Понимаешь? На такой лошадке тебе никакие пробки не страшны. Сукуама!13 Включаешь мигалку – и вперед… Я, между прочим, чуть было не купил тогда. Бронированную, да. Чуть-чуть бабла не хватило».
Только в Луанде, где в крепости Сао-Мигел (ныне – Исторический музей) догнивают последние МиГи и советская бронетехника. Где бельевые флаги плещут на ветру на верхотуре панельных домов с захламленными балконами.
Где вождю и поэту Агостиньо Нето построили мавзолей в виде ракеты. Где на одной из центральных улиц можно встретить граффити «Neto voltou como Prometeu». Вероятно, имелось в виду «Нето вернулся, как обещал» («Neto voltou como prometeu»). Но прописная буква заменила строчную, и получилось «Нето вернулся, как Прометей». А рядом: «Não ha vagas» («Вакансий нет»). Где на лобовое стекло налипают личинки, падающие с неба, как снежинки. Где пахнет выхлопом, костром и какой-то растительной гнилью. Где в сухой сезон к семи утра солнце уже печет так, что на улицу не выйти, а ближе к вечеру на набережной ветер поднимает пыль – настоящая песчаная буря. Когда же эта буря утихнет, широкий закатный луч, скользящий по остывающей земле, наделяет каждый объект каким-то щемящим свечением. Силуэты прохожих кажутся вытянутыми, а тени укороченными. Можно ли по тому, как искривляются тени, определить местонахождение человека? Есть ли какая-нибудь особая луандская тень, как бывает особый свет – здесь и больше нигде? В Нью-Йорке темнеет медленно, ночь плавно опускается на город, а здесь ястребом падает с неба. Темнеет так быстро, как если бы кто-то щелкнул выключателем или вырубило электричество. Светает тоже не так, как в Америке: быстрее и в то же время как-то… нежнее, что ли. Ранний свет оседает на предметах тонкой пыльцой.
Только в Луанде, где торговки фруктами сидят на земле в тени раскидистых деревьев с диковинными названиями мафумейра и мулембейра, которые для кого-то значат не меньше, чем для жителя России – ольха и осина. Где даже в центре города асфальт, железобетон и стеклопакет не могут окончательно вытеснить исконно африканское – красную землю, приплюснутые кроны усыпанных красными цветами акаций. Где галька на променаде сверкает по ночам в тусклом свете городских фонарей, словно сотни светлячков.
В Луанде, где лачуги кроют ржавым рифленым железом и, чтобы такую крышу не снесло ветром, придавливают кирпичами. Где торговка на барахолке аттестует свой товар: «Мы тут нигерию не продаем». Имеется в виду, что это не подделка. Где «gasosa» (дословно: газировка) означает взятку, которую нужно дать полицейскому, чтобы он отпустил тебя с миром; врачу, чтобы выписал рецепт; администрации учебного заведения, чтобы выдали диплом. Где жители муссеков затемно занимают очередь к колонке с водой, но не стоят часами, а кладут булыжник, маркирующий их место в очереди. Как отличить один булыжник от другого? А как опознать свой черный чемодан Samsonite среди прочих на багажном конвейере в аэропорту? Как-то опознают.
Где, несмотря на нефтяной бум, на заправках случаются перебои с бензином. Где дети на пустыре день-деньской режутся в шашки (вместо шашек используют крышки от кока-колы), в суэку14 или в настольный футбол на деньги. В обычный же футбол играют чем попало – жестянкой, мячом из ветоши, перетянутой веревками, а то и баскетбольным мячом (казалось бы, не очень-то поиграешь, но им – хоть бы хны). Где накануне футбольных матчей на улицу лучше не выходить: оглушающая музыка, транспаранты, грузовики, в которые набивается до сотни оголтелых болельщиков, ни пройти ни проехать. Где водители маршруток устраивают ночные автогонки. Где на вечеринках пьют что попало, мешают вино с водкой и подслащенной водой, приговаривая «фиш», что на местном сленге означает «нормально», но у меня неизменно возникают ассоциации с английской фразой «to drink like a fish» – «пить как рыба». Где от похмелья лечатся рыбным супом музонге.
Где вечерами подростки из муссеков слоняются по центральным улицам, околачиваются возле храма Святого Семейства, на Первомайской площади. Одни моют машины, чистят обувь, продают пирожки; другие бродят в поисках наживы, воруют бумажники или нападают с ножом, с пистолетом, примыкают к уличным бандам. В былые времена улицы патрулировали дружинники из Организации народной обороны. Говорят, при них было спокойней.
Сам я стал жертвой гоп-стопа только однажды – в мои первые недели в Луанде. В целом отделался малой кровью, но страх остался. Первое время я жил на руа Эдуарду Мондлане, рядом с кубинским посольством, в особняке с садом, где росли манго, гуава и папайя (хозяйка предупредила: «Смотрите, чтобы их не таскали обезьяны»; я так и не понял, шутила она или нет). Там было совсем безопасно, но я все равно боялся, запирался на все замки. На ночь оставлял свет включенным, а наутро, обнаружив, что он выключен, паниковал, хотя мог бы и догадаться: последняя лампа в квартире отключается автоматически вместе с генератором. Вспоминал ходившую в экспатских кругах историю нефтяника из Шотландии, страстного коллекционера масок чокве и других артефактов, влюбленного в Африку и африканцев; грабители убили его резным ассегаем из его же коллекции. Кажется, он жил где-то неподалеку… Потом я переехал в южную, менее благополучную часть Майанги и там, как ни странно, стал бояться меньше.
Больше всего в том особняке мне запомнился попугай: он был крайне разговорчив и даже знал несколько фраз по-русски (по-видимому, я был не первым русскоязычным постояльцем в этом доме). В сущности, я и сам – такой же говорящий попугай. Кое-как овладел португальским, но недостаточно, я это прекрасно понимаю. Из-за нехватки языка криво воспринимаю окружающую действительность. Помню: когда мы только приехали в Америку, родители думали, что сокращение «Dr.»15 на уличных указателях означает «Doctor». Houston Dr., Maple Dr., Westpoint Dr. … «Удивительно, – восклицал отец, – здесь половина улиц названа в честь врачей! Мотай на ус, Вадя, в этой стране медицинскую профессию уважают».
Теперь я и сам примерно так же сужу о жизни. Не понимаю элементарных вещей, путаюсь в аббревиатурах и др. В плакате с надписью «Ave Maria», наклеенном на фасаде церкви, вижу название улицы, воспринимая «Ave» как сокращенное «Avenida». До сих пор путаю «cadeiro» с «carteiro» и «carteiro» с «carteira»16, то и дело сажусь в лужу. Тем более что и португальский-то здесь не тот, которому учит «Розетта Стоун»17, а диалектный, с примесью кимбунду и других местных наречий. В книжках читаешь одно, а на улице слышишь совсем другое. Вместо «sim» (да) говорят «ia», вместо «muito» (очень) – «bué», вместо «ir embore» (уходить) – «bazar». От кимбундийского глагола «kubaza» отбрасывается инфинитивная приставка «ku» и прилепляется португальское окончание «-r» (вроде брайтонских глаголов «эксесайзиться» и «энджойить»). Связи с русским «базаром» тут никакой, но мнемоническая зацепка есть: если человек уходит из дома ни свет ни заря, он, скорее всего, отправляется именно на базар. Большая часть населения Луанды зарабатывает на жизнь розничной торговлей – на рынках или просто на улице, среди потока машин, предлагая каждому встречному свой лежалый товар. Взрослые уходят в четыре утра, а дети остаются дома. Вместо того чтобы пойти в школу, старшие братья и сестры нянчат младших. В муссеках всегда много детворы, оттого там и весело. Из динамиков доносится рэперский хит «Estou a bazar» («Я ухожу»), который я по незнанию перевел как «Я на базаре». Песня про базар «Конголензеш»? Про «Роки Сантейру»?
Про «Роки» мне рассказал попутчик, с которым мы разговорились в самолете из Брюсселя; это было первым, что я узнал о Луанде. Еще не успев ступить на ангольскую землю, я уже знал, что самый знаменитый рынок Луанды был назван в честь Роки Сантейру, персонажа бразильского сериала. Знал, что в разгар гражданской войны, когда страна голодала, там, и только там всего было в достатке, от свежего мяса и рыбы до подержанных машин (как правило, угнанных), которые предлагались вместе с водительскими правами и ускоренными уроками вождения. Еще там продавались паспорта, в том числе и дипломатические, а в лачуге с яркой вывеской «Частная служба безопасности» предлагались услуги по части «устранения личных и деловых проблем» – в диапазоне от избиения до бесследной ликвидации конкурента (любовника, мужа, соседа, бизнес-партнера – ненужное зачеркнуть). Все это я знал и в первые несколько недель пребывания в Луанде искал случая посетить это удивительное место. Ждал случая и в то же время боялся: знал, что там и наркодилеры, и торговцы оружием, и казино с борделями. Словом, совсем не безопасно. Наконец, набравшись смелости, попросил шофера отвезти меня к «Роки». Оказалось, рынок, названный в честь героя бразильского сериала, закрылся десять лет тому назад.
С телесериалами я знаком ближе, чем хотелось бы: первое время так же, как много лет назад, в период моего первого «великого переселения», пытался учить язык из телевизора. Но по телевизору показывали то старые бразильские шоу, то передачи про гламурную жизнь ангольских олигархов, то местные новости в двух итерациях, на полупонятном португальском и непонятном кимбунду, одинаково скучные на обоих языках. Неужели в Анголе никогда не происходит ничего интересного? Или, наоборот, столько всего уже произошло, происходило последние сорок пять лет, что сейчас людям больше всего хочется скуки, неинтересных или вообще никаких новостей? Не потому ли и послевоенную клептократию Сантуша приняли так безропотно? Пусть уж лучше будет худой мир, стабильная и предсказуемая диктатура родной партии МПЛА, запросто проделавшей путь от афросталинизма к петрокапитализму; пусть себе воруют, лишь бы не убивали. Пусть показывают сериалы «Windeck» и «Jikulumessu», где жизнь миллиардеров выдается за жизнь среднего луандца. Те, у кого нет ничего, смотрят по телику этот гламур, ненавидят богатых, мечтая стать как они, и – отдыхают душой. Пусть будет побольше телесериалов, бразильских или ангольских, все равно; побольше рекламы дорогих товаров, которые большинство не может себе позволить. Лишь бы не было войны.
После войны, в начале нулевых, здесь была специальная телепрограмма – она называлась «Ponto de Reencontro»18. Там показывали людей, ищущих своих близких. Каждое утро на съемочной площадке выстраивались огромные очереди. Когда до человека доходила очередь, он просто говорил в камеру: я такой-то, ищу сына, дочь, мужа, жену, брата, сестру, мать, отца… Родные, пропавшие без вести, были чуть ли не в каждой семье. До сих пор есть. В Луанде нередко видишь калек, у которых недостает одной или обеих ног. В Америке беднота лишается конечностей из‐за диабета, а здесь это в основном люди, которые в поисках еды пошли в поле и подорвались на мине. Было время, французская гуманитарная организация под названием «Боль без границ» разъезжала по городам и весям, предлагая желающим электротерапию от фантомных болей. Mutilados da guerra19 выстраивались в очереди за электрошоком. Гражданская война официально закончилась в 2002‐м, но пятнадцать лет – недостаточный срок, чтобы замести все следы. Слишком много было минных полей, изрешеченных пулями зданий. Нужно сильное обезболивающее, и, если местный опиум для народа уже не действует в постмарксистской Анголе, значит, пора переходить на импортные препараты. Морфий завозных теленовелл – не худший вариант.
С точки зрения изучения языка в бразильских мыльных операх не очень много проку: все-таки бразильский португальский довольно сильно отличается от ангольского. Зато опять-таки вспомнилось детство: «Рабыня Изаура». «Зачем тебе приспичило в Анголу?» – «Чтобы вспомнить советское детство». Кое-где на улицах еще попадаются «Нивы», а если повезет, даже старые поливальные машины, те самые, с желтым кузовом и голубой кабиной. Еще не снесли всех памятников рабочему и крестьянке.
Китай наступает на пятки, но и люди, говорящие по-русски, в Анголе до сих пор не перевелись. Да и вообще их в Африке много. Забавно слушать диалог двух африканцев с советским прошлым, приехавших из разных частей континента. Один – из франкофонной Африки, другой – из лузофонной. Оба учились в СССР, и единственный общий язык для них – русский. Русскоговорящих африканцев тут куда больше, чем собственно русских экспатов. Впрочем, речь не о языке даже, а о предметах быта. На луандских барахолках еще продаются советские радиолы. На языке мбунду радио – «онджа йепоперу», говорящий дом. В конце шестидесятых здесь ловили передачи МПЛА из Браззавиля точно так же, как мой отец в Ленинграде ловил Би-би-си и «Голос Америки». Да и некоторые из игр, в которые играют африканские дети, напоминают те, в которые играли у нас во дворе. Здешняя мелюзга тоже проводит много времени на улице. Это тебе не Америка, где все дети только и делают, что режутся в «Нинтендо» или осваивают «Майнкрафт». Впрочем, этого добра здесь тоже хватает.
Я люблю наблюдать с балкона или из окна машины. Быть здесь, но не здесь. Погружаться в чужой мир, сопереживать тому, что меня не касается и на что я никак не могу повлиять. Этот, в общем, безобидный вуайеризм как ничто другое примиряет с жизнью, прошлой и настоящей.
Вот дети играют в футбол на пустыре. Вот старик играет на баяне, нет, на аккордеоне, и к рубахе его приколот значок – кажется, пионерский. Вот из переулка выходит похоронная процессия, и женщины, идущие во главе, причитают «аюэ!» (почти что еврейское «ой-вэй»). Отряд плакальщиц в футболках с логотипом какой-то церкви. Многолюдные похороны с песнями, плясками, причитаниями и молитвами, со всеми почестями – в согласии с африканским обычаем, где каждого человека провожают как короля (а ведь еще совсем недавно, во время войны, бросали без разбору в братские могилы).
Вот рабочие-кимбангулейруш20, человек десять, сгрудившись, едят что-то руками из общей миски, которую один из них (может, бригадир) держит на весу. Обеденный перерыв. Все делать вместе – это африканское. Вся пища – из общего котла. Этого у них не отнимешь. Всей деревней несут в больницу больного, кормят голодного, нянчат чужое дитя, отдают последнее. Забота о ближнем, взаимопомощь. Для них это на уровне физиологии, как дышать. А едят эти рабочие наверняка что-нибудь липкое и жирное. Калулу? Фунж? Фейжау? Кому-то ангольская кухня покажется несъедобной, а я все это сразу полюбил. Калулу – жаркое из сушеного мяса или рыбы с листьями жимбоа и красным пальмовым соусом. Фунж – густое, тягучее пюре из маниоки. Фейжау – бобы в пальмовом масле. В гостинице, где я провел первые несколько недель моей африканской жизни, мне предлагали незатейливые яичницы за тридцать долларов, клеклые булки за пятнадцать, вязкий и приторный апельсиновый сок. Я давился всей этой дрянью и даже не подозревал, что в палатке за углом тетушка Зефа кормит вкуснейшей ангольской едой – жарким из козлятины, кизакой21 с креветками, фариньей финой22 или фунжем из желтой муки с фейжау и сушеной рыбой капарау – практически за бесценок.
Все-таки хорошее изобретение эти палатки, лотки, где можно задешево купить все, что хочешь, от микондо до шелковой рубахи с набивным рисунком. В первые месяцы меня особенно радовали такие вроде бы незначительные бытовые моменты; они утешали, и я начинал придавать им преувеличенное значение: например, старательно напоминал себе, как я люблю ангольское пиво «Кука». Com um coração Angolano23. Теперь же, когда я научился, как мне кажется, просто наблюдать, в этих бытовых обманках пропала всякая необходимость. Там, где меня давно уже нет, я продолжаю присутствовать – даже помимо моей воли. А здесь, в этом удивительнейшем из африканских городов, меня почти нет, и потому мне ничего не стоит считать его своим.
Глава 4
Гольднеры прилетели в Америку в июне 1990 года. Родственники встретили хлебом-солью, а точнее, пиццей – той, что продается в магазине «7-11». «Пиццу будете?» Жара, какая-то пыльная стройка, сетка-рабица, а за ней – многоэтажные гаражи. Вот и все, что Вадик воспринял по пути из аэропорта Кеннеди.
Потом был двухмесячный постой в Бэйсайде у отцовской сестры, тети Ани, которая так долго агитировала их на переезд, но встретила без особого энтузиазма (куда подевалось то радушное и радужное, что переполняло ее заокеанские письма?). К моменту их прибытия тридцатипятилетняя Аня прожила в Америке двенадцать лет. «Если хочешь быть саксесфул, – наставляла она старшего брата, – надо научиться двум вещам: маркетинг и малтитаскинг. Твоя теоретическая физика из нот ин демэнд, ты должен попробовать пробиться в программисты. А на первых порах можно и такси поводить. Вон Аркаша, наш сосед, водил, водил и в конце концов купил медаль на машину. Теперь он – рич. Это тоже надо уметь». Аркаша, грузно-угрюмый человек в тонированных очках, объяснял свой успех неукоснительным следованием первой заповеди эмигранта: «С трудоустройством у нас ноу проблэм: мужики – в водилы, бабы – в хоматенды24». «Хоматенда» представлялась Вадику мягким зверем из неведомой сказки, помесью пантеры Багиры и хомяка. Пятнистая Хоматенда и муж ее, Коверкот.
Сама тетя Аня, поднаторевшая как в маркетинге, так и в малтитаскинге, делала карьеру пиарщицы, увлекалась аэробикой и латинскими танцами, растила двоих детей и разводилась с мужем Мариком, одновременно подыскивая себе нового, более перспективного партнера. Мечась между аэробикой, свиданиями и корпоративными встречами, она вечно мучилась вопросом, куда ей пристроить детей. По выходным Марик забирал их к себе в Нью-Джерси, но в будние вечера Ане ни от кого не было помощи. Приходилось загонять их в кровать к восьми часам («У нас в семье все ложатся рано: эрли ту бед, эрли ту райз – кори и хвори не знать!»), чтобы потом, едва дождавшись, пока они уснут, запереть дверь в детскую и улизнуть из дома, точно подросток. Таким образом, ей кое-как удавалось справляться с нелегкими жизненными обстоятельствами, и, хотя приезд брата с семьей оказался весьма некстати, она рассудила, что и из этого в целом обременительного присутствия можно извлечь определенную пользу: «Раз уж вы тут у меня живете, я надеюсь, не откажетесь побебиситить Мэтика и Джесичку». Мэтику, как и Вадику, было одиннадцать лет. Тетя Аня любила повторять, что он – «мэн оф зе хаус». Мужчина семью держит. Еще в Ленинграде Вадик не раз слышал от родителей о незаурядных лингвистических способностях двоюродного брата: дескать, Мэтью, хоть и родился в Америке, настолько хорошо владеет русским, что даже знает слово «кибитка». Это оказалось чистой правдой. Помимо «кибитки» его русский словарный запас включал слова «абрикос» и «спасибо». Вадик же, в свою очередь, знал примерно пять слов по-английски, но пустить их в ход боялся, так как Мэтик и Джесичка тут же принимались передразнивать его русский акцент.
На лето Вадика отправили в еврейский лагерь. Там играли в непостижимый бейсбол, а в полдень всем выдавали пакетики с яблочным соком и подтаявшее ванильное мороженое в размокших бумажных стаканчиках. И хотя все это было крайне невкусно, Вадик все утро ждал полуденного перерыва и очень расстраивался, когда перерыв заканчивался. В эти минуты он испытывал облегчение, потому что мог молчать наравне со всеми детьми, так же, как они, сосредоточенно поглощать десерт и тянуть сок через трубочку. В остальное же время он выделялся своей бессловесностью, чувствовал себя пугалом, застывшим посреди бейсбольного поля, не понимая, что от него хотят в этой всеамериканской игре с битами, базами и щитками. Кроме него, в лагере был еще один русский – рыжий и пухлый мальчик из Бобруйска. Тот приехал в Америку на три месяца раньше Вадика и уверял, что за это время успел напрочь забыть русский язык. Настаивал на своем исключительном англоязычии, затыкал уши, когда Вадик заговаривал с ним по-русски. При этом английским он владел еще хуже, чем Вадик, и общение получалось так себе. Например, приглашая Вадика поиграть с ним в баскетбол (вечерний факультатив после обязательного бейсбола), мальчик говорил так: «Итс ми, итс болл, итс плей?» Вадик, уже привыкший к этому недоязыку, отвечал в пандан: «Итс окей».
Когда родителей освобождали от обязанностей сиделки и домработницы, они отправлялись гулять по вечернему Квинсу. Правда, выйти всей семьей у них почему-то не получалось: Вадик поочередно гулял то с матерью, то с отцом. Во время этих прогулок мать Вадика плакала и предлагала вернуться в Ленинград. Отец же, наоборот, крепился и говорил Вадику, что, если не найдет ничего лучшего, подастся в таксисты, как советовала ему сестра. «Или пиццу буду развозить – тут это, кажется, не считается зазорным. Подзаработаю денег, купим тебе джинсы!»
Но все обошлось: в начале сентября того года отец подписал двухгодичный контракт с Чикагским университетом, и семья перебралась на Средний Запад. Там Вадику купили не только джинсы, но и кроссовки. Причем не просто кроссовки, а крутые, в стиле Air Jordan, о которых мечтал в то время каждый американский подросток. На настоящие Air Jordan у родителей не хватило денег, и они купили другие, почти такие же, но не за двести, а за тридцать долларов. Разница сводилась, в сущности, к тому, что на одних было написано «Air Jordan», а на других – «AJ-900». И из‐за этой разницы над Вадиком потешался весь класс. Если бы он пришел в школу в обычных, некрутых кедах за десять баксов, никто бы и не заметил. Но эти, почти модные, почти Air Jordan… «Это у тебя что, Air Jesus?» – поинтересовался школьный остряк. Злополучные AJ-900 были отправлены в мусорку, но возгласы «Air Jesus!» еще долго сопровождали Вадика в школьных коридорах.
А через два года они вернулись на Восточное побережье с пополнением: у Вадика появилась младшая сестра Элисон. Теперь они поселились в городке с индейским названием Матаванда, предместье Олбани, упоминающемся еще у Германа Мелвилла. Что-то там про «секту безумных шейкеров из Матаванды». Когда четырнадцатилетний Вадик наткнулся на эту фразу у автора «Моби Дика», он подумал, что ее можно будет взять эпиграфом ко всей его дальнейшей жизни. Но вскоре они переехали в соседнюю Трою, и эпиграф из Мелвилла навсегда потерял актуальность. Зато появились новые: из Драйзера, из Воннегута.
Воннегут жил в Трое в пятидесятых годах и, между прочим, работал, как и отец Вадика, на компанию «Дженерал Электрик». Действие чуть ли не половины его романов происходит в городе под названием Ilium, то есть Илион. Отсюда родом и выпутавшийся из времени Билли Пилигрим, и изобретатель «льда-девять» Феликс Хоннекер, и герои «Механического пианино». А писатель-фантаст Килгор Траут, авторское альтер эго, проживает в соседнем Кохоузе, который, в отличие от Трои, фигурирует в произведениях Воннегута под своим настоящим названием. Кроме того, не следует забывать, что Троя – родина Дядюшки Сэма. Прототип бородатого дядьки в цилиндре со звездой, в синем мундире, белой рубахе и красном шейном платке, наводящего палец-дуло на тех, кто еще не записался добровольцем («Армия хочет тебя!»), действительно жил в Трое в первой половине XIX века. Его звали Сэм Уилсон, он был владельцем мясозаготовительной фабрики, поставлявшей провиант на фронт во время англо-американской войны 1812 года. Была у него и другая фабрика: кирпичная. И по сей день, проезжая мимо кирпичных трущоб этого города, посетитель, если он подкован в американской истории, не может не умилиться: кирпичи с фабрики Дядюшки Сэма. «Ilium fuit, Troja est», – гласит официальный девиз американской Трои, взятый из Энеиды. Илион был, Троя есть и поныне. «Все, что когда-нибудь было, есть и будет всегда», – поправляют воннегутовские всевидящие пришельцы с Тральфамадора. Все эти сведения уже взрослый Вадик выудил из интернета за один вечер, загоревшись странной идеей составить свою «американскую родословную». Дескать, надо понять, кто он и откуда.
До того как Гольднер-старший в очередной раз потерял работу и семье пришлось перебраться в Трою, Вадик учился в привилегированной пригородной школе, где, как полагается, третировали слабых и странных. Вадика, прибывшего из Чикаго новичка с русским акцентом, на первых порах не трогали. Он кропал статейки в школьную газету, пару раз участвовал в театральной самодеятельности и, как все, у кого не сложилось с футболом и баскетболом, увлекался восточными единоборствами. Он даже считал себя способным к этому делу, потому что Миша Гитович, преподававший карате в Центре еврейской общины Чикаго, однажды сказал его родителям, что у него «крепкие кости и вообще – то, что доктор прописал». Что именно прописал доктор, родители уточнять не стали. Им, как и Вадику, было ясно, что Миша – несомненный эксперт.
В том живописном городке, куда они приехали из Чикаго, в двадцати километрах от исторических развалин Трои и Кохоуза, люди жили размеренной, неинтересной жизнью. Семья Вадика поселилась на Мэйпл-Роуд, в одной из съемных квартир жилого комплекса «Толл-Оукс», но ни кленов, ни дубов там не было – улица была обсажена тополями. Это забавное несоответствие врезалось в память Вадика как некий символ той жизни в преломлении его подросткового восприятия. Стандартное название и стандартный вид из окна; совпадают они или нет – не важно, потому что за ними ничего не стоит, кроме стремления соответствовать стандарту. Все вокруг казалось приблизительным воплощением какого-то усредненного идеала: подстриженные газоны, однотипные дома с дверями из разноцветных стекол, скворечни почтовых ящиков, стрекот поливочных установок, шкатулочная мелодия, доносившаяся из грузовика мороженщика, весь герметичный пригородный мир, рекламная картинка благополучия.
Там, где кончался пригород, начинался лес, который Вадик долгое время не умел как следует разглядеть. Ему потребовалось почти четверть века, чтобы пейзажи Северного Нью-Йорка, самые родные, внезапно проступили сквозь напластования памяти во всей драгоценной полноте первичного впечатления. Это долина Гудзона, ее индейские названия и прибрежные холмы, красоты, с которыми мало что сравнится. Железнодорожный маршрут «Амтрак» от Ниагары и Буффало до Столичного округа и дальше – вдоль великой реки – мимо Райнклифа и Покипси. От Адирондакских гор до базальтовых скал Ньюберга и Уэстчестерского эстуария, а оттуда – в сам город Нью-Йорк, куда Вадик перебрался по окончании колледжа. Всю свою жизнь он перемещался с севера на юг. Но сейчас, в Луанде, ему снится что-то из прежней жизни, и в этом сне он едет в обратном направлении, вверх по Гудзону.
Когда старшеклассникам надоедало привычное пережевывание жвачки «кто-куда-с-кем», они развлекали друг друга городскими легендами. В числе прочих ходила байка о маньяке, еженощно боксирующем с тенью на улице в обнаженном виде. Где-то в середине учебного года школьный заводила по имени Билл Мерфи пустил слух, что Вадик и есть тот самый боксер-эксгибиционист. Он даже придумал кличку: Голый Драго. Собственно, кличку можно было расценивать как комплимент. Драго – это русский гигант, которого играл Дольф Лундгрен в фильме «Рокки IV». Значит, Мерфи увидел в Вадике качка, хотя атлетическим телосложением Вадик никогда не отличался. Примерно в таком духе Вадику и следовало бы ответить, когда Мерфи подозвал его, чтобы «вывести на чистую воду» в присутствии двух хихикающих красоток. Дело было в школьном автобусе, развозившем учеников по домам после уроков. Они сидели где-то в хвостовой части, где всегда сидят заводилы и их хихикающие девицы, а Вадик – спереди, уткнувшись взглядом в затылок водителя.
– Эй, слышь, ты… да, ты… подойди-ка сюда на минутку, вопрос есть. Подойди, подойди, не ссы. Вот у меня тут свидетели. – Он показал на девиц. – Ты же не станешь отрицать при свидетелях?
– Что отрицать?
– Что ты – это он.
– Кто «он»?
– Как – кто? Голый Драго!
Сведи Вадик этот идиотский разговор к шутке, все могло бы сложиться иначе. Но остроумия в нем было еще меньше, чем богатырства Дольфа Лундгрена. Не найдя что ответить, он со всего маху заехал обидчику по носу. Из носа хлынула кровь. Девицы завизжали. К удивлению Вадика, Мерфи не замахнулся для ответного удара, а закрыл лицо руками и, по-детски всхлипывая, забормотал: «Уходи, уходи сейчас же, иди обратно на свое место…»
В Чикаго, где Вадик провел первых два года своего американского детства, мальчишки дрались чуть ли не на каждой перемене и в целом относились друг к другу по-человечески. А тут, в сонном пригороде Олбани, школьники изобретали самые изощренные способы травли, сживали какого-нибудь бедолагу со свету прямо на глазах у педагогов, но драки боялись как огня. Даже верзилы в футбольных майках с подплечниками шли на попятную, ни на секунду не забывая, что за рукоприкладство могут исключить из команды, а то и из школы. Так что месть в форме физической расправы ему не грозила.
Посовещавшись, Мерфи и компания решили объявить чужаку бойкот. Вадика это только позабавило: ни с кем из окружения Мерфи он и так не общался. Но он недооценил серьезность «дипломатических санкций». Уже потом он узнал, что отец его недруга приятельствовал с директором школы, грозным и одышливым мистером Деанджело. Они состояли в одном и том же кантри-клубе. После инцидента с Мерфи-младшим Вадик был якобы занесен в «черный список». Список, которого никто никогда не видел, но о котором все слышали, раздолье для конспирологии. И вот уже воображение Вадика рисует красочные картины: где-то там на пиру бессмертных, то есть во время чаепития в учительской, отведя кого-нибудь из коллег в сторонку, тучегонитель Деанджело советует не ставить ученикам, числящимся в его списке, оценок выше «B-». Заваливать тоже не надо, пускай успеваемость у этих учащихся будет чуть ниже средней. А когда придет пора поступать в вузы, им напишут характеристики, с которыми принимают разве что в коммьюнити-колледж.
К счастью, в коллективе всегда найдется несколько вольнодумцев, не готовых стать орудием травли по воле начальства. Одним из таких вольнодумцев был учитель истории мистер Бэйшор. Это был пожилой человек с заячьей губой и жидкими усиками. Он носил старомодные очки с толстыми линзами, из‐за которых его глаза выглядели неправдоподобно большими и доверчивыми, как у персонажей мультфильмов. Когда же он снимал очки, чтобы протереть стекла, в его близоруком взгляде Вадику мерещилась какая-то перегоревшая обида – скорее всего, на себя самого.
По его собственному уверению, Бэйшор был совестью школы. Его давно хотели уволить, но он держал какие-то козыри против «крестного отца», как он называл директора школы, и потому оставался на месте. Начиная с девятого класса он взял Вадика с дружком Дэйвом под крыло. Они стали регулярно бывать у него дома. Он вообще любил опекать неприкаянных и даже создал для этого кружок под названием «Форум для свободных дискуссий», куда созвал всех белых ворон и черных овец. Члены клуба дискутировали на самые разные темы, а заодно узнавали от наставника кое-что из того, о чем им не полагалось знать. Например, о деанджеловском «черном списке».
Существовал ли он на самом деле, этот список? Или же Бэйшор, сам толком не зная, что к чему, выдумал его ради душевного спокойствия своих подопечных – подобно тому, как медицина придумывает названия недугам, которые она не в состоянии объяснить? Ведь есть же симптомы – сердцебиение, общее недомогание, стойкое ощущение, будто что-то не так. Раз нет ни объяснения, ни лекарства, пусть будет хотя бы название – фибромиалгия, черная немочь или черный список. Любое название будет правильным, потому что другой правды не найти. И даже если никакого списка и не было, Вадик все равно был уверен, что в этой школе ничего хорошего его не ждет.
Два известия поступили почти одновременно: как-то за ужином Вадик объявил, что попал в число неугодных, а отец – что потерял работу и, стало быть, отныне квартира на Мэйпл-Роуд будет им не по карману. Две неприятные новости складывались в одну приятную: переезд.
Но это было потом. А в тот день, когда он заехал по носу Мерфи и, осыпаемый ругательствами, вернулся в переднюю часть автобуса, обнаружилось, что его место уже занято розовощеким парнем в джинсовой куртке и футболке с надписью «Динамо Киев». Весело подмигнув, парень с ходу заговорил по-русски.
– Разобрался с ним? – спросил он, кивая в сторону Мерфи. – Ну и правильно. Знай наших.
– Да я, если честно, даже не понял, чего он ко мне полез, – признался Вадик.
– Забудь. Этот моржовый по ходу ко всем русским приебывается.
– А разве тут много русских?
– Ты – второй. Ты, кстати, где живешь? В доме или рентаете?
– Мы в «Толл-Оукс» живем. Это комплекс на Мэйпл-Роуд.
– Я знаю, что такое «Толл-Оукс», ха-ха, мы тоже там рентаем. Квартира 25а. Заходи, музон послушаем.
***
В комнате у Славика – так звали нового знакомого – царил пугающий порядок, как если бы здесь жил не подросток, а какой-нибудь пожилой затворник с обсессивно-компульсивным расстройством. Кровать была по-армейски заправлена, коврик из овчины год за годом сохранял идеальную белизну. На письменном столе – ни единого клочка бумаги. Не комната, а какой-то храм чистоты. Алтарем в этом храме служила огромная стереосистема, которую Славик ежедневно протирал байковой тряпкой, а вместо икон были фотографии, аккуратно расклеенные по стенам. На фотографиях-иконах запечатлены мрачные парни, одетые во все черное, с волосами до пояса, с огромными перевернутыми крестами и пентаграммами на груди. Это были кумиры Славика – музыканты, играющие в стиле дэт-метал. Почему-то все они были из Швеции или Финляндии. Выступая в роли музейного экскурсовода, Славик водил Вадика от фотографии к фотографии и объяснял как умел, чем замечательна та или иная группа, с придыханием произнося названия: Dismembered, Entombed, Grave. Ар-Джей Бернарди, презрительно называвший металлистов «волосатыми», вряд ли оценил бы эти зловещие названия. Но тогда ни Ар-Джея, ни Трои еще не было и в помине, а была только неуютная атмосфера пригородной школы во главе с Деанджело и Мерфи; только Славик и его угрюмые скандинавы на фотоиконах.
– Славик, ты сатанист? – поинтересовался Вадик.
– С чего ты взял?
– Ну, не знаю, у тебя тут сатанистские кресты, пентаграммы…
– Да не, это так, для прикола. Ты лучше музон послушай! Вот Grave. Такое мясо! Я им в прошлом году написал письмо в Швецию, так они, прикинь, мне ответили!
– Удивились, наверное, что их кто-то слушает.
– Их вся Швеция слушает, ходячий! – Славик даже покраснел от возмущения.
Все люди, если только они не были металлистами из Швеции, оказывались «моржовыми» либо «ходячими». В словаре Славика слово «ходячий» было почти синонимично слову «человек». Но в данном случае, используемое как обращение, оно выражало крайнюю степень раздражения. В качестве последнего, неотразимого аргумента Славик извлек из ящика письменного стола конверт с красными и синими полосками международной авиапочты.
– Вот оно, письмо от Юхи из Grave. «Dear Vecheslav, it is cool you write to us. We like more people get our music…» Да ты сам почитай. – Славик с гордостью протянул Вадику письмо. Скучная отписка в два коротеньких абзаца на ломаном английском. Но спорить было бесполезно.
В школе Славик был образцовым «человеком из толпы»: ни с кем не дружил, но со всеми ладил; учился хорошо, но не блестяще; одевался как все (футболку «Динамо Киев» он носил под модными в то время фланелевыми рубахами, застегнутыми почти доверху, так что подозрительная иностранная надпись оставалась скрытой от посторонних глаз). Словом, ничем не выделялся и мог оказаться кем угодно – политиком, шпионом, маньяком-убийцей или, допустим, человеком с каким-нибудь удивительным талантом, которому еще только предстоит раскрыться. С длинноволосыми поклонниками «Металлики», которых в этой школе было немало, он принципиально не хотел иметь ничего общего. Кроме Вадика, о его страстном увлечении дэт-металом знал всего один человек – Пит Хьюз, с которым они вместе посещали шахматный клуб.
Поначалу Пит казался Вадику американской версией Славика. Он тоже ничем не выделялся из школьной толпы, держа в секрете свои экстремальные музыкальные пристрастия. Но, в отличие от Славика, Пит чувствовал солидарность не со скандинавскими сатанистами, а с местными хардкор-панками, и его «двойная жизнь» не ограничивалась домашним прослушиванием компакт-дисков. Он ходил на концерты и даже сам играл на бас-гитаре в группе Against What, которая часто выступала в A2Z. Солистом группы был двадцатичетырехлетний амбал по имени Брент, уже успевший отмотать два срока (он-то и вправду сидел за «причинение тяжких телесных»). На барабанах играл Дэн Сакорски, бывший сокамерник Брента. Разъяренный индеец Рассел отжигал на гитаре. А Пит Хьюз, с его интеллигентной внешностью и культурной речью, был приглашен в группу в качестве басиста. В таком составе группа Against What как бы олицетворяла всю специфику жанра: хардкор-сцена Трои-Кохоуза состояла наполовину из отпетых уголовников, а наполовину из персонажей вроде Холдена Колфилда. Причем первые покровительствовали вторым так, как преступники – не мелкие хулиганы, а настоящие преступники – иногда покровительствуют тем, кто рос с ними в одном дворе.
Родители Пита были учеными. Мать работала в «Дженерал Электрик», а отец преподавал в университете. Хьюз-старший придерживался крайне левых взглядов, в связи с чем однажды оказался в центре какого-то скандала и чуть было не лишился профессорской ставки. Дитя шестидесятых, он поощрял увлечение сына панк-роком, видя в этом здоровый бунтарский дух и социальную ангажированность. Именно благодаря отцу Пита Вадик впервые побывал на хардкор-шоу: тот отвез их в A2Z на своем внедорожнике «Форд Бронко». Другой бы на его месте извел молодежь напутствиями и предостережениями или вообще не отпустил Пита, если бы имел хоть малейшее представление о том, что там творится. А мистер Хьюз сам вызвался подвезти и, высаживая ребят перед клубом, сказал только: «Желаю вам хорошо повеселиться».
И вот на сцену поднимается бритоголовый конферансье, предрекающий «безумие, просто безумие», и с первыми оглушающими аккордами начинается оно самое. Стозевное чудище толпы слетает с катушек, вырывается на свободу, извергая вулканизированные запасы бесполезной энергии, увлекая за собой и Вадика с Питом, и других новичков, сообщая единый импульс всем разобщенным и неприкаянным, смывая осадок, приставший к стенкам плавильного котла (все свои, все заодно), превращая вялотекущее время в бурлящий поток, превращая мелодию в шум и ярость.
На следующий день после концерта Вадик спросил у Славика, слышал ли он когда-нибудь про хардкор и, если слышал, что он о нем думает. «Моржовщина», – отмахнулся Славик. В ту пору его сердцем нераздельно владели рычащие викинги. Но он был «человеком из толпы», из которого мог получиться кто угодно. Эта неопределенность (а вовсе не странная музыка, с которой он так носился) была его ключом к выживанию. Выдержав испытания эмиграции и переходного возраста, он не стал ни политиком, ни шпионом, ни маньяком-убийцей. Двадцать пять лет спустя он работает врачом-гинекологом в какой-то частной клинике. Теперь его музыкальные интересы сводятся к тому, что можно услышать вполуха по автомобильному радио. Например, ранним утром по пути на работу. Уж Вадик-то знает, он и сам такой же.
***
Новая съемная квартира мало чем отличалась от предыдущей. Те же низкие потолки, тот же ковролин. Отличались только соседи. В «Толл-Оукс» Вадик практически никогда не видел соседей и ничего о них не знал. Здесь же соседская жизнь – вся пестрая палитра их странностей и несчастий – была на виду. В квартире справа жила престарелая еврейская пара. Их звали Луис и Луиза. Каждое утро они занимали свои неизменные позиции: он – у окна в спальне, она – у кухонного окна, чтобы провести день в бессловесном созерцании. Миниатюрная Луиза наблюдала за тем, что творится снаружи, с выражением полного равнодушия. Луис, напротив, натягивал маску подозрительности и бдительности, целыми днями высматривая какого-то неведомого врага. Встречаясь с Вадиком на лестничной клетке, он бывал вполне вежлив. Но когда Вадик махал Луису с улицы, проходя мимо его оконного поста, тот не удостаивал Вадика даже кивком и глядел почти враждебно. Вероятно, он решил, что наличие стеклянного барьера между ними избавляет его от необходимости соблюдать правила приличия.
В квартире слева жила Шэрон, похожая на состарившуюся Мальвину. Она работала медсестрой, была чрезвычайно набожна, искренне хотела всем помогать. Когда Гольднеры только въехали, Луис и Луиза сочли необходимым предупредить их, что она вечно сует нос не в свое дело. При этом Луиза уточнила, что Шэрон не всегда была такой. Нет-нет, она стала такой только после истории с сыном.
«Разве вы не слыхали про сына Шэрон? Такой хороший был мальчик, воспитанный. Но болел – что-то с нервами. Одноклассники очень дурно с ним поступили: напоили на вечеринке, потом отвели в лес и оставили там с заряженным пистолетом. Он и застрелился. Их судили, этих ребят, но в конце концов оправдали. Теперь они все выросли, столько лет прошло, говорят, один из них даже учителем работает, да-да, в той же самой школе…» Вадик попытался представить себе взрослого Билла Мерфи в роли школьного учителя. Бедная Шэрон. На бампере ее «бьюика» до сих пор красуется наклейка «Мой сын учится на „отлично“ в девятом классе старшей школы Кохоуза».
Этажом выше жил добряк-здоровяк по имени Оскар. Он мечтал стать профессиональным баскетболистом (росту в нем было под два метра), но в НБА набирают в основном из университетских команд, а Оскар так и не окончил школу. Он объяснял это тем, что всегда интересовался «не учебой, а дружбой». Но дружить тоже не получалось. Принимая одиночество как данность, он простодушно считал своими друзьями соседей, с которыми изо дня в день сталкивался в подъезде. Соседи же не столько сторонились Оскара, сколько боялись его собаки – добермана Хэнка, чей норов вызывал резонные опасения за жизнь у любого прохожего. Едва удерживая пса, Оскар крепко жал Вадику руку и сообщал новости в форме иносказательной телеграммы.
– Как дела, Оскар?
– Ужасно.
– Что случилось?
– Засада. Ехал к маме в больницу, превысил скорость. Из-за поворота – мигалка. Штраф сто баксов.
– А что с твоей мамой, Оскар?
– С мамой-то? В больнице. Опухоль. Будут резать.
После переезда большинство прежних знакомых исчезли из жизни Вадика, как будто их никогда в ней и не было. Первое время он периодически звонил Славику, но в ответ на «Как дела?» получал неизменную английскую фразу, исковерканную русским акцентом: «Бен бизи»25.
Единственными, с кем хотелось поддерживать связь, были Дэйв, Пит Хьюз и учитель истории Бэйшор. Дэйв был тяжел на подъем, зато Пит исправно заезжал за Вадиком на отцовской машине, и они катили в один из любимых круглосуточных дайнеров, где давали жареную картошку с майонезом и сколько угодно раз бесплатно доливали кофе. Нет ничего уютнее этих закусочных с интерьером в стиле ар-деко, с кабинками и привинченными к полу сиденьями из нержавеющей стали, с рождественскими огоньками, мерцающими зимой и летом, с огромными кусками несъедобного торта на полках стеклянного шкафа-дисплея; с хриплоголосыми официантками, называющими всех клиентов «babe» или «hun»; с пожилыми завсегдатаями, день за днем листающими газеты за стойкой, коротая часы и годы пенсионерского одиночества. Время от времени завсегдатаи поднимают головы от газет, чтобы прокомментировать последние события – погоню за О Джей Симпсоном, скандал с Моникой Левински, скандал с Нэнси Керриган и Тоней Хардинг26. Из всех этих таблоидов они извлекают какой-то общий корень, позволяющий предсказывать будущее. Но их прогнозы никогда не сбываются. Складывается впечатление, что Трое не везет на оракулов (кто бы ни был ты, новый Лаокоон, тебе не справиться со змеей, изображенной на подгнившей вывеске «Доктор Дж. Риззо, фармацевт»). Одиночество заменяет ближнего мимолетными персонажами из новостного цикла: Кеннет Старр, Линда Трипп, Джонни Кокран, Роберт Шапиро… Кто вспомнит эти имена через двадцать или даже через десять лет? Скандалы международного масштаба смешаются во мраке забвения с местными сенсациями. Много лет спустя кто-нибудь из очевидцев попытается выудить из памяти подробности истории с О Джей Симпсоном или с Полой Джонс, но вместо этого вспомнит про бесславного тренера Руссо. Того, который всегда ловил прогульщиков, куривших за оградой территории Матавандской средней школы. Высокий человек с красным носом и кислым желудочным запахом изо рта. Ловля курильщиков была его основной работой, но все почему-то называли его тренером. Потом его уличили в распространении детской порнографии. Вадик узнал об этом то ли от Пита, то ли от мистера Бэйшора. Возможно, это известие было последним, что дошло до него из навсегда покинутой Матаванды.
После того как Пита приняли в группу Against What, началась новая жизнь: за какие-то полгода из забитого тихони-шахматиста он превратился в уважаемого участника хардкор-сцены. С восхищением наблюдая за его трансформацией, Вадик мечтал последовать его примеру. Пит брал его с собой на репетиции; после концертов они оказывались то в гостях у тюремных собратьев Брента, похожих на «Ангелов ада», то в странных полуподвальных помещениях, где собирались «Люди за этичное обращение с животными». Первые глушили бормотуху St. Ides из двухлитровых бутылок и часами травили жутковато-потешные истории из своей забубенной жизни. Вторые были вечно заняты планированием следующей акции протеста (например, приковывание себя к дверям магазина мехов). И то и другое называлось хардкором. Веганство, стрэйт-эдж, DIY, политический активизм, миролюбивый бред харе-кришнов или пьяные драки, фашиствующие подростки в ботинках-говнодавах «Доктор Мартенс», бульдожья физиономия Пола Берера из группы Sheer Terror – все это каким-то образом уживалось под одной крышей. Более того, при всей своей разношерстности эта безумная компания отщепенцев казалась достаточно сплоченной и неожиданно гостеприимной.
Разница между Вадиком и Питом состояла в том, что в случае Вадика трансформация коснулась не только внешнего облика, но и манеры поведения: в разгар пубертата он с удовольствием перенял от новых друзей их грубость и дикарские повадки. Пит же ни под кого не подстраивался. Там, где разговор ткался из мата и местного сленга, он продолжал изъясняться своим подчеркнуто культурным языком, и это сходило ему с рук, так же как Ар Джею Бернарди —белая бейсболка.
В конце девяносто третьего года отец Вадика нашел временную работу в штате Огайо. На семейном совете было решено, что еще раз переезжать всей семьей не имеет смысла, и Вадик с матерью и маленькой Элисон остались втроем в новой квартире, почти ничем не отличавшейся от предыдущей. Ковролин, гипсокартон. Только, в отличие от Мэйпл-Роуд, здесь за окном действительно росли клены.
Глава 5
После завтрака я проверяю почту, сначала рабочую, потом личную. От рабочей почты хочется поскорее отделаться. Но отделаться бывает непросто, даже по выходным. В мире происходят важные вещи, требующие, как считает начальник, моего непосредственного участия. «Нефтяная компания „Сонангол“ объявила открытый тендер на продажу своих пакетов частным фирмам в рамках правительственной программы, направленной на приватизацию ключевых государственных активов, от отельного бизнеса до авиации. В результате запланированной дивестиции „Сонангол“ потеряет 30% своего капитала в нефтегазововых подрядчиках, а также 33% акций совместного предприятия с голландской компанией, специализирующейся на плавучих установках для добычи, хранения и отгрузки нефти. Правительство Анголы планирует также открытый тендер на контрольный пакет акций алмазодобывающей компании „Эндиама“». Все это меняет ситуацию для иностранных инвесторов, включая нашу компанию. Мы не останемся в стороне, а это значит, что впереди у меня много бессонных ночей.
В Нью-Йорке работа юриста – это круглосуточная нервотрепка без выходных. Но я никак не предполагал, что и в Анголе будет нечто похожее. У моего отца есть любимая байка о том, как один ленинградский приятель попросил назвать ему три причины не эмигрировать в США. «Во-первых, – начал папа, – тебе придется там много работать…» «Спасибо, – перебил его приятель, – этого достаточно». Эта история всегда вызывала у меня приступы зависти: где-то есть люди, у которых все иначе. Им не приходится корпеть по ночам, вливая в себя литры кофе, а наутро узнавать от начальства, что все надо переделать, так как условия договора изменились.
Как я пахал все эти годы, начиная с поступления на юридический! Конечно, я сам выбрал себе такую профессию. И не только из‐за денег. Мне нравилась, да и до сих пор нравится серьезность работы. Иногда я кажусь себе персонажем голливудского фильма о большом бизнесе, где люди в дорогих костюмах произносят много длинных слов, нижут бисер профессионального жаргона, и, хотя зрителю непонятен смысл всех их реплик, он смотрит с затаенным дыханием, чувствуя или принимая на веру драматизм происходящего. Я же прекрасно понимаю, о чем говорят воротилы в дорогих костюмах. И до сих пор испытываю определенное удовлетворение оттого, что так здорово ориентируюсь в лабиринте международного корпоративного права, знаю входы и выходы, разбираюсь в нюансах. И даже то, что работа моя не спасет мир, не проблема. Тем более что претензия эта на самом деле не совсем справедлива. Если миром правят деньги, то и спасти его могут только деньги, не так ли? А я, Дэмиен Голднер, эсквайр, в своей работе имею дело с очень большими деньгами. Сделки, которые я помогаю оформить, подчас бывают такими крупными, что голова идет кругом. Тектонические процессы, движение капитала, определяющее судьбы мира. Мог ли я, ленинградский школьник, или я, шестнадцатилетний панк из Трои, солист никому не известной группы Error Of Division, представить, что буду работать на международную компанию по управлению инвестициями в Луанде, выступая в роли посредника между африканскими чиновниками и европейскими бизнесменами; что это я, Вадик, Демчик, Дарт Вейдэм, буду отчитывать команду подчиненных за ошибку, допущенную при смысловой проверке договора… что все это будет моей жизнью?
И все же. Меня не покидает чувство, что я мог бы заниматься тем же самым, но в куда менее жестком режиме. По правде говоря, на это я и рассчитывал, когда принял предложение о работе в Луанде. Африка – не Америка, думал я, там так не вкалывают. К тому же Ангола, бывшая португальская колония, наверняка переняла южноевропейскую традицию послеобеденного отдыха. Так я полагал, но допустил в своих расчетах непозволительную ошибку («Details, Damian, it’s all about attention to details»27): ведь работать-то я буду не на ангольскую и даже не на португальскую, а на британскую компанию. А британцы, как и американцы, не знают, что такое сиеста. По правде говоря, я до сих пор не совсем понимаю, с какой стати меня взяли на эту работу. Конечно, я всегда хотел заниматься международным правом и уже имел некоторый опыт, плюс диплом престижного учебного заведения (то, что в Америке называют «pedigree») и вполне солидное резюме американского адвоката. Все это котируется. Но ведь я до этого никогда не имел дела с нефтяными государствами, режимами-рантье, развивающимися рынками. Ничего об этом не знал. А знать надо было не только юридическую «матчасть», но и все остальное – экономику, социологию, политологию и, наконец, историю страны, куда я отправляюсь. Законы не существуют в вакууме, надо понимать контекст. Правда, кое-кто из коллег отговаривал меня от такого основательного подхода: «В конце концов, мы здесь всего лишь поставщики юридических услуг, нам совершенно необязательно разбираться во всех нюансах африканской истории и политики». Но как раз незнание нюансов и подвело меня с самого начала, когда я понадеялся на легкую жизнь. Всем известно, что в Африке другой ритм, там ничего не делается вовремя, там коррупция и бардак, зато и перенапряга на работе не бывает. Большая часть населения вообще не работает (розничная торговля – не в счет), а те, кто работает, делают это в весьма расслабленном темпе (во всяком случае, по американским меркам), берегут нервы. Так-то оно так, только к моей работе все это не имеет отношения. И дело не только в том, что я работаю на британскую компанию, но и в том, что моя работа связана с нефтью, то есть с «Сонанголом». А это уже совсем другой коленкор. Африка с ее добродушным раздолбайством – отдельно, а «Сонангол» – отдельно.
Штаб-квартира «Сонангола», высотка с плоским куполом, похожим не то на нимб, не то на летающую тарелку, возвышается над улицей Первого Конгресса МПЛА – один из главных архитектурных символов Ингомботы, да и вообще всей Луанды. «Сонангол» – это работодатель, о котором мечтает каждый анголец. Если ты работаешь на «Сонангол», у тебя и твоей семьи есть доступ ко всем привилегиям. Но главное – это спасательный круг луандской элиты, кормушка душ Сантуша и его присных, это их резервный генератор, «параллельная система», никогда не дающая сбоев. Так было с самого начала существования независимой Анголы: пока вокруг царил социалистический бардак, в «Сонанголе» работали специалисты высокого уровня, «серьезные пацаны», как сказал бы мой университетский дружок Кот. В конце семидесятых они уже сотрудничали с «Шевроном» и «Би‐Пи», их штаб-квартира находилась не в Луанде, а в Лондоне. От британских коллег они узнавали про структуру энергетических рынков, организацию нефтяного сектора и про все остальное – от сейсмических данных и офшорных участков до дорожных шоу и конкурсов.
Во всяком случае, так рассказывают сами британцы – мои коллеги и работодатели. Кто из них был здесь с самого начала, когда «Сонангол» еще не был «Сонанголом», а Сантуш не был Сантушем? Этого мне никак не узнать: секретность. В те годы работа «Сонангола» была обнесена семью заборами, это была святая святых. Но если послушать хвастливый треп моих сослуживцев – то, что мои советские родители всегда называли разговорами в курилке, а американцы называют «water cooler talk», – может сложиться впечатление, что все они стояли у истоков ангольского капитализма и что нынешние воротилы из «Сонангола» были у них мальчиками на побегушках. Это наша корпоративная легенда, домашняя лапша, которую старожилы по традиции вешают на уши новобранцам вроде меня. Когда я стану дедом, тоже буду потчевать салаг подобными байками. «„Сонангол“? Да они еще пятнадцать лет назад перед нами во фрунт вставали…» И салаги будут качать головой, изображая восторг и не веря ни одному моему слову.
Когда в начале девяностых партийные бонзы МПЛА распрощались с социализмом и спешно переквалифицировались в клановых капиталистов, «Сонангол» встал у руля новой экономики, переродившись в холдинговую компанию, чьи дочерние предприятия охватывали все, что только бывает, от транспортировки до страховки, банковых услуг, недвижимости, кейтеринга и так далее. Их главным активом было влияние, причем не только в индустрии, где их компания выполняла функцию шлюза, но и в правительстве. Попросту говоря, «Сонангол» и ЦК МПЛА были неразделимы. Правительственные займы осуществлялись с помощью офшорных спецмашин, гарантировавших иностранным кредиторам безопасные схемы погашения через защиту цен на нефть, резервные счета обслуживания долга и механизмы ускоренной выплаты. Нефтяная ипотека обеспечивала власти финансовый резерв, а стало быть, и долгую жизнь.
Что же означает нынешний открытый тендер? «Скорее всего, ровно то же, что и обычно, – пишет в своем имейле мой неутомимый начальник. – Как мы знаем из других примеров, приватизация в Анголе всегда происходит по одной и той же схеме. Государственное и частное – сообщающиеся сосуды. Так что для них, судя по всему, это не означает ничего, кроме очередной схемы быстрого обогащения. Кроме того, я думаю, это связано с включением „Сонангола“ в листинг публичной фондовой биржи. Необходимый тактический маневр. Вопрос в том, что это означает для нас. И разобраться в этом вопросе надо как можно скорее, изучив все релевантные документы. Всецело на вас полагаюсь».
Начальника, который так любит писать мне имейлы с поручениями по выходным, зовут Синди. У этого имени есть предыстория: родители хотели девочку и придумали ей имя Синди, но вместо Синди родился Сидни. В паспорте – Сидни, а дома всегда звали женским именем, он к этому имени привык с детства. В школе, конечно, представлялся Сидом, чтобы не дразнили. Когда же волнительные школьные годы остались позади, он взял домашнее имя в качестве официального. Синди – англичанин средних лет, поджарый, седеющий, не особенно следящий за стрижкой (на затылке вместо аккуратной контурной линии – кустистая поросль). У него впалые голубые глаза, бледная кожа, сухие губы с белым налетом в уголках рта. До того как податься на ангольский Клондайк, он много лет работал профессором юриспруденции в Лондоне. И, глядя на него, вы видите именно профессора – немного угловатого, немного рассеянного. Но не надо обольщаться: Синди – акула каких поискать. Никакие партнеры из юридических фирм Нью-Йорка не сравнятся с ним в изворотливости и деловой хватке. Этот человек был создан для большого бизнеса, хоть и обожает посетовать на свою неприспособленность, а когда ситуация требует блеснуть английским остроумием, начинает со слов: «Видите ли, я – гость с планеты Академия и не очень хорошо знаю ваши порядки…» Но главное, это – отпетый трудоголик. С таким начальником о расслабленном графике нечего и думать. Тем не менее я приучил себя считать Синди моим ментором. Да и Синди относится ко мне как научный руководитель к аспиранту: не просто выжимает все, что можно, но и наставляет, делится опытом. В минуты особого благодушия обращается ко мне так же, как в шутку обращались к студентам профессора на юрфаке: «counsel», то есть «советник». «What would you do here, counsel?» И так же, как те старорежимные преподаватели, долдонит про «внимание к деталям» – самое важное в адвокатской профессии. Мне вообще всю жизнь везло на менторов, начиная еще с мистера Бэйшора. Старшие всегда почему-то видят во мне протеже, хотят взять надо мной шефство. Или, может, я сам этого хочу? Может, в этом мое призвание – вечно быть чьим-то учеником? Может быть, поэтому у нас с женой – бывшей женой – так долго не получалось завести детей? Разве может вечный ученик стать отцом? Второе утреннее письмо – всегда от нее, от Лены. Точнее сказать, не письмо, а записка – напоминание об отношениях, от которых не осталось ничего, кроме алиментов.
С Леной мы познакомились на последнем курсе колледжа. Познакомил нас Жека Forget-about-it, который, по утверждению Лены, сам одно время пытался за ней ухаживать. Он был странный, этот Жека. Внешне очень похож на юмориста Михаила Задорнова, если представить его двадцатилетним. Говорил тусклым, напрочь лишенным интонации голосом, на русско-английском суржике, с вечной этой присказкой «forget about it», заимствованной из фильмов про итальянскую мафию. Однажды на тусовке у Кулака кто-то из присутствующих взял гитару и стал наигрывать песню Гребенщикова. «Это Гребень, да?» – поинтересовался Жека. И тут же вынес вердикт: «Гребень меня борает, он к моему солу не апилает». Мне потребовалось некоторое время, чтобы расшифровать смысл сказанного, составив мысленный подстрочник: «Гребень мне скучен, он не взывает к моей душе». Когда я пересказал это Лене, она покатилась со смеху. От ее уютного смеха мне стало тепло, как от каминного огня, и я старался поддерживать этот огонь как можно дольше, ловко подбрасывал в него щепки острот, издеваясь над бедным Жекой и его косноязычием. С этого и начались наши отношения.
Она жила с матерью и бабушкой в съемной квартире вроде тех, в которых я и сам жил с родителями до тех пор, пока не поступил в колледж и не переселился в общагу. Общежитская жизнь, при всех ее неудобствах, была веселее, но тут у нас была своя комната, комната Лены, всегда идеально убранная и никогда не проветриваемая. В ней пахло какой-то затхлой чистотой. Потом этот запах перенесся в нашу собственную квартиру, как будто и в ней жили три поколения одиноких женщин, а я был временным явлением. И когда у нас с Леной наконец появился ребенок, Эндрю, плотная среда женского присутствия вытолкнула меня наружу, поскольку двум особям мужского пола там уже не было места.
У каждой из женщин было свое занятие: бабушка смотрела советские комедии, мать готовила суп с фрикадельками, а Лена занималась дизайном. Каким именно? Ленин род деятельности не поддавался определению, потому что все время менялся. Среди всех констант нашей тоскливо-уютной повседневности это была единственная переменная. Сначала она училась на компьютерного дизайнера, но что-то не складывалось, были какие-то трения, вечные козни со стороны индийца по имени Арджун, ассистента преподавателя. Арджун настраивал против Лены всю профессуру и вообще ставил палки в колеса. Она не хотела конфликтовать, перевелась на ландшафтный дизайн. Но там было еще хуже, все готовы были перегрызть друг другу глотку, а Лене этого не надо, да и сам предмет ее не заинтересовал. Потом был дизайн ювелирных изделий, а потом я и вовсе перестал понимать, чем она занимается. В конце концов она освоила Visual Basic и С++, и мне пришло в голову, что максиму, некогда изреченную квинсовским Аркашей, можно было бы продолжить так: «Мужики – в водилы, бабы – в хоматенды, а дети – в программисты». Но я не стал делиться этой шуткой с женой. Когда ее спрашивали, кто она по профессии, Лена по-прежнему отвечала без запинки: дизайнер.
За два месяца до свадьбы я привез ее в Трою на смотрины, и потом, всю последующую совместную жизнь, она корила меня той предновогодней поездкой, после которой у нас-де все пошло вкривь и вкось. Справедливо замечала, что моя семья невзлюбила ее еще до того, как она пересекла порог их дома, и что я не предпринял ничего, чтобы оградить ее от их недоброго отношения. Так оно все и было, но что я мог поделать, если она, Лена, с первой минуты решила играть в молчанку? За три дня нашего пребывания в родительском доме она смогла выдавить из себя лишь одну-единственную фразу: «На кого же Дема все-таки похож, на папу или на маму?» Это было сказано за столом, ни к селу ни к городу. Десятилетняя Элисон прыснула и поперхнулась чаем, который она, американский ребенок, пила через трубочку. Моя мать уставилась на Лену немигающим взглядом, а когда отец промямлил, что оба ребенка у них, к счастью, пошли не в него, а в красавицу-жену, мама брезгливо поморщилась и, демонстративно повернувшись к Элисон, стала по-английски выговаривать дочери за неумение вести себя за столом.
«Просто им невдомек, что у каждого троянца должна быть своя Елена», – попытался я сгладить неловкость, когда мы с Леной остались наедине. Она на мой вымученный юмор никак не отреагировала.
На следующее утро мы с отцом возились в гараже. Я собирался с духом, чтобы задать вопрос, ответ на который я уже знал, самым беззаботным тоном. Но отец опередил меня:
– Что я тебе могу сказать? Заурядность, посредственность. Ты уж меня извини. Мать сказала мне, что вы собираетесь пожениться. Если это правда, ты совершаешь большую ошибку. Эта барышня всегда будет тянуть тебя вниз. Таково мое мнение. Но ты, конечно, не обязан с ним считаться. Ты и раньше не больно-то к нам прислушивался. С тех пор, как в десятом классе удрал из дома к своим панкам…
– Во-первых, не в десятом, а в одиннадцатом. – Я почувствовал пульсацию за шиворотом, там, куда мать всегда просовывала руку во время зимних прогулок в детстве, проверяя, не вспотел ли я. Сейчас бы остановиться, закончить разговор, пока не ляпнул чего-нибудь. Но с пульсом за шиворотом было уже не совладать. – А во-вторых, позволь напомнить тебе, что в тот момент, когда я, как ты говоришь, «удрал к панкам», тебя с нами вообще не было. Ты-то удрал еще раньше и гораздо дальше…
– Да как тебе не стыдно! Если бы я тогда не уехал в Огайо, тебе, мой дорогой, было бы нечего жрать. Ладно, не о чем говорить. Тебе твои панки всегда были дороже родной семьи. Вот у них и спрашивай совета.
По дороге из Олбани в Покипси, уже твердо зная, что моей семьи на свадьбе не будет, я предложил устроить «просто веселую пьянку». Без родни, без раввина, без всей этой утомительной катавасии с фатой, свадебным маршем, свидетелями, фраками и розами в петлицах. Пустая трата денег. Лена поддержала: ее и саму в дрожь бросает при мысли о том, как ее мама с бабушкой будут сидеть с конфузливо-кислыми лицами во главе стола, рядом с молодоженами. Они у нее не привыкли к такому, да и она наверняка стушуется, замкнется, как во время визита к моим родителям. Пусть лучше будет так, как я предложил, «просто пьянка», весело и непринужденно. Разумеется, она сказала это потому, что ничего другого ей не оставалось. Я не сомневался, что в будущих семейных ссорах она не преминет использовать свадебное фиаско в качестве козыря – и будет совершенно права. Но я не видел другого выхода.
В результате все получилось еще хуже, чем я предполагал: наша свадьба превратилась в несуразный довесок к свадьбе Кота. Я и сам не понял, как это произошло. Суть, однако, была в том, что в конце февраля Кот женился на той самой Лане, из‐за которой тремя годами раньше его чуть не укокошил Жека-со-шрамом. Свадьбу сыграли в бруклинской синагоге; потом, как положено, был банкет – с тостами, танцами, подниманием стульев, на которых сидели молодожены, и бросанием букетов. А потом, уже поздно вечером, когда пожилые родственники разъехались по домам, праздник переместился в ночной клуб, и там, сквозь оглушающее «тыц-тыц», диджей объявил, что они празднуют не одну, а сразу две свадьбы: с сегодняшнего дня Дэмиен Голднер и Элэйна Яновски тоже муж и жена. В доказательство означенного факта Лена быстро подняла руку с колечком, и толпа разразилась пьяным улюлюканьем, но было очевидно, что большинство присутствующих не поняли толком, о чем речь, то ли не расслышали слов диджея, то ли приняли их за шутку, и их бурный восторг связан не столько с нашим бракосочетанием, сколько с тем, что у них тут сейчас тополиный пух, жара, июль, хотя на улице кромешный февраль.
***
В Луанде все наоборот: февраль – самый жаркий месяц, пора карнавала; а июль – самый холодный, хотя по-настоящему холодно здесь никогда не бывает. Мне нравится луандский климат: погода если и шепчет, то во всяком случае не нашептывает никаких тяжелых и бесполезных воспоминаний. Я приехал сюда в мае, когда сезон дождей близился к концу. Было влажно, но это была совсем другая влага, чем в Нью-Йорке: пар, поднимавшийся от земли, был наполнен запахами рыбы, пальмового масла и смеси трудно опознаваемых специй. Корица, гвоздика, что-то еще. Меня встретили в аэропорту и привезли в гостиницу в Талатоне, вполне соответствовавшую американским стандартам. На первом этаже располагался внутренний дворик с бассейном. Кокосовые пальмы шелестели веерами листьев над столиками, за которыми сидели парадно одетые африканцы, бизнесмены и бизнесвумены новой Анголы, а также их деловые партнеры – не столь парадно одетые иностранцы. Казалось, никакой шум города, да и вообще никакое движение жизни за пределами этого отеля не может нарушить тишину, оркестрованную приглушенными разговорами за столиками вокруг бассейна. Я заказывал сначала капучино, затем бокал красного вина, затем снова капучино. Тянул один напиток за другим, беззастенчиво разглядывая всех этих людей, которым не было до меня никакого дела. Было спокойно и скучно, и было страшно даже подумать о том, что в какой-то момент надо будет встать из‐за столика, выйти в город, с кем-то заговорить, выйти на работу, начать новую жизнь. То, ради чего я сюда ехал, теперь пугало меня, как не пугало ничто в моей взрослой жизни. Только в детстве бывали такие парализующие страхи. Например, когда через два месяца после нашего приезда в Америку мать вывела меня на прогулку и вдруг затараторила полушепотом: «Слушай, а может, давай вернемся в Ленинград, а? Будем жить у бабушки, у нее, конечно, места не очень много, но мы как-нибудь разместимся. Только ты и я, Вадь. Папа останется тут, а мы с тобой вернемся. А? Поселимся у бабушки. А? Хочешь?» И так же, как тогда, я сейчас чувствовал: единственное, что было бы еще страшнее, чем оставаться здесь, это – вернуться назад. Поэтому я продолжал сидеть за столиком возле бассейна, чередуя вино и капучино. Так прошли первые три дня моей жизни в Луанде. На четвертый день за мной заехал Синди и повез показывать город.
«Дэмиен? Очень приятно, я Синди. Прошу прощения, что не приехал раньше. Я был на юге, в Лубанго, ездил туда на машине. Большая ошибка. Обратный путь занял втрое дольше, чем предполагалось. Из Лубанго в Бенгелу, а оттуда через Южную Кванзу обратно в Луанду. Везде блокпосты, дороги в ужасном состоянии. При таком количестве иностранных инвестиций могли бы уже привести в порядок. Вы голодны? Нет? Продержитесь до ужина? Вот и хорошо».
На улице перед отелем мы застали шумное действо. «Здесь вечно что-нибудь празднуют, – пояснил Синди. – Скоро привыкнете. Что ни день, какой-нибудь локальный праздник с кизомбой28 и угощением прямо на улице. Фунж и муамба29 в котлах и так далее». При ближайшем рассмотрении действо оказалось показательным выступлением учеников студии «Капоэйра Луанда». Ученики – черные, белые, мулаты – демонстрировали бразильское боевое искусство под перкуссию и песнопения – скорее в африканском, чем в бразильском стиле. Один из участников выступления – судя по всему, тренер – подошел ко мне и по-английски спросил, откуда я приехал. Я с готовностью ответил отрепетированной португальской фразой: «Эу соу душ Штадуз Унидуш»30. Этот ответ почему-то очень позабавил ангольца. Есть такой тип африканского лица: оно кажется суровым, может, даже неприятным, пугающим – до тех пор, пока ты не увидишь его расплывшимся в улыбке. И с того момента, как возможность улыбки проявит себя, лицо навсегда преображается и кажется уже не суровым, а просто выразительным и по-своему красивым. Мне запомнилось лицо тренера капоэйры. Я подумал, что в окружении таких лиц, пожалуй, можно будет жить.
Потом мы долго кружили по городу, стояли в пробках на каких-то больших улицах и, кажется, доехали до самой окраины. Я в очередной раз отметил, насколько окраины всех мегаполисов похожи друг на друга: всё те же граффити на виадуках и гаражах, подъемные краны, уродливые здания складов. Были и чисто африканские приметы: бесконечные ряды палаток, заменяющих африканцам магазины; продавщицы, несущие свой товар на голове или раскладывающие его прямо на земле, на обочине; битком набитые бело-голубые кандонгейруш и тарахтящие купапаташ31. Хижина-клиника традиционного целителя, курандейру, чьи снадобья «избавляют от сглаза, порчи, ревматизма и импотенции». Перечень услуг и прейскурант были выведены на саманных стенах этой лечебницы; недуги, от которых предлагают избавиться, наглядно проиллюстрированы незамысловатыми картинками. Тогда весь этот непривычный местный колорит наверняка поразил меня, но впоследствии, вспоминая первую вылазку в город, я обнаружил, что не помню своего тогдашнего удивления, а помню только то, как все увиденное сливалось воедино. От Алваладе до Кинашиши, через Сидад-Байша, по Маржиналу…
В какой-то момент мы очутились на Илья-де-Луанда («Когда не знаете, куда вам ехать, езжайте в сторону Ильи – вот правило, которое здесь знает каждый»). Пили виски со льдом под обвитым бугенвиллеями навесом в «Кафе-дель-Мар», глядя, как дети на пляже пускают воздушного змея. При ближайшем рассмотрении змей оказался триколором одной из европейских держав, сорванным, по-видимому, с посольского флагштока. Синди сообщил, что воздушный змей у ангольцев ассоциируется с каким-то мифическим предком, умевшим летать, точно птица, и что, согласно одной местной легенде, море было создано Творцом, чтобы служить зеркалом этому летучему прародителю.
Пока Синди рассказывал, я заметил, что за нами следят. На минимально почтительном расстоянии от нашего столика стоял оборванец лет двенадцати. С точностью опытного официанта определив тот момент, когда клиент сыт, он двинулся по направлению к Синди, обнаруживая при этом сильную хромоту – видимо, следствие перенесенного в детстве полимиелита или еще чего-нибудь, чем в Америке давным-давно не болеют. «Terminou?»32 Синди еле кивнул и, не глядя на попрошайку, отодвинул к краю стола тарелку с недоеденным битоком33. Парень подставил нижний край футболки, одним движением сгреб в него все остатки пищи и заковылял прочь.
Когда стемнело, мы вышли на набережную, где воздух то и дело прорезали летучие мыши, и Синди принялся пересказывать другую местную легенду. Однако в ходе пересказа выяснилось, что это не легенда, а философский трактат, написанный известным философом из Румынии, нет, из Сербии. Словом, откуда-то из Восточной Европы. Трактат назывался «Каково быть летучей мышью?». Синди не помнил толком, о чем там шла речь, но это не мешало ему блистать эрудицией перед новым подчиненным. «Каково быть летучей мышью? – вдохновенно вопрошал Синди. – А медузой? Каково быть медузой? А воздушным змеем? Если человек никогда не задается подобными вопросами, значит, этому человеку попросту не хватает воображения, чтобы испытать священный ужас перед полнотой мироздания. Вот о чем писал философ из Сербии. К сожалению, я запамятовал его имя»34. Слушая разглагольствования моего нового начальника, я думал, что на него, по-видимому, будет нелегко работать. Думал и о том, что, как только Синди отвезет меня обратно в гостиницу и я останусь один за столиком у бассейна, мной наверняка снова овладеет ужас – не священный, а самый обыкновенный, ужас человека не на своем месте, не знающего, где его место. И что с этим ужасом надо как-то учиться жить.
***
Первое время после рождения Эндрю мы жили в Виллидже, рядом с пересечением Макдугал и Западной Четвертой. Вместо того чтобы выйти в декрет, а по истечении оплачиваемого срока уволиться, как делали многие из ее сотрудниц, Лена уволилась с работы на шестом месяце беременности. «Не могла подождать два месяца? – пенял я ей в пылу семейной ссоры. – Сейчас бы точно так же сидела дома и получала бы за это деньги». И тут же шел на попятную: вообще-то я очень рад, что она дома, роль дизайнера-домохозяйки ей к лицу. Каждое утро она гуляла с Эндрю в Вашингтон-сквер-парке. Послеродовые гормональные изменения творили чудеса: от ее замкнутости не осталось и следа. Теперь она проявляла недюжинную общительность, заводя знакомства с другими молодыми матерями, которых она встречала во время своих прогулок. Я только диву давался: за все годы жизни в Нью-Йорке я никогда не видел в Вашингтон-сквер-парке никаких молодых матерей. Как правило, там ошивались бомжи и наркоманы. Над кустами плыл запах анаши, вокруг скамеек валялись шприцы.
– Ты уверена, что это подходящее место для прогулок с ребенком?
– А где ты предлагаешь мне гулять?
– Не знаю, Нью-Йорк большой. Можно, например, в Централ-парке.
– До Централ-парка надо ехать на метро. Я одна коляску в метро не затащу. А ты всегда на работе. Вот если б мы жили в Покипси, рядом с мамой и бабушкой…
Все сводилось к этому, и я знал, что рано или поздно мне придется сдаться. От переезда в Покипси меня оберегала работа: за пределами метрополии ни о каком карьерном росте не могло быть и речи, тут Лене нечего было возразить. Но существовал еще компромиссный вариант: мы переберемся на север, а мама с бабушкой – на юг. Воссоединение семьи произойдет где-нибудь посередине. Так и вышло. Из Виллиджа мы переехали туда, где доминиканцы делят относительно недорогую жилплощадь с выходцами из бывшего СССР. Грязнокирпичный Вашингтон-Хайтс. Строго говоря, это все еще Манхэттен, но Манхэттен, уже не похожий на себя. Ни стоящих плотным рядом домов, чьи нижние этажи арендованы под бары, рестораны и йога-студии, ни круглосуточного потока желтых такси, ни этнического колорита Чайна-тауна или Маленькой Италии. Безликий спальный район, где все питаются дома, наполняя лестничную клетку неотвязными запахами этнической пищи, и терпят чужое (латиноамериканцы – запах русских котлет, русские – запах мофонго), терпят друг друга, стараясь не соприкасаться, встречаясь только в лифте или в прачечной, куда все дружно тащат мешки с грязным бельем под конец недели. Ленина родня поселилась на соседней улице. Теперь у Лены не было больше повода проявлять несвойственную ей общительность, знакомясь на улице с другими молодыми матерями. Она вернулась к своему привычному кругу общения, состоявшему из мамы и бабушки, и герметичная монотонность их жизни помогала ей кое-как справляться с тем одиночеством, которое она ощущала в моем присутствии. Я делал ее одинокой. Так мне было сказано во время той же ссоры… или другой? Не важно. Важно то, что так, по-видимому, и было. Когда меня не было рядом, у нее был маленький Эндрю – и были две женщины, помогавшие ей растить ребенка. Котлеты, подгузники, русское телевидение – не мечта, но в целом ничего ужасного. Но как только я приходил домой с работы, она оказывалась одна, хотя ни мама, ни бабушка никуда не торопились и, чтобы поддержать ее, часто задерживались у нас допоздна. Дело было во мне, это я сгущал вокруг себя напряженную тишину. Единолично представлял собой молчаливое большинство. Лена знала, что я знаю за собой эту неприятную черту и ничего не могу с собой поделать. Она и винила, и жалела меня, и две другие женщины, мать с бабкой, тоже винили и жалели, хотя у них это было в других пропорциях: куда больше укора, чем жалости. Из таких вот смешанных чувств и складывалась та домашняя забота, от которой мне хотелось лезть на стенку. Меня раздражала любая мелочь: и то, как они называют Эндрю Андрейчиком, и то, как, говоря о физиологических отправлениях, теща начинает почему-то сюсюкать и пришепетывать, опуская безударные гласные («пописить… пописьть…»), и то, как бабка поминутно сплевывает от сглаза, причем говорит не «тьфу-тьфу-тьфу», а «тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу». И как, придвигая ко мне тарелку с несъедобным салатом из фенхеля и чего-то еще (какой невменяемый предок выдумал этот «семейный рецепт»?), теща уговаривает попробовать «хороший отхаркивающий салатик». И что в котлетах обязательно попадаются тещины волосы. Но главным, разумеется, было не это, а их подспудная враждебность, смешанная с душной участливостью. Плотная женская среда, выталкивающая меня из дому. Казалось, они нарочно делают все, чтобы не дать мне почувствовать естественную связь с сыном, чтобы разлучить нас еще до того, как Эндрю («Андрейчик») поймет, что я – его отец.
В сериалах, которые они, Яновские, так любили, в подобных ситуациях безответственный и сумасбродный глава семейства обычно смывался в какой-нибудь бар – так начиналась пошловатая семейная драма. По правде говоря, я был только рад последовать этому шаблону из мыльных опер. Но Вашингтон-Хайтс не славился барами. Поблизости был только один кабак, такой же унылый, как кабаки в Трое-Кохоузе. Когда я был шестнадцатилетним сопляком, мы с дружками-хардкорщиками любили поиздеваться над завсегдатаями подобных заведений. Теперь же я не видел никакого повода для издевки: бар как бар, все лучше, чем домашнее удушье. Тем более что находился этот кабак совсем рядом с метро, и мне ничего не стоило заглянуть туда по пути с работы. Я занимал одно и то же место у стойки; по понедельникам, средам и пятницам рядом с мной оказывался неухоженный старик, а по вторникам и четвергам – человек помоложе, примерно мой ровесник. Примечательно, что и того и другого звали Рой.
– Сказать вам кое-что забавное? – обратился я однажды к тому, что был помоложе. – Вы бываете здесь через день, а я – каждый день. Так вот, в те дни, когда вас тут нет, на вашем месте сидит другой человек, которого, как и вас, зовут Рой!
– Знаю, – хмуро откликнулся Рой. – Это мой отец, Рой-старший. Мы с ним уже десять лет не общаемся.
Разрыв с Леной произошел скорее, чем можно было ожидать: Эндрю едва исполнился годик. Дело было в пятницу, позвонил Кот, сказал, что вечером будет в городе, предложил пересечься. После свадьбы он перебрался в Филадельфию, где жили родители Лены. Последний раз мы с ним виделись почти год назад. В тот раз я пришел домой на бровях, всех разбудил, споткнувшись обо что-то в прихожей, а наутро выслушал длинный монолог жены о том, как она со мной несчастлива.
– Ну как, Демчик, семейная жизнь не заела? – начал Кот.
– Заела. А тебя?
– Не без того. Повторим прошлогодний подвиг?
– Можем. Но только слегонца, ладно? Без эксцессов.
– Ну, это уж как покатит…
Сообщать жене о моих планах было опасно: после «двойной свадьбы» имя Кота у нас в доме практически не упоминалось. Во избежание скандала я собирался наврать что-нибудь насчет корпоративной вечеринки, но потом решил, что лучше будет вообще ничего не говорить, а просто вернуться в разумное время. С Котом я встречусь ненадолго, выпью кружку пива и сразу домой. Правда, слова «ну, это как покатит» не сулили ничего хорошего.
В итоге я остался верен данному себе обещанию и, не поддавшись на уговоры Кота продолжить праздник, к половине десятого был уже дома. Квартира была пуста, на кухонном столе валялась записка: «Мы с Андрейчиком у мамы. Не звони и не приходи к нам». Вот и все, никаких развернутых посланий, полных горечи и драматизма. Я бросился звонить теще. Раз за разом набирал номер, слушал гудки, чувствовал пульсацию в затылке. Наконец подошла бабка. Сказала, что Лена не желает со мной разговаривать и вообще у них в доме уже спят, постыдился бы. Все выходные я не находил себе места, не мог спать, в голову лез тревожный бред. В понедельник утром она позвонила мне на работу.
– Мы с Андрейчиком тебя прощаем, хоть ты этого и не заслуживаешь. Мы вернемся, но для начала мне хотелось бы оговорить кое-какие вещи…
– Прости меня, Лена, я виноват, – выпалил я, сам не зная, за что извиняюсь. И неожиданно для себя самого добавил: – А что касается вашего возвращения, мне кажется, нам было бы лучше некоторое время пожить порознь… Я подыщу себе другую квартиру, съеду с этой, и тогда вы вернетесь. Хорошо?
– Как скажешь, – ответила Лена. После этого она еще некоторое время не вешала трубку, и мне было слышно, как из тещиного телевизора вещает Малахов.
Глава 6
Третье утреннее письмо – от Вероники. Такое же деловито-нежное, как и все ее письма. Не письмо, а записка на самом деле. Всего несколько предложений. Привычное признание в любви, сдобренное шуткой, тоже привычной, одной из тех, что давно стали частью нашего «внутреннего репертуара»; затем – уместная реакция на какое-нибудь сообщение из моего последнего письма (о политике, о погоде, о сумасбродстве Синди); и наконец – традиционное пожелание провести этот воскресный день «с пользой и с удовольствием». Вместо подписи – несколько потешных эмодзи. Неужели все это искренне? Или это всего лишь обязаловка, вежливая отписка, может, даже с долей издевки? Но если так, зачем ей вообще поддерживать эту переписку? Иногда я специально беру паузу, не пишу ей в течение дня, а иногда и двух дней, проверяю, сколько пройдет времени прежде, чем она напишет сама. Она нарушает тишину уже на второй, максимум на третий день, и я временно успокаиваюсь: значит, она тоже испытывает потребность в этом ежедневном общении.
После паузы ее письма всегда начинаются как ни в чем не бывало: «Привет из солнечного Покипси!» Далее следует все то же, что и обычно. Никаких упреков и расспросов, почему не писал вчера. Это было бы у Лены, и мне нравится, что у Вероники этого нет. Не нравится другое: ее странная манера отвечать на мои любовные излияния парафразом. Что бы я ни написал, я могу быть уверен, что в ответ получу ровно то же самое, несколько другими словами. Что означает это обезьянничанье? Ведь если речь не идет о наших чувствах, а о чем-то еще, у Вероники никогда не возникает проблем с самовыражением. В разговорах об отстраненных вещах она – прекрасный собеседник. Правда, тут я тоже отметил у нее некоторую особенность. По моему наблюдению, Вероника часто хвалит то, чего хвалить не стоит, но что хвалят другие. Придерживается – может, даже искренне – мнения толпы. Это ее механизм адаптации, один из ее способов выживания. Но у нее есть безусловный дар точно формулировать. Ухватив мысль, которую я силюсь и никак не могу выразить, она тотчас резюмирует ее в емкой форме, и это свидетельствует об определенной живости ума или, во всяком случае, о филологических способностях. В юридическом деле такие способности, разумеется, очень кстати.
При ином стечении обстоятельств она бы легко могла, я в этом уверен, стать крупным юристом. Как и я сам… Хотя мне-то, по совести, жаловаться не на что. Тех целей, которые я перед собой ставил, я, вообще говоря, достиг. Другое дело, что, может быть, с самого начала надо было метить выше, мыслить масштабней. Но это уж, как говорится… Знал бы прикуп… Всякий раз, когда я начинаю думать о моей профессиональной несостоятельности, мой внутренний монолог скатывается к избитым присказкам и фразам-паразитам. В конце концов, мне действительно не на что жаловаться. Что же касается Вероники, она тоже добилась своего и стала практикующим юристом, пусть и не крупным.
Мы встретились на профессиональной конференции в Вирджинии, буквально столкнулись нос к носу возле регистрационной будки. С тех пор как мы приятельствовали в колледже, прошло почти двадцать лет, и в течение этого времени мы даже не вспоминали о существовании друг друга. Тем радостней встреча, мигом возвращающая в туманно-прекрасную юность, в обход всего, что успело накопиться за долгие годы постинститутской жизни. Дэмиен? Ты ведь Дэмиен, я тебя помню! А ты – Вероника! Боже мой! С ума сойти! Как ты, что ты, где ты? Пошли пить кофе, потом пошли вместе на какую-то чрезвычайно важную лекцию, согласившись, что ее ни в коем случае нельзя пропускать, ради нее, можно сказать, и приехали. Напряженно слушали, ровным счетом ничего не улавливая. И весь остаток того дня были уже неразлучны.
Она несколько пополнела и теперь красила волосы в каштановый цвет. Те же выразительные глаза, но взгляд совсем другой: ни насмешки, ни безуминки. Во взгляде отражалась обычная жизнь, ее долгий и, вероятно, не очень счастливый опыт. Рассказала о себе: живет на ферме («Правда-правда!»), где-то недалеко от Покипси, с мужем и тремя детьми. Работает сельским адвокатом. Бывает и такое. Мелкие иски, разводы, завещания, ДТП и т. п. Всего понемножку. В целом работа непыльная, ей нравится. Щадящий график, домой попадаешь в нормальное время. Ей всегда хотелось именно так. Проводить время с семьей, уделять внимание детям. А выкладываться на работе, рвать жилы в сумасшедшей гонке нью-йоркских адвокатских контор – зачем оно? Чтобы что? Этого она никогда не могла понять. Может, я ей объясню? Я-то наверняка участвую в этой гонке и, она не сомневается, выбился в лидеры, стал большой шишкой. «Нет? Что нет? Не стал или не объяснишь? Тогда, друг юности моей, пойдем пить пиво. Любишь пиво?» Грубоватое полуобъятие с похлопыванием, эдакий фермерский жест, прежняя Вероника такого бы себе не позволила. Мы пили пиво, ели жирный китайский рис («Как ты мог догадаться по моей большой жопе, я не сторонница салатиков»). После третьей кружки она размякла, отбросила фермерскую браваду. «Что-то я у себя в деревне совсем одичала». Попробовала перейти на русский, но после нескольких неуверенных фраз оставила эту затею. Между прочим, ее мама пятнадцать лет назад вернулась в Питер. Но Вероника ее никогда не навещает. За последние двадцать лет она вообще ни разу не выезжала за пределы США. Муж – американец, уроженец Покипси. По профессии? Вербовщик. Но он уже много лет не работает. Сидит дома с детьми. Ее заработка им более чем хватает. Там, где они живут, стоимость жизни до смешного низкая.
– Слушай, Дем, а почему мы с тобой в колледже не встречались? Прикинь, могли бы сейчас вместе жить где-нибудь во Фриско…
Я не нашелся что ответить. Неужели она ничего не помнит? Ни нашего несостоявшегося первого свидания, ни знакомства с Бобом Райли? Сказал:
– Я был уверен, что ты встречаешься с Киром…
– С Киром? Да ты с ума сошел! Он вообще, по-моему, гей.
– А помнишь, как ты мне по телефону стихи читала по-русски? Я их почему-то до сих пор помню: «Висит картина на стене…»
– Да, да, что-то такое припоминаю: «Висит картина на стене… Свеча горела на столе…»
– Да нет, ты все перепутала. Про свечу – это вообще из другой оперы.
– Извини, я очень давно не говорила по-русски. Скажи спасибо, что вспомнила хотя бы твое русское имя: Дема.
– Но это же твои стихи, ты их сама написала, когда была маленькой! Во всяком случае, ты мне так сказала.
– Знаешь, тут такое дело… В общем, у меня небольшие неполадки с памятью. Я это не афиширую, и ты, пожалуйста, держи при себе. Пару лет назад я упала на катке. В детстве-то я занималась фигурным катанием и, надо сказать, неплохо каталась. Но в детстве я не была такой коровой, как сейчас. А тут решила поучить катанию старшую дочку, показывала ей, как делать заклон, и – вот, пожалуйста. Сильное сотрясение. Короче, я забываю некоторые вещи. В целом ничего страшного, но… вот так.
Я перегнулся через стол, неуклюже поцеловал ее. Заметил, что у нее маслянистая кожа. Вероника с готовностью ответила на поцелуй.
– Давно не ощущала себя подростком… Все правильно, так и должно быть… А твоя жена говорит тебе, что ты красивый?
– Мы с женой уже давно не живем вместе.
– Ой, извини… то есть… ну, ты понял.
– Ага.
– А дети?
– Сын.
– Большой?
– Девятый год пошел.
– Это хорошо… Все очень хорошо. Посадишь меня на такси?
Мы договорились встретиться на следующий день, и все следующее утро я пытался придумать, как бы мне отказаться от назначенного свидания. Не то чтобы мне не хотелось ее видеть. Наоборот, я был совсем не против закономерного развития вчерашних событий. Но в то же время прекрасно понимал, что этого делать не надо. Не потому, что она замужем, да и я все еще женат, во всяком случае с юридической точки зрения. И не потому даже, что мы принадлежим к одному профессиональному сообществу и, стало быть, наверняка будем сталкиваться и впредь. А просто потому, что превращать эту полную очаровательной мистики встречу с прошлым в обычный перепихон, как выразился бы Кот, – верх пошлости. Словом, все утро я сочинял убедительную и необидную отговорку. Оказалось, напрасный труд. Около полудня Вероника сама написала, что ее планы на вечер, к сожалению, изменились и она никак не сможет со мной встретиться. Продинамила, как двадцать лет назад.
Через год мы снова встретились на конференции. «Ну что, так и будем встречаться и расходиться, как в море корабли? Или покоримся судьбе, столь усердно пытающейся нас свести, и заведем уже наконец роман?» Было бы глупо не покориться. Первое время виделись от случая к случаю, но перезванивались и переписывались регулярно, целыми днями перебрасывались СМС, а по вечерам, после того, как она укладывала детей спать, общались в видеочате. Потом Вероника сообщила мужу, что хочет повысить квалификацию и записывается вольнослушательницей в Нью-Йоркский университет. От Покипси до Манхэттена меньше двух часов на электричке, но вечерние занятия заканчиваются не раньше девяти. Возвращаться ночью ей боязно: Нью-Йорк все-таки, никогда не знаешь. Но она уже договорилась с институтской подругой Рэйчел, которая живет теперь в Бруклине и преподает бальные танцы. Будет ночевать у нее, а наутро возвращаться первым же поездом. Муж поддержал: повышение квалификации – это важно. И Вероника действительно записалась на вечерний курс. Лекции – раз в неделю, по четвергам, с шести до девяти вечера. За весь семестр она не пропустила ни одного занятия. Я ждал ее в кафе через дорогу от здания юрфака. В девять вечера в четверг жизнь в Манхэттене только начинается. Мы ужинали в итальянском ресторанчике в Вест-Виллидже, потом шли в какой-нибудь бар или клуб и уже за полночь ехали ко мне. А рано утром, пока я еще спал, Вероника отправлялась на Пенсильванский вокзал.
Так продолжалось всю осень, вплоть до праздничного сезона, когда низкие заборчики, ограждающие палисадники блокированных домов, украшают гирляндами и огоньками, а в универмагах звучит навязший в зубах мотив «джингл-беллс». Потом настали праздники и зимние каникулы; Вероника приезжала в Нью-Йорк с детьми, водила их смотреть на огромную елку в Рокфеллер-центре. Мне было велено на время сделаться незаметным (выражение «make yourself scarce», то есть «сделай так, чтобы тебя стало мало», – из ее лексикона). Я повиновался. Ждал, скучал в своей холостяцкой студии в Уильямсбурге. Пару раз сводил Эндрю на детский спектакль, за которым обязательно следовал ужин в дайнере. Мы с сыном садились друг напротив друга и, заказав два рубен-сэндвича, привычно молчали, а когда нам приносили заказ, принимались жевать сосредоточенно и слаженно, как спортсмены, давно работающие в паре. «Ну что, Андрейчик, хорошо провел квалити-тайм с папой?» – спрашивала Лена, когда я передавал ей сына из рук в руки. На их лестничной клетке в Вашингтон-Хайтс все так же пахло смесью русских котлет и доминиканского мофонго.
Новый год я встретил в компании друзей сестры. Элисон водила меня из комнаты в комнату, знакомя со всеми и вообще стараясь, чтобы мне было хорошо. Но хорошо мне не было, я чувствовал себя не в своей тарелке и, когда в соседней комнате, где было установлено караоке, все набросились на микрофон и заорали «I will survive», тихо слинял. Подумал, что Элисон, узнав о моем побеге, наверняка будет злиться. В детстве я ее всегда стеснялся, а теперь – она меня. Наверное, только так и бывает. Смутное чувство вины перед сестрой. Не надо было, конечно, уходить не прощаясь. Но вот это «I will survive» меня добило. Дома врубил на полную громкость демоальбом группы One Man Less, который не слушал почти двадцать лет. Около полуночи Вероника прислала поздравление в виде селфи: она в карнавальной маске и с загадочной полуулыбкой Джоконды. Я с удивлением отметил, что у моей подруги довольно толстые губы. Раньше я этого не замечал.
На весенний семестр подходящего вечернего курса не нашлось, но мужу Вероники об этом знать было необязательно. Она все так же ездила в Нью-Йорк по четвергам. Ничего не изменилось, кроме того, что теперь наш еженедельный бархоппинг начинался на три часа раньше. Мы как будто и впрямь переживали вторую юность. Как если бы этот загул был естественным продолжением того, институтского, когда мы с Котом и Киром куролесили в клубе «Микки-рекс». Но в этом сиквеле не было никаких Котов и Киров, только мы, В. и В., наша запоздалая юношеская любовь, странным образом выпавшая людям под сорок.
– Ты железный человек! – восхищался я сквозь сон, когда Вероника вставала по будильнику в полшестого утра и начинала собираться на поезд.
– Извини, не хотела тебя будить. Ты спи. Спишь? А знаешь, что я сейчас подумала? Мы нужны друг другу просто потому, что больше никто не нужен.
– По-моему, это стихи.
– Да? В таком случае я не уверена, что это я их написала. Может, опять Пастернак?
– Нет, это, кажется, уже ты. Надо будет запомнить.
О супругах, которым мы так легко изменяли, речь не заходила почти никогда. Время от времени мне приходилось напоминать себе, что в моем случае это и не измена вовсе: ведь мы с Леной давно разошлись, живем порознь, и каждый из нас волен распоряжаться своей жизнью, как ему вздумается. О том, как складывается жизнь у Лены, я знал всё или, по крайней мере, был уверен, что знаю, хотя она мне не докладывала, а виделись мы нечасто. Я точно знал, что у нее никого нет, и это знание одновременно радовало и обременяло. В конце концов, почему я должен жить анахоретом только из‐за того, что моя бывшая жена до сих пор ни с кем не сошлась? Если бы сошлась, я бы, вероятно, приревновал ее к новому бойфренду, и эта ревность была бы, как пишут в бульварных романах, тлеющей головешкой, бесполезно подброшенной в давно угасший костер нашей любви. Да, как-то так. Вспышка ревности, а за ней – уже полная свобода. Но этого никогда не произойдет. Лена так и будет жить с матерью и бабкой в Вашингтон-Хайтс, а я так и буду наведываться к ним по выходным, чтобы забрать Эндрю; буду мрачно ждать сына в прихожей, едва выдерживая их тоскливо-укоризненные, но ни в коем случае не враждебные взгляды, их демонстративно-скорбную тишину. Буду возить мальчика в надоевший парк аттракционов на Кони-Айленде; буду покупать ему чуррос и сахарную вату, пытаясь загладить вину. И если Вероника когда-нибудь бросит мужа и съедется со мной, у меня не хватит духу привести Эндрю к нам в дом.
Впрочем, Вероника и не собиралась бросать мужа, она дала это понять с самого начала. Речь о нем заходила редко, и всякий раз она выстраивала неприступную ограду из нескольких фраз: Ричард – очень хороший, у них крепкий брак; кроме того, Вероника нежно любит свекра со свекровью, у них замечательные, близкие отношения. Что там было за этой оградой? Бог весть. Сколько я ни пытался, никак не мог представить себе эти прочные семейные узы, этого Ричарда, безработного вербовщика, нянчащего троих детей, пока его жена бегает к любовнику; этих свекра со свекровью и их беззаветную любовь к невестке. Не мог представить себе и ее такой, какой она бывала в их кругу, в своей другой, добропорядочно-семейной жизни. Испытывала ли она чувство вины? Какую защиту строила она, сельский адвокат Вероника, на суде, который устраивала ей совесть? Кто ей важнее, Ричард или я? Как бы то ни было, я не чувствовал по отношению к Ричарду ни ревности, ни вины; чувствовал только свое превосходство. Мне было приятно думать о сопернике – лузере и рогоносце; в этом поединке я выходил очевидным победителем.
Когда она была в Покипси, а я в Нью-Йорке, наш эсэмэсный пинг-понг мог продолжаться с утра до вечера, вне зависимости от того, где мы находились и что делали. Повседневная жизнь проистекала на фоне этого непрерывного диалога или даже, наоборот, была фоном для него, и все расстояния сокращались до нуля, и вся неопределенность казалась ничем по сравнению с постоянством этих шутливых реплик, ссылок на интернетную ерунду, фразочек, понятных только нам, личного языка, которым мы так быстро и надежно обросли. Поминутная компульсивная трансляция моего существования заинтересованному собеседнику создавала иллюзию если не смысла, то во всяком случае стабильности.
Потом я уехал в Луанду, и все изменилось. Наши отношения – в том виде, в котором они были мне дороги, – закончились раз и навсегда. Такова была версия, которую я представил Коту и еще нескольким друзьям, знавшим о моем романе с Вероникой. На самом же деле все закончилось гораздо раньше – в тот день, когда она вернулась из Сан-Диего. Я ждал ее возвращения, чтобы возобновить ежевечерние свидания по скайпу. В Сан-Диего Вероника гостила у подруги, в маленькой двухкомнатной квартире. Общаться в видеочате там было неудобно. Тем более что подруга ничего про нас не знала. «Ничего, милый, через три дня вернусь к себе в Покипщину, и тогда мы с тобой снова сможем выйти в прямой эфир». Она так и говорила «Poughkeepschina», вставляя это выдуманное мной название в свою английскую речь. Это было слово из нашего уже достаточно обширного личного словаря.
Я ждал. Но когда она прислала сообщение из аэропорта Линдберг-Филд и я ответил длинным сентиментальным посланием о том, как я соскучился, она оборвала переписку неожиданно резко: «Скоро начнут посадку. Хорошего дня». Через полчаса я зашел в мессенджер и увидел, что она переписывается с кем-то еще. Это было в пятницу. По выходным мы общались реже, чем в будние дни: Вероника проводила время со своей большой и дружной семьей, а я выполнял отцовский долг перед Эндрю. Переписка вынужденно замедлялась, но никогда не прекращалась полностью. Даже в неурочное время я мог рассчитывать на два-три коротких сообщения. Однако на сей раз она молчала, и я, почуяв неладное, тоже решил выдержать паузу. Прошла суббота, за ней – воскресенье. Вероника не объявлялась. Я не находил себе места. Подозревал все наихудшее и ее, Веронику, подозревал во всем самом худшем. В юности я бывал достаточно простодушен, а простодушие имеет свойство с возрастом оборачиваться мнительностью.
В конце концов я решил так: если в понедельник она напишет как ни в чем не бывало, я тоже сделаю вид, что ничего не произошло. Не стану осыпать ее вопросами и упреками за то, что она мучила меня своим молчанием все выходные. Но и начинать, как у нас это было заведено, с отчета «как я провел уик-энд» тоже не стану: пусть рассказывает она, а я послушаю. Если же она не объявится и в понедельник, во вторник утром я напишу ей всего одну фразу: «Все в порядке?» Так я решил, но в понедельник с утра не выдержал и отправил послание, которое собирался отправить во вторник. Все ли у нее в порядке? Ответ пришел почти сразу: «Не совсем, милый. Прости, что замолчала. Все разом навалилось: семья, работа, дедлайны. Давай созвонимся чуть позже, ладно? Я все объясню».
Вечером в видеочате Вероника поведала о своих заботах. Оказалось, пока она ждала посадки в аэропорту Сан-Диего, ей прислали извещение о том, что суд, который должен был состояться через три недели, перенесли на ближайшую среду. Дело о финансовой пирамиде. Вероника до сих пор не понимает, зачем ее наняли защитником, а главное – зачем она согласилась, ведь это совсем не по ее части. Вина ее клиента очевидна. В том, что процесс они проиграют, нет никаких сомнений. Но сражаться надо, она же не хочет опростоволоситься. Даже сельский адвокат дорожит своей репутацией. Она рассчитывала, что по возвращении из отпуска у нее будут еще три недели на подготовку. И вдруг – нате. Короче, она уже третьи сутки не спит. Но это – ерунда. Есть обстоятельства и поважнее. Собственно, вот о чем она хотела… У ее мужа Ричарда в Филадельфии есть любимый дядя. Младший брат отца. Он Ричарда, можно сказать, вырастил. Долгая история, не суть. А суть в том, что в прошлую субботу этого дядю застукали с любовницей. Дядина жена, когда ей сообщили, рухнула как подкошенная. Вызвали скорую, подозревают инсульт. Вся семья в шоке, особенно Ричард. Говорит, что дядя всегда был для него эталоном честности и что он его никогда не простит. В общем, мрак. Американская трагедия. И еще: после того как все это произошло, Ричард со словами «А ну-ка, дай посмотреть» схватил ее телефон, чего он никогда раньше не делал. У Вероники душа ушла в пятки. И хотя все обошлось (оказалось, он просто хотел проверить курс купленных накануне акций), она еще долго не могла прийти в себя. Как только он вернул ей телефон, Вероника заперлась в туалете и стерла всю нашу переписку. Вообще она должна сказать, что эта история подействовала на нее отрезвляюще. Правда всегда выходит наружу. Рано или поздно нас тоже застукают, и что тогда? Веронике страшно. У нее трое детей, это будет настоящая катастрофа. Она не может представить себе жизни без меня, любит меня и хочет быть вместе, но ведь нам обоим есть что терять, слишком многое на кону… Надо сделать перерыв. Ненадолго, может, на несколько недель. Пусть все уляжется… Я согласился. Обида на Веронику уступила место безадресной тоске. Когда злость сменяется грустью, человек чувствует себя мячом, из которого разом выпустили весь воздух. Так говорят в Америке, там часто употребляют этот избитый образ сдувшегося мяча. А там, где я живу теперь, говорят по-другому: если человек впустил в свое сердце соль проглоченных слез, эта соль высушит его до конца. Африканская образность мне ближе. По крайней мере, в данный момент. После того разговора с Вероникой я поехал в Вашингтон-Хайтс и прямо с порога сообщил Лене, что у меня «кто-то есть». Она вывела меня на лестничную клетку, чтобы наш разговор не слышали остальные.
– И давно?
– Около года. Я все собирался тебе сказать, но никак не мог собраться с духом.
– Ты свободный человек, – пожала плечами Лена. – Я давно уже не считаю тебя моим мужем. Прошу тебя только: не рассказывай, пожалуйста, о своих похождениях Андрейчику. И уж тем более не знакомь его со своей дамой сердца. Он, бедный, все еще надеется, что его родители когда-нибудь помирятся и снова станут жить вместе.
Потом я бродил по Морнингсайд-парку, рассеянно думая, что надо бы вернуться на работу, где меня ждет ворох неотложных дел. Но так и не вернулся, а вечером встретился в баре с бывшим сокурсником, плутовато-обаятельным парнем по фамилии Паркер. Тот как раз недавно развелся и был настроен на покорение снежных пиков. «Хватит жить вполнакала, стоически переживая ранний кризис среднего возраста, – трубил решительный Паркер. – Требуется срочная смена декораций. И я не имею в виду такую фигню, как завести себе новую бабу или там перейти в другую фирму. Я говорю о радикальных изменениях. Понимаешь? Переродиться, проснуться другим человеком. Не собой и не здесь. Скажешь, эскапизм? Вот и прекрасно, я – за. Я готов хоть в Африку и хоть завтра. Ты, кстати, в курсе, что в Африке сейчас позарез нужны люди вроде нас? Юристы, Дэмиен, юристы! В Анголе, например. Там же сейчас нефтяной бизнес попер, и китайцы все застраивают. Кому жопа мира, а кому Клондайк. Я не шучу, между прочим, сам подумываю туда рвануть. И ты подумай». Я пьяно кивал, твердо зная, что этот Паркер, уроженец Верхнего Ист-Сайда, никогда и никуда не поедет, зато в мою русско-еврейскую душу только что заронили опасную искру.
Глава 7
Когда поезд выныривает из тоннеля Пенн-стейшн, за окном начинают мелькать автомобильные кладбища и шлакоблочные стены, размалеванные граффити. Затем, по мере продвижения на север, на первый план выступают холмы, желто-красные перелески, бобровые плотины, оплаканный ивами ручей, обмелевший приток, бликовый конус заката на темной глади. А по другую сторону железнодорожного полотна – красивые коттеджи и халупы с облезлой штукатуркой, выдающие себя за коттеджи. Дым печных труб, заготовленные на зиму дрова под синим брезентом, тыквенные головы и соломенные космы хеллоуинских пугал. Однообразные изгороди, склады, сараи из обрезных досок, привокзальные буфеты «ешь до отвала», драконья чешуя черепичных крыш, зеленоватый шифер, шпиль церквушки, нотный стан голубей на проводах линии электропередач. И наконец – погост, где всем уготована тишина. На память приходит голос приходского священника, отпевавшего мать Дэна Сакорски. Он доносится издалека, примиряя с развязкой, извлекая корень «мир» из страшного «умирать». Оставайся, покойся с миром.
Олбани, Скенектади, Троя – три составляющих Столичного округа. Несколько столетий назад здесь обитали реальные соплеменники Ункаса и Чингачгука. Возможно, этим объясняются некоторые особенности характера местных жителей. В их генетической памяти, к какой бы этнической группе они себя ни причисляли, навсегда заложено самоощущение «последних из могикан». Тысячи и тысячи последних. Кажется, нечто похожее есть и у южан. Но у тех за спиной – проигранная война, зарытые в землю конфедератские флаги, пьяная присказка фолкнеровского Уоша Джонса: «Они убили нас, но они нас не побили, верно я говорю, полковник?». Историю пишут победители. Откуда же эта романтизация «исчезающего рода» у тех, чьи предки побили и южан, и французов, и могикан? Может, и вправду все дело в названии? Троя – город, которому суждено быть разрушенным.
В середине XVIII века, когда шло освоение территорий между Гудзоном и озером Шамплейн, античные названия были в ходу. Помимо Трои, основанной в 1789 году, в штате Нью-Йорк имеются и другие древние города: Сиракузы, Утика, Рим, Афины, Спарта, Итака… Поезд «Амтрак» следует по маршруту Утика–Рим–Сиракузы и так далее – до самой Канады.
В начале девяностых в Сиракузах тоже была своя хардкор-сцена – во главе с Карлом Бикнером и группой Earth Crisis. Сиракузцы проповедовали другую, более радикальную форму стрэйт-эджа. Они и танцевали по-другому, и вообще казались инопланетянами. Когда их кумиры Earth Crisis выступали в A2Z, они приезжали из своего города-государства на белых микроавтобусах, всей оравой ломились в клуб и норовили устроить потасовку.
– Это все из‐за названия, – разглагольствовал Вадик, когда после очередной битвы между троянцами и сиракузцами их с дружком Брайаном Колчем, «убитых, но не побитых», волокли в участок. Дождавшись, пока драка закончится, полицейские оперативно повязали тех, с кем было легче всего совладать. Теперь их везли в пропахшем блевотиной «шеви», и Вадик, стараясь унять мандраж (только бы не позвонили родителям!), безостановочно нес ахинею: – Все из‐за названия, Колч. В битве городов Троя всегда проигрывает. Как ты думаешь, почему этот долбаный город назвали Троей?
– В честь гондона35, – угрюмо ответил Колч.
Продолжая трещать без умолку, Вадик ощущал себя салагой, нарушающим все правила проезда в воронке, но ничего не мог с собой поделать. В конце концов он заткнул фонтан и уставился в окно. Они проезжали мимо бездействующих фабрик, которые составляют главную достопримечательность города. Вся местная история связана с развитием и кризисом легкой промышленности. Промзона в долине Гудзона.
Именно Троя послужила прототипом вымышленного Ликурга из «Американской трагедии» Драйзера. Мало-помалу владельцы воротничковых фабрик, все эти Гриффитсы и Финчли, откочевали в места получше. Исчез и рабочий класс; вместо него появился класс безработных. Кроме того, во время действия сухого закона Троя приобрела дурную славу как пристанище гангстеров-бутлегеров вроде Джека Даймонда, одного из сподвижников Счастливчика Лучано36. После войны экономическая ситуация несколько улучшилась благодаря росту компании «Дженерал Электрик». Но инженеры, которых привлекало сюда это предприятие, предпочитали селиться в более благополучных пригородах. А коренные жители Трои, потомки бесправных служащих воротничковой фабрики Моллина и Бланчарда, окончательно смирились со своим бедственным положением и, потихоньку спиваясь в парке трейлеров, продолжали гордиться принадлежностью к несуществующему рабочему классу. Соль земли, синие воротнички. Правда, воротничков как таковых здесь давно уже не шили. Зато процветало кустарное производство футболок с печатью «Троя против всех».
Умудренные опытом очкарики из Ренсселера и «Дженерал Электрик» знали, что от человека в такой футболке лучше держаться подальше. Но как раз футболка и спасла Вадика с Брайаном Колчем. Увидев знакомую надпись на груди у Колча, капитан полиции, огромная баба со зверским выражением лица, несколько смягчилась.
– «Троя против всех», – прочитала она вслух и недоверчиво спросила: – Вы здешние?
– Угу.
– А мне сказали, что вы сиракузские.
– Не, мы с сиракузскими воевали! – гордо заявил Колч.
Лицо бабы снова приняло зверское выражение.
– Это как «воевали»?
– Там один чувак был – из сиракузских, у него на руке был гипс. Так он со своим гипсом полез в пит.
– Куда полез?
– В пит. Танцевать. Он там всех своим гипсом калечил. А после концерта к нему Эми Боучек такая подходит, ты чё, говорит, совсем сдурел, кто с гипсом танцует? Она маленькая, Эми, пять футов ростом. А он ее – фигак! Она полетела, об асфальт грохнулась. Кровь, все дела. Ну, наши заступились. А там рядом микроавтобус стоял припаркованный. Без окон, типа служебный. Сиракузские в микроавтобусе сидели, человек пятнадцать, мы их и не видели. Мы, короче, на их чувака налетели, а они – раз, из автобуса все повылазили и – на нас. Да еще с этими, как его… С кистенями! Это, знаете, когда к бандане велосипедный замок привязывают и размахивают. Холодное оружие, кистень. Мы такими не пользуемся, а они пользуются, сиракузские…
– А Шона вы знаете? – вдруг спросила капитанша. История с троянским конем явно не произвела на нее никакого впечатления.
– Шона?
– Шона Брэйди.
– Знаем… То есть не то чтобы… – замялся Колч.
Бедового Шона Брэйди в Трое знали все. Это он первым взял моду использовать в драке бандану с велозамком. В свои двадцать три он был законченным уголовником, одним из тех, кто мог ни за что ни про что избить человека до полусмерти, но всегда заступался за малявок вроде Вадика или Пита Хьюза – только потому, что они были частью хардкор-сцены. В жизни уголовника-рецидивиста Брэйди хардкор играл роль всего самого возвышенного – искусства, религии, идеала, которому надо служить и посвящать все свободное (то есть проведенное на свободе) время. Не будучи музыкантом, он тем не менее был своего рода знаменитостью, ключевой фигурой, примерно как Нил Кэссиди – среди битников. Разумеется, в полиции тоже все знали про Шона Брэйди, и неожиданный вопрос о знакомстве с ним не сулил ничего хорошего.
– Знаем, но не очень близко… – продолжал вилять Колч.
– Это мой младший брат, – перебила его капитанша. – Скажите, он тоже участвовал в драке?
– Не, Шон не дрался. Да и мы не дрались. Мы вообще не по этому делу, мы – музыканты.
– Конечно, музыканты, – оскалилась сестра Шона. – Это из‐за вашей музыки мой братец такой дикий. Хотите стать такими, как он? Милости просим. Музыканты. Ну, давайте пойте, что больше не будете. Я эту вашу песню наизусть знаю.
Но шарманку завели не они, а она. В течение следующих двадцати минут она что-то говорила с отрепетированной сталью в голосе – обвиняла, наставляла и под конец предупредила их, что если еще раз, если еще хоть один раз… Колч напряженно смотрел в пол, изображая покаяние, а Вадик с монашеским прилежанием раз за разом перечитывал памятку, висевшую над столом, за которым сидела их судия. Засим их отпустили.
– Добрая попалась, – сказал Вадик, когда они вышли на улицу.
– Ты шутишь? – вскинул брови Колч. – Сестра Шона Брэйди – известная сука. Специалистка по отбиванию почек.
– Ну, нас-то она отпустила.
– Видать, ты со своим русским акцентом ей приглянулся, ха-ха-ха. Может, она поклонница группы «Горки Парк»? Хэллоу, меня зовут Яков Смирнов из группы «Горки Парк», ха-ха-ха.
– В штанах у тебя «Горки Парк». Я, между прочим, молчал, это ты соловьем заливался про гипс да про кистень.
– Так я ж не знал, кто она такая. Когда она сказала, я чуть не усрался.
В общем, им повезло, если, конечно, верить россказням Колча про отбивание почек. За все время их дружбы Вадик так и не научился определять, чему у Колча можно верить, а чему нет. С Колчем вообще было ничего не понятно. Темная личность. Яркая и темная одновременно. Вся его биография была, как говаривал Пит Хьюз, «загадкой, завернутой в тайну, вложенную в китайское печенье с предсказанием». Для человека семнадцати лет у него был какой-то уж слишком богатый жизненный опыт. Разумеется, многие из его рассказов были чистейшей фикцией. Но и тех, которым находились свидетели, было более чем достаточно. Он лежал в психушке Four Winds, жил под мостом рядом с Коламбия-стрит, бомжевал и кочевал, нанимался на самые невероятные работы. Кем были его родители? Учился ли он когда-нибудь в школе? Ни школа, ни семья не фигурировали в его рассказах; казалось, все это просто не существует в его системе координат. А между тем именно с ним Вадику было проще всего найти общий язык, как будто Колч, как и сам Вадик, стал дикарем сравнительно недавно, а до этого был маменькиным сынком из семьи иммигрантов. На протяжении полутора лет они общались почти ежедневно, вместе ходили на концерты, вместе писали песни. Были, как сказали бы в Луанде, «dedo e unha» («палец и ноготь») – неразлейвода. Одно время Вадик даже жил в квартире, которую Колч снимал за бесценок на окраине Кохоуза, в подвале трехэтажного дома, кренившегося, как Пизанская башня.
Кроме них с Колчем, в этой конуре периодически квартировали еще пятеро или шестеро: весь состав группы Error Of Division плюс боевые подруги. Иногда там ночевал и Пит Хьюз. Спали вповалку на полу, мебели практически не было, а если что и было – бельем поросло: по всей квартире были разбросаны чьи-то пропотевшие шмотки. Вместо обоев или рок-н-ролльных плакатов на стенах висели многочисленные клочки серой изоленты: это вспыльчивый басист Джош то и дело продырявливал гипсокартон своим увесистым кулаком, а потом наспех заклеивал бреши.
Спать ложились в четвертом часу утра, причем Колч заявлял, что не может уснуть без колыбельной, и врубал альбом Sheer Terror. Казалось, свобода, за которую он так ратовал, была не что иное, как возможность непрерывно крутить тяжеляк на полной громкости, жить с этой музыкой в ушах каждую секунду.
– Слышь, Колч, может, выключим, пока спим-то?
– Зачем? Под Sheer Terror классно засыпать. Я понимаю, если бы там Bulldoze или 25 Ta Life, но Sheer Terror – это ж почти колыбельная!
К полудню Вадик просыпался от приятного запаха: это Пит Хьюз уже встал и готовит им всем завтрак на походной плитке. Оладьи с черникой. Недаром Брент говорил, что Пит им вместо мамы.
Строго говоря, их жилье не было сквотом, так как Колч все же вносил номинальную квартплату – по крайней мере, на первых порах. Он подрабатывал татуировщиком, звукоинженером, сессионным музыкантом, инструктором по скейтбордингу. За что бы он ни брался, все получалось сразу и здорово, но успех длился недолго: будучи человеком импульсивным и вдобавок невероятно ленивым, он быстро терял интерес к любому новому делу и, если его не увольняли за халтуру и прогулы, рано или поздно увольнялся сам. При этом он врал, что уже нашел новую работу, а когда находил ее, врал, что уже уволился. Вранье и игра на гитаре были единственными занятиями, к которым он никогда не охладевал. Ни в том ни в другом ему не было равных. Соратникам оставалось только гадать, есть ли у него в данный момент работа или нет; действительно ли он продолжает платить за квартиру или их выселят на будущей неделе (если только эта Пизанская башня не рухнет еще раньше). Правда, Вадик тоже подрабатывал и не то чтобы отдавал последнюю рубашку, но вносил посильную лепту в их гиблое дело.
Не обладая колчевскими талантами к музыке и нательной росписи, Вадик подвизался кассиром в супермаркете Grand Union, куда его пристроил товаровед Волик, троюродный дядя Славика. Это была единственная в жизни Вадика работа, которую он получил по «русским каналам». Длина каналов была минимальной, ибо, насколько Вадику было известно, все русскоязычное население Трои-Кохоуза состояло из его семьи да этого самого Волика. Тем не менее какие-то широкие связи у этого довлатовского героя безусловно имелись. Во время обеденного перерыва, сидя в подсобке, Вадик слушал, как товаровед разоряется по телефону. «Сеня, Сеня, ты им объясни, что от нас тут ничего не влияет… Да… А если будут залупаться, мы им покажем, где крабы ночуют… Так и скажи…» Особенно причудливо получалось, когда Волик старался произвести впечатление человека светского и образованного. Например, в общении с клиентами из Москвы: «А вы-то сами откуда будете? Из Москвы, да? Прекрасно! Как говорил Гиляровский, Москва и москвичи!» Когда разговор принимал серьезный оборот, Волик закрывал трубку ладонью, поворачивался к Вадику: «Слышь, Димон, твой перерыв давно кончился». Вадик дожевывал размокший бутерброд и плелся обратно к кассе.
Раз в месяц Вадик вручал Колчу примерно треть квартплаты; еще сколько-то доплачивали басист и ударник. Но ни у кого из них не было ни малейшей уверенности в том, что эти деньги попадали в руки домовладельцев, которых никто, кроме Колча, никогда не видел. И действительно: однажды после репетиции Колч сообщил давно ожидаемую прискорбную новость.
– Короче, это… прислали извещение. Говорят выметаться отсюда до понедельника. Суки, а?
– Какого хрена, Колч? Мы ж тебе деньги давали.
– Ну, я немножко не рассчитал бюджет…
– На бабу, что ли, потратил?
– Хуже… На «один девятьсот». Не, вы не подумайте, я не дрочил. Просто скучно стало, вот я и набрал чисто ради прикола «один-девятьсот-секс-чат». А там, короче, такая мымра к телефону подходит, страшная как смерть, по голосу слышно. И вся такая: «Бэйби… бэйби…» Расскажи, говорит, мне свои фантазии. Я часа три над ней прикалывался. А потом так – херак! – из телефонной компании счет приходит. Под тыщу баксов. Все бабло слил, ни хера не осталось. Думал, этот мудила лендлорд уже давно про нас забыл. Три месяца его не было, а тут нате. Вы мне, орет, за полгода задолжали. Да за такую хату он нам должен башлять, а не мы ему, верно? Ладно, не ссать. Мы ведь все равно уезжаем на гастроли.
– Какие еще гастроли?
– Да самые охуительные гастроли вообще! В Торонто. Будем выступать с Chokehold. Я уже обо всем договорился.
И вот они едут гастролировать: чудо-гитарист Брайан Колч, избавивший их от кармического бремени денег и квартиры; Пит Хьюз, заменяющий басиста Джоша, который с Колчем вдрызг рассорился; безумный барабанщик Клаудио, заменяющий вундеркинда Дэйва, которого недавно выгнали из группы; и Дэмиен Голднер, горе-вокалист, автор нескольких хитов, которых никто никогда не слышал. Дамы и господа, Error Of Division! За окном проплывают зеленые дорожные указатели, на них – гордые названия из новейшей истории Древнего мира. Итака, Рим, Сиракузы… Троя – против всех.
Глава 8
Первое время после разрыва с Вероникой я бодрился, убеждая себя, что это необходимый толчок, своевременная встряска и так далее. Но, зная за собой привычку сыпать звонкими клише всякий раз, когда моя адвокатская мысль заходит в тупик, сам не очень-то верил тем благозвучным фразам («переоценка ценностей», «жизненный рубеж»), которыми изобиловал теперь мой внутренний монолог. Какая к черту «переоценка ценностей»? Не в этом дело. Дело во мне. Когда в отношениях один человек более увлечен и страстен, чем другой, тот, что вовлечен меньше, оказывается в проигрышном положении: он невнимателен, не замечает мелочей или не придает им значения. А тот, который более страстен, замечает все и позже будет использовать эти мелочи как оружие, повод для ревности и обид, будет припоминать другому его забытые ошибки. В наших отношениях с Леной в этой «выигрышной» позиции оказалась она, а в отношениях с Вероникой – я. Все помню. И чем дальше, тем отчетливей понимаю: обида, даже самая беспричинная, живет, увы, дольше любви. Особенно беспричинная. И с этой обидой надо как-то иметь дело. Как-то жить с этим внутренним пожаром, не засыпая его песком клишированных сентенций. Тут вам не зал суда.
Возможно, она с самого начала диктовала условия, а я не замечал этого, так как был всецело поглощен спектаклем, в котором я играл улучшенный вариант себя. Именно что играл, когда рапортовал ей по двадцать раз на дню, рассказывая обо всем, что со мной происходит. Жил ради этого взгляда со стороны. Теперь же моя жизнь лишилась постороннего наблюдателя. Или наоборот: наблюдатель – не Вероника, а я сам – сделался еще зорче; актер играет роль еще старательней, живя вопреки своей брошенности, еще усердней доказывает что-то зрителю, хотя тот уже давно покинул зал.
Условия диктовала она, но теперь преимущество у меня: та переписка, которую она разом стерла из своего мессенджера, у меня осталась, отныне я ее единственный обладатель. Перечитываю и диву даюсь: там целый мир, целый язык. Поразительно, насколько быстро мы сблизились и как разом (по ее воле, конечно) отдалились, стали чужими, как будто последние полтора года были сном. Еще год назад мне пришло в голову, что мы на самом деле ничего не знаем о повседневной жизни друг друга, предпочитая выставлять напоказ как бы ее фейсбучный вариант. С тех пор эта мысль неотвязна: я совсем не знаю, кто такая Вероника, не понимаю ее психологию, а если и понимаю, то лишь в те минуты, когда ненавижу. Может, потому, что ненависти свойственно упрощение, а в упрощении есть своя правда. И все же мгновенная ясность ярости мало что дает: взгляд как будто проясняется, но тут же затуманивается ревностью. Я давно уже заметил, что не могу перестать ревновать Веронику ко всем и вся – кроме ее мужа Ричарда. Прежде со мной такого не случалось. Не то чтобы раньше я совсем не был ревнив. Но, скажем, Лену не ревновал никогда. А тут уж как-то чересчур, как будто эта любовь определяет себя исключительно через ревность, как у детей: хочется, чтобы Вероника все время была со мной, и только со мной. Правда же в том, что она досталась мне не по праву; что у меня никогда не было на нее никаких прав. И эта очевидная неправомерность моих претензий («неправомерность», говоришь? адвокатишка не дремлет!) только подстегивает мою обиду. После разрыва мне хотелось причинить ей боль, отомстить молчанием еще более упорным, внезапным и безразличным, чем ее молчание. Но это было, по-видимому, невозможно.
Итак, в наших прежних отношениях я изображал улучшенного себя. А какую роль в таком случае играла Вероника? Возможно, все дело в том, что это была именно та роль, которую в других отношениях неоднократно играл я сам. Узнаешь, Дэмиен? Она – это ты. Воистину близнец. Ее правда и твоя ложь – близнецы. Так тебе и надо. Это – справедливое возмездие за то, как ты обошелся со своей женой Леной. А как я обошелся с Леной? Разве она любила меня больше, чем я ее? Может, и любила. Но ведь и я любил когда-то Лену. Или мы просто держались друг друга так, как людям нашего происхождения и нашего круга свойственно держаться за любую стабильность, даже самую неподходящую?
Кто они такие, эти «мы», «люди нашего круга»? Конформисты. Конформизм дает нам, натурализованным гражданам мира, шанс быть успешными, быть гибкими и открытыми, способными вписаться в любые обстоятельства. Но тот, кто открыт, не может противостоять. Для меня, как для героя Фернандо Пессоа, единственный способ быть в согласии с жизнью – это не быть в согласии с самим собой. И, разумеется, дело отчасти в моем эмигрантском детстве, в почве, разом выбитой из-под ног у меня и моих родителей, в четком понимании того, что, если хоть раз оступишься, будешь падать до самого дна, мир не будет тебя ловить, ты не Сковорода. Дело в ощущении бесправности и безъязыкости, напоминающем сон, в котором ты силишься что-то сказать, открываешь рот, но не можешь издать ни звука, только глотаешь тишину. Это ощущение не покидало меня первые несколько лет жизни в Америке. И хотя мы никогда об этом не говорили, я точно знаю, что у Лены оно тоже было, а теперь передалось по наследству нашему сыну Эндрю.