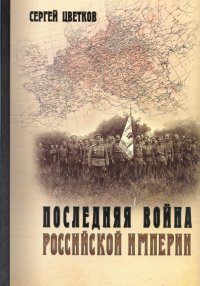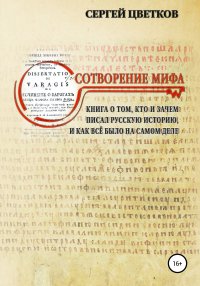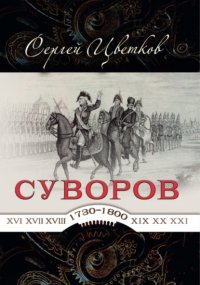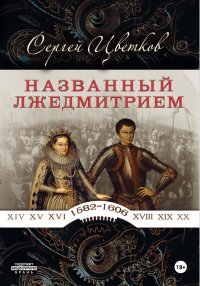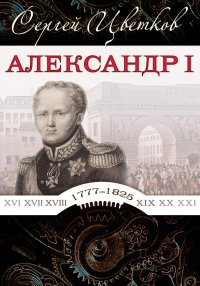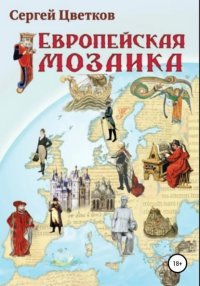
Читать онлайн Европейская мозаика бесплатно
- Все книги автора: Сергей Эдуардович Цветков
Повесть о короле Родриго
Спустя полвека после смерти Мухаммеда арабское войско, посланное халифом возвестить слово пророка народам, живущим к западу от Дамаска1, завоевало Мавританию и вышло к Атлантическому океану. Взрывая копытами коней прибрежный песок, белый, как морская соль, всадники гарцевали на берегу, вглядываясь в голубовато-белёсую даль – туда, где, по словам местных рыбаков, находилась Испания, могущественное королевство готов2.
До сих пор ни одно царство не устояло против сынов истины, и казалось, близок к концу великий джихад – священная война мусульман против иноверцев. Но разве есть под солнцем что-нибудь великое, что не было бы малым перед очами Всевышнего? Чем может гордиться человек перед могуществом дел Его? Самое большое царство – лишь родимое пятнышко на лице земли, и не длиннее одной человеческой жизни великий джихад.
Думая об этом, старый асхаб3, предводитель войска, все больше омрачался лицом. Прохладный бриз вздувал складки его бурнуса, конь под ним нетерпеливо позвякивал уздечкой; за его спиной воины гадали, зачем Господь положил предел победоносному бегу их коней, а он все смотрел на море, словно ожидая, что волны расступятся перед ним, как некогда перед пророком Мусой4.
Наконец он тронул поводья и, заведя коня по горло в воду, воздел руки:
– Господи, будь свидетель, что я не могу идти дальше, но если бы море не помешало, то я бы не остановился до тех пор, пока не заставил все народы земли признать Твои заповеди!
Испания виделась арабам благодатной землей, где по берегам полноводных рек стоят богатые города, окруженные тенистыми кущами гранатовых, оливковых, лимонных рощ. И отделяли её от Африки всего каких-нибудь пятнадцать миль! Но даже когда у арабов появился флот, переправиться на полуостров им мешала неприступная крепость Тарифа. Древние стены её высились на горе, в том месте, которое многие христиане по привычке называли Геркулесовыми столпами, а арабы – Джебель ат-Тариф, то есть «горой Тарифа» (в европейском произношении это сочетание превратилось в Гибралтар).
В начале VIII столетия сеньором Тарифы был граф Хулиан, принадлежавший к старинному знатному роду. Хулиан был уже стар, но по-прежнему горд и никому не прощал обид. Будучи полным господином в своих владениях, он правил независимо и сурово. Его тело было испещрено шрамами и рубцами, слава и заслуги его были известны всему королевству, однако случилось так, что среди людей имя «Хулиан» стало означать «предатель».
Королём Испании в то время был Родриго, правитель храбрый и благочестивый, но укушенный страстями. Имея властолюбивый нрав, он не терпел противодействия ни в государственных делах, ни в личных прихотях. Но если в первом случае ему приходилось иногда сдерживать себя, то во втором он проявлял полную необузданность.
Однажды, проезжая со свитой по владениям графа Хулиана, король остановился в его родовой усадьбе. Гостей встретила прекрасная Ла Кава, дочь графа. Юная красавица жила уединённо, окружённая девушками-наперсницами и немногочисленной челядью. Хулиан, тревожась за честь дочери, считал необходимым держать её подальше от людских взоров. Но звуки королевского рога открывают любые ворота. Родриго был очарован свежим благоуханием, исходящим от расцветающей красоты молодой затворницы. Он провел вечер в приятной беседе с ней и лёг спать с хорошо знакомым томлением в груди.
Наутро, проснувшись ранее обычного, король отправился побродить по саду в ожидании завтрака. Всё вокруг было объято негой этого утреннего часа. В густой прохладной траве ещё кое-где горели крупными алмазными звездами капли росы; тёмная зелень деревьев была пропитана солнечным светом, который струился вниз, на землю, переливаясь световыми пятнами в листве, охваченной блаженной дрожью от едва заметного дуновения ветерка. Где-то наверху, в ветвях, невидимые для глаз, с ленивой оттяжкой звонко перещёлкивались проснувшиеся птицы, наполняя сад мелодичным хаосом своих трелей. А ещё выше какой-то невозможной, неправдоподобной голубизной сияло небо, наполняя душу нестерпимым восторгом жизни. Сейчас, в этом саду, счастье казалось таким полным, что Родриго почти забыл свою вчерашнюю влюблённость.
И вдруг он увидел, как из дверей боковой башни усадьбы выходит Ла Кава вместе со своими девушками. Весело переговариваясь и смеясь, они направились к тенистой лужайке в глубине сада. Родриго, не слишком таясь, последовал за ними. Под сенью пышных миртов и виноградной листвы девушки поставили на землю для Ла Кавы низкую скамеечку с бархатной подушкой, а сами расположились вокруг неё, расстелив на траве небольшие коврики.
От внимания Ла Кавы не укрылось то, что за ней наблюдают, и девичье лукавство толкнуло её на маленькую шалость. Она велела одной из девушек выплести ленту из косы и обмерить ею всем стопы. Девушки с живостью приняли участие в этом опасном для самолюбия соревновании. Задрав юбки и сбросив на землю туфельки, они, в ожидании своей очереди, нетерпеливо потрясали в воздухе ножками-стрелками, туго обтянутыми белыми, розовыми, голубыми чулками. Последней дала себя обмерить Ла Кава, и оказалось, что столь миловидной и изящной ножки нет ни у кого. Ла Кава бросила торжествующий взгляд в ту сторону, где, укрывшись за деревьями, стоял Родриго, и крикнула, указывая на него:
– А вон и судья нашего состязания!
Увидев короля, девушки вскочили и, схватив коврики, с визгом и смехом побежали к усадьбе. Вместе с ними скрылась и Ла Кава. А Родриго остался стоять у дерева, охваченный столь сильным желанием, что с трудом переводил дыхание. Сад по-прежнему дышал дивным умиротворением, но король чувствовал себя Адамом, изгнанным из рая.
День показался ему бесконечным, он едва дождался вечера. Тогда, призвав Ла Каву в свои покои, король сказал:
– Сегодня жизнь постыла мне, прекрасная Ла Кава, столь сильна моя любовь к тебе! Если ты мне дашь спасение, то я ничего не пожалею для тебя. Если нужно, я готов принести корону на твой алтарь.
Говорят, Ла Кава сердилась и ничего не отвечала королю на его уговоры, и тогда Родриго, забыв обо всем, силой обрёл то, о чём сначала просил столь смиренно.
Опомнившись, Родриго стал раскаиваться в содеянном. Но что раскаяние! Нести кару за безумную страсть короля пришлось всей Испании. Божий суд над ним свершился скоро, а людской не окончен до сих пор. Кто виноват в постигших страну бедах? Люди судят по-разному: женщины во всём винят Родриго, а мужчины – Ла Каву.
Ла Кава была безутешна. В жестокой печали она послала письмо отцу с известием о нанесённом ей бесчестье. Граф Хулиан, читая эти горькие строки, рвал на себе седые волосы и клял судьбу, что с таким холодным безразличием карает величие и благородство. В диком исступлении бросал он страшные кощунства Небу – свидетелю его позора, забывшему о милосердии и защите, и сетовал на свою старческую немощь, мешавшую ему отомстить нечестивцу. Когда же он выплакал все слёзы, и холодная злоба прояснила его разум, он сказал себе: «О, наш безрассудный король! Ты оскорбил мой старинный род; ослеплённый страстью, надругался над красотой моей дочери и моей честью, не предвидя за это расплаты. Но даст Бог, я отплачу тебе, не взыщи. К высшему правосудию взываю я. Если сам король бесчестен, что взять с подданных? Слава Небу! За неистовства владыки заплатят невиновные. Великий позор ждёт страну, вся Испания должна превратиться в руины – только так могу я насытить своё сердце мщением. Видит Бог, если бы я мог, я бы не стал губить столько жизней, а отомстил одному моему обидчику. Но иной жребий выпал мне. Небо, Небо! Только ты всё взвесишь и всем воздашь за могилой. Так взгляни на горе старца, пожалей и помилуй его».
Хулиан призвал арабов на родную Испанию, пообещав им открыть ворота Тарифы. И скоро тридцать тысяч гази5 во главе с полководцем Мусой высадились на испанском берегу. Хулиан сдержал обещание. Тарифа пала. Руины, кровь и пепел остались на месте грозной крепости.
Мусу не страшила ни сила кафиров (неверных), ни огромные размеры их страны. Он был готов немедленно идти в глубь Испании, но граф Хулиан посоветовал ему дождаться войска Родриго на равнине возле города Херес-де-ла-Фронтера, где арабская конница получала преимущество над готами, чью главную силу составляла пехота.
Родриго прибыл на битву с отборным войском и искуснейшими полководцами. Семь дней подряд противники с утра сходились в беспощадной схватке, а к вечеру ни с чем возвращались каждый в свой лагерь. К исходу седьмого дня и тех и других одолели сомнения, и воины больше не верили в победу. Тогда Муса сказал своим гази:
– Всемогущ и милосерден Господь в славе девяноста девяти прекрасных имен своих. Я молился Всевышнему, и Он услышал меня. Он сокрушил рёбра врагов и сделал сердца их, как воск; жилища их, имущество их, жён и дочерей их отдал Он в руки правоверных. Мученикам же, павшим в битвах и похороненным без омовения и молитвы, Он открыл двери джанната6, обители мира, садов вечности. И нет участи слаще и завиднее этой! Под престолом Господа возлежат они в богатых одеждах на ложах расшитых, в благодатном саду, где текут реки из молока, вкус которого не меняется, и реки из вина, приятного на вкус, и реки из мёду очищенного. И прислуживают им мальчики вечно юные, и ласкают их жёны черноокие, большеглазые, подобные жемчугу хранимому, которых не коснулся от века ни человек, ни джинн.
Родриго же нечего было сказать воинам, потому что каждый знал о бесчестье, нанесённом им графу Хулиану. И король, видя бедствия, которые он навлёк на Испанию, искал уже не победы, а смерти. Поэтому, когда на следующий день сражение возобновилось, готы не выдержали натиска. Их знамёна были повержены, и лагерь захвачен. Великое множество христиан покрыло своими телами равнину. На поле боя был пойман и любимый конь короля без седока. Родриго сочли убитым, и никто не пожалел о нём.
Здесь историк должен отложить перо в сторону – хронисты умалчивают о дальнейшей судьбе злосчастного короля. Народные же романсы говорят следующее.
Весь день Родриго неистово бился с врагами в самой гуще схватки. Его доспехи были забрызганы вражеской кровью, меч зазубрился, шлем от многих ударов лопнул, и забрало, согнувшись, вонзилось в лобную кость. Но смерть бежала от него, как он ни преследовал её. Наконец, сбитый с коня, он кое-как выбрался из толпы сражающихся и взобрался на холм. Здесь усталость, голод и жажда совсем сломили его. Родриго присел на камень и окинул равнину взглядом, полным печали. Ещё никогда ему не приходилось видеть такого кровопролития. Трупы его воинов лежали, как снопы на хорошо сжатом поле, их телами были запружены ручьи, – уцелел едва ли один из десяти. Королевские знамёна – олицетворение добытой веками славы – были постыдно втоптаны в грязь самими бегущими. «О, моя Испания!.. Погибла!» – прошептал король и содрогнулся от мысли, что он сам сотворил всё это.
Родриго поймал чужого коня, бродившего поблизости, и, отпустив поводья, поехал, не разбирая дороги, убитый горем. Весть о его гибели и о поражении войска уже разнеслась по окрестностям. На распутьях король видел толпы крестьян и пастухов, спешащих укрыться за укреплениями городов. Все они, рыдая, молили Бога о спасении христиан и громко проклинали Родриго и Хулиана. Король, опустив голову, спешил проехать мимо, не смея даже попросить этих людей молиться за него.
Томимый глухой тоской, он ехал вперёд без всякой цели, углубляясь всё дальше в неприступные горы. Тучи клубились в мрачных ущельях, крутая тропинка терялась среди камней, и скоро конь и всадник совсем выбились из сил. К счастью, впереди показалась лужайка, на которой Родриго увидел две дюжины овец и старого пастуха. «Вот и всё, что осталось мне от моего королевства», – подумал Родриго и, подъехав к пастуху, молвил:
– Сегодня король погубил страну. Спасайся, старик, и помоги мне в моей беде, укажи путь к жилью.
– Эти горы пустынны, – ответил старик. – Здесь нет ни замка, ни дома, один только бедный скит стоит высоко в горах. Там живёт столетний отшельник, святой человек…
«Спасибо, Господи, ты вразумляешь меня. Там закончу свой грешный век», – подумал Родриго.
– Нет ли у тебя чем подкрепить мои силы? – вслух сказал он.
Пастух развязал котомку и вынул краюху хлеба и кусок мяса – всё, что, имел. Он разделил их пополам и половину протянул королю. Родриго с жадностью набросился на еду. Но мясо было столь жилистым, а хлеб так тёмен и сух, что король, вспомнив былые пиры, не смог удержаться от рыданий… Выронив пищу из рук, он снял с себя цепочку и перстень и протянул пастуху:
– Возьми от меня в подарок эти вещи и покажи мне дорогу в скит.
С этими словами Родриго снова вскочил в седло.
– Ты хороший человек и платишь, как король, – сказал удивлённый пастух. Он рассказал, как проехать в скит, и простился с Родриго.
Бывший король поехал дальше. Быстро темнело, конь спотыкался на каждом шагу и испуганно храпел. Родриго пришлось отпустить его и продолжить путь пешком. Солнце совсем скатилось за тучи, и последний отблеск погас в небе, когда он увидел на одном из уступов пещеру в скале. По вкопанному перед входом деревянному кресту Родриго понял, что достиг цели.
Он кликнул отшельника, но никто не отозвался. Родриго вырвал пук мха между камнями, высек огонь и вошёл в пещеру – она оказалась пустой. В одном углу лежала охапка истлевшей соломы; перед ней стояла лампада, в которой давно высохло масло. В другом ужасной чернотой зияла открытая могила. Посветив в неё, Родриго увидел остов отшельника и на нём почерневшее серебряное распятие. Каменная плита была слегка надвинута на могилу, – видно, у отшельника не хватило сил накрыться ею.
Горько зарыдал Родриго, видя, что некому исповедать его и отпустить грехи. Опустившись на колени, он молился всю ночь, а с первым лучом солнца лёг в могилу рядом со старцем и накрылся плитой.
И в тот же день над испанской землей поплыл колокольный звон: Господь принял душу покаявшегося.
Одиночество королей
Умираю, оттого что не умираю.
Святая Тереза
I
Карлос II, последний отпрыск габсбургского дома в Испании, родился от брака Филиппа IV с Марией‑Анной Австрийской, его племянницей. Появление на свет хилого младенца, зачатого исключительно ради интересов престолонаследия, не вызвало радости ни у одного из супругов, чуждых друг другу. Когда его красновато‑лиловое тельце, тщательно вымытое и вытертое, поднесли королеве, она, захлебнувшись злобными, истеричными рыданиями, оттолкнула того, кто доставил ей столько страданий, а Филипп, подведённый к люльке инфанта, не выразил на своём одеревеневшем, похожем на маску лице никаких чувств и только оглядел ребенка неподвижно‑сонным взглядом, неопределённость которого столь изумляла современников (Филипп родился в страстную пятницу и, по народному суеверию, обладал способностью видеть на месте, где когда‑то произошло убийство, тело убитого; странную рассеянность его взгляда, не сосредоточенного ни на чём и в то же время объемлющего всё, объясняли желанием избежать постоянного созерцания трупов). В эту минуту веки младенца приоткрылись, и король встретил взгляд ещё более сонный, ещё более оцепенелый. Филипп медленно отвёл глаза и с тех пор ни разу не посмотрел в лицо инфанту.
Половина мира – королевство Неаполитанское, герцогство Миланское, Сардиния, Сицилия, Фландрия, огромный берег Африки, царство в Азии со всем побережьем Индийского океана, Мексика, Перу, Бразилия, Парагвай, Юкатан, бесчисленные острова во всех океанах отпраздновали вместе с Испанией рождение наследника огромной империи, в которой по‑прежнему, как и сто пятьдесят лет назад, никогда не садилось солнце. На балах и карнавалах, шествиях и маскарадах, в церквях и капищах белые, красные, чёрные, жёлтые люди славили далёкого божественного младенца, чьё будущее величие и могущество должны были бросить хоть слабый отсвет счастья на их покорно‑весёлые лица. Но уродец с сонными глазами никогда не узнал об этих надеждах неведомых ему людей. В течение всей своей жизни Карлос II ни разу не поинтересовался, сколько у него подданных, в каких частях света они живут и чего они желают. Позднее, когда Франция, Англия, Голландия отнимали их у него, он думал, что потерянные земли принадлежат какому‑то другому государству.
Здоровье инфанта было настолько слабым, его рахитичное тельце так истощено, что до пяти лет он ходил, опираясь на нянек. Золотуха и лихорадка поочередно завладевали им и отпускали только для того, чтобы передать его друг другу из рук в руки. Лучшие врачи медицинских кафедр Саламанки и Болоньи сменялись у постели инфанта, прописывая ему лечение по испытанным рецептам Галена, Авиценны и Парацельса7. Потный, задыхающийся мальчик послушно глотал с золотых ложек горькие снадобья, далеко оттопыривая унаследованную от отца толстую нижнюю губу, и без того безобразно отвисавшую на сильно выпяченной челюсти. Врачи заглядывали ему в лицо, стараясь угадать по его выражению течение болезни, но встречали всегда один и тот же сонно‑мертвенный взгляд, бессильный выразить даже страдание.
С ещё большим усердием врачевала душу и тело мальчика Церковь. При первых признаках недомогания трое монахов‑доминиканцев окружали постель инфанта и вступали в бессонную борьбу с одолевавшими его бесами, день и ночь читая псалмы и молитвы и кропя простыни святой водой. Суровая решимость их лиц, непонятные слова, загадочные жесты – всё это одновременно манило и ужасало мальчика своей торжественной таинственностью. Он не понимал, зачем они находятся подле него и чего ему следует ждать от них. Эти три неизменных спутника его лихорадок не причиняли мучений, как доктора, не доводили до слёз, как воспитательницы‑дуэньи. Карлос не испытывал облегчения от молитв монахов, но и стыдился плакать в их присутствии. Он видел, с каким почтением относятся к ним взрослые, в том числе отец с матерью, и догадывался, что над ним совершается нечто очень важное, чему он обязан беспрекословно подчиниться, и это чувство осталось в нём на всю жизнь. Часто, проснувшись ночью от жажды, он закрывался с головой одеялом и лежал так до самого утра, не смея прервать псалмопения и попросить воды.
Родителей Карлос видел редко, они мало интересовались им. Филипп IV с годами впал в почти неправдоподобную меланхолию (старики придворные уверяли, что он смеялся не больше трёх раз в жизни), к которой примешивалось острое чувство отвращения ко всему, что так или иначе связано с людьми, – чувство, ставшее наследственным у испанских Габсбургов. Король избегал встреч с кем бы то ни было, надолго уединялся в своём кабинете или неделями не возвращался с охоты. К жизни и воспитанию инфанта он был совершенно равнодушен, иногда месяцами не видел его, а если случайно сталкивался с сыном, гулявшим по коридорам дворца в сопровождении двух‑трех дуэний, то молча выслушивал их торопливый рассказ об успехах наследника в благочестии, всё время глядя куда‑то поверх головы сына, и, дрогнув оттопыренной нижней губой, шёл дальше. Дуэньи застывали в почтительном реверансе и затем возобновляли обмен сплетнями, не упуская из виду воспитанника и поминутно одёргивая его замечаниями. Карлос проводил целые дни, выдумывая, каким образом подластиться к отцу при следующем свидании, но, когда им снова случалось встретиться, беспомощно терялся от страха перед ним и прятал своё отчаяние под бронёй тупой одеревенелости.
Что касается королевы, то Мария‑Анна принадлежала к той породе австрийских принцесс, ханжей и интриганок, чьи властолюбивые вожделения столько раз разоряли Европу. Будучи вынужденной подчиниться матримониальной политике своей семьи, оказавшись в расцвете молодости на окраине Европы, королевой самого угрюмого двора, она сочла себя жертвой и затаила ненависть против всех и вся. Она завидовала сестрам, сделавшим более удачный выбор, и поэтому натравливала Испанию и другие государства против тех стран, в которых они стали королевами. Она ненавидела своего супруга за то, что он не мог доставить ей радости ни в придворных развлечениях, которых не было, ни в постели, которой он избегал (ночным ложем ему часто служил специально для этого заказанный гроб). Она ненавидела уродца ребенка, с отвращением зачатого и со стыдом рождённого. Она презирала саму Испанию – её нищету, её славу, её гордость. Мария‑Анна чувствовала, что корона испанской королевы, словно тяжёлый камень, увлекает её в бездну злобы, тоски и отчаяния.
С первого дня своего замужества она готовилась стать вдовой и регентшей, пустив в ход самые беспринципные средства, чтобы обеспечить себе поддержку дворянства и духовенства. Пытаясь привлечь на свою сторону Церковь, королева поддерживала притязания инквизиции на расширение её прав в светском судопроизводстве. На исповеди и в духовных беседах со своим духовником‑иезуитом отцом Нитардом она жаловалась на упадок рвения к делам веры в стране, сокрушённо вздыхала о том, что её августейший супруг идёт на недостойные христианина компромиссы с морисками и маранами8, нисколько не сомневаясь в том, что её жалобы и сокрушения дойдут до тех ушей, для которых они предназначались. Её домашний шпион и платонический любовник Валенцула питал дворянскую среду слухами о благосклонном отношении Марии‑Анны к введению новых привилегий для дворянства в ущерб кортесам (сословно‑представительному собранию) и городам и вербовал сторонников среди самых знатных фамилий, не скупясь на обещания.
Маленькому Карлосу в честолюбивых замыслах его матери отводилась роль послушного заложника, постоянные недомогания которого могли служить удобным доводом в пользу продления регентства. Карлос инстинктивно чуждался Марии‑Анны и всегда начинал плакать, если ей приходило в голову приласкать его.
Болезненное детство Карлоса прошло на женской половине дворца, под придирчивым надзором дуэний. Эти церберы этикета и благочестия не ведали ни снисходительности к летам воспитанника, ни сострадания к его одиночеству, слова ласки и одобрения были у них не в ходу. Им была предоставлена безраздельная власть над Карлосом, и они пользовались ей в полной мере. Их суждения были непререкаемы, наказания неотвратимы. Рано обнаружившаяся умственная отсталость инфанта нисколько не смягчала их требований к нему, напротив, это обстоятельство только усиливало строгость надзора. Общество этих чопорных, облачённых в глухие чёрные платья старух было порой невыносимо, но Карлос ни разу не взбунтовался против него. Подчиняться им было для него так же естественно, как пить, есть и спать. Не будучи в силах понять и усвоить преподносимые ему наставления и запреты, внутренне содрогаясь от ожидания возмездия за свою непонятливость, он не допускал и мысли о том, чтобы обратиться к ним за разъяснениями, и бессознательно искал спасения и самооправдания в своём тупоумии. Он защищался им от жестокости взрослых, выставляя его напоказ, как молчаливый призыв к милосердию и справедливости.
Между тем мечты Марии‑Анны сбылись: Филипп IV скончался в 1665 году, оставив её регентшей при малолетнем Карлосе. Королева сумела остаться благодарной, и Филипп занял своё место в фамильном склепе Эскориала с подобающей случаю пышностью. Когда Карлоса подвели проститься с отцом, он вёл себя на удивление спокойно – не испугался ни торжественной обстановки, ни ставшего незнакомым отцовского лица, ни ледяных, бескровных губ покойника, которые поцеловал, не поморщившись. Вместо страха и растерянности Карлосом в эти минуты владело необыкновенное умиротворение, пронизывавшее сладостной истомой всё тело. Ослеплённый пламенем сотен свечей, стократно отражённом в золоте церковного убранства, вознесённый куда‑то ввысь дивной мелодией хора, он чувствовал, что мучительная, притягательно‑страшная загадка, обозначаемая словом «смерть», каким‑то непостижимым, но лёгким и радостным образом разрешена здесь, в этом храме, с помощью этих свечей, икон, распятий, этого напева, строгих и величественных движений руки епископа; что и его собственная душа, отрешившаяся от всего земного и именно в этом своём отрешении объемлющая весь мир, готова ринуться в манящую, освобождающую пустоту…
Карлос не забыл этого ощущения своей всепричастности миру перед лицом небытия. При первом же посещении Эскориала после смерти отца он сразу попросил отвести себя в королевскую усыпальницу, ставшую с тех пор его излюбленным местом уединения. Здесь, в прохладном сумраке огромного зала, возле гробниц почивших предков бремя одиночества переставало давить на него, оно представлялось ему понятным и спасительным избранничеством, утешительным даром вечности. Чарующее величие смерти обнажало ничтожество земных страданий и наполняло его душу смирением и любовью. Несколько месяцев, последовавших после смерти Филиппа IV, стали одними из счастливейших в его жизни. Карлос на время почувствовал почву под ногами, его здоровье пошло на поправку, разум начал проясняться.
Новые происшествия при дворе прервали наметившееся улучшение.
Юный король оказался втянутым в борьбу, которую вели между собой две могущественнейшие партии двора. Одну из них возглавляла королева‑мать и её фавориты, другую – брат Карлоса, дон Хуан, признанный бастард9 Филиппа IV. Медлительность Марии‑Анны в выполнении своих обещаний, засилье никчёмных фаворитов, проавстрийская политика, обернувшаяся военными неудачами, – всё это вызвало открытое недовольство грандов и сплотило их вокруг незаконнорождённого принца. Вначале борьба велась истинно испанскими методами: Нитард обвинил дона Хуана в сочувствии лютеранству и начал против него процесс по подозрению в ереси. Однако бойкий иезуит перестарался. Его благочестивое рвение вызвало ревность у святейшей инквизиции, недолюбливавшей приверженцев ордена Святого Игнатия10. Уступая давлению Великого инквизитора и епископата, заподозривших в ереси самого Нитарда, Мария‑Анна лишила своего духовника августейшего доверия – Нитард пал.
Враги королевы осмелели. Паутина интриг, которой она опутала двор, лопалась то здесь, то там, переход бывших союзников во вражеский стан сделался повсеместным. Почувствовав шаткость своего положения, Мария‑Анна отказалась от открытого столкновения и перенесла борьбу туда, где её права не могли быть оспорены – в область материнской заботы о юном короле. В её голове родился план, дьявольская сущность которого и составляла основу его привлекательности. Неуязвимость оппозиции заключалась в том, что она прикрывалась, как щитом, именем того, чьи интересы якобы защищала, – и этим щитом был её сын Карлос, придурковатый ребёнок, немощный, болезненный и зависимый пока что только от неё. Следовало превратить эту временную зависимость в постоянную, пожизненную. Болезненная мнительность сына была её главным козырем в этой игре: Карлос должен был почувствовать себя одержимым, и тогда вопрос о продлении её опеки над ним стал бы решённым делом.
И мать сделала всё для того, чтобы вызвать у сына душевное расстройство. Строгость его содержания была многократно усилена, Карлос был отдан в руки монахов, наиболее сведущих в искусстве исцеления одержимых – они были заранее предупреждены о том, что король страдает этим самым распространённым евангельским недугом. Монахи приступили к осаде беса со знанием дела, по всем правилам, установленным в подобных случаях отцами Церкви. Целыми днями целители внушали Карлосу, что его тело стало жилищем нечестивого, они растолковали мальчику его вину, заставили его почувствовать свой грех, запугали вечными карами. Они распространили враждебность и отчуждение, которые Карлос чувствовал вокруг себя, – в лицах, словах, жестах, вещах, – на единственный островок, до сих пор остававшийся недоступным этим чувствам – на него самого. Карлос потерял доверие к самому себе и ужаснулся этой потере. Двери светского рая захлопнулись за ним, он ощутил вину своего существования. Всякая радость, даже самого невинного свойства, была изгнана из его покоев и осуждена, как ведущая к погибели души, посты, казуистика исповеди и упражнения в истязании плоти сделались немногими разрешенными ему развлечениями. Его организм снова пришел в расстройство, слабый разум окончательно рухнул под гнётом чертовщины испанского благочестия.
Иногда по ночам, прислушиваясь к потрескиванию свечи перед распятием и невнятному бормотанию монаха над раскрытым требником, Карлос вдруг начинал слышать голоса, поначалу также глухие и неразличимые, но постепенно усиливавшиеся и оглушавшие его режущим визгом и хохотом. Он натягивал на голову одеяло, зарывался в подушки, но ад разрастался вокруг него, завывая, визжа и скрежеща на тысячи ладов, потом всё обрывалось… Карлос дрожащими ногами искал под постелью туфли; найдя, подходил к монаху, становился рядом с ним на колени и проводил так остаток ночи…
Лечение возымело действие – Карлос действительно почувствовал себя одержимым. Когда он впервые до жуткости ясно представил и ощутил в себе присутствие враждебного существа, с ним случился припадок. Карлос вновь ощутил дыхание смерти, но теперь её близость не приносила ему умиротворения.
Получив известие о припадке у сына, Мария‑Анна быстро отвернулась к окну, боясь обнаружить свою радость в обществе придворных дам. В комнате Карлоса она встретила дона Хуана. Королева и принц встали по обе стороны постели, на которой распласталось неподвижное тело Карлоса, с ненавистью глядя друг на друга. Казалось, только ширина кровати мешает каждому из них вцепиться в глотку своего врага. А Карлос, закрыв глаза, умолял беса оставить его и перейти жить в тело какого‑нибудь другого человека, всё равно какого, всё равно…
Однако расчёты Марии‑Анны не оправдались. Карлос ускользал из‑под её влияния. Припадки больше не повторялись, а вступление короля в отроческий возраст позволило дону Хуану предъявить мужские права на его воспитание: Карлос начал присутствовать на придворных собраниях, в государственном совете, пристрастился к охоте. Мало‑помалу дон Хуану удалось вырвать его из ненавистного гинекея11 и показать прелести мужской свободы. Это решило исход борьбы. Едва дождавшись совершеннолетия, Карлос подписал давно заготовленные дон Хуаном указы. Регентство было прекращено, владычество фаворитов свергнуто, Мария‑Анна изгнана в Толедо.
Карлос II начал своё призрачное царствование.
К этому времени расслабленность овладела им совершенно. Его мучили головные боли, желудочные и дыхательные катары, нервные расстройства с периодами светобоязни. Все наследственные признаки вырождения испанской ветви Габсбургов нашли в нём свое последнее выражение. Обвинение, предъявленное им природой, читалось во всей внешности Карлоса. Безобразность его невысокой рахитичной фигуры с выпирающим брюшком и сухопарыми кривыми ножками бросалась в глаза при любом костюме. Постоянный тёмный цвет его платья неприятно оттенял нечистую кожу лица и рук. Испорченное строение челюсти выносило далеко вперёд острый подбородок и оттопыренную толстую губу, делая их продолжением хищной линии носа. Длинные белокурые волосы, оставлявшие лоб открытым, и отсутствие бровей придавало сонному взгляду голубых глаз особую мертвенность. Казалось, что Карлос заснул ещё в утробе матери и никак не может пробудиться к жизни.
Никогда еще испанский двор не был столь тих и мрачен, как в эти первые месяцы его царствования. Власть имеет свои иллюзии. Карлос думал, что корона проль`т благодать любви и участия в его душу, и потому на первых порах чистосердечно принимал подобострастие и лесть за искренние знаки внимания к нему со стороны хвора. Заблуждение длилось недолго. Король ласкался к своим придворным, но встречал в ответ вместо любви – повиновение, вместо сострадания – вежливость, вместо живых чувств – этикет и церемониал. Одиночество не покидало его, скорее наоборот, на троне оно сделалось ещ` более невыносимым, потому что теперь он разделял его со множеством людей.
Подлинная жизнь двора сосредоточилась вокруг дона Хуана, все нити испанской политики оказались в его руках. Однако и этот, более удачливый и решительный временщик не знал иных способов решения политических вопросов, кроме традиционных для Габсбургов матримониальных комбинаций. Выгодный брачный контракт с одним из европейских дворов должен был, по его мнению, обезопасить Испанию извне и укрепить внутри. После недолгих размышлений выбор дон Хуана остановился на Франции: во‑первых, ввиду её недавних военных успехов; во‑вторых, из‑за того, что она была естественным союзником в борьбе с Англией, грабившей испанские галионы с американским золотом; в‑третьих, просто потому, что партия Марии‑Анны отдавала предпочтение австрийской принцессе. Единственным обстоятельством, которое смущало дона Хуана, была физическая слабость Карлоса и его отвращение к женщинам, оставшееся от детских лет. Король всё ещё не только не знал женщин, но и панически избегал их. Шелест юбки в комнате заставлял его спасаться потайными лестницами, если женщина на аудиенции подавала ему прошение, он отворачивался, чтобы не видеть её. Дон Хуан ломал себе голову, как пробудить любовь в сердце короля, и ничего не мог придумать.
Но вот однажды летом, во время совместной прогулки по галереям дворца, дон Хуан завёл короля в залу, посередине которой стояла накрытая тканью картина. Дон Хуан приказал слугам свернуть материю.
– Что вы скажете об этом портрете, ваше величество? – спросил он.
Сноп света хлынул с холста в глаза королю, и в этом сиянии перед ним во весь рост предстала прекрасная девушка в атласном платье перламутрового цвета – словно эльф в раскрывшихся лепестках бутона. Белоснежная кожа её лица, полных рук, открытой груди впитала розовато‑золотистые оттенки платья, приглушённые тона интерьера подчеркивали светоносность её образа. Она смотрела на Карлоса мечтательно‑отрешённым взором, и в уголках её по‑детски припухлых губ таяла улыбка.
И без того неподвижный взгляд короля как будто окаменел, прикованный к картине. Дон Хуан повторил вопрос.
– Кто она? – пробормотал Карлос.
– Мария‑Луиза, принцесса Орлеанская и – да будет на то соизволение вашего величества – ваша невеста и королева Испании.
– Моя королева… – чуть слышно прошептал король. – Да, да, моя королева…
Дон Хуан не поверил своим ушам.
На следующее утро лакеи, вошедшие в королевскую спальню, застали Карлоса сидящим на кровати, с красными от бессонницы глазами. Он приказал им позвать своего брата. Дон Хуан немедленно явился.
– Поторопитесь, сударь, – сказал ему король, – я хочу, чтобы эта женщина была здесь до начала зимы.
Дон Хуан, внутренне ликуя, поклонился.
В июле 1679 года в Париж отбыло посольство маркиза де Лос Балбазеса. Маркиз должен был от имени его католического величества короля Испании Карлоса II просить у его христианнейшего величества короля Франции Людовика XIV руки его племянницы Марии‑Луизы, принцессы Орлеанской.
В течение нескольких дней Карлос совершенно преобразился. Придворные взирали на своего короля с нескрываемым изумлением – им казалось, что на их глазах некая чудодейственная сила воскресила труп. Этой силой была любовь. Король нигде не хотел расставаться с портретом принцессы. Он приказал сделать с него миниатюрную копию и хранил её на груди, у сердца. Иногда он вынимал портрет из‑под камзола и обращался к нему с нежными словами. Любовь рождала в нём тысячи мыслей, которые он не мог доверить никому, ему казалось, что все недостаточно разделяют его нетерпение и желание поскорее увидеть его избранницу. Он без конца писал Марии‑Луизе и почти ежедневно отправлял нарочных, чтобы отвезти ей письмо и узнать новости о ней.
У него вырывались слова, показывавшие, что сонный взгляд короля проникал в самые глубины страдающего сердца. Некая ревнивая куртизанка заколола своего любовника у самых ворот дворца. Король приказал привести преступницу к себе. Выслушав её историю, он обратился к придворным:
– Воистину я должен поверить, что нет в мире состояния более несчастного, чем состояние того, кто любит, не будучи любим. – Ступай, – сказал он женщине, – и постарайся быть более благоразумной, чем ты была до сих пор. Ты слишком много любила, чтобы поступать сознательно.
В начале осени гонец из Парижа привёз долгожданное известие: Людовик XIV ответил согласием. Новость не успокоила короля, лишь обострила до предела его нетерпение. Чтобы унять своё возбуждение и вырвать у любви хоть несколько часов крепкого сна, Карлос прибегнул к самобичеванию. Стоя перед большим портретом Марии‑Луизы, он хлестал себя по плечам и спине короткой плетью, и капли алой крови брызгали на белоснежную кожу и перламутровое платье принцессы… Карлос готовился к любви, как аскет готовит себя к вечной жизни. Он любил, он страдал, и душа его была преисполнена гордости и надежды.
В октябре Карлос покинул Мадрид и выехал навстречу Марии‑Луизе.
II
Короли совершают человеческие жертвоприношения государственным интересам двумя способами: отправляя подданных на войну и своих детей – под венец, причём первое обычно влечет за собой второе. Людовик XIV, только что закончивший голландскую войну миром в Нимвегене12, теперь намеревался закрепить военные успехи Тюренна и Люксембурга13 династическим браком, который усилил бы французское влияние в Испании. Король знал о взаимной склонности Марии‑Луизы и дофина, но чувства молодых людей мало интересовали его, несмотря на то что восемнадцать лет назад он сам должен был по настоянию Мазарини отказаться от любви к прекрасной Марии Манчини ради брака с Марией‑Терезией. Душевных качеств этого монарха с избытком хватило бы на четырёх королей, но едва ли на одного порядочного человека. Поэтому Людовик, растроганно слушавший в придворном театре монолог Ифигении14, влекомой жрецами на жертвенный алтарь, нетерпеливо прервал Марию‑Луизу, когда она, рыдая, бросилась перед ним на колени, холодными словами:
– Сударыня, что же больше я мог сделать даже для своей дочери?
– Но, ваше величество, для вашей племянницы вы могли бы сделать больше! – в отчаянии воскликнула принцесса (она подразумевала своё желание стать супругой дофина).
Король нахмурился.
– День отъезда уже назначен, сударыня, – сказал он. – Потрудитесь быть готовой к этому времени. Я приготовил вам блестящую будущность. Вы станете залогом добрых отношений между мной и моим братом Карлосом. Вы принесёте Франции безопасность, а я позабочусь о том, чтобы доставить ей славу.
И Людовик XIV сделал знак, что аудиенция окончена.
Мария‑Луиза чувствовала то же, что и ребёнок, изгоняемый родственниками из дома после смерти родителей. Привыкнув считать французский двор, приютивший ее мать в изгнании15, самым любезным и приятным двором в мире, она меньше всего думала о том, что ей когда‑нибудь придётся его покинуть. Кроме отравления матери, только один таинственный случай омрачил её юность. Как‑то раз принцесса страдала от четырёхдневной перемежающейся лихорадки и была весьма огорчена тем, что эта болезнь мешает ей разделить со всем двором удовольствия зимних празднеств. В монастыре кармелиток, где она попросила у сестёр средства против лихорадки, ей дали питьё, после которого у неё сделалась сильная рвота. Мария‑Луиза не хотела говорить, кто дал ей питье; всё же при дворе узнали правду. Происшествие наделало много шума, однако всё ограничилось несколькими эпиграммами, пущенными в монашек какими‑то смельчаками, пожелавшими остаться неизвестными. Юная принцесса скоро позабыла об этом случае. Кроткий, но вместе с тем весёлый нрав побуждал Марию‑Луизу довольствоваться настоящим, а любовь к дофину породила в её душе сладостные надежды. Теперь же, после аудиенции у Людовика XIV, она поняла, что от неё ждут платы за гостеприимство, оказанное её матери, и этой платой должно стать её счастье. Корона королевы Испании, одна мысль о которой заставляла заливаться слезами европейских принцесс, в её глазах ничем не отличалась от тернового венца, возлагаемого на голову мученика – последний при этом, правда, не был обязан благодарить своих мучителей.
Она попыталась еще раз смягчить сердце Людовика XIV. За несколько дней до отъезда она вновь с мольбой упала к его ногам при входе в церковь. Смиренная поза любимицы двора, словно последняя нищенка ожидающей монаршей милости, вызвала в толпе придворных сочувственный шепот. Все поглядывали на дофина. Но король быстро пресёк разговоры, промолвив со своей обычной сухой иронией:
– Прекрасная сцена! Королева католическая мешает всехристианнейшему королю войти в церковь!
С этими словами он грубо отстранил принцессу и проследовал дальше. Свита короля двинулась за ним, никто из придворных не посмел помочь Марии‑Луизе подняться с колен. Дофин с подчёркнутой незаинтересованностью смотрел в другую сторону. Больше всего на свете Марии‑Луизе хотелось застыть, окаменеть здесь, на церковных ступенях, став вечным укором справедливости Всевышнего.
Камеристки почти силой усадили её в карету. Дома, немного успокоившись, она ужаснулась дерзости своих мыслей, но смирение, которым она попыталась облечь своё отчаяние, было так же невыносимо, как слишком узкий корсет.
Через несколько дней всё было готово к отъезду. Кареты Марии‑Луизы, её дам и экипажи горничных стояли запряжённые, чемоданы и сундуки были упакованы и привязаны к повозкам, пятьдесят кавалеров почётного эскорта сидели в седлах. Мария‑Луиза, опустив глаза, подошла к Людовику XIV проститься.
– Государыня, – сказал он, целуя её, и в его голосе слышалась явная угроза, – я надеюсь, что говорю вам прощайте навсегда, потому что величайшее несчастье, которое может случиться с вами, – это ваше возвращение во Францию.
Мария‑Луиза села в карету и поспешно задёрнула занавески. Всё же она сделала это недостаточно быстро, чтобы не дать заметить заблестевших на её ресницах слез. Король, считавший неприличным любое публичное проявление чувств, сделал брезгливую гримасу и подал знак к отъезду. Послышались крики возниц, щёлканье кнутов, и свадебный поезд тронулся в путь.
Время в дороге тянулось медленно. Принц д'Аркур, возглавлявший кортеж принцессы, старался сделать всё от него зависящее, чтобы мрачные мысли как можно реже посещали хорошенькую головку Марии‑Луизы во время путешествия. Ехали не спеша, подолгу задерживаясь в крупных городах и предаваясь всевозможным увеселениям, которые устраивали городские власти. В маленьких городишках, там, где у городских старшин не хватало денег и фантазии, придумывали развлечения сами. Любезная, добродушная, весёлая Франция в последний раз дарила Марию‑Луизу своей приветливой, ласковой улыбкой. Восхитительная прозрачность погожих октябрьских дней, пронизанных нежным светом нежаркого солнца, придавала поездке невыразимое очарование. Жёлто‑бурые полосы на сжатых полях по обеим сторонам дороги, голубая цепь холмов вдали, жухлая зелень убранных виноградников и золотой багрянец рощ слагались в огромный, стоцветный, радостный мир, в котором, казалось, не было места несчастью и принуждению. И Мария‑Луиза время от времени не могла не поддаваться общему настроению беспечного веселья. Любовь, доходящая до обожания, и безграничная преданность, читавшиеся на лицах её дам, кавалеров свиты и даже прислуги, придавали ей решимости казаться достойной этих чувств. Она была обворожительно‑прелестна с мужчинами и чарующе‑обходительна с дамами. Один случай даёт понять, ценой какого внутреннего напряжения ей это давалось.
Кортеж проезжал через один город, известный производством шёлковых чулок. Городские депутаты явились к Марии‑Луизе, чтобы поднести великолепные образцы своей промышленности. Однако старый испанский гранд из посольства Лос Балбазеса швырнул корзину с чулками в лицо обескураженным депутатам.
– Знайте, что у испанских королев нет ног! – крикнул он им.
При этих странных словах с Марией‑Луизой случилась истерика. Весь страх, всё отчаяние, копившиеся в ней, в один миг прорвались наружу. На руках у испуганных дам она визжала сквозь слёзы, что во что бы то ни стало хочет вернуться в Париж и что, если бы она знала до своего отъезда, что у неё хотят отрезать ноги, она скорее бы предпочла умереть, чем отправиться в путь… Все пришли в смятение, французы требовали объяснений. Изумлённый испанский гранд насилу успокоил Марию‑Луизу уверениями, что его слова не следует принимать буквально и что своей метафорой он хотел сказать лишь то, что в Испании лица её ранга не касаются земли. Наконец ему удалось добиться от неё улыбки.
Мария‑Луиза попробовала вести себя по‑прежнему непринуждённо, но это плохо ей удалось. После этого происшествия она уже не могла согнать со своего лица тревогу и растерянность. Её разум, бессильный осмыслить события последних недель, вновь и вновь возвращался к двум вопросам, которые не выходили у нее из головы: «Почему я?» и «За что?». Она замкнулась в себе и с ужасом считала дни, оставшиеся до встречи с Карлосом. Временами в ней вспыхивал гнев на саму себя за то, что она спокойно позволяет распоряжаться своей судьбой. В такие минуты Мария‑Луиза мысленно готовила планы побега, перебирала в уме своих возможных сообщников, обдумывала слова, которыми она надеялась склонить их на свою сторону. Она так глубоко погружалась в грёзы о свободе, так отчётливо представляла свои действия, так сильно переживала радость мнимого освобождения, что, когда действительность напоминала ей о себе, Мария‑Луиза не сразу могла отделаться от чувства, что видит перед собой остатки какого‑то дурного сна. Тогда она вспоминала своё сиротство, своё одиночество, вспоминала, что у неё есть поклонники, но нет друзей, что сама она всего лишь дочь беженки, воспитанная страной, по отношению к которой должна выполнить долг благодарности… Смиряясь, она упивалась своей жертвой, но затем в её мозгу снова всплывала мысль: «Почему я?» – и она опять переставала что‑либо понимать, и её жертва казалась ей бессмысленной и чудовищной.
3 ноября 1679 года кортеж Марии‑Луизы прибыл около Сен‑Жан‑де‑Люза на берег реки Бидассоа, отделявшей Францию от Испании.
С утра накрапывал дождь, но теперь небо прояснилось. Сквозь обрывки хмурых туч проглядывало неяркое солнце, тускло блестя на воде, мокрых камнях и крупах лошадей. На пустынном берегу стоял специально выстроенный позолоченный деревянный дом, где принц д'Аркур должен был передать Марию‑Луизу в руки маркиза Асторгаса. Кареты и всадники сгрудились вокруг постройки. Д'Аркур предложил Марии‑Луизе руку, чтобы проводить её в дом. Принцесса прошла вместе с ним и со своей статс‑дамой госпожой Клерамбо в отведённую ей комнату, покорно села на предложенный ей стул и стала ждать, когда за ней придут. Она была охвачена ледяным ужасом, параличом мысли и воли, превращавшим её в послушный манекен.
Спустя какое‑то время Мария‑Луиза увидела в окно, как несколько человек в чёрных плащах шли с другого берега по узкому мосту. Вскоре в соседней комнате послышался голос д'Аркура, приветствующий испанцев. Спустя ещё некоторое время дверь отворилась, и д'Аркур пригласил Марию‑Луизу выйти.
– Король Карлос разрешает вам взять с собой четырёх дам и несколько человек прислуги, – сказал он. – Кого бы вы желали выбрать?
Мария‑Луиза испуганно посмотрела на него и оглянулась на госпожу Клерамбо.
– Может быть, вы? – слабым голосом произнесла она.
– Не беспокойтесь, ваше величество, я всё улажу, – ответила статс‑дама.
Она вышла и вернулась с тремя женщинами, которые поклонились Марии‑Луизе и заняли место возле неё.
– Ну что же, ваше величество, соблаговолите выйти к остальным вашим друзьям. Настало время проститься, – сказал д'Аркур.
Мария‑Луиза переступила порог и остановилась. Силы покинули её, она прислонилась к стене. Госпожа Клерамбо и госпожа Берфлёр подхватили Марию‑Луизу под руки и, чуть ли не волоча её ногами по камням, подвели к кавалерам и дамам свиты, тесной толпой стоящим поодаль возле карет.
Французы по очереди стали подходить к Марии‑Луизе для прощания. Она по привычке хотела протянуть им руку, но маркиз Асторгас громко воспротивился этому, напомнив, что никто не смеет касаться её величества. Мария‑Луиза безвольно, как по команде, опустила руку и, глядя в землю, отвечала на поклоны и реверансы едва заметным кивком головы.
Дамы повели её к мосту, Асторгас двинулся следом. С противоположной стороны, навстречу им, шло несколько женских фигур, одетых в чёрное. Дойдя до середины моста, Мария‑Луиза порывисто обернулась. Французы почтительно склонились в последний раз. Мария‑Луиза закусила губы, слёзы брызнули у неё из глаз. Ей показалось, что она переходит Стикс. В отчаянии она уже сделала шаг по направлению к французскому берегу, но в это мгновение чья‑то узкая сухая рука крепко ухватила её запястье. От неожиданности Мария‑Луиза вскрикнула и оглянулась. Высокая бледная старуха с маленькими суровыми глазками на длинном морщинистом лице ещё крепче сжала её руку.
– Я герцогиня Терра‑Нова, камарера‑махор16 вашего величества. Извольте следовать за мной, – холодно произнесла она, и в её повелительном голосе слышалось, что отныне власть над душой и телом королевы принадлежит ей.
Старуха отпустила Марию‑Луизу, поклонилась и спокойно пошла назад. Девушке показалось странным, что с ней разговаривают таким тоном, но удаляющаяся прямая спина герцогини безоговорочно пресекала все возражения и протесты. Мария‑Луиза подчинилась и, перейдя мост, взошла вслед за камарерой на барку с застеклённой комнатой.
Как ни была Мария‑Луиза погружена в свои переживания, она не могла не заметить, что камарера занимает среди испанцев какое‑то особое, исключительное положение. Маркиз Асторгас и другие гранды как‑то сразу исчезли из поля зрения, предоставив ей право распоряжаться всем на судне. Все разговоры при её приближении почтительно стихали, а её короткие приказы, отдаваемые с ледяным спокойствием, исполнялись незамедлительно. Мария‑Луиза сразу инстинктивно почувствовала в этой старухе своего злейшего врага и решила повнимательнее присмотреться к ней.
Герцогиня Терра‑Нова из дома Пиньятелли была внучкой Фернандо Кортеса17. Воплощённая надменность, она держала себя равной с королём и королевой перед равными. Её внешность казалась ветхим слепком дряхлеющего могущества Испании. Герцогине было шестьдесят лет, но выглядела она на все семьдесят пять. Она была безобразна и плохо сложена, вместе с тем она обладала величественной осанкой, внушавшей почтение и даже некоторую симпатию. Все её поступки, жесты и слова были строго рассчитаны. Герцогиня говорила мало, но «я хочу» и «я не хочу» произносила так, что людей охватывала дрожь. Иметь её врагом означало то же самое, что брать змею за хвост: смертельный удар следовал незамедлительно. Дон Карлос Арагонский, её двоюродный брат, был убит нанятыми герцогиней бандитами за то, что он требовал у неё возвращения принадлежавшего ему герцогства Терра‑Нова, которым герцогиня бесконтрольно пользовалась. Суровость и старость герцогини сыграли решающую роль при назначении её на должность. Камарера‑махор была, так сказать, официальной тюремщицей королевы, окостенелым этикетом, не ведавшим снисхождения даже к коронованным особам. Она должна была вживить в тело и душу молодой королевы испанский церемониал, научить её есть, спать, двигаться, говорить по его незыблемым законам, указывать на каждое слово, каждый жест, отступающий от правил, значение которых было давно забыто. Неслыханные права камареры по отношению к её подопечной превосходили полномочия евнухов в гареме: они отвечали только за целомудрие своей госпожи, камарера же была ответственна перед Испанией за натурализацию её королевы.
Барка проплыла несколько миль и причалила к берегу возле какой‑то деревни, где путешественников ожидали приготовленные для горной дороги лошади и мулы. Заночевали в Ируне. Здесь Мария‑Луиза получила первое представление об испанской нищете. Постоялый двор, где они остановились, поразил её своей убогостью. Ужин был так скуден и так плохо сервирован, что Мария‑Луиза была крайне изумлена и почти ни к чему не прикоснулась. «Ужасно быть королевой в стране, где нет вилок», – сострила одна из её француженок. Шутка заставила кисло улыбнуться Марию‑Луизу, но не прибавила ей аппетита. Её не покидало ощущение, что в этом доме никогда не было ни постояльцев, ни пищи.
Комната, или скорее клеть, отведённая королеве, находилась рядом с конюшней. Когда Мария‑Луиза открыла дверь, ей показалось, что перед ней зияет какая‑то чёрная дыра. Мало‑помалу глаза её привыкли к темноте, и она различила крохотное окошко, столь скупо пропускавшее свет, что в этой комнате, по‑видимому, и в полдень требовался светильник.
Меблировка ограничивалась кроватью и лавкой. Под окном на пыльной доске сохли связки трески рядом с куском заплесневелого чёрного хлеба. Мария‑Луиза хотела помолиться на ночь, но ни у хозяина гостиницы, ни у местного священника не оказалось свечей. Не раздеваясь, она с отвращением прилегла на жёсткое, скрипучее ложе. Она думала, что не заснёт, но сон сразил её мгновенно.
Утром Мария‑Луиза не пожелала даже взглянуть на приготовленный завтрак и, сев на лошадь, продолжила путь. Герцогиня Терра‑Нова следовала за ней чуть поодаль на своём муле, ни на минуту не упуская королеву из виду, подобно стоокому дракону, стерегущему сокровище.
III
Карлос II ехал навстречу Марии‑Луизе. Полумёртвый король в первый и последний раз видел своё умиравшее королевство.
Испания взирала на своего Hechizado – «околдованного» короля – с нежной покорностью: она узнавала в нём себя. Её ещё нетронутое, кажущееся нерушимым могущество не в состоянии было скрыть симптомы смертельного упадка. Европа освобождалась из‑под гипнотизма габсбургской политики, понемногу осознавая, что боится, в сущности, бессильного призрака. Грозная пехота, гордость испанской армии, полегла под Рокруа18, немногочисленные нищие ветераны дряхлели в гарнизонах, флот, некогда носивший название Непобедимой Армады19, догнивал в портах. Иностранные дипломаты всё чаще и смелее поговаривали о «неизлечимо больном человеке», подразумевая под ним испанскую монархию. Тем из них, которые сами побывали за Пиренеями, действительность представала более ужасной, чем самые смелые предположения.
Страна выглядела опустошенной, как после вторжения какого‑нибудь новоявленного Атиллы. Между тем со времен Карла Великого ни одна вражеская армия не пересекала ее границ20. Испания убивала сама себя, уподобляясь истекающему кровью гемофилику, продолжающему наносить себе порезы. Принятие законов об изгнании евреев и мавров превратило в беженцев два миллиона человек, колонизация Америки отняла ещё несколько миллионов, полмиллиона еретиков были сожжены инквизицией или отправлены на каторжные галионы. Невероятная популярность монашества усугубляла эту язву бесплодия. На всём полуострове едва насчитывалось шесть миллионов жителей. Пустынножительство перестало быть прерогативой отшельников. Только в обеих Кастилиях насчитывалось триста опустевших селений, ещё двести было возле Толедо, тысяча – в королевстве Кордуанском… Кортесы в ужасе пророчествовали: «Больше не женятся, а женившись, не рождают больше. Никого, кто мог бы обрабатывать земли. Не будет даже кормчих для бегства в другие места. Ещё одно столетие, и Испания угаснет!»
Беспримерная убыль населения шла рука об руку с какой‑то одуряющей ленью, невероятно легко развратившей не только сеньора и священника, но и ставшей гордым идеалом простонародья. Праздности предавались с истинно религиозным пылом, она была царством небесным здесь, на земле. Промышленность презиралась, торговля была отдана на откуп маранам и иностранцам, земледелие глохло под гнётом двойной зависимости крестьян от дворянства и духовенства. Пословица того времени гласила: «Жаворонок не может пролететь над Кастилией, не запасшись своим зерном». Бедняки просили милостыню с гордостью принцев. Богатые жили на восточный манер, проживая сокровища, спрятанные в сундуках и подвалах. Тяжкой привязанности к плугу крестьяне предпочитали пастушескую вольность. Заброшенные поля превращались в пастбища. Эстрамадура целиком была отдана мериносам. Одни только пастухи маркиза Гебралеона пасли стада в восемьсот тысяч овец.
Бедность государства достигла сказочных размеров. Постоянные войны, содержание международных гарнизонов, бессмысленная фискальная система превратили его в скупца, умирающего от голода возле своих золотых рудников. Золото Нового Света текло в Испанию только для того, чтобы обогащать другие народы. Фландрия пухла от торговли, вице‑короли Мексики и Перу организованно грабили богатства империи, английские, голландские, французские флотилии бороздили Атлантику в поисках беззащитных золотых караванов Испании. Один писатель того времени, уподобляя мир телу, сравнивал Испанию со ртом, который принимает пищу, разжёвывает, но тотчас же отдаёт её другим органам, довольствуясь сам лишь мимолетными вкусовыми ощущениями и случайными волокнами, застрявшими в зубах. Государству нечем было платить своей армии: из жалованья в двенадцать экю в месяц офицеры не получили и шести в течение последних десяти лет. Солдаты пробавлялись милостыней днём, а ночью выходили на большую дорогу, более совестливые дезертировали. Казна чеканила фальшивую монету и конфисковывала скудное имущество еретиков. Нищета, неуничтожимая, словно метастазы, распространялась на все слои общества. Один путешественник насчитал всего лишь четырёх богатых сеньоров во всём королевстве.
Однако всё это совершенно не интересовало Карлоса. Он смотрел вокруг себя взглядом мертвеца и ничего не замечал. Его занимали только мысли о Марии-Луизе. Король был печален и рассеян, он разговаривал лишь с гонцами, которых ежечасно отправлял справиться, на каком расстоянии от него находится королева. Ожидание и раздумья до некоторой степени облагораживали безобразную фигуру Карлоса, налагая на его движения печать меланхолической гармонии.
Их встреча произошла в деревне Квинта‑Напалья около Бургоса. Был пасмурный день, дул сильный ветер. Король с утра сидел у окна в одном из крестьянских домов. При известии о приближении королевы его охватила лихорадочная тревога. «Моя королева! Моя королева!» – взволнованно бормотал он. Карлос потребовал коня, вскочил в седло без посторонней помощи и дрожащей рукой натянул поводья. Животное, закусив узду, во весь опор понесло его по деревне. Комья грязи летели из‑под копыт, свиньи, визжа, разбегались от дороги, крестьяне с пугливым любопытством смотрели вслед безумному всаднику.
Выехав за деревню, Карлос издали увидел растянувшуюся по равнине кавалькаду. Он почувствовал, что сердце словно плавает у него в груди, и остановил коня. Стараясь восстановить спокойное дыхание, король глубоко втягивал ртом воздух, но от каждого нового вздоха по его плечам и груди пробегала судорога. Он ощущал внутри какую‑то пустоту, но эта пустота была мучительно‑тяжела. Карлос понял, что больше не сможет ступить и шага, и впился глазами в даль. Ему казалось, что фигурки на равнине не двигаются.
Прошло не менее получаса, прежде чем кавалькада приблизилась. Взгляд Карлоса давно уже отыскал Марию‑Луизу среди всадниц и неотступно следил за ней, между тем как его рука сжимала на груди её портрет. Когда она подъехала ближе и стали видны черты её лица, Карлос пришел в некоторое смятение – живая Мария‑Луиза была и хуже, и лучше своего изображения.
Мария‑Луиза также остановила лошадь, и они в нерешительности застыли напротив друг друга. Дамы королевы, камарера‑махор, маркиз Асторгас и другие, подъезжая, спешивались за спиной Марии‑Луизы и кланялись королю. Никто не произносил ни слова. Ветер хлопал юбками и плащами, лошади фыркали и позвякивали уздечками.
Наконец Карлос спрыгнул на землю и помог Марии‑Луизе сойти с коня. Дотронувшись до нее, король преобразился, восторг осветил его лицо.
– Моя королева! Моя королева! – твердил он по‑испански, в упоении глядя на неё.
– О, ваше величество! – лепетала в ответ по‑французски Мария‑Луиза, опустив глаза.
Она несколько раз пыталась броситься к его ногам и поцеловать ему руку, но он каждый раз останавливал её и приветствовал, по обычаю страны, сжимая её руки обеими руками. Мария‑Луиза не знала, что делать, но камарера‑махор пришла ей на помощь.
– Ваше величество, – твёрдым голосом произнесла она, – королева устала с дороги, ей следует отдохнуть.
– Да, да, – спохватился Карлос. – Моя королева!..
Он подсадил Марию‑Луизу в седло и поехал рядом, не спуская с нее глаз.
Король не захотел откладывать торжество, и свадьба была справлена в тот же день в этом бедном селении. Мария‑Луиза приказала себе больше ничему не удивляться, даже если окажется, что Квинта‑Напалья и есть столица её королевства. После венчания в местной церкви все сели за свадебный стол, чья евангельская простота делала его похожим скорее на монастырскую трапезу, чем на королевское пиршество. Засидеться за таким столом было невозможно, но нетерпение короля и тут дало себя знать: он уединился с королевой, не дожидаясь конца обеда.
На следующий день кортеж малыми переходами направился к Мадриду. После Бургоса горы сменились пустынной равниной. Кругом не было видно ни одного дерева. Изредка на окрестных холмах можно было заметить одинокого пастуха, закутавшегося, словно монах, в плащ цвета высохшего трута, и его овец, белевших на бурых склонах, как крупные капли молока. Дома в придорожных селениях были сплошь одноэтажные, сложенные из круглых камней, пучки сухой травы, наложенной на древесные жерди, заменяли крыши. Мария‑Луиза не могла отделаться от чувства, что путешествует по Иудее времён патриархов.
Путь до Мадрида занял около двух месяцев. Только в начале января 1680 года королевская чета въехала в столицу. Во главе процессии двигалась карета с четырьмя королевскими мажордомами, затем три кареты с идальго в вышитых золотом костюмах – кавалерами орденов Сант‑Яго, Калатрава и Алькантара, и кареты великого конюшего, капитана гвардии и кравчего, следом ехала пустая карета короля. Карлос и Мария‑Луиза сидели в карете, находящейся в середине поезда. За ними ехали конюший и мажордом королевы в её карете и карета камареры. Спешенная челядь шла возле четырёх мулов с гербом и ливреей. Замыкали шествие дамы на лошаках и пеший конвой с трубами и литаврами. Толпы горожан встречали кортеж на всём протяжении от городских ворот до собора Атохской Богоматери, где король и королева должны были выслушать Те Deum21.
Мария‑Луиза с любопытством смотрела на полки испанской и валлонской22 гвардии, стоящие шпалерами вдоль улиц с развёрнутыми знаменами и оглашающие воздух треском барабанов, на многочисленные ювелирные лавки с тяжёлыми, обитыми железом дверями, на балконы, покрытые коврами, и окна с выставленными в них подушками, обшитыми разноцветным бархатом. Её удивило, что, несмотря на многолюдье, горожане не давятся, как в Париже, за право протолкнуться поближе к королевской карете. В окнах некоторых домов Мария‑Луиза заметила свиные окорока. Она осведомилась у короля, что это значит, и получила ответ, что крещёные мавры таким образом отводят от себя подозрения в тайной приверженности к предписаниям своей религии.
У собора все спешились, король и королева вышли из карет. В эту минуту камарера, увидав, что волосы на лбу королевы несколько растрепались, плюнула себе на пальцы и прикоснулась к голове Марии‑Луизы, чтобы слепить их. Брезгливость помогла Марии‑Луизе преодолеть тот ужас, который внушала ей герцогиня. Она остановила руку камареры и с королевским видом сказала ей, что даже лучшая эссенция не годится для этого. Камарера грозно сверкнула глазами, а Мария‑Луиза, достав платок, долго терла свои волосы в том месте, где старуха так неопрятно их замочила.
Это была первая победа королевы в той долгой войне, которую эти две женщины молча объявили друг другу.
IV
Зловещее предзнаменование сопутствовало вступлению Марии‑Луизы в Буен‑Ретиро – королевский дворец в Мадриде: она слегка оперлась рукой на большое зеркало, и стекло треснуло сверху донизу. Придворные дамы пришли в ужас. Они много рассуждали об этом случае и решили со вздохом, что их королеве долго не прожить. Впрочем, к частой смене королев в Испании давно привыкли. Короли здесь хоронили в течение своей жизни двух‑трех, иногда четырёх жен. Минотавром, пожирающим этих дев, был испанский придворный церемониал.
Всякое учреждение – это только продолжение тени создавшего его человека, говорил Эмерсон23. Над испанским двором царила мрачная тень Филиппа II, этого выродка‑мизантропа, кадившего своему богу дымом бесчисленных аутодафе. Жизнь останавливалась у порога его дворца, как трава у подножия скалы. Сам Эскориал, построенный им едва ли не с той же целью, с какой фараоны строили свои пирамиды, имел форму рашпера – орудия пытки, на котором принял мученическую смерть святой Лоренцо, особо чтимый этим благочестивым извергом. Дворец стал частью пустыни, его окружавшей. «Двор, – говорит одна итальянская реляция, написанная около 1577 года, – в настоящее время весьма малолюден, потому что там встречаешь лишь тех, кто имеет отношение к личным покоям короля или к его совету, так как большинство из придворных, которые там находились, или к услугам короля, или для искания почестей, видят, что его Величество живёт всё время в уединении или в деревне, мало показываясь, редко давая аудиенции, награждая скупо и поздно, не могли там оставаться под бременем расходов, не получая ни выгоды, ни удовольствий».
В конце концов из дворца были прогнаны не только придворные, но и священники, и Филипп II заперся в нём с кучкой монахов.
Придворный этикет напоминал монастырский устав. Филипп II, вступив в Эскориал, словно дал обет молчания. Депутации, которые он принимал, не слышали от него ни одного слова: после их речей он склонялся к уху своего министра, и тот отвечал вместо него. Даже королевский секретарь, сидевший с Филиппом II за одним столом, вместо слов получал от него записки – вплоть до мельчайших распоряжений. Мир был для Филиппа II огромным пергаментом, на котором он писал свои политические заклинания. Но этот пергамент в сознании короля со временем ссыхался, словно шагреневая кожа. Вскоре и Эскориал стал для него слишком просторным. Свои последние годы он провёл заживо похороненный в комнате с окном, у подножия главного алтаря дворцовой церкви. Возле этого склепа Филипп II велел поставить свой гроб.
Потомки Филиппа II соблюдали намеченные им правила, придав этикету мертвенную слаженность механизма. Один французский писатель сравнил его с большими часами, которые каждый день начинают тот же самый круг, что они пробежали накануне, указывая те же цифры, звоня в те же часы, приводя в движение, согласно временам года и месяцам, те же аллегорические фигуры. Король и королева были именно такими фигурками, с машинальной неизменностью показывающимися в известные сроки на часовой башне этого монархического механизма, на чьём циферблате было только две отметки: «всегда» и «никогда». При Филиппе IV он был доведён до пределов совершенства. «Нет ни одного государя, который жил бы так, как испанский король, – читаем в записках путешественника того времени. – Его занятия всегда одни и те же и идут таким размеренным шагом, что он день за днём знает, что будет делать всю жизнь. Можно подумать, что существует какой‑то закон, который заставляет его никогда не нарушать своих привычек. Таким образом, недели, месяцы, годы и все часы дня не вносят никакого изменения в его образ жизни и не позволяют ему видеть ничего нового, потому что, просыпаясь, сообразно начинающемуся дню он знает, какие дела он должен решать и какие удовольствия ему предстоят. У него есть свои часы для аудиенций иностранных и местных и для подписи всего, что касается отправления государственных дел, и для денежных счётов, и для слушания мессы, и для принятия пищи. И меня уверяли, что он никогда не изменяет этого порядка, что бы ни случилось. Каждый год в одно и то же время он посещает свои увеселительные дворцы. Говорят, что только одна болезнь может помешать ему уехать в Аранхуэц, Прадо или Эскориал на те месяцы, в которые он привык пользоваться деревенским воздухом. Наконец, те, что говорили мне о его расположении духа, уверяли, что оно вполне соответствует выражению его лица и осанке, и те, что видели его вблизи, уверяют, что во время разговора с ним они никогда не замечали, чтобы он изменил позу или движение, и что он принимал, выслушивал и отвечал с тем же самым выражением лица, и во всём его теле двигались только губы и язык».
Десятилетия за десятилетиями церемониал губил все живое, к чему прикасался. Убив всякое проявление духа, он за десять—пятнадцать лет сводил в могилу европейских принцесс, имевших несчастье надеть корону испанской королевы. Однажды жертвой этикета стал король. Филипп III, задохнувшийся от чада жаровни, позвал на помощь, но дежурный офицер куда‑то отлучился. Он один имел право прикасаться к жаровне. Его искали по всему дворцу… Когда он, наконец, вернулся, король был уже мёртв.
Мария‑Луиза сделалась пленницей этикета раньше, чем её нога переступила порог Буен‑Ретиро. Ещё во время путешествия камарера‑махор сумела убедить Карлоса в том, что королева, юная, живая, с блестящим умом, воспитанная в свободных обычаях французского двора, вольно или невольно разрушит церемониал, если с первых же дней не почувствует всей его неуклонности. Карлос испугался. Камарера, сама того не ведая, растревожила тайные опасения короля. Карлос хотел продолжать любить Марию‑Луизу так, как он любил её портрет. Она была для него живой игрушкой, которую можно, налюбовавшись на неё и наигравшись с ней, снова запереть в шкатулку. В сознании Карлоса их совместная жизнь оставалась, по сути, исключительно его жизнью, и сама мысль, что Мария‑Луиза может внести в их отношения нечто непредвиденное, казалась ему посягательством на его счастье. Поэтому король предоставил камарере полную власть в воспитании королевы.
Герцогиня Терра‑Нова сразу отняла у Марии‑Луизы ту небольшую долю свободы, которой она ещё пользовалась во время путешествия. Желая остаться единственной госпожой над волей королевы, она объявила, что до первого публичного выхода её величества она не допустит к ней никого, кто бы это ни был. Мария‑Луиза, став королевой полумира, оказалась запертой в своих комнатах в Буен‑Ретиро, покидать которые камарера ей запретила. В течение нескольких недель её единственным развлечением были длинные и скучные испанские комедии да грозная камарера, безотлучно находившаяся у неё перед глазами с лицом суровым и нахмуренным, никогда не смеявшаяся и за всё умевшая сделать выговор. Она была заклятым врагом всех удовольствии и обращалась со своей госпожой как гувернантка с маленькой девочкой.
Умилостивить непреклонную старуху было невозможно. Госпожа де Виллар, жена французского посланника, после настойчивых просьб добилась, наконец, у короля разрешения видеть королеву инкогнито, однако камарера не допустила её к ней. В первый раз герцогиня выпроводила француженку, убеждавшую её, что король разрешил это посещение, со словами, что «она этого не знает». Госпожа де Виллар направила к ней придворного, который умолял камареру осведомиться. Та отвечала, «что не сделает ничего и что королева не увидит никого, пока будет в Ретиро». А когда Мария‑Луиза, встретив в одном из апартаментов дворца маркизу Лос Балбазес, хотела поговорить с ней, камарера взяла королеву за локоть и заставила вернуться в свою комнату.
Так прошли зимние месяцы. С наступлением весны затворничество сделалось для Марии‑Луизы невыносимым. Едва дождавшись вечера, когда она оставалась одна в своей спальне, королева открывала окно и подолгу стояла возле него. Гроздья созвездий чисто и ярко сияли из тёмной бездны, разверзшейся над городом. И словно отвечая им, в городских аллеях вспыхивали и плыли огненные светлячки – это женщины, длинными рядами сидящие под деревьями на камышовых стульях, зажигали свои сигарки. В дворцовых садах и апельсиновых рощах вокруг Мадрида раздавались голоса и звуки мандолин, а порой весенний ветерок доносил до слуха Марии‑Луизы странный шум: как будто город наполнился тысячами гремучих змей. Она не сразу поняла, что это шелест опахал. К полуночи всё мало‑помалу затихало, и только плеск фонтанов да приглушённое женское хихиканье нарушали спокойное течение ночи. О чём думала Мария‑Луиза в эти часы полного уединения? Вспоминала ли она сады и парки Версаля, весёлые балы и спектакли? Или свою любовь к дофину? Горевала ли о своих загубленных мечтах, пропавшей молодости, а может быть, прозревала свою судьбу? Рядом с ней не было никого, с кем она могла бы перекинуться хоть словом о милых для её сердца вещах, кто мог бы утешить её и подать совет.
Первый публичный выход королевы был приурочен к началу святой недели. Мария‑Луиза с нетерпением ожидала её, чтобы присоединить к вселенскому ликованию Воскресения Христова радость своего освобождения. В предвкушении этого дня ей стоило больших усилий сосредоточиться на страстях Спасителя. Всё же ей удалось преодолеть себя, и она явилась двору воплощением кротости и смирения. Однако то, что она затем увидела в храмах и на улицах города, настолько потрясло её, что вернуть себе прежний благочестивый настрой Мария‑Луиза уже не смогла.
Мадрид, казалось, совершал какую‑то оргиастическую мистерию, кружась в любовном исступлении вокруг Голгофы. Храмы были полны влюблёнными, их страстные вздохи вплетались в гармонию хоралов. У каждой придворной дамы был возлюбленный, но вне определённых дней он не имел права говорить с ней иначе, как издали и жестами. Во время литургии поднятые руки любовников обменивались таинственными знаками. Иногда устраивались церковные процессии, во время которых любовники придворных девушек могли открыто ухаживать за ними. Ночью разодетые женщины совершали прогулки, ища по церквям своих кавалеров. Сводницы обожали часовни, свидания назначались возле кропильниц.
Пылающая чувственность ещё более разжигалась аскетизмом и мистикой. Среди придворных вошло в моду самобичевание во время Великого поста. Мастера монашеской дисциплины преподавали им, как фехтмейстеры, искусство розги и ремня. Молодые самобичеватели пробегали по улицам, надев батистовые юбки, расширяющиеся колоколом, и остроконечный колпак, с которого свешивался кусок материи, закрывающий лицо. Спектакль самобичевания они устраивали под окнами возлюбленных. Их искусство не было лишено своеобразной эстетики: плети были перевиты лентами, полученными на память от любовниц, верхом элегантности считалось умение хлестать себя одним движением кисти, а не всей руки, и так, чтобы брызги крови не попадали на одежду. Дамы, извещённые заранее, украшали свой балкон коврами, зажигали свечи и сквозь приподнятые жалюзи ободряли своих мучеников. Если же самобичеватель встречал свою даму на улице, то старался ударить себя так, чтобы кровь брызнула ей в лицо, – эта любезность вознаграждалась милой улыбкой.
Случалось, что кавалеры‑соперники, сопровождаемые лакеями и пажами, несущими факелы, встречались под окном дамы, во имя которой взялись истязать себя. И тогда орудие бичевания тотчас превращалось в орудие поединка: господа начинали хлестать друг друга плетьми, а лакеи колотили друг друга факелами. Более выносливый вознаграждался брошенным с балкона платком, который с благоговением прижимался к ранам любви. Сражение завершалось большим ужином. «Кающийся садился за стол вместе со своими друзьями, – пишет современник. – Каждый по очереди говорил ему, что на памяти людей никто не совершал самобичевания с большим изяществом: все его действия преувеличиваются, особенно же счастье той дамы, в честь которой он совершил свой подвиг. Ночь проходит в беседах такого рода, и порой тот, кто так доблестно изувечил себя, оказывается настолько больным, что не может присутствовать в церкви в первый день Пасхи».
В смятении от увиденного Мария‑Луиза обратилась к маркизу Лос Балбазесу, единственному испанцу, с которым она несколько раз беседовала в Париже, с просьбой объяснить ей причины сохранения столь варварских обычаев.
– Ваше величество напрасно приписывает испанцам жестокосердие, – возразил маркиз. – Мы, испанцы, действительно воинственны – как‑никак за семь столетий мы дали маврам три тысячи семьсот сражений, не считая не столь давних битв с язычниками, еретиками и, к моему искреннему сожалению, с соотечественниками вашего величества. Однако смею заверить, что меня беспредельно огорчает то, что ваше величество считает Испанию варварской страной.
– Простите меня, маркиз, я не хотела вас обидеть. И всё же сознаюсь, что до сих пор я увидела здесь больше дурного, чем интересного.
– Это правда, ваше величество, наши нравы дают обильную пищу для предвзятых мнений. Ваши послы, впервые приезжающие в Мадрид, приходят в ужас от испанского придворного церемониала, ибо, привыкнув к грациозной вежливости французского двора, они теряются перед строгим благочестием мадридского. Костюмы дам их пугают, обычаи – раздражают или смешат, развлечения кажутся скучными или кровожадными. Много увидев, но мало поняв, они возвращаются во Францию, где приспосабливают свои наблюдения, – надо признать, подчас весьма меткие, – под вкусы того салона, завсегдатаями которого являются. Между тем причины непонимания довольно очевидны. Испания, более гордая, более идеальная, ещё способна на безумства, от чего во Франции давно отвыкли. Сила чувств и неистовство в их проявлении – вот то, что более изнеженные народы склонны выдавать за варварство. Скажите, ваше величество, разве в Париже кто‑нибудь способен поджечь театр, чтобы иметь возможность унести свою возлюбленную на руках?
– Боже мой, конечно, нет, хотя бы потому, что в Париже и теперь не каждая порядочная дама рискнёт поехать в театр. Но о ком вы говорите?
– Так поступил граф Вилламедиана, влюблённый в королеву Елизавету, первую супругу покойного отца нашего нынешнего государя. Испания чтит безумцев, особенно безумцев от любви. Ваше величество слышали когда‑нибудь о Embevecidos?
– Нет. Кто это?
– «Опьянённые любовью». Эти люди могут оставаться с покрытой головой перед королевской четой, даже если они не являются испанскими грандами. Они считаются ослеплёнными видом своих возлюбленных и неспособными видеть что‑либо иное и знать, где они находятся. Король дозволяет им непочтительность, как султан терпит проклятия дервишей. Если ваше величество хочет понять Испанию, вам следует помнить, что это означает понять безумство.
Королева улыбнулась несколько принуждённо, как если бы выслушала рассказ о нравах той тюрьмы, в которой ей суждено было находиться.
– Вы говорите странные вещи, маркиз. Однако я благодарна вам за этот небольшой этюд о нравах моих подданных. Надеюсь, я со временем лучше пойму то, о чём вы сейчас сказали, – ответила она.
После первого публичного выхода Мария‑Луиза вышла из своего затворничества, но лишь для того, что‑бы перейти к тому, что госпожа де Виллар в своих письмах называет «ужасной жизнью дворца». Её важнейшей чертой, закрепленной церемониалом, был строго соблюдаемый и оттого особенно невыносимый tete‑a‑tete короля и королевы. В девять часов утра азафата24 отдёргивала занавеску королевской постели, а камердинep подавал королю горячий напиток: слабый бульон с двумя желтками, разбавленный молоком, вином, которое преобладало, и сдобренный сахаром, гвоздикой и корицей. Королеве азафата подносила принадлежности для вышивания. Затем она же подавала обоим постельные плащи и клала рядом с королём часть деловых бумаг, лежавших на ближайших стульях и креслах, после этого слуги уходили. Король и королева совершали молитву, по окончании которой к Карлосу приходил министр с бумагами. Через полчаса министр удалялся, и азафата приносила королю туфли и халат. Карлос шёл в кабинет, где одевался с помощью трёх лакеев, никогда не менявшихся, и одного из своих фаворитов. Облачившись в платье, король некоторое время беседовал через специальное окошко со своим духовником.
В это время азафата подавала Марии‑Луизе халат – это были семь‑восемь минут, когда король и королева оставались в одиночестве, в случае промедления Карлос осведомлялся о причине задержки. Мария‑Луиза в свою очередь шла в уборную и совершала утренний туалет с помощью азафаты, двух придворных дам и двух фрейлин, чередовавшихся каждую неделю. Если Карлос к тому времени заканчивал исповедь, которая обычно продолжалась недолго, то присутствовал при туалете. Беседа велась стоя и ограничивалась королевскими замечаниями дамам об их знакомствах и набожности.
Из уборной шли по внутренним покоям в часовню слушать мессу в сопровождении лиц, присутствовавших при туалете, и капитана гвардии. После мессы обедали и совершали часовую прогулку в каретах, по возвращении закусывали и время до ужина проводили в молитвах и душеспасительном чтении. Согласно этикету, испанские королевы должны были ложиться спать летом в десять часов, а зимой в половине десятого. Первое время Марии‑Луизе случалось засидеться за ужином до этого неизбежного срока, и тогда одни её дамы, ни слова не говоря, начинали распускать её причёску, другие разували её под столом. В несколько минут она была раздета, её волосы распущены, и сама она отнесена в постель. Её укладывали спать «с куском во рту», говорит в одном письме госпожа де Виллар.
Даже супружеская любовь имела свой распорядок и свою униформу. Когда король приходил, чтобы провести ночь с королевой, он должен был поверх башмаков надевать мягкие туфли, иметь на плече чёрный плащ, в одной руке держать свою шпагу, а в другой потайной фонарь, придерживая при этом правым локтем кувшин, а левым – бутылку двусмысленной формы, подвязанную верёвками. Этот полуторжественный, полушутовской наряд на сонном манекене с лицом призрака не смешил, а пугал Марию‑Луизу, напоминая ей о бессмысленности всего, что она видела вокруг себя.
Любовь Карлоса только отягчала её тоску: Мария‑Луиза чувствовала в ней унылую мономанию безумца. «Король никогда не хотел терять королеву из виду, и это очень обязывало», – пишет госпожа де Виллар со своей тонкой придворной иронией. Три или четыре часа в день он играл с Марией‑Луизой в бирюльки – игру, в которой можно потерять одну пистоль лишь при самой необыкновенной неудаче. Для развлечения он возил её по мадридским монастырям. Разнообразие времяпровождения в этих поездках заключалось в том, что после мессы король и королева садились на широкие кресла, положив ноги на великолепные подушки, и принимали процессию монахов, по очереди подходивших к ним приложиться к руке.
Балы, случавшиеся не чаще солнечных затмений, не могли снять вечный траур двора. Находиться в присутствии короля можно было только одетым в чёрное. Костюмы мужчин с воротниками, охватывающими шею, словно железные ошейники, узкие штаны и тяжёлые плащи уродовали красоту и старили молодость. Дамы носили монашеские нагрудники, мантильи, скрывавшие глаза, корсажи, твёрдые, как доспехи, и фижмы, придававшие телу крутые откосы крепостей. Мода предписывала им носить круглые очки, румянить и белить не только лицо, но также руки, плечи и кожу сзади ушей (пристрастие к румянам было так велико, что их клали даже на бюсты в королевском дворце). Жёны, мужья которых были в путешествии, носили кожаный пояс верности или верёвку. Марию‑Луизу поразило присутствие на балу священников и поведение камареры‑махор – благочестивая старуха бормотала в промежутках разговоров молитвы, откладывая их на чётках, которые не выпускала из рук. Вообще, чётки были у многих дам, – молясь, они машинально отмечали на них ритм менуэтов.
Два карлика с длинными волосами, облачённые в парчовые мантии, пытались развлекать этот могильный двор. Разговор поддерживался главным образом ими. Однако обращать внимание на их шутки полагалось не больше, чем на гримасы каменных масок над порталами дворца. Однажды Мария‑Луиза во время обеда стала смеяться над кривляньями шута, который то и дело подходил к ней с жестяной трубкой в руках, делая вид, что туг на ухо. Камарера сразу пресекла её смех, предупредив, что это не подобает испанской королеве и что ей следует быть более серьёзной. Изумлённая Мария‑Луиза отвечала, что не сможет удержаться от смеха, если не уберут этого человека, и что не следовало его ей показывать, если не хотят, чтобы она смеялась.
Король, с безучастным видом слушавший этот разговор, сделал знак шуту удалиться.
V
Между тем официальное торжество по случаю королевской свадьбы всё откладывалось: казна была пуста. Одно время королевский совет решал, не следует ли для того, чтобы оплатить свадебные расходы, конфисковать купеческий галионы, прибывшие в Кадис. Наконец необходимые средства были найдены, и Карлос смог преподнести Марии‑Луизе в качестве свадебного подарка два зрелища: бой быков и аутодафе.
Празднества происходили на главной площади Мадрида, превосходившей по размеру любую из площадей европейских столиц. Её окружали сто тридцать шесть одинаковых пятиэтажных домов, расположенных на равном расстоянии один от другого. На каждом этаже имелся один балкон с жёлтыми перилами. На изгибах перил с обеих сторон балконов крепилось по одному факелу из белого воска. Их блеск изумлял иностранцев: при нём можно было даже ночью свободно читать самый маленький шрифт в любом месте площади.
Как только королевская карета подъехала к площади, все прочие экипажи были убраны. Король и королева должны были наблюдать корриду с балкона одного из домов. Обзор с лестницы, ведущей наверх, был тщательно закрыт, так что, поднимаясь по ней, увидеть огни было невозможно. Зато, когда Мария‑Луиза поднялась по ней в комнату, выходящую на площадь, она была ослеплена, а на балконе просто потеряла дар речи от неистового сияния, белым огнём заливавшего площадь.
Постепенно глаза её привыкли к свету, и она смогла осмотреться. Королевский балкон выдавался больше других балконов и был накрыт тронным балдахином. Напротив королева увидела балконы послов Франции, Польши, Савойи, Венеции и папского нунция (дипломаты Англии, Голландии, Швеции и других протестантских стран не имели доступа на этот праздник). Её внимание привлекло то, что только французское посольство было одето согласно моде своей страны – это была привилегия, дарованная Карлосом французам, как соотечественникам его супруги. Посланники других стран должны были носить испанский костюм. Гранды и их жёны занимали места по рангу на прочих балконах, украшенных коврами. Толпа народа заполняла всю площадь, кроме огороженной и посыпанной песком арены, зрители теснились в проёмах между домами и даже густо облепили крыши. Разносчики фруктов, конфет и лимонада едва протискивались со своими корзинами сквозь эту толпу, ежеминутно рискуя рассыпать или раздавить свой товар. Они стремились пристроиться к дворцовым лакеям, разносившим придворным дамам подарки от короля – перчатки, ленты, веера, благовонные шарики, чулки и подвязки, – перед королевскими посланниками толпа кое‑как расступалась.
Посреди неясного людского гула резко прозвучал сигнал горна, и в ответ ему взревели десятки труб, возвещая о начале поединков. Площадь восторженно загудела, приветствуя шестерых грандов, выезжающих на арену. Разноцветные султаны колыхались на их шлемах, а нагрудные латы были перевязаны шарфами дам, ради которых они намеревались сразиться с разъярённым зверем. Подняв пики, всадники невозмутимо пересекли площадь и остановились под королевским балконом, поклоном испрашивая у короля разрешения на поединок. Карлос едва заметно кивнул им.
Снова заиграли трубы, и бой начался. Он был великолепен, гранды «быкобойствовали», по выражению госпожи де Виллар, которая чуть не упала в обморок от этого зрелища. Выезжая по очереди на арену, дворяне гарцевали вокруг быка и дразнили его уколами пик. Доведённое до бешенства животное, опустив голову, металось по арене, стараясь достать рогами лошадь, выводимую из‑под удара опытной рукой наездника. В одном случае бык оказался проворнее: ему удалось пропороть брюхо лошади одного из грандов. Её дымящиеся внутренности вывалились на песок. Обезумев от боли, страха и воплей толпы, дико храпя и кося глазами, лошадь поволокла кишки за собой, то и дело наступая на них задними ногами. Бык повернул в её сторону морду, по которой уже бежали с рогов тёмные струйки крови, и в несколько прыжков снова оказался возле неё. Глубоко всадив рога в лошадиный пах, он могучим движением шеи высоко поднял лошадь вместе со всадником и бросил их через себя на землю. Сладострастный крик ужаса вырвался одновременно из многих тысяч грудей, – казалось, бык низверг бойца в ад. На помощь поверженному гранду бросились chub, копьеносцы, волоча по арене жёлтые, голубые, зелёные и красные куски ткани, чтобы отвлечь внимание быка. Некоторые, завернувшись в плащ, на одном колене ожидали его приближения. Бросив свою жертву, бык устремился на них. Несмотря на слепую ярость, заставлявшую его наносить удары только по прямой, ему удалось сбить с ног одного chulo. Тотчас же послышался отвратительный хруст – бык страшными ударами ног насквозь пробил грудную клетку человека. Новая победа чудовища была отмечена бешеным, протяжным воем зрителей. На арену высыпали banderilleros, вооружённые железными гарпунами. Они кружили вокруг быка, стараясь вонзить своё оружие между его плеч. Животное с налитыми кровью глазами, обессилев от боли и бешенства, дико ревело, взрывало копытами песок и трясло окровавленной шкурой.
За это время поверженный гранд успел выбраться из‑под коня. Приблизившись к балкону короля, он попросил у него разрешения убить быка. Марии‑Луизе показалось невероятным, что её супруг, в котором едва теплилась жизнь, может обречь смерти мощного, свирепого зверя. Однако Карлос снова едва заметно наклонил голову, и гранд, вынув меч, направился к быку. Животное почувствовало близость рокового удара: его взгляд стал пристальным, ноги дрожали, оно прерывисто дышало. Гранд сделал приветственный жест в сторону балкона, на котором находилась его дама, и ловко всадил меч по рукоятку в бычье плечо. Бык зашатался, поворачиваясь на месте, ноги его подогнулись, и он грузно, сонливо опустился на песок…
Зрители бесновались, на арену летели шляпы, ленты, сигары, монеты. Продавцы апельсинов с поразительной ловкостью бросали плоды на балконы. Трупы быка и лошади в мгновение ока были привязаны к мулам и увезены.
Бойня продолжалась до вечера. Последнего быка вывели для традиционной пантомимы с участием зрителей. Толпа, изображающая старых маркизов, одержимых подагрой, пьяных солдат, демонов, потрясающих вилами, обезьян, гоняющихся друг за другом, крестьян в бумажных чепцах и с пиками на ослах, окружила быка. Мальчишки, переодетые поварёнками и обмазанные сажей, кувыркались, женщины в фантастических головных уборах подбирали подолы и падали навзничь, демонстрируя непристойные места, остальные бегали, толкались, шумели под шипение и ослепительные вспышки самодельных ракет и треск мушкетов. Некоторые смельчаки с помощью жерди скакали через быка, когда тот устремлялся на них. Фейерверк на площади и в королевском дворце завершил праздник.
После боя Карлос осведомился у французской делегации, как им понравилось зрелище.
– Это празднество – ужасающее удовольствие, ваше величество, – смело заявила едва пришедшая в себя госпожа де Виллар. – Если бы я была королём Испании, оно бы не повторилось никогда.
– Сударыня, мы поставлены Богом, чтобы беречь обычаи нашей страны, а не для того, чтобы отменять их, – холодно произнёс король, сонно глядя на собеседницу из‑под полуприкрытых век.
Три месяца спустя состоялось торжественное аутодафе – неизменный огненный спектакль на свадьбах испанских королей.
Святейшая инквизиция простирала свои объятия язычнику и грешнику, но в одной руке она держала меч, а в другой – факел. В семивековой рукопашной схватке с исламом испанский католицизм вдохновлялся примером не Бога Голгофы, а Иисуса Навина, истреблявшего в Ханаанской земле не только идолопоклонников, но даже их скот. В XV веке, когда мавры сложили оружие, по всему полуострову зажглись костры инквизиции, чтобы неугасимо пылать в течение четырёхсот лет. Торквемада25 обратил Кастилию в море пламени. В течение восемнадцати лет десять тысяч осужденных были сожжены живыми, семь тысяч заочно, в изображениях. Статуи апостолов, воздвигнутые на площади Севильи, покрылись толстым слоем жирной сажи от сгоревших тел. Инквизиция считала себя правовернее Рима: она пренебрегала папскими советами и цензурой.
Сами короли трепетали перед этим подозрительным чудовищем. Филипп II повелел одному вице‑королю Нового Света подставить свою спину под бич инквизиции за то, что он ударил одного из её сочленов. При вступлении на престол он отдал в её руки своего учителя, архиепископа Толедского, со словами: «Если у меня самого в жилах будет кровь еретика, то я сам отдам свою кровь». Передают, что Филипп III искупил слово сострадания, которое вырвалось у него во время одного аутодафе, несколькими каплями крови, выпущенной из его руки ножом палача.
Впрочем, и самое зло может вырождаться. Ко времени Карлоса II крестоносцы преобразились в полицейских, костры зажигались и гасли в положенные сроки, никого не возбуждая и не устрашая: они стали частью церемониала.
Огромный эшафот, над которым возвышалась кафедра Великого инквизитора, епископа Барселонского, был воздвигнут на главной площади. В семь часов утра король, королева, гранды, посланники, придворные дамы, празднично разодетые, заняли места на тех же балконах, откуда они наблюдали бой быков. Через час процессия началась. Во главе её шло сто угольщиков, вооружённых пиками. За ними в плащах, расшитых чёрными крестами, следовало семьсот доминиканцев, несущих хоругви с изображением короля, королевы и папы – ими предводительствовал герцог Медина Цели, наследственный хоругвеносец инквизиции, с зелёным крестом церкви Святого Мартина. Вслед за доминиканцами тридцать человек несли картонные фигурки и две статуи осуждённых в изображениях, из которых одни представляли бежавших приговорённых, другие – умерших в тюрьме: мятежные останки этих счастливцев покоились в гробах, украшенных нарисованными языками пламени. Далее вели вереницей более ста живых преступников – каждого между двумя монахами. Первыми шли сорок покаявшихся, осуждённых с отречением от грехов – двоеженства, суеверий, лицемерия, лжи и т. д. На шее у них болтались верёвки с завязанными узелками по числу ударов плетей, которые они должны были получить, на головах возвышались коросы – картонные колпаки, расписанные шутовскими рисунками, – инквизиция высмеивала свои жертвы. За ними следовало пятьдесят приговорённых, одетых в санбенито – жёлтые мешки с прорезями для головы и рук, испещрённые андреевскими крестами и полукрестами. Это были евреи, осуждённые за тайное иудейство. Будучи взяты лишь в первый раз, они подвергались пока только бичеванию. Наконец появились двадцать евреев и евреек «осуждённых отпущенных», то есть обречённых на костёр. Их одежды и колпаки говорили об их участи: те, которые раскаянием заслужили милость быть задушенными до костра, были отмечены опрокинутыми языками пламени, пламя тех, кого должны были сжечь живыми, стояло прямо, и в нём извивались дьяволы и драконы. У двенадцати наиболее упорствующих в заблуждении рты были заткнуты кляпом и руки связаны.
Вся вереница осуждённых была связана одной верёвкой. «Этих несчастных протащили так близко от короля, – пишет госпожа д'Онуа, француженка, очевидица казни, – что он слышал их жалобы и стоны, потому что эшафот, на котором они стояли, касался его балкона. Монахи, некоторые искусные, другие невежественные, с яростью вступали с ними в споры, чтобы убедить их в истинах нашей веры. Среди осуждённых были евреи, весьма учёные в своей религии, которые с большим хладнокровием отвечали поразительные вещи».
Была отслужена заупокойная обедня. Во время чтения Евангелия Карлос II, с обнажённой головой, приблизился к кафедре, чтобы у колен Великого инквизитора принести присягу святейшей инквизиции. В полдень началось чтение решений и приговоров, прерываемое криками и мольбами осуждённых. Каждый смертный приговор заканчивался словами: «Мы должны отпустить и отпускаем такого‑то и отдаём его в руки светского правосудия, коррехидору26 сего города, или тому, кто исполняет его обязанности при названном трибунале, коих мы сердечно просим и молим милосердно обращаться с обвиняемым и не допустить пролития его крови». Между приговорёнными была семнадцатилетняя девушка редкой красоты – она отбивалась от державших ее монахов и, обращаясь к королеве, просила о помиловании.
– Великая королева, – кричала она, – неужели ваше королевское присутствие ничего не изменит в моей несчастной судьбе? Взгляните на мою юность и подумайте, что дело идёт о религии, которую я впитала с молоком матери.
Бедная девушка не думала, что обращается к той, чьё сердце было также поражено страхом. Мария‑Луиза отвратила от неё взор, выразив на лице сострадание, но не посмела сказать ни слова, чтобы спасти её. Стремясь как можно быстрее покинуть место казни, Мария‑Луиза обратилась к Карлосу с просьбой позволить ей удалиться по причине дурноты. Карлос передал её слова Великому инквизитору, который приказал королеве дослушать чтение приговоров. Госпожа де Виллар, проявившая не менее нетерпения, также получила отказ. «У меня не хватило мужества присутствовать при этой ужасной казни евреев, – пишет она о своих чувствах. – Это было отвратительное зрелище, судя по тому, что я слышала; но что касается чтения приговоров, присутствовать там необходимо, если только вы не имеете удостоверения от врачей о тяжкой болезни, так как в противном случае вы прослывёте еретиком. Нашли даже весьма нехорошим то, что я как бы слишком мало развлекалась всем происходящим…»
После чтения приговоров месса возобновилась: тогда королю и королеве было дозволено удалиться. Но двор и народ остались наблюдать за казнью. Вначале были удушены несколько «возвращённых» – тех, кто покаялся. Каждый раз, когда палач вталкивал внутрь язык жертвы, члены трибунала требовали его к ответу:
– Вы повинны в убийстве человека. Что вы можете сказать в свою защиту?
– Это был преступник, осуждённый законом. Я исполнял только веление правосудия, – отвечал палач.
Тела удушённых кидали в огонь. Затем наступила очередь живых. «Мужество, с которым приговорённые шли на казнь, действительно необычайно, – рассказывает госпожа д'Онуа. – Многие сами кидались в огонь, другие сжигали себе руки, потом ноги, держа их над огнём, сохраняя при этом такое спокойствие, что приходилось только жалеть, что души столь мужественные не были просвещены лучами веры».
А в толпе, глазеющей на костёр, всё так же протискивались разносчики конфет и лимонада, и продавцы апельсинов с той же ловкостью кидали свои плоды на балконы придворных дам.
VI
Неделя за неделей, месяц за месяцем одиночество Марии‑Луизы становилось всё безысходней. Рвались последние нити, связующие её с Францией, с прошлым. Почти все её женщины‑француженки были отосланы, с ней оставались только две: её кормилица и горничная. Но камарера‑махор сделала их жизнь настолько невыносимой, а король, проходя мимо, кидал на них такие мрачные взгляды, что они попросили свою госпожу отпустить их. Один Бог знает, чего стоило Марии‑Луизе выполнить эту просьбу, тем не менее она не стала удерживать их возле себя. Теперь её уединение стало полным. Только госпожа де Виллар и госпожа д'Онуа могли изредка её видеть. Страницы их писем, где рассказывается об этих визитах, совершаемых под наблюдением камареры, полны сцен, напоминающих посещения монастырской затворницы. Однажды госпожа де Виллар показала королеве письмо из Парижа, в котором говорилось «о ней и о её хорошеньких ножках, которые грациозно танцевали и так красиво ступали». Мария‑Луиза даже раскраснелась от удовольствия. «А затем она подумала о том, что её хорошенькие ножки не имеют занятий иных, как несколько раз обойти вокруг комнаты да каждый вечер в половине девятого отнести её в постель».
Скука заставляла её развлекать саму себя. «Она сочиняет оперы, она дивно играет на клавесине и довольно хорошо на гитаре; ей ничего не стоило научиться играть на арфе. Благочестивые книги доставляют ей не много утешения. Это и неудивительно в её летах. Я часто говорю, что хотела бы, чтобы она забеременела и имела ребёнка» (письмо госпожи де Виллар).
Сборники испанских стихов отпугивали её предисловиями авторов вроде: «Сим предупреждается, что слова: бог любви, богиня любви, божество, рай, поклоняться, блаженный и другие – должны пониматься только согласно поэтическому словоупотреблению, а не в каком‑нибудь ином смысле, который мог бы в чём бы то ни было оскорбить чистейшее учение пресвятой матери Церкви, которой я, как покорный сын, повинуюсь во всём, что она предписывает». Зато испанские романсы пришлись Марии‑Луизе но душе, и она часто пела свой любимый:
Милая смуглянка, не забудь,
когда сон смежает твои веки:
отдавать принуждены мы
снам половину жизни человека.
Как в песок вода, уходит жизнь,
столь неудержимо скоротечна, —
будь то в годы старости седой
или в годы юности беспечной.
И течение необратимо это,
но приходит поздно отрезвленье;
бесполезен суеты урок:
не прозренье даст он – сожаленье.
Молодость твоя и красота,
милый друг, товар всего лишь новый.
Ты – богач, но станешь бедняком:
время разоряет, безусловно.
Но несёт необъяснимую печаль сей товар,
снискавший в мире славу,
пеленою застит юный взор,
на запястье виснет кандалами.
И, тая немалую угрозу,
чёрную он зависть разжигает,
что людей безжалостно казнит,
время жизни злобно пожирает.
И удел красивых и невзрачных уравнит,
увы, касанье смерти;
близких нет в могильной тесноте,
и останкам, верно, не до сплетен.
Несомненно – всех красивей кедр,
нет деревьев выше кипариса,
но беспомощны они перед судьбой —
жертвы своевольного каприза.
Милая смуглянка, наша явь —
вереница бед, юдоль сомнений;
только на дорогах сна
мы познаем сладость недоступных наслаждений.
Но когда апрельский новый цвет
скомкает безжалостная осень,
то померкнет красок ликованье
и небесная пожухнет просинь27.
Вместе с тем бедная королева нашла ещё утешение в хорошем столе. Она ела много и часто, отчего начала толстеть. «Испанская королева, – пишет госпожа де Виллар, – располнела до такой степени, что ещё немного – и ее лицо станет совсем круглым. Её шея слишком полна, хотя и остаётся одной из самых красивых, которые я когда‑либо видела. Она спит обыкновенно десять—двенадцать часов; четыре раза в день она ест мясо; правда, её завтрак и ужин являются лучшим её питанием. За её ужином всегда бывает каплун, варенный в супе, и каплун жареный». Этот «версальский» аппетит был весьма необычен в стране, где герцог Альбукеркский, владевший двумя тысячами пятьюстами дюжинами золотых и серебряных блюд, за обедом съедал одно яйцо и одного голубя. «Король, – говорит госпожа де Виллар, – смотрит, как ест королева, и находит, что она ест слишком много».
В свою очередь госпожа д'Онуа передаёт, что при своём посещении застала королеву в зеркальном кабинете сидящей на подушках на полу, по испанскому обычаю. На ней было платье из розового бархата, расшитое серебром, и тяжёлые серьги, падавшие на плечи. Она трудилась над рукодельем из голубого шёлка с золотыми очёсками. «Королева говорила со мной по‑французски, стараясь при этом говорить по‑испански в присутствии камареры‑махор. Она приказала мне посылать ей все письма, которые я получаю из Франции, в которых будут новости, на что я ей возразила, что те новости, о которых мне пишут, недостойны внимания столь великой королевы. "Ах, Боже мой! – сказала она, с очаровательным видом подымая глаза. – Я никогда не смогу относиться равнодушно к чему бы то ни было, что приходит из страны, которая мне дорога". Затем она сказала мне по‑французски очень тихо: "Я бы предпочла видеть вас одетой по французской моде, а не по испанской". – "Государыня, – отвечала я ей, – это жертва, которую я приношу из уважения к вашему величеству". – "Скажите лучше, – продолжала она, улыбаясь, – что вас приводит в ужас строгость герцогини"».
Жертва госпожи д'Онуа и предусмотрительный шёпот королевы были вовсе не лишними в этом дворце, где каждое слово, каждый жест взвешивались самым пристрастным образом. Однажды королева пригласила к себе заезжего халдейского мага из города Музала (древней Ниневии). Расспрашивая его с помощью переводчика о стране, откуда он прибыл, она поинтересовалась, так ли сурово охраняются женщины в Музале, как и в Мадриде. Её невинное лукавство было возведено камарерой в ранг преступления – она тотчас побежала сообщить об этом королю, который рассердился и нахмурился. Понадобилось несколько дней, чтобы он вновь выказал королеве своё расположение.
В другой раз ночью королева услыхала, что её болонка, которую она очень любила, выходит из комнаты. «Испугавшись, что она не вернётся, она встала, чтобы найти её ощупью. Король, не находя королевы, встаёт в свою очередь, чтобы искать её. И вот они оба посреди комнаты в полной темноте бродят из одного угла в другой, натыкаясь на всё, что лежит у них на пути. Наконец король в беспокойстве спрашивает королеву, зачем она встала. Королева отвечает, что для того, чтобы найти свою болонку. "Как, – говорит он, – для несчастной собачонки встали король и королева!" И в гневе он ударил ногой маленькое животное, которое тёрлось у его ног, и думал, что убил его. На её визг королева, которая очень любила её, не могла удержаться, чтобы не начать очень кротко жаловаться, и вернулась, чтобы лечь в постель, очень опечаленная» (записки госпожи д'Онуа).
Утром король поднялся озабоченный и угрюмый и, ни словом не обмолвившись с королевой, уехал на охоту. Под вечер, когда Мария‑Луиза ожидала его возвращения возле окна, опершись на подоконник, камарера‑махор строгим тоном отчитала её и прибавила, что «не подобает испанской королеве смотреть в окна».
Вообще, можно было подумать, что камарера намеренно истязает королеву. Мария‑Луиза привезла из Франции двух попугайчиков, говоривших по‑французски, за что король их возненавидел. Камарера, желая угодить королю, свернула им шеи. Однако по странной прихоти судьбы именно казнь этих беззащитных существ послужила причиной падения грозной тюремщицы. И роль богини мщения на этот раз была отведена Марии‑Луизе. Когда при их следующей встрече герцогиня склонилась перед ней, чтобы поцеловать её руку, -королева, ни слова не говоря, влепила ей две крепкие пощёчины. Это было оскорбление почти от равного равному. Старуха, владевшая несколькими провинциями в Испании и королевством в Мексике, чуть не задохнулась от ярости. В сопровождении четырёхсот дам самого высокого происхождения она явилась к королю требовать возмездия. Выслушав её, Карлос II послушно отправился бранить виновную. Но грозное нашествие было остановлено одной из тех счастливых хитростей, которые приходят на ум женщинам в минуты опасности. Мария‑Луиза прервала речь короля, сказав с видом оскорблённого достоинства:
– Государь, это была прихоть беременной женщины.
При этих словах гнев короля сменился ликованием. Он одобрил пощёчины, найдя, что они были даны очень ловко, и объявил, «что если двух ей недостаточно, то он разрешает дать герцогине ещё две дюжины». В ответ на протесты и жалобы герцогини Терра‑Нова Карлос произносил только: «Молчите, эти пощёчины – прихоть беременной женщины». Прихоти беременных имели в Испании силу закона. Даже если беременная крестьянка желала видеть короля, он выходил для неё на балкон.
Мария‑Луиза, решив до конца использовать выгоды своего положения, попросила у короля увольнения герцогини от должности. Такая просьба была беспримерна. Никогда королева Испании не сменяла своей камареры‑махор. Но радость короля от ожидания появления наследника была столь велика, что Карлос пошёл на этот шаг, граничащий со святотатством. Надо отдать должное герцогине – она восприняла этот удар с надменностью патрицианки, сумев напоследок преподнести ещё один урок королевского величия своей повелительнице. Госпожа д'Онуа запечатлела её прощание с Марией‑Луизой в следующих словах: «Её лицо было ещё более бледно, чем обычно, глаза сверкали ещё страшнее. Она приблизилась к королеве и сказала ей, не выражая ни малейшего сожаления, что ей досадно; что она не смела служить ей так хорошо, как хотела бы. Королева, доброта которой была беспредельна, не могла скрыть своей растерянности и умиления, а так как она обратилась к ней с несколькими обязательными словами утешения, та прервала её и с надменным видом заявила, что королеве Испании не подобает плакать из‑за таких пустяков; что та камарера‑махор, которая заступит на её место, конечно, лучше исполнит свой долг, чем она, и, не вступая в дальнейшие разговоры, взяла руку королевы, сделала вид, что поцеловала её, и удалилась». Но, выйдя из комнаты, она не смогла удержать своего бешенства и изломала китайский веер, лежавший на столе.
Герцогиня Альбукерк, новая камарера‑махор, была женщиной лет пятидесяти, столь же безобразная лицом, как и её предшественница. Она носила на голове маленькую повязку из чёрной тафты, которая спускалась ей до бровей и так крепко сжимала лоб, что глаза её всегда припухали. Излишняя суровость была ей чужда. Кротость её нрава простиралась до того, что она позволила Марии‑Луизе ложиться спать не раньше половины одиннадцатого и смотреть в окна. Госпожа де Виллар иронически прославляет эти победы: «Со времени смены камареры‑махор все чувствуют себя прекрасно. Воздух дворца совсем переменился. Теперь мы – королева и я – смотрим сколько нам угодно в окно, в которое только и видно, что большой сад женского монастыря… Вам трудно себе представить, что юная принцесса, родившаяся во Франции и воспитанная в Пале‑Рояле, может это считать удовольствием; я делаю всё, чтобы заставить её ценить это удовольствие больше, чем сама ценю его… Уныние дворца ужасно, и я иногда говорю королеве, входя в её комнату, что мне кажется, будто его чувствуешь, видишь, осязаешь, так густо оно разлито кругом. Тем не менее я не упускаю случая, чтобы постараться убедить её в том, что с этим нужно свыкнуться или, по крайней мере, постараться как можно меньше чувствовать его». Ирония, звучащая в словах госпожи де Виллар, говорит о том, что и эти две женщины уже переставали понимать друг друга.
Герцогиня Терра‑Нова ещё раз появилась во дворце несколько месяцев спустя после своей отставки, чтобы поблагодарить королеву за вице‑королевство, пожалованное её зятю. Бывшая камарера, войдя в апартаменты королевы, казалась вначале несколько смущённой. Она извинилась, что многие болезни и недомогания мешали ей так долго посещать дворец, и прибавила:
– Я должна признаться вашему величеству, что я даже не знала, смогу ли я пережить горе разлуки с вами.
Жалобный рык, вырвавшийся из пасти дракона, произвёл бы меньше впечатления, чем это признание. Мария‑Луиза на минуту остолбенела. Придя в себя, она смогла только сказать, что всё это время осведомлялась о здоровье герцогини, и затем переменила тему. Королева не могла не заметить, что вся ненависть герцогини Терра‑Нова теперь сосредоточена на своей сопернице. Бывшая камарера «от времени до времени поглядывала на герцогиню Альбукерк так, как будто хотела сожрать её, а герцогиня Альбукерк, глаза которой были нисколько ни более красивы, ни более мягки, тоже искоса посматривала на неё, и обе они изредка обменивались кислыми словами» (госножа д'Онуа).
Было ли признание герцогини Терра‑Нова лицемерием? Если да, то следует признать, что в устах людей с подобным характером лицемерие почти равняется раскаянию.
VII
Одиночество не оставляло не только Марию‑Луизу, но и Карлоса. Оно, словно сфинкс, день за днём вновь и вновь задавало им одну и ту же бессмысленную загадку, на которую заведомо не было ответа. Любовь только на одно мгновение вырвала разум короля из тьмы безумия. Радости медового месяца постепенно блекли в его душе, а раскрывшаяся хитрость королевы в истории с пощёчинами ещё более охладила их отношения. Бесплодие приводило Карлоса в отчаяние. Великая империя погибала его слабостью, династия угасала в нём.
Иностранные государи не сомневались, что испанский трон останется без наследника. Упустить такой случай не хотел никто, и вскоре целый рой претендентов начал вербовать сторонников при мадридском дворе. Позиции французской партии были ослаблены внезапной смертью дона Хуана, случившейся ещё в разгар приготовлений к свадьбе Карлоса II. Мария‑Анна, как освобождённый демон, ринулась тогда из Толедо в Мадрид, чтобы расстроить свадьбу, но прибыла в столицу слишком поздно, когда венчание уже состоялось. Теперь королева‑мать вновь возглавляла австрийскую партию, затаив глухую ненависть против Марии‑Луизы, воплощавшей собой права Франции по отношению к испанскому трону. Мадридский двор сделался самым таинственным и опасным местом Европы. Цели, преследуемые там честолюбцами со всего света, диктовали и соответствующие средства: шпионство, доносы, клевету, яд.
Подобно любому из своих подданных, Карлос презирал все другие нации. Францию, ограбившую его в войнах, он ненавидел. Когда же Людовик XIV стал претендовать на его наследство, ненависть Карлоса ко всему французскому приняла маниакальные формы. Однажды французский нищий подошёл к карете Марии‑Луизы, чтобы попросить милостыню, – король приказал убить его на месте. В другой раз два голландских дворянина, одетые по французской моде, почтительно поклонились королевской карете – им было дано понять со стороны короля, чтобы они впредь остерегались при встрече с их величествами становиться со стороны королевы и с ней раскланиваться. Галлофобия короля распространялась даже на животных. Мария‑Луиза не смела при нем ласкать своих собачек, так как он не переносил этих животных, привозимых из Франции, и всегда кричал на них: «Прочь! Прочь! Французские собаки!»
Мысль завещать своё королевство иностранцам была для него непереносима. Вскоре Карлос впал в меланхолию ещё более чёрную, чем до женитьбы. Наследственное отвращение к людям, соединённое со стыдом за свой позор и мономанией безумца, заставляло его искать уединения. Единственным его удовольствием стала охота, которая давала возможность надолго покидать двор.
«Король, – пишет госпожа д'Онуа, – брал обыкновенно с собой на охоту только первого конюшего и великого ловчего. Он любил оставаться один в этих пустынных просторах и иногда заставлял себя подолгу искать». Окрестности Эскориала притягивали Карлоса, как пустыня притягивает аскета. Впрочем, это и была настоящая пустыня: сожжённая солнцем земля, обнажённые горы, серые скалы, каменистые овраги. Видимо, бесплодие природы как‑то заставляло его забыть своё собственное. Отсюда Карлос послал однажды королеве чётки в ларце из филигранного золота, с запиской, которая стоит иной поэмы: «Сударыня, сегодня сильный ветер, и я убил шесть волков».
Проходили годы, но королева не становилась матерью. Ни обеты, ни паломничества, ни подношения мадоннам не могли сотворить чуда, и печаль короля превратилась в мрачное безумие. Мысль о наговоре неотступно преследовала его, она одна всё объясняла, всё оправдывала и подавала надежду на спасение после преодоления злых чар. Королю пришло в голову, что графиня де Суассон, приехавшая в это время в Мадрид, колдовством лишила его возможности иметь детей. Олимпия Манчини, графиня де Суассон была племянницей кардинала Мазарини. Воспитывавшаяся вместе с Людовиком XIV, она первая привлекла его взгляды, но также первая узнала и ветреность короля. Брак с одним из принцев не мог утешить её, и для того, чтобы вернуть себе благорасположение короля, она воспользовалась услугами колдуньи.
Это была эпоха, когда воображение парижан взбудоражил ряд таинственных смертей, связанных с «порошком наследства». Некий итальянец Экзили, занимающийся поисками философского камня, обнаружил яд без наружных следов действия. Его ученик Сент‑Круа уговорил маркизу де Бренвилье, свою любовницу, попробовать этот яд на её отце, судье д'Обре, который препятствовал их связи. Затем настал черёд обоих её братьев и сестры – уже из‑за богатого наследства. Но чудовищнее всего оказалось то, что маркиза и её любовник вскоре стали класть яд в паштеты из голубей и потчевать ими своих гостей и сотрапезников – просто для развлечения.
Известная в Париже гадалка Ла Вуазен также воспользовалась изобретением и начала не только предсказывать наследникам смерть богатых родственников, но и способствовать ей. Несколько священников помогали ей в этом деле, весьма своеобразно причащая больных. Они продавали ядовитые снадобья и служили молебны об успехе отравления перед распятием, поставленным вверх ногами. Семидесятилетний священник Гейбург изобрёл другой знаменитый яд «avium risus» («смех птиц»), от которого умирали в припадке безудержного смеха, так как у отравившегося им возникала подъязычная опухоль.
Страх парализовал Париж. Отцы семейств закупали припасы и сами готовили пищу в какой‑нибудь грязной харчевне, чтобы не стать жертвой предательства в собственном доме. Вскоре зараза распространилась по всей стране, всюду находили трупы людей, умерших внезапно, без всякой видимой причины. Казалось, вся Франция разделилась на отравителей и отравляемых.
Король учредил особую Огненную Палату для расследования этих преступлений. Случай помог открыть истину. Сент‑Круа погиб при взрыве реторты с отравленной жидкостью. Поскольку у него не было наследников, его имущество опечатали. В одном из ящиков бюро судебные исполнители обнаружили целый арсенал ядов, а в другом – письма маркизы де Бренвилье, полностью изобличавшие обоих.
Маркиза была обезглавлена, Ла Вуазен исчезла в подвалах Огненной Палаты. Однако для дальнейшего расследования король был вынужден создать тайную комиссию, поскольку оказалось, что в деле замешаны самые высокопоставленные лица. Впрочем, все они покинули Огненную Палату с гордо поднятой головой. Ла Вуазен увлекла за собой на хвосте ведьмовского помела одну графиню де Суассон. Колдунья показала, что графиня около тридцати раз приходила к ней и требовала приготовить любовный напиток, который позволил бы ей возвратить симпатии его величества. Не довольствуясь этим, она носила к ведьме волосы, ногти, чулки, рубашки, галстуки короля для изготовления любовной куклы, с тем чтобы произнести над ней заклятия. Графиня принесла даже капли крови Людовика XIV, подкупив за огромную сумму королевского лекаря. Замаранная показаниями отравительницы, Олимпия поспешно бежала и остаток своей жизни провела, странствуя по Европе, точнее, изгоняемая из одного города в другой.
Когда она появилась при испанском дворе, слава колдуньи всё ещё прочно держалась за ней. Карлос приказал ей вернуться во Фландрию, но графиня де Суассон имела поддержку в австрийской партии, которая, возможно, и вызвала её в Мадрид. Чтобы отвести от неё подозрения короля, Мария‑Анна при помощи Церкви решила «доказать», что наговор исходит не от кого‑нибудь, а от самой Марии‑Луизы. Эта адская комедия должна была привести к разрыву с королевой. И если бы граф де Рабенак, сменивший де Виллара на должности французского посланника в Мадриде, не сорвал вовремя маски с обманщиков, их дело было бы сделано. Вот что он рассказывает Людовику XIV об этом деле:
«Некий доминиканский монах, друг исповедника короля, имел откровение, что король и королева околдованы; я должен заметить, между прочим, Ваше Величество, что испанский король уже давно полагает, что он околдован, и именно графиней де Суассон. Был поставлен вопрос о том, чтобы снять колдовство, если только наговор был сделан после брака; если же он был сделан до, то нет никакого средства к его устранению. Церемония эта должна была быть ужасной, потому что, Ваше Величество, и король и королева должны были быть совсем обнажены. Монах, одетый в церковные облачения, должен был совершить заклинания, но самым гнусным образом, а затем, в присутствии же монаха, они должны были убедиться в том, снят ли наговор на самом деле. Королева была настойчиво принуждаема королём дать согласие на это, но никак не могла решиться. Всё это происходило в большой тайне, и я не знал ничего об этом, когда получил записку без подписи, предупреждавшую меня, что, если только королева даст согласие на то, что предлагает этот монах, – она погибла и что западня эта устроена ей графом Оропесой28. Предполагалось вынести заключение, что королева была околдована ещё до брака; он, следовательно, становится не имеющим силы, или, по крайней мере, сама королева стала бы ненавистной королю и народу. А так как все такие козни, даже самые чёрные, обнаруживаются такого рода путём, то отец‑исповедник королевы и я, мы направили все усилия, чтобы исследовать это дело. Прежде всего мы узнали от самой королевы о том, что происходит, и она приняла свои меры предосторожности. Затем мы узнали, что вопрос был уже поставлен некоторым теологам, и что кое‑кто из них уже высказался в смысле незаконности брака. В конце концов, Ваше Величество, это было ужасное дело и опасная западня для королевы, и мы не нашли более верного пути избежать её, как тайно опубликовать всю историю, и с тех пор король Испании больше не вспоминает о ней…».
Судьба уберегла Марию‑Луизу от последней отвратительной церемонии, но на этом её милости были исчерпаны. В начале следующего 1689 года барселонский колокол, которому народ предписывал пророческий голос, стал звонить сам собой заупокойным звоном. А летом внезапная смерть унесла Марию‑Луизу. Наговор, которого страшился король, пал на королеву.
VIII
Ещё раньше жизни Марии‑Луизы уже дважды угрожала опасность, причём оба случая были связаны с повелительным девизом этикета: не касайтесь королевы! «Если бы королева оступилась и упала, – разъясняет его суть госпожа д'Онуа, – и если бы около неё не оказалось ее дамы, чтобы её поднять, хотя бы вокруг стояло сто царедворцев, то ей пришлось бы подняться самой или оставаться на земле весь день скорее, чем кто‑нибудь решился бы помочь ей встать».
Далее госпожа д'Онуа рассказывает, что в первый раз королева едва не убилась на охоте. Этикет требовал, чтобы она прыгнула на коня из дверей кареты, не касаясь земли. В момент прыжка лошадь оступилась, и королева упала с размаху на землю. «Когда король присутствует, то помогает ей он, но никто другой не смеет приближаться к королевам Испании, чтобы до них дотронуться и помочь сесть в седло. Предпочитают, чтобы они подвергали опасности свою жизнь или рисковали расшибиться».
В другой раз Мария‑Луиза впервые села на андалузскую лошадь во дворе дворца. Животное взвилось на дыбы, королева упала, и её нога запуталась в стремени. Лошадь потащила её за собой, грозя разбить голову о плиты. «Король, который видел это с балкона, был в отчаянии, а двор был переполнен аристократией и стражей, но никто не решился прийти на помощь королеве, потому что мужчинам не дозволено её касаться, и особенно её ноги, если только это не первый из её прислужников, надевающий туфли: нечто вроде сандалий, которые дамы надевают поверх башмаков, что очень увеличивает их рост. Королева опирается также на своих менинов во время прогулки; но это были дети, слишком малые для того, чтобы спасти её от опасности, в которой она находилась».
Наконец два дворянина, дон Луис де Лас‑Торрес и дон Хаиме де Сото‑Махор, отважно бросились на эту арену этикета. Один схватил лошадь за узду, а другой освободил ногу королевы из стремени. «Не промедлив ни секунды, оба выбежали, бросились к себе и приказали быстро оседлать коней, чтобы бежать от гнева короля. Молодой граф Пенеранда, их друг, приблизился к королеве и почтительно сказал ей, что те, кто имел счастье спасти ей жизнь, подвергаются смертельной опасности, если только она милостиво не будет заступничать за них перед королём. Король, торопливо спустившийся для того, чтобы увидать, в каком состоянии она находится, выразил крайнюю радость, что она не ранена, и весьма хорошо принял её ходатайство за этих благородных преступников».
И всё же смерть поражает людей только через их самую сильную любовь. Словно в насмешку над её трагической судьбой, Марии‑Луизе было уготовано умереть вследствие страстной привязанности к родине, от руки соотечественницы, ощутив вкус смерти на краях зловещего кубка, как некогда в монастыре кармелиток. Она впустила убийцу в свои покои, как заворожённая.
Вот что говорит об этом Сен‑Симон в своих «Мемуарах» – энциклопедии интриг своего времени:
«Граф Мансфельд был посланником австрийского императора в Мадриде, и графиня де Суассон вступила с ним по приезде в интимную дружбу. Королева, которая дышала только Францией, возымела страстное желание её увидеть; испанский король, который уже был много наслышан о ней и к которому с некоторого времени стали часто доходить слухи, что королеву собираются отравить, с великою трудностью согласился на это. В конце концов он позволил, чтобы графиня де Суассон иногда приходила к королеве после обеда по потайной лестнице, и та принимала её наедине вместе с королём. Посещения эти учащались и всё время с тем же отвращением со стороны короля. Он, как милости, просил у королевы никогда не дотрагиваться ни до какой пищи, которой бы он не отведал или не выпил первый, потому что он хорошо знал, что его не хотят отравить. Было жаркое время; молоко – редкость в Мадриде; королева его захотела, а графиня, которая мало‑помалу начала оставаться с ней наедине, стала ей хвалить превосходное молоко и обещала ей доставить его прямо со льдом. Утверждают, что оно было приготовлено у графа Мансфельда. Графиня де Суассон принесла его королеве, которая его выпила и умерла несколько часов спустя, как её мать. Графиня де Суассон не дожидалась исхода и заранее сделала приготовления к бегству. Она недолго теряла время во дворце, после того как увидела, что королева выпила молоко. Она вернулась к себе, где её вещи были увязаны, не смея больше оставаться ни во Фландрии, ни в Испании. Как только королева себя почувствовала нехорошо, все поняли, что она выпила и чьих рук это дело. Испанский король послал к графине де Суассон, которой уже не оказалось дома. Он отправил за ней погоню во все стороны, но она так хорошо заранее приняла меры, что ускользнула».
Возможно, впрочем, что Сен‑Симон передаёт лишь устоявшуюся версию событий. Он опирался на сведения, которые получил во время своего испанского посольства тридцать лет спустя после смерти королевы. Очевидцы же преступления теряются в умозаключениях и умолчаниях, их обвинения спутаны и противоречат одно другому.
Французский посланник, извещая Людовика XIV о смерти его племянницы, выражает вначале лишь еле заметные подозрения. «Курьер, – докладывает он, – принесёт Вашему Величеству самое печальное и самое прискорбное из всех известий. Королева испанская скончалась после трёх дней непрерывных болей и рвоты. Один Бог, государь, ведает причины этого трагического события. Ваше Величество знает по многим письмам о тех печальных предвестиях, которые я имел об этом. Я видел королеву за несколько часов до её смерти. Король, её супруг, дважды отказывал мне в этой милости. Она сама потребовала меня и с такой настойчивостью, что меня пропустили. Я нашёл, государь, на её лице все знаки смерти; она их сознавала и не была ими испугана. Она держалась как святая по отношению к Богу и героиня по отношению к миру. Она мне приказала уверить Ваше Величество, что, умирая, она оставалась, так же как была при жизни, самым верным другом и слугой, которого Ваше Величество имели когда‑нибудь».
Тем не менее посланник пытался обследовать следы недуга на теле умершей, но таинственные запрещения и надёжная стража помешали ему сделать это. Он хотел присутствовать при вскрытии тела – его требование было отвергнуто; он поставил у порога комнаты, где проводилось вскрытие, своих хирургов и поручил им проникнуть за дверь и исследовать труп сразу же, как только тело вскроют, но дверь оказалась неприступной, словно стена.
Несколько дней спустя подозрения посланника крепнут, и он сообщает Людовику XIV имена целой группы виновных. «Это, государь, граф Оропеса и дон Эммануэль Лира. Мы не включаем сюда королевы‑матери; но герцогиня Альбукерк, главная фрейлина королевы, держала себя столь подозрительно и выражала столь большую радость в то самое время, когда королева умирала, что я не могу глядеть на неё иначе, чем с ужасом, а она – преданная креатура королевы‑матери». Он называет еще Франкини, врача королевы, который теперь избегает его, как бы опасаясь его взгляда. «Поэтому, государь, поведение его мне кажется подозрительным. Я знаю сверх того, что он говорил одной особе, из числа его друзей, что при вскрытии тела и в течение болезни он действительно заметил необычные симптомы, но что он рискует жизнью, если бы стал говорить об этом, и что всё случившееся заставляет его уже давно страстно желать отставки… Теперь публика убедилась в отравлении и никто в этом не сомневается; но зловредность этого народа столь велика, что многие его одобряют, потому что, говорят они, королева не имела детей, и рассматривают преступление как государственный переворот, заслуживающий их одобрения… К сожалению, слишком верно, государь, что она умерла насильственной смертью».
Во Франции не сомневались в преступном умысле по отношению к Марии‑Луизе. Людовик XIV официально объявил об отравлении королевы испанской. Это случилось за ужином, когда король, по обыкновению, произносил самые веские свои слова. Однако, кажется, у него был другой источник, кроме посланника в Мадриде. В дневнике одного из придворных читаем: «Король сказал за ужином: "Испанская королева была отравлена пирогом с угрями; графиня Паниц, служанки Цамата и Нина, отведавшие после неё, умерли от той же отравы"». Королевские слова переходили из уст в уста, множа подозрения и обвиняемых. Говорили, что дело «весьма попахивает костром», то есть искали колдовство, обвиняли какого‑то герцога де Пастрона, якобы дурно говорившего о королеве, и австрийского посланника графа Мансфельда; передавали, будто Мария‑Луиза сообщала Месье29 о своих подозрениях и что герцог Орлеанский послал ей противоядие, которое прибыло в Мадрид на следующий день после смерти королевы…
Всё казалось правдой, и всё могло быть правдой. Возможно, ближе всех к истине была одна из дам французского посольства, госпожа де Лафайет, чьи слова звучат как эпитафия: «Испанский король страстно любил королеву; но она сохраняла к своей родине любовь слишком сильную для такой умной женщины».
Некогда госпожа де Лафайет оказалась свидетельницей смерти матери Марии‑Луизы, Генриетты. Теперь она оказалась очевидицей и смерти дочери. Она оставила нам свидетельство трогательного сходства последних минут обеих жертв.
Английский посланник, призванный к смертному ложу бывшей английской королевы, спросил её, не отравлена ли она. «Я не знаю, – говорит госпожа де Лафайет, – ответила ли она утвердительно, но я хорошо знаю, что она его просила ничего не сообщать её брату королю, чтобы избавить его от этого горя, и особенно позаботиться о том, чтобы он не захотел мстить…»
Испанская королева была так же кротка перед лицом смерти, как и её мать, свидетельствует госпожа де Лафайет. «Королева просила французского посланника уверить Месье, что она, умирая, думала лишь о нём, и бесконечное число раз повторяла ему, что она умирает естественною смертью. Эта предосторожность, ею принятая, очень увеличила подозрения, вместо того чтобы их уменьшить».
Мученица трона, она и на пороге смерти не произнесла ни одного проклятия своим мучителям. Святое молчание увенчало безмолвную жертву, которой была её жизнь. Мир праху твоему, бедная королева!
IX
Мария‑Луиза унесла с собой ту тень разума, тот проблеск духа, который ещё сохранял Карлос II. Все прежние развлечения – охота, бой быков, аутодафе – стали ему неприятны. Король запирался ото всех в своём кабинете или бродил с утра до ночи по песчаной пустыне вокруг Эскориала. Остальное время он посвящал ребяческим играм или ребяческим подвигам веры. Он любовался редкими животными в зверинце, а ещё больше – карликами во дворце. Если ни те, ни другие не разгоняли чёрных мыслей, клубившихся у него в голове, он читал Ave или Credo30, ходил с монашескими процессиями, иногда морил себя голодом, иногда бичевал. Его физический упадок в последние годы жизни принял характер разложения; в тридцать восемь лет он казался восьмидесятилетним стариком. Портрет той эпохи рисует его почти трупом: провалившиеся щеки, безумные глаза, свисающие редкие волосы, судорожно сжатый рот… Его желудок перестал переваривать пищу, потому что из‑за уродливого строения челюсти он не мог её пережёвывать и глотал куски целиком. Лихорадки терзали его ещё сильнее, чем в детстве. Через каждые два дня на третий конвульсивная дрожь, упадок сил, приступы бреда, казалось, предвещали близкий конец.
Однако жизнь теплилась в нём еще десять лет. Его даже женили вновь, но этот брак без всякой надежды на потомство был простой политической махинацией. Его вторая жена Мария‑Анна Нейбургская, преданная Австрии, деятельно поддерживала права австрийского эрцгерцога Карла на испанское наследство.
Другими претендентами на трон были сын баварского курфюрста, опиравшийся на королеву‑мать, изменившую к тому времени собственному роду, и герцог Анжуйский, внук Людовика XIV.
Карлос видел себя окружённым людьми, ожидающими его смерти. Ни одно средство воздействия на его пораженный разум не было забыто заговорщиками, ни один ужас домашних раздоров не миновал его. Безумие короля пытались обратить против его же родных. При дворе вновь запахло серой. Королеву‑мать едва не сразило то же оружие, которым она несколько раз пыталась воспользоваться сама. Исповедник Карлоса, подкупленный австрийской партией, вызвал дьявола в присутствии короля и заставил нечистого признаться в том, что болезнь Карлоса происходит от чашки шоколада с порошком из человеческих костей, данной ему королевой‑матерью четырнадцать лет назад. Чтобы излечиться от колдовства, король должен был каждое утро пить освящённое масло, австрийский император Леопольд рекомендовал ему воспользоваться услугами знаменитой венской чародейки.
Королева‑мать всполошилась и призвала на помощь инквизицию. Великий инквизитор взамен на обещание кардинальской шапки арестовал исповедника как подозреваемого в ереси за суеверие и виновного в принятии учения, осуждаемого Церковью, поскольку тот оказал доверие дьяволу, воспользовавшись его услугами. Богословы, однако, заявили о том, что поведение исповедника с церковной точки зрения беспорочно, и монах был отпущен. Дело замяли, но Карлос никогда не смог оправиться от этого кошмара.
Только народ, столь же безумный в своей любви, как и в ненависти, оставался верен своему королю. Безумный взгляд Карлоса принимали за взор духовидца, а его телесные немощи лишь увеличивали преданность: народы любят тех государей, которых жалеют, они прощают всё тем, кто не ведает, что творит. Безумие защищало его от любых обвинений. Тем не менее однажды, во время голода, народ ворвался во двор Буен‑Ретиро и потребовал короля. Мария‑Анна вышла на балкон и сказала, что король спит. «Он спал слишком долго, – ответил ей голос из толпы, – теперь время ему проснуться». Тогда королева ушла со слезами, а через несколько минут появился Карлос. Совершенно обессилевший, он едва дотащился до окна и приветствовал свой народ, шевеля губами. Наступило потрясённое молчание… Мгновение спустя раздались крики любви. Выразив свою радость, толпа мирно разошлась.
У каждого из королей этой династии наступал момент, когда ужас смерти сменялся болезненным любопытством к ней. Самый отдалённый предок Карлоса II Карл Смелый31 наслаждался её видом, впадая в мрачное исступление. «Вот прекрасное зрелище!» – говорил он, въезжая в церковь, заполненную трупами осаждённых. Иоанна Безумная, мать основателя Испанской империи Карла V32, таскала за собой на носилках по всей Испании забальзамированный труп своего мужа. Она бдила над ним в течение сорока лет, кладя вместе с собой на ложе. Карл V в монастыре Святого Юста устраивал репетиции собственных похорон. Филипп II за несколько часов до смерти приказал принести череп и возложил на него свою корону. Отец Карлоса II спал в гробу.
Что за демон звал их, чьё проклятие тяготело над ними, какой груз давил на их души? Карлос II в свою очередь подчинился этому зову небытия, слышимому им с детства чётче всех земных звуков. Последний испанский Габсбург завершил своё царствование странным поступком – он пожелал увидеть всех своих предков.
Гробница испанских королей, называемая Пантеоном, помещается в центре Эскориала, под главным алтарем часовни. В Пантеон ведёт лестница из тёмного мрамора. Спускаясь по ней, оказываешься в восьмиугольной зале длиной десять метров и высотой двенадцать. Она совершенно пуста, только возле одной из стен возвышается престол с бронзовым распятием, и огромная люстра спускается прямо со свода. В отделанных яшмой стенах находятся ниши с гробницами: направо лежат короли, налево королевы. Ледяной блеск разлит повсюду, могильный холод проникает в самое сердце. Ни украшения, ни знаки не отмечают гробниц. К чему они? В течение последних двух веков Испания имела одного короля в четырёх лицах.
Шатающейся походкой, бледный как мертвец, Карлос спустился туда и приказал открыть все гробы. Карлос I предстал перед ним почти совсем разложившийся. Голова сохранилась лучше тела – испортилось лишь одно веко и ввалились ноздри, клочки рыжих волос еще держались на скуле. Филиппа II смерть словно смягчила – в нём не было ничего зловещего. Филипп III сначала явился чудесно сохранившимся, но воздух земли оказался убийственным для мертвеца – он распался на глазах у внука. Зато Мария‑Анна Австрийская, умершая совсем недавно, казалось, была готова проснуться. Карлос холодно поцеловал её руку.
Король был бесстрастен и молчалив, созерцая тех, кому было суждено умереть вместе с ним навсегда. Он не испытывал к ним ни страха, ни любопытства, как бы уже ощущая себя одним из них. Но при виде Марии‑Луизы сердце короля разбилось, и он со слезами упал на её гроб, покрывая её тело исступлёнными поцелуями любви – той любви, которая вовеки сильнее смерти.
– Моя королева, моя королева! – восклицал он среди рыданий. – Она с Богом, и я скоро буду вместе с нею!
Его пророчество сбылось несколько месяцев спустя. Он умер в 1700 году, завещав Испанию герцогу Анжуйскому33.
Пьетро Аретино, или Счастливец
Сегодня этот человек практически забыт. А между тем это одна из тех фигур, в ком воплотился Ренессанс. Современники называли его божественный Пьетро, несравненный Аретино, а сам себя он величал «Божьей милостью, свободный человек».
Тициан написал с него один из лучших своих портретов, запечатлев Аретино в зените славы, когда к его слову прислушивался весь мир, когда могущественные государи ждали от него писем с несравненно большим вожделением, чем от своих возлюбленных. Он смотрит на нас во всём своём величии и дородстве, облачённый в роскошный и тяжёлый наряд, с массивной золотой цепью на широких плечах – даром французского короля Франциска I.
Секрет его всемирной известности состоял в том, что в истории новых времен он первый своим пером нажил невероятное богатство и завоевал обширное влияние. Проще говоря, «сделал себя сам» в сословном обществе, не признававшем иных заслуг, кроме происхождения.
Сын бедного сапожника и беспутной красавицы, он провёл свои детские годы почти в нищете. Из всех писателей Возрождения он единственный не получил сколько-нибудь серьёзного образования и даже не выучился латыни. Зато бедность научила его другим премудростям – науке обращения с людьми и искусству извлекать из них пользу.
В Рим он явился уже в свите богатого и влиятельного покровителя, которого тотчас сменил на покровителя ещё более состоятельного и могущественного – знаменитого мецената, друга Рафаэля, банкира Агостино Киджи. Но и это была всего лишь ступенька на пути восхождения к славе. Вскоре на него обратил внимание сам папа Лев X, ценивший людей, способных его развлечь. А к этому занятию у Аретино был природный талант, причём он умел развлекать словом не хуже, чем делом. Недаром восторженный современник величал его «храмом поэзии, театром находчивости, лесом слов и морем сравнений».
Среди множества причудливых титулов, какими тешил себя сам Аретино, или ублажали его тщеславие завзятые льстецы, два особенно выразительны: «бич властителей» и «секретарь Вселенной». Задолго до Вольтера он с успехом играл ту же общественно-историческую роль оценщика деяний правительств и организаций, поступков государей и частных лиц. Аретино был первый, кому пришло в голову опубликовывать собственные письма, первый, кто создал себе славу составлением анонимных листков с негодующими эпиграммами, политическими выпадами и всевозможными злостными стишками. Товар этот имел хороший сбыт. Эти листки также прикрепляли к пьедесталу сильно изувеченного античного торса, стоявшего недалеко от пьяцца Навона и прозванного окрестными жителями по имени соседнего цирюльника – Пасквино. Очень быстро они получили название пасквинады или пасквили. Аретино стал общепризнанным мастером этого жанра.
Конечно, его звезда могла блистать только над тем миром, где репутация и честь не являются пустыми понятиями. Его остроумного злословия так боялись, что знатные господа стремились не навлекать на себя ни его насмешек, ни его гнева. Более того, ему старались услужить и любыми средствами добиться его расположения. Разумеется, благосклонность такого человека имела свою цену. Подарки и награды он принимал, как дань, невыплата которой грозила серьёзной карой – обнародованием остроумного ядовитого письма со всей подноготной о скупце, будь это король или сам Святейший Отец, опоздавший выслать перстень с собственной руки, или очередную тысячу червонцев. Денег ему никогда не хватало, он только и делал, что просил их, требовал, клянчил и вымогал.
Папа Лев Х смотрел на его выходки сквозь пальцы, суровый Адриан VI чуть было не распорядился заткнуть рот пасквилянту, но весьма кстати умер. Климент VII поначалу проявил снисходительность к скандалисту, несмотря на то что Аретино оказался автором ходивших по рукам непристойных сонетов, сочинённых в качестве пояснения к порнографическим гравюрам, исполненным по рисункам Джулио Романо. (Надо заметить, что только в них, да ещё в «Разговорах», полных столь же откровенных непристойностей, как и стихи, заключается вся посмертная слава Аретино.)
Иоанна Мария ван дер Гейнст, любовница императора Священной Римской империи Карла V (1500–1558), в одном письме к своей ближайшей подруге писала следующее:
«Мы с императором провели минувшую неделю в цитировании сонетов Аретино – вы понимаете, о чём я? Да-да, мы читали его сонет и делали всё так, как там написано. А Карл при соитии ещё и громко произносил слова сонета:
"Пусть меня обзовут дураком за дело:
Хоть и вся в моей, госпожа, вы власти,
А мой уд – в вашем лоне, но бурей страсти
Его сносит к попочке то и дело… "
А я ему отвечала:
"Важно ль, с какого входа ты вошёл —
Моя похоть разогрета.
И все уды, что родила природа,
Не зальют во мне пожарище это…"
Или у нас был такой диалог.
Я кричала в порыве страсти:
"Ах, хорош! Ищи – не найдёшь крупнее,
Покажи-ка его в настоящей силе!"
А Карл продолжал цитировать:
"Я боюсь причинить вам страданья… Или?
Вы правы, госпожа моя!
Тот воин, что ребячьим дротиком
в чрево метит, ледяной лишь клизмы, подлец, достоин.
Пусть уж лучше мальчиков он валетит.
Только тем, кто крепок и щедро скроен,
как вот я, жемчужина лона светит".
Я ему в ответ:
"Повали же меня поскорее, дерзостным стань титаном,
овладей трепещуще-ждущим телом…"
(Пер. О. Неверова).
Ценителей такого рода литературного творчества в Ватикане было полно. А вот упорное пристрастие Аретино к золоту французского короля (а как иначе, если император проявляет скупость?) кончилось двумя ударами кинжалом прямо на улице. К счастью, Аретино остался жив. Оправившись от ран, он решил расстаться с Римом. Это решение пошло на пользу его здоровью: в страшном 1527 году Рим был подчистую разграблен войсками императора Карла V и завален трупами горожан.
Началась пора скитаний, которые, впрочем, можно сравнить с перелётами пчелы с цветка на цветок. Искусство находить щедрых покровителей никогда не изменяло Аретино. За его литературную благосклонность соперничали молодой кондотьер Джованни Медичи и герцог Мантуанский. Аретино поровну оделял их своими капризами. Однажды герцог запоздал с присылкой ему полдюжины кружевных рубашек и был наказан столь язвительным письмом, что поспешил смиренно извиниться, сославшись на то, что монашенки, занятые вязаньем кружев, опоздали к сроку.
После смерти Джованни Медичи, погибшего в сражении с императорскими войсками, Аретино возымел счастливую мысль отправиться в Венецию. Отсюда, из цитадели политической свободы тогдашней Италии, он получил отличную возможность нападать на все правительства (благоразумно исключая олигархат республики Св. Марка).
Здесь, в Венеции, он прожил тридцать лет, в довольстве и почестях, дождавшись подлинного апофеоза своей славы. «Столько людей, – писал он, – добиваются меня видеть, что ступени моей лестницы стерты их стопами, как мостовая Капитолия колёсами триумфальных колесниц». Папа Юлий III присвоил ему звание рыцаря св. Петра и обещал кардинальскую шляпу. Аретино был членом всех учёных обществ и академий, его профиль чеканили на медалях, Тициан удостоил его своей дружбы. А из-под его пера выходили, том за томом, письма, мадригалы, сатиры, комедии и трагедии. Когда же времена и моды начали меняться, он не замедлил превратиться в благочестивого автора «Жития Святой Екатерины», «Страстей Христовых», «Переложения семи покаянных псалмов» и других душеспасительных сочинений. Впрочем, доходы его и без того были навсегда упрочены переходом на службу императора. «Франциск был кумиром моего сердца, – говаривал он, – но огонь на его алтаре погас за недостатком горючего материала».
Свою благодарность гостеприимной республике и щедрому монарху он выразил тем, что назвал своих дочерей (рождённых от разных матерей) Адрией и Австрией.
Взывая всю жизнь к чужой щедрости, он и сам жил широко и не имел привычки считать деньги. Если он покидал свой великолепный дворец, то каждый оборванец, бежавший поглазеть на его расписную гондолу, медленно проплывавшую по венецианским каналам, знал, что на его долю перепадёт серебряная монета, а то и тяжёлый золотой. Двое заезжих купцов однажды по ошибки зашли в его дворец, полагая, что в нём находится харчевня, и потребовали у встретившего их слуги хорошего угощения. Немедленно был накрыт стол, купцы вдоволь поели и попили, а когда спросили счёт, им объявили, что они в гостях, сам божественный вышел к ним и потчевал их до вечера.
Всю жизнь он наслаждался отменным здоровьем, и даже смерть была милостива к нему. Он умер мгновенно, от апоплексического удара (а согласно легенде, захлебнувшись на пиру собственным хохотом).
P. S.
Упомянув в начале поста тициановский портрет Аретино, скажем в заключение ещё об одной картине гениального венецианца – «Се Человек».
Мы видим на ней Спасителя в терновом венце, которого суровый страж выводит из дворца римского прокуратора. Сам Пилат – бородатый здоровяк – стоит справа, указуя на Того, кого народ выбрал для распятия. Образ Пилата списан с божественного Пьетро. Тициан не питал иллюзий в отношении своего любезного приятеля.
Человек с нимбом
В своём всемирно известном жизнеописании «Жизнь Бенвенуто Челлини, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции» автор рассказывает, что однажды, когда ему было пять лет, его отец, сидя у очага с виолой, увидел маленького зверька вроде ящерицы, резвящегося в пламени. Он подозвал Бенвенуто и дал ему затрещину, от которой малыш заревел. Отец быстро осушил его слёзы ласками и сказал: «Сынок мой дорогой, я тебя бью не потому, что ты сделал что-нибудь дурное, а только для того, чтобы ты запомнил, что эта вот ящерица, которую ты видишь в огне, это – саламандра, каковую еще никто не видел из тех, о ком доподлинно известно».
Читая эту книгу, написанную рукой старца, дрожащей не от слабости, но от заново переживаемого гнева или восторга, видишь пламень, пожирающий самого Челлини.
Ярость буквально душит его. От первой до последней страницы он неистовствует, бесится, бранится, громит, обвиняет, рычит, угрожает, мечется – работа, потасовки и убийства лишь ненадолго выпускают из него пар. Ни одна обида, как бы незначительна она ни была, не остаётся неотомщённой, и о каждом возмездии рассказано простодушно и чистосердечно, без капли сожаления и раскаяния.
Удивляться тут нечему – это Италия Борджа и кондотьеров. Тигр не терпит, когда его дергают за усы. Челлини, этот бандит с руками демиурга, пускает в ход кинжал не реже, чем резец. Помпео, золотых дел мастер папского двора, с которым у Челлини были счёты, убит им в Риме прямо на улице. «Я взялся на маленький колючий кинжальчик, – повествует Челлини, – и, разорвав цепь его молодцов, обхватил его за грудь с такой быстротой и спокойствием духа, что никто из сказанных не успел заступиться». Убийство не входило в его намерения, поясняет Челлини, «но, как говорится, бьёшь не по уговору». Какого-то солдата, убийцу своего брата, он выслеживает «как любовницу», пока не закалывает его у дверей кабака ударом стилета в шею. Почтового смотрителя, который не вернул ему после ночлега стремена, он убивает из аркебузы. Работнику, ушедшему от него в разгар работы, он «решил в душе отрезать руку». Один трактирщик возле Феррары, у которого он остановился, потребовал уплаты за ночлег вперёд. Это лишает Челлини сна: он проводит ночь, обдумывая планы мщения. «То мне приходила мысль поджечь ему дом; то зарезать ему четырёх добрых коней, которые у него стояли в конюшне». Наконец «я взял ножик, который был как бритва; и четыре постели, которые там были, я все их ему искрошил этим ножом».
Свою любовницу-натурщицу, изменившую ему с одним из его подмастерьев, он заставлял часами позировать в самых неудобных позах. Когда девушка потеряла терпение, Челлини, «отдавшись в добычу гневу… схватил её за волосы и таскал её по комнате, колотя её ногами и кулаками, пока не устал». На следующий день она снова ласкается к нему… Челлини размякает, но как только его снова «разбередили» – опять беспощадно колотит её. Эти сцены повторяются несколько дней, «как из-под чекана». Кстати сказать, это та самая натурщица, которая послужила ему моделью для безмятежной «Нимфы Фонтенбло».
Здесь я должен напомнить читателю то, что говорится в великолепном предисловии Проспера Мериме к «Хронике царствования Карла IX». «В 1500 году, – пишет Мериме, – убийство и отравление не внушали такого ужаса, как в наши дни. Дворянин предательски убивал своего недруга, ходатайствовал о помиловании и, испросив его, снова появлялся в обществе, причём никто и не думал от него отворачиваться. В иных случаях, если убийство совершалось из чувства правой мести, то об убийце говорили, как говорят теперь о порядочном человеке, убившем на дуэли подлеца, который нанёс ему кровное оскорбление».
Да, Челлини был убийцей, как и половина добрых католиков того времени. Конечно, иной раз и он мог бы, вытирая свой «колючий кинжальчик», сказать вместе с пушкинским Дон Гуаном: «Что делать? Он сам того хотел»; конечно, и ему можно было бы возразить вместе с Лаурой: «Досадно, право. Вечные проказы – а всё не виноват». Совесть даровала ему «лёгкий сон», а жизнь выработала у него привычку широко огибать углы домов – предосторожность, не лишняя в тот век даже для человека, который не знал, «какого цвета бывает страх». Участие Челлини в обороне Флоренции от войск Карла Бурбона и головокружительный побег из папской тюрьмы имеют тот же духовный источник, что и его беззакония. Думаю, слово «мужество» будет здесь уместно.
Там, где нет возможности или повода выяснить отношения при помощи ножа или шпаги, Челлини обрушивает на врагов всю силу своей гомерической брани. Его ругань льется какой-то кипящей лавой, противник оказывается совершенно раздавлен глыбами его проклятий. Так и кажется, что слышишь, как он поносит скульптора Бандинелли, который в присутствии герцога Козимо Медичи осмелился хвалить своего «Геркулеса» в ущерб искусству Челлини. «Государь мой, – начинает свою оправдательную речь Челлини, – вашей высокой светлости да будет известно, что Баччо Бандинелли состоит весь из скверны, и таким он был всегда; поэтому, на что бы он ни взглянул, тотчас же в его противных глазах, хотя бы вещь была в превосходной степени сплошным благом, тотчас же она превращается в наихудшую скверну».
И затем он обрушивается на «Геркулеса» с гневом Аполлона, сдирающего кожу с Марсия: «Говорят, что если обстричь волосы Геркулесу, то у него не останется башки, достаточной для того, чтобы упрятать в неё мозг; и что это его лицо, неизвестно, человека оно или быкольва, и что оно не смотрит на то, что делает, и что оно плохо прилажено к шее, так неискусно и так неуклюже, что никогда не бывало видано хуже; и что эти его плечища похожи на две луки ослиного вьючного седла; и что его груди и остальные эти мышцы вылеплены не с человека, а вылеплены с мешка, набитого дынями, который поставлен стоймя, прислонённый к стенке. Также и спина кажется вылепленной с мешка, набитого длинными тыквами; ноги неизвестно каким образом прилажёны к этому туловищу; потому что неизвестно, на которую ногу он опирается или которою он сколько-нибудь выражает силу; не видно также, чтобы он опирался на обе, как принято иной раз делать у тех мастеров, которые что-то умеют. Ясно видно, что она падает вперёд больше, чем на треть локтя; а уже это одно – величайшая и самая нестерпимая ошибка, которую делают все эти дюжинные мастеровые пошляки. Про руки говорят, что обе они свисают без всякой красоты, и в них не видно искусства, словно вы никогда не видели голых живых, и что у правых ног Геркулеса и Кака34 двух икр не хватит на одну ногу; что если один из них отстранится от другого, то не только один из них, но и оба они останутся без икр, в той части, где они соприкасаются; и говорят, что одна нога у Геркулеса ушла в землю, а что под другою у него словно огонь».
После всего этого странно читать, как Челлини называет себя меланхоликом.
Беззастенчивая похвальба и горделивое сознание своего достоинства в равной мере присущи ему, и порой невозможно отличить, где кончается одно и начинается другое. На замечание одного дворянина, что так роскошно, как Челлини, путешествуют только сыновья герцогов, он ответил, что так путешествуют сыновья его искусства. В уста папы Климента VII он вкладывает такие слова о себе: «Больше стоят сапоги Бенвенуто, чем глаза всех этих тупиц». Какому-то заносчивому собеседнику он сказал: «Такие, как я, достойны беседовать с папами, и с императорами, и с великими королями, и что таких, как я, ходит, может быть, один на свете, а таких, как он, ходит по десять в каждую дверь». Он приписывает себе убийство Карла Бурбона и Вильгельма Оранского в дни осады Рима и отражение атаки французов на Ватикан. А о своей жизни до пятнадцатилетнего возраста он говорит: «Если бы я захотел описывать великие дела, которые со мной случались вплоть до этого возраста и к великой опасности для собственной жизни, я бы изумил того, кто бы это читал».
Челлини никогда не унижается до того, чтобы назначать плату за свои произведения. Он чувствует себя королём своего искусства, а иногда – святым. В тюрьме ему являются ангелы и Христос с лицом «не строгим и не веселым» (это лицо мы видим на его «Распятии»). С подкупающими подробностями он говорит – и это не самое удивительное место в книге – о появившемся у него нимбе.
Это сияние, поясняет Челлини, «очевидно всякого рода человеку, которому я хотел его показать, каковых было весьма немного. Это видно на моей тени утром при восходе солнца вплоть до двух часов по солнцу, и много лучше видно, когда на травке бывает этакая влажная роса; также видно и вечером при закате солнца. Я это заметил во Франции, в Париже, потому что воздух в тамошних местах настолько более чист от туманов, что там оно виделось выраженным много лучше, нежели в Италии, потому что туманы здесь много более часты; но не бывает, чтобы я во всяком случае его не видел; и я могу показывать его другим, но не так хорошо, как в этих сказанных местах».
Однако он не прочь заглянуть и в мир демонов, для чего участвует вместе со своим учеником в опытах какого‑то священника-некроманта. Когда появившиеся легионы демонов испугали ученика, Челлини приободрил его: «Эти твари все ниже нас, и то, что ты видишь, – только дым и тень; так что подыми глаза».
Челлини не опускал глаза и перед папами, грозными пастырями, железным жезлом пасшими свои стада. Удивительные люди были эти Юлии II, Клименты VII, Павлы III! Искусство было их второй религией (первой была политика), славу христианства они видели в том, чтобы распятия в церквях были изваяны так же хорошо, как античные боги. Они чтили художественный гений, как Божью благодать, ниспосланную в мир, и боялись оскорбить её своей необузданностью. Микеланджело для Юлия II имел ценность собственности римского престола, попытка сманить скульптора грозила анафемой. Когда Микеланджело бежал от его суровости во Флоренцию, Юлий писал громовые послания флорентийской сеньории, обвиняя её в воровстве и требуя выдать творца Сикстинской капеллы. Ему пришлось самому ехать за ним в Болонью. При новой встрече папа не смог удержать свой гнев: «Итак, вместо того чтобы приехать к нам в Рим, ты ждал, что мы приедем искать тебя в Болонью!» Один из кардиналов неуклюже попытался смягчить Юлия, сказав: «Пусть ваше святейшество на него не гневается, ведь люди этого рода невежды, которые не понимают ничего, помимо своего ремесла». Разъярённый папа ударил посохом глупого попа: «Сам ты невежда, раз оскорбляешь того, кого мы сами, мы не хотим оскорбить!»