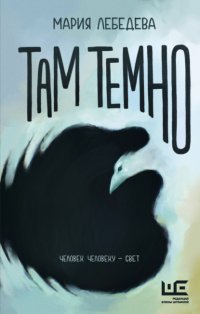
Читать онлайн Там темно бесплатно
- Все книги автора: Мария Лебедева
neural machine
- я не хочу уходить в темноту,
- я хочу выйти из своей
Работа над книгой велась в литературных резиденциях Дома творчества Переделкино и АСПИР
Художница Елизавета Корсакова
© Лебедева М.Н., 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023
Ответ 1
Мне не грустно
Рыбы тыкались беззубыми мордами, облепили со всех сторон. Одна, смелее и злее, пробовала ущипнуть. Пузырьки заменили звучащее слово – и рассыпалась рыбья броня.
Белея на границе между воздухом и волнами, она глотала попеременно и то и другое, кашляла, задыхалась. Рыбы прятались под корягами, смотрели недоумённо: что это тут происходит?
Сама будто рыба, выбравшись кое-как, плюхнувшись на песок, перекатилась с живота на спину и всё не могла надышаться. От носа до подбородка – сплошное пятно песка, тёмные чёрточки прядей прилипли ко лбу. Сверху, наверное, звёзды, сбоку, возможно, деревья, но всё расползается в пятна. Потом наконец ощутила озноб, и первая мысль была вот какой: холодно.
Холодно.
Далеко, за тысячу снов отсюда, Кира плотнее кутается в одеяло. Должно быть, полуночный ветер открыл вдруг окно. Одним глазом взглянув на будильник, она думает, что вставать ещё ох как нескоро, но снова уснуть не в силах: слишком колотится сердце и слишком уж холодно стало.
Далеко, за много километров отсюда, в последнюю минуту перед отправлением некто уверенно шагает в нутро поезда. Поспешно, в задумке – бесшумно, на деле – ойкнув, проехав лицом по свисающей с полки ступне (о, конечно, так было и надо!), едва не падает у окна. Пытается отдышаться, но втягивает лишь одуряющую духоту – и тут точно кто-то проводит замёрзшими пальцами по разгорячённой щеке. Сразу холодно.
История начинается отсюда.
Дано:
Два путника вышли навстречу друг другу.
Хотя, может, начало совсем и не здесь, путников больше или же меньше, чем два, и встречаться они не хотят (кто ж их спросит?).
Всё столь относительно, что временами при мысли об этом становится не по себе.
* * *
Лучший вид на этот город – если сесть на поезд Москва – Санкт-Петербург и уехать отсюда подальше.
Так часто думали те, кто остался.
Поэтому, погляди они хоть куда-то ещё, кроме как себе под ноги, то заметили бы существо, одной рукой обнимавшее клетку с большой белой птицей, а другой – толкавшее сумку на колёсиках.
Существо это, укутанное с головы до ног в мрачноватую слоистую одежду, нисколько о приезде не сожалело. По крайней мере, глядело бодро.
Всё на нём (или на ней) было каким-то грубым, тяжёлым, как если бы вещи предназначались для того, чтобы их владелец (владелица) хоть чем-то удерживался на земле.
Белая птица в клетке возилась, складывала поудобнее крылья. Нервная, не оправилась от унижения: что в мире нелепее птицы, едущей поездом?
От сумки отлетело колесо и, совершенно издевательски крутясь, укатилось в тамбур. Колесо, очевидно, разделяло мнение местных насчёт этого города, хотело в Москву или в Питер. Там зарплаты, культурная жизнь.
– Проклятье! – сказало существо, ступая на перрон.
Может, конечно, не именно так вот сказало, но в целом смысл был таков, чего придираться. По голосу стало понятно, что это всё же она и что лет ей не так уж и много.
Белая птица в клетке возмущённо забила крыльями.
У девушки, кстати говоря, было имя (вот так новость!). Что, конечно, не столь уж и важно, слова вечно сбивают всех с толку. У птицы вот имени не было, и та не особо комплексовала.
В общем, девушку звали Яся, птицу так и будем звать птицей. Статистически девушек несколько больше, чем птиц, что одновременно белы как снег, путешествуют поездом и будто бы понимают людскую речь.
Не запутаетесь.
– Кто это у тебя, не разберу… Сова? – спросил любопытный прохожий.
– Да[1].
Голос чуть хрипловат после сна, вдоль щеки шрамом тянется отпечаток одёжного шва: много часов провела, подложив под голову руку. Уходи, любопытный прохожий. Любопытствуй подальше отсюда.
– Ну, улыбнись, – не унимался тот, – чего серьёзная такая?
Ответом ему стала жуткая перекошенная гримаса – из тех, про которые детям талдычат «никогда так не делай, а то на всю жизнь останется». Незнакомец поспешил сделать вид, что не имеет к этому никакого отношения, и пошёл привязываться к кому-то ещё.
Яся осторожно втянула вокзальный воздух. Ощущался тот особый поездной запах, к которому примешивались нотки прогорклого масла из ларьков с жареными пирогами, и сырого асфальта, и сигаретного дыма, и помятых сонных пассажиров.
Воздух прилип, коконом опутал слоистую одежду.
Неясно, что ещё там эта девчонка унюхала, только стояла вот на перроне и дышала медленно и глубоко. Может, голодная, почуяла пироги?..
Белая птица, совершенно непохожая на сову, сидела тихо. Белая птица знала, что происходит.
Вернёмся к ним, когда хоть что-нибудь тут прояснится. Оставим пока что этих двоих – кому понравится быть менее осведомлённым, нежели птица. Нет, серьёзно, ни в какие ворота.
Это даже ведь не сова!
* * *
Из доступных сегодня миров – мир колготок, диванов и кресел.
Так себе выбор, если объективно, в любом-то раскладе выходит не очень, но вообще-то не зажралась. «Мир колготок» – отлично, вполне интересно, падают с потолка манекеновы рыжие ноги. «Мир диванов и кресел» не ждёт.
В любую из этих реальностей Кира бросилась бы без раздумий.
В маршрутке Кира на слух попыталась определить сторону, по которой станут передавать мелочь. Держать тёплые влажные деньги противно.
Чужое дыхание обдало шею.
Кира как могла отодвинулась.
Дорожные боги сегодня не снисходительны к Кире: монетки передают по обеим сторонам. Волей-неволей, а вовлечена.
Тычок в плечо.
Ай.
Пинок в спину.
Они прикасаются мягко только к телам детей и любовников – да, по правде, и то не всегда. Чужие тела им и вовсе враждебны: давай, поставь ногу – её тут истопчут, схвати рукой поручень – хрясь по костяшкам, по спине, по плечу, напоследок – добить. На, пакетом по голове. Внешне всё здорово напоминает центральную часть «Сада земных наслаждений».
До вот этой поездки Кира понятия не имела, что у неё столько тела, которое можно сжимать. Чей-то живот с силой давит на поясницу, и Кира тихонько, миллиметр за миллиметром, подаётся вперед, но живот разрастается ровно с той скоростью, с которой она пытается отодвигаться. Ладно хоть между ними как минимум парочка курток.
Сейчас начнётся.
Кто-то напомнил водителю, что он везёт не дрова. Тот возразил – ой, как грубо он им возразил, почему такой грубый водитель, – и ропот по рядам пошёл-побежал, будто бы и его передали, как недавно – оплату проезда.
Спицей зонта тычут в ногу.
Нужно выбрать что-то конкретное, чтобы смотреть на него. Справа от руля – монетки в прорезях губки. Эта губка в виде сердечка. Поролоновое сердечко подскакивало. Кирино – тоже.
– Проезд оплачиваем, четверо заходили!
До конца пути оставалось всего ничего, два мира и одна планета, но кого-то прижало дверью, и разразился скандал.
Приехали. Началось.
Будто кто-то выкрутил звук на максимальную громкость: непонятный – людской ли, звериный, пчелиный, всё нарастающий гул. На задних сиденьях заплакал ребёнок – Кира уцепилась за его плач, высокий, резкий.
Пожалуйста, малыш, не переставай реветь.
– Вы пять рублей недодали!
Тело становится отталкивающе-чужим, ненужной пустой оболочкой.
убирайтесь прочь убирайтесь это моё тело мои мысли это всё чувствую я
– На остановке просили остановить!
Плачь, маленький, плачь.
– Да успокойте ребёнка!
Громкость-яркость-контраст прибавили так, что больше уже не бывает. Контуры толкущихся рядом людей расплываются, границы фигур тают, слипаются в многорукую массу – и затягивают.
Воздуха не хватает. Кира порывисто дышит ртом.
Губка с выемками для монеток – нежно-зелёная, плотная, водитель ей даже не мылся, маленький островок среди кричащего, режущего цвета. Существуют лишь детский плач да поролоновое сердечко, но их поглощает воронка.
Стоп. Двери открываются.
Киру выплёскивает вместе с толпой. Это немного раньше, чем надо, но ничего больше не остаётся, и, ко всему, говорить «на остановке, пожалуйста» хочется меньше всего. Толпа выносит Киру к перекрёстку – да, ей надо к перекрёстку, – тянет вперёд и вперёд и вдруг неожиданно отторгает, выплёвывает, не дожевав.
Всё, одна.
Порядок.
Точно не было ничего.
Голову вниз, ладони прижать к ушам, сделать медленный вдох. Всё хорошо. Всё ушло, и, пока не начнётся вновь, можно вовсе не вспоминать. Произошедшее не вызывало у Киры ровно никаких чувств. Кроме разве что одного, отдавалась которому она ежедневно, со всей полнотой преданной своей натуры. Чувство это, должно быть, родилось раньше, чем первый человек. Физически оно похоже на усталость, и усталости сродни. Небо, быть может, кишело драконами, из-под земли вырывался на волю неведомый странный народец, а ей было бы всё равно, что бы ни произошло. Кира шла мимо, и ей могло бы быть скучно – нестерпимо, до одури, до боли в сведённых зевотой челюстях, – но не было скучно тоже.
Очень внимательный, очень спокойный взгляд полуприкрытых глаз мог вас чуть-чуть обдурить. А на деле – ей было никак. Или не было никак.
Со стороны это можно принять за стрессоустойчивость, доброжелательность и невозмутимость – отличные качества для работы с людьми.
Так и указавшая в резюме Кира работает с людьми. Говорит: добро пожаловать к нам, распишитесь здесь, здесь и где галочка, возьмите бельё, и вот из окна открывается вид на стену соседнего дома.
– Кирюш, будешь борщ? – с ходу спрашивает коллега и машет издалека чем-то круглым, похожим на фрисби.
Чтобы узнать, когда нужно поесть, надо смотреть на часы.
Кира смотрит, потом кивает.
Поначалу ей кажется, что коллега сейчас метнёт диск, но та кладёт кругляшок в тарелку, ставит в микроволновку.
Микроволновка гудит.
– Приезжала в том месяце мама, говорит, типа, ой, как ты, доча, без первого, желудок испортишь. Наварила борща литров пять, да? Нальёт в тарелку – и в морозилку. Сложила их все и мне говорит: вот, разморозишь – будет тебе борщ, для здоровья полезно горячее. И уехала. Я своему хотела скормить, кто ж знал, что он свалит. Ну, взяла сюда, думаю – может, ты будешь. А ты и будешь.
Подумав, что реклама удалась не то чтобы слишком, поспешно добавляет:
– Да не, правда, нормальный борщ. Вкусный.
Микроволновка пищит, мол, готово.
К столу постоянно всё липнет. Коллега сказала, так было всегда, едва привезли – лаком паршивым каким-то покрыли, может, не лаком, может, олифой намазали, клеем, соплями, да чёрт его знает вообще. Он весь покрыт коллажами из приставших ниток, пылинок или вот слов. Часть одного из пельменных рецептов остаётся на этом столе. Кира его избегает касаться, если Кирина очередь мыть – трёт чем ни попадя, но без толку: липнет чистящий порошок.
Коллега облокотилась и прилипла. Тянет за ткань рукава в попытке освободиться. Стол противится ей, щетинится грязью. Коллега слюнит палец, задумчиво трёт оставленный след. Часть этого события отпечатывается на Кире. На неё бы лучше сейчас не смотреть.
Кира вся как налипший сор, отпечатки чужих слов.
– У вас тут борщ? Вот молодцы девчонки, все бы вот так. Раньше-то ели мякину и лебеду натуральную, теперь колбасу жрём и химию! – поучительно говорит пожилая женщина.
Что она имеет в виду – никто не понимает, но на всякий случай все принимаются кивать, точно ели мякину и лебеду, было дело, понятно, понятно. Кира – доброжелательная, невозмутимая – пододвигает тарелку. Женщина перестаёт говорить и принимается есть.
По привычке Кира косится, достаточно ли чистую взяла ложку, могут ведь и немытую сунуть. Её лицо, как в кривом зеркале, отражается прямо под надписью «лучшему игорю». Ложек в хостеле много – и все как одна. Так вышло: хозяйкин отец неизвестно откуда принёс целую их коробку, каждая с похвальбой[2].
За всё время в хостеле, как назло, не остановился никто, кого бы так звали. Вообще ни один. Будто редкое имя какое, будто имя специально для ложек.
У борща вкуса не разобрать – шпаришь мгновенно язык. Нитки укропа липнут к ложке, скрывают часть надписи. «Лучше… горю» – теперь говорит она. Кире не нравится ложки читать.
– Вкусно? – беспокоится коллега. – Вкусно же.
Кира кивает.
У ног вьётся крошечка-недособачка, скрещенный шпиц с воробьём, по-младенчески громко пищит. Из подстолья на Киру таращатся глаза, полные любви. Коллега подхватывает существо, с чувством вжимает в округлую щёку.
Звук бьющегося стекла, сразу же – вопль отчаяния, перепуганный крик протопса. Ясно: кто-то открыл окно покурить и смахнул с подоконника одну из кривых статуэток.
– Как он достал! – закатывает глаза коллега. – Хоть бы уже когда съехал.
Кира кивает.
На запах еды подтянулись другие гости – осторожно, делая вид, будто у них появились тут какие-то свои дела. Называть клиентов гостями требует постоянно хозяйка. Она возмущённо напоминает: «Клиенты – в публичных домах! У нас тут все гости!» Странно, конечно, когда гости платят за то, чтоб гостить, но, может быть, у неё это дело и дома в порядке вещей.
Хозяйка любила сыграть вдруг в царя, что шарится посередь нищих, рабов и увечных, потом удивляясь: вот же любит меня народ, так хорошо обо мне говорит, когда я неузнанным выскочу им на дорогу, поигрывая скипетром, босой в струпьях ногой покатывая державу. Говоря: мы семья[3], не команда.
Гости поначалу неловко толкутся, мнутся, когда же их позовут. Это из новеньких, сразу понятно. Те, что живут здесь подольше, привыкли: если кто ест, можно быстро подсесть к нему. Коллега разбаловала.
Скульптор с размаху садится за стол, разыгрывает ожидание. Никто не обращает внимания, и он со скорбным видом тычет пальцем в солонку, пока Кира не отодвигает: противно есть соль, в которой побывали чьи-то руки, будь те хоть тысячу раз сопричастны искусству.
Хостел – то ещё место. В город, где никто не хочет задерживаться, гостей нагнала не потребность в жилье, а нечто другое, огромное, полое, выслеживающее по пятам, вынуждающее жаться поближе друг к другу, срастаться, как норные мыши, хвостами в крысиного короля[4].
Кира знает, что.
Стрессоустойчивая Кира переводит взгляд на стену. С календаря смотрит пёсик месяца, пухлый сердитый хаски, сообщает: «Лучший психолог – это щенок, который лижет твоё лицо».
Сколько там, интересно, протопёс берёт за приём.
Календари исполнены мудрости. Из прошлогоднего вот постояльцы узнали, что слово, оказывается, не воробей, да и любовь с картошкой – абсолютно разные вещи. Пока никто не оспорил. Будто кто-то пытался хоть раз изловить воробья, будто кто-то реально попутал чувства и клубни.
Временами кажется, что так же не может быть. Это какая-то игра. Пока все не здесь, говорят о действительно важных делах. А стоит зайти сюда – прикидываются простаками, принимаются мигом за болтовню о том, кто что съел, кто что купил и что врачи не лечат, а учителя не учат. Сейчас едят и говорят о еде. Это так сытно, как дважды поесть, в реальности и на словах.
Кира молчит, и они напускают на себя невинный вид – ну же, Кирюш, разве что-то не так? Поговоришь чуток с нами о всякой еде? О картошке, которая не любовь, о борще в состоянии твёрдом, жидком и парообразном, о рассыпанной по столу соли – брось щепоть скорей за плечо.
– Не бросай, для кого тут помыли!
Они стараются производить как можно больше шума.
Говорят:
– Включи телевизор, а то чего так скучно сидим.
Выбрали музыкальный канал, за музыкой чуть похуже слышно себя.
Женщина, мычащая мелодии, начинает подпевать в своём стиле. Скульптор скребёт подбородок, и звук выходит такой характерный, царапает Кирино ухо – шкряб, шкряб, шкряб.
Темнота притаилась в углу, смотрит на Киру бесчисленными глазами, говорит:
– эй,
мы ещё
не закончили.
тем временем
У сказочной принцессы слова катились с губ жемчужинами, алыми розами падали оземь. Слова Яси тоже в какой-то мере были волшебными: они превращались в скандал.
Это не помогало.
Яся определённо не была странствующей принцессой, перед которой, признав королевскую кровь, распахивали двери хозяева постоялых дворов. Хотя бы потому, что из первого же места – убогого, грязного хостела – её выгнали прочь.
Возможно, всё потому, что следовало заплатить, но кого интересуют детали.
Вместо денег были последовательно предложены и немедленно отвергнуты:
– клетка,
– большая белая птица,
– чудесные зрелища и неслыханные истории (какие – не уточнялось).
Не прокатило.
Яся не понимала почему.
Чтобы хоть как-то подняться в своих же глазах, она пробовала было уговорить птицу протиснуться в форточку, устроить переполох. Птица притворилась непонимающей, издавала различные птичьи звуки, бездумно вертела башкой. Говорила всем видом: я глупая птичка, чего же ты ждёшь от меня?
– Могла бы помочь, – осудила Яся.
Птица защёлкала клювом, даже не потрудившись придумать весомый аргумент.
Оставленную без присмотра клетку тут же кто-то унёс.
Яся сказала: «Проклятое проклятье!»
Или слова, схожие по значению.
* * *
Яся колупает остатки краски на стене, на изломе видны слои: белый, зелёный, вновь белый. Она делает то же, что сделало бы время.
Дёргает головой – мешают бесцветные пряди, закусывает губу, сосредоточенно щурит глаза, прячет осколки ссохшейся краски в карман. Белая пыль отпечатывается на безразмерной куртке, шевелящейся у груди.
Ясе удаётся отковырнуть особенно крупный кусок – небывалая прежде удача, – когда снизу начинают доноситься какие-то подозрительные шорохи, детский крик «Отстань!» и собачий лай. Яся сразу швыряет куски краски в лестничный пролёт – может быть, отвлечёт, что бы там ни творилось? – и что есть силы
несётся
вниз.
Ну нет. Только не так. Не везёт – так весь день не везёт.
Без Яси и птицы их было трое – девушка, ребёнок, собака. Ребёнок не может сдержать поводком большого лохматого пса. Тот положил передние лапы на плечи девушки и невероятно настойчиво хочет лизнуть ей лицо, на котором глаза полуприкрыты, спокойны, бесстрастны, будто подобное видели множество, множество раз, и все те разы было скучно.
В её тёмных прямых волосах, на пальто безупречного покроя – осколки ссохшейся краски. Девушка поворачивает голову – и вот,
что видит Кира
(а это, конечно, она)
двухголовое существо: седая человечья голова и, пониже шеи, белоснежная птичья. Две пары глаз, одни жутче других – расширившиеся зрачки девчонки столь же черны, как глаза птицы. Существо одновременно склоняет набок головы и произносит (к счастью, всего одним ртом, человеческим – отчего-то казалось, что и говорить оно будет на два монотонных голоса):
– Да, неловко.
– Да ну? – уточняет Кира.
Пёс, сбитый с толку (явился ещё человек!), опускается на лапы и наконец идёт выгулять своего ребёнка.
Кира встряхивает головой. Ребром ладони проходится по плечам. Поднимается выше по лестнице, с трудом отпирает дверь. Яся топает за ней:
– Слушай, я хотела начать всё не так. Я…
– Да знаю я, кто ты.
Под немигающим надзором чёрных глаз ключ едва не валится из рук.
Если делать вид, что ничего не происходит, это тебя не коснётся.
Больше существо ничего не говорит. Дверь запирается изнутри.
Птица смотрит на Ясю выжидающе. Та как ни в чём не бывало продолжает обдирать краску, будто нет занятия интересней.
Кира предусмотрительно отключает звонок: чёртова девчонка непременно будет трезвонить. Начнёт тут стучать – ей же и хуже. Шум потревожит соседей, те терпеть долго не станут.
Кире без разницы, зачем объявилась эта девица. Она даже повторяет это самой себе – вот насколько ей всё равно.
Но, прикрыв на секунду глаза, видит её лицо.
Генетический клятый фейсап. Удивительно думать, как его – резковатые – черты превратились в её девичьи, не утратив при этом сходства. Кира представила, как ей – той девчонке, не Кире – говорят, мол, «папина дочка» и треплют по стриженому затылку, лохматят крашеные пряди.
Кира не чувствует ничего (или чувствует ничего), но слишком ясно уж ощущает биение сердца.
Стараясь ступать неслышно, она подбирается к глазку. На лестничной клетке пусто. Сердце, минуя грудную клетку, стучится прямо о дверь. Подумав немного, Кира резко поворачивается и идёт в душ, не заботясь о том, слышны ли в подъезде её шаги или нет. Надо смыть с себя этот день. Завтра будет по-прежнему. Вода обещает забвение: всё утечёт, испарится, истает. Ни о чём не стоит беспокоиться, ничто не бывает важным надолго – к сожалению или же к счастью.
Не ждала?
Темнота металлическим боком прижимается плотно к виску. Раз – и нет ничего. Чёрные струи воды, чёрный воздух вокруг, сжимаются медленно стены.
Кира привычно застывает на месте – это всегда начинается так, сейчас непременно начнётся. Она слишком сильно затягивает поясок у халата – чувство верёвки, перетянувшей туловище напополам, – чтобы хоть как-то оказаться здесь. Тихо, дыши. Ничего не начнётся. Ослабив чуть поясок, Кира шлёпает в коридор – мокрые ступни оставляют следы – и распахивает дверь.
О, разумеется. Какой же сюрприз.
Около электрощитка стоит Яся, из тысячи способов привлечь внимание остановившаяся на этом.
Яся умудряется смотреть сверху вниз на собеседника любого роста, но Киру этим не впечатлишь.
– Свет верни, – говорит Кира.
Яся неожиданно послушно кивает, щёлкает рычажком обратно, но сообщает будто бы мимоходом:
– Птица может перекусить провода. Пригласи меня в дом?
Звучит не вполне как вопрос.
Кира возводит глаза к потолку. Топчется на пороге, переминаясь с ноги на ногу. Откуда-то воспоминание: нечисть не может войти без приглашения, не зови сам – и не будет беды.
Капли воды падают с волос на плечи, чувствует холод от каждой из капель. Мокрые пряди липнут ко лбу – всё это было, точно ведь было. То ли холодом веет от самой этой девчонки, таращащей глаза, бесцветные, рыбьи, то ли задувает ветер в хлипкую подъездную форточку.
Ветер, конечно же ветер.
– Что тебе нужно?
Она готова к любому ответу, но Яся, похоже, ведёт внутри своей головы какой-то иной диалог. Потому что она говорит:
– Держи птицу! – расстёгивает резко куртку и вручает Кире большую белую, до невозможности тёплую птицу.
Яся смотрит.
Птица смотрит.
Чего вы смотрите, хватит.
Кира не любит прикосновений, громких голосов, непонятных историй, пристальных взглядов.
Всё это она впускает сейчас в свой дом.
Кир, ну зачем? Ты хорошо подумала?
Кира вообще не думала, в том-то и дело.
Хлопает дверь.
Она делает шаг назад, и Яся входит в квартиру.
Впервые за долгие месяцы кто-то чужой переступает порог.
Ответ 2
Я смотрю в будущее без особого разочарования
неделю назад
– От тебя холод! – ёжится мама.
От Яси правда холод и хаос. Она измеряет шагами квартиру, то и дело косясь на окно.
Никого.
Хорошо.
Зачастую от хрупкого существа ожидаешь изящества, грации, но Яся движется, как сломанный робот, сутулит тонкую спину. Ей доступны лишь два состояния: полный покой и лихорадочное действие. Резкие движения взбивают воздух, пальцы чуть что сжимаются в кулаки.
Ночью она подкатывается к батарее, прижимается спиной – остаётся большое розовое пятно – да так и лежит. Спина горит, колени прижаты к груди. Нужно успеть откатиться обратно, пока не настиг сон. Иногда, кое-как повернувшись, Яся проваливается в промежуток между диваном и батареей. Утром её не найти: лежит свёрнутое одеяло, Яси нет и в помине. Она занимает совсем немного места – пока молчит. Начав говорить, заполняет любую комнату целиком.
Диван под Ясей скрипит, мама шикает с кровати. Попытки ползти осторожно, словно какой-то моллюск, обречены на провал: диван откликается на каждую Ясину кость, выступающую под кожей.
Она приподнимается на локте и видит за окном смутный силуэт.
Пришла. Снова пришла.
Яся переворачивается на живот, падает лицом в подушку и сердито сопит. Потом встаёт. Нервно дёрнув рукой, показывает, что сейчас пойдёт на кухню.
рассказывает Яся
Вечно птицы всё портят.
Они никогда не бывают к добру, будь то влетевшая в комнату чайка, ворон на кладбище или ещё кто. Даже если какой-нибудь парень, допустим, прикован к скале – так прилетит же орёл и сделает жизнь в сто раз хуже.
Так что всё началось с неё, с этой проклятой птицы.
Поначалу я стала замечать её на улице. Слишком часто, чтобы это выглядело случайностью.
Она выглядывала из кустов – ветки сгибались под тяжестью тела. Птица была жирновата.
Она прогуливалась у подъезда, пыталась смешаться со стайкой воробьёв. Выходило нелепо: птица торчала среди них, как айсберг.
И хуже всего – она принялась являться ночами, с дьявольским терпением карауля меня до рассвета.
Неотступно.
Повсюду.
Неотвратимо.
Казалось, что вот глянешься в зеркало, а там нет лица, только птичья башка. Уставится смородинными глазами, будто обычное дело.
Птица определённо была проблемой.
Стоит спросить о ней у других – и все отвечали невнятно. Ну да, говорят, птица. Ты что, не видела, что ли, таких. Тыкали пальцем, показывали на экране какого-то голубя, чайку, говорили: смотри. Как будто бы не очевидно, что это другое. Как можно не знать?
Иные и вовсе крутили пальцами у виска: мы ничего не видим, о чём ты, нет нигде никого.
Птица была. Однажды она пролетела так близко, что задела крылом – щёку ожгло, как горячим воздухом из фена.
Тогда я перестала спрашивать других.
Немногим позже поняла, что и камера её не видит: сколько ты ни старайся, на месте пернатой будет засвет, пустота, брошенный кем-то пакет.
Тогда я перестала верить камере.
Той ночью, дождавшись, пока мама покрепче уснёт, я вышла на кухню. По ту сторону стекла влажно поблёскивали два чёрных немигающих глаза.
– Тюк! – с мрачной решимостью птица стукнула клювом в стекло.
Я страшно замахала руками. Птица глянула с интересом, мирно склонив голову набок. Казалось, перья мягко светятся в темноте. Мои движения нисколько её не пугали, скорее казались забавными. Она думала, я смешная.
– Тюк-тюк, – чуть вежливей постучалась птица.
– Пошла вон, – прошипела я.
Птица не шелохнулась.
Лучше синица в руках, чем журавль в небе, и оба они всяко лучше, чем птица-сталкер за окном. Я схватила кувшин, из которого поливали жирное денежное дерево – ну конечно, мы те ещё богачи, – распахнула форточку и вылила воду на белые чистые перья.
Птица взъерошилась, отряхнулась. Мне немедленно стало стыдно. Что, если она не может улететь, и я сейчас издеваюсь над раненым или больным существом?
– Тюк-тюк-тюк.
Да это она издевается.
– Тюк, – подтвердили с той стороны окна.
– Маму разбудишь, – строго шепнула я.
И тут, к моему удивлению, птица исчезла. Это было бы слишком уж просто: конечно, она вернётся.
Но кто ж её знает, как и когда.
* * *
Под подошвой распалось осколками бабочкино крыло.
Крылья – мозаикой поверх песка – как витражи под ногами. Это казалось мистическим, невероятным, но объяснялось проще простого: церковь давно облюбовали птицы. Одни крылатые уничтожали других, оставляя на память единственное, что роднило.
Яся подобрала два непарных хрупких крылышка. Те задрожали в руках. Одно – потрёпанное белое с точками, другое – совершенно целое, с большим павлиньим глазом. Чернота обратной стороны была обманом: стоило попасть лучу света, цвет сменялся на синий.
В пустоте среди мёртвых бабочек птицы носились под сводами, жёстко шуршали пером о перо, и разбитые окна блестели стекольным зубчатым краем, и у неё были крылья – пусть и в руках, всё равно.
Раньше в церкви устроили склад киноплёнок – на как придётся сколоченных полках, где не растащили, стояли пустые катушки. Кто-то украсил окно бутылкой с засохшей розой. Песок вдавился подошвой, и Яся подумала: как хорошо.
Почувствовала неладное Яся раньше, чем увидела: опасность железной струной вытянулась вдоль позвоночника.
Какой-то чужой грубый шум. Яся чуть напряглась.
Это был человек, и он не хотел ей добра. Может, намерение читалось в глубине его глаз, а может, красноречивей о том говорил зажатый в кулаке нож.
(Разумеется, человек вполне мог прийти в опустевшую церковь, чтобы хлеб вкусить в тишине, и сейчас всего лишь хотел предложить разделить эту скромную трапезу, но в последний момент растерялся. Удивительно даже, что Ясе не пришло это в голову; вот комментаторы в интернете сразу поняли бы, что к чему. Зато пришли иные решения, сотворённые раньше, чем вежливость.)
Бей или беги.
Оба варианта одинаково хороши для не умевшей ни бегать, ни драться.
Что ж.
Сказки надо бы помнить.
Сюжеты давно закончились. Число комбинаций всего, что может с тобой произойти, ограничено жёстко: и хорошо, если их будет тридцать, может быть вовсе четыре. Так что на всякий пожарный – помни все сказки. Вполне может статься, что ты проживаешь одну из них.
Судьба приходит, взяв напрокат тело какого-нибудь незнакомца. Переодевшись нищими и калеками, инкогнито навещают героя цари, волшебники, маги. А иногда (в тех же сказках), обернувшись прохожим, приходит и Смерть. Волшебные истории любят взаимоисключающие параграфы, этим они и живут. Какой убийца, услышав: «Нет, не надо меня убивать, а лучше накорми и напои», повинуется приказу?..
Сюжетов всего-то тридцать один.
Сюжетов всего четыре.
Сюжет всегда лишь один, и ты тоже, и ты – это он.
Меньше всего в тот момент Яся думала о сказках и думала в принципе, но тем не менее громко произнесла:
– Не подходи.
И удивилась, когда человек в самом деле замер.
говорит Яся
Беспокойство кипело внутри, переплавляясь в страх, – и в одну секунду он перестал быть моим, перетёк в незнакомца. Кажется, я так умела всегда, но почему-то забыла и сейчас со странным спокойствием думала: этот человек боится меня, это его руки и ноги делаются ватными, его начинает колотить озноб, его же заботой становится выбор из двух вариантов: бей или беги.
Или всё же наоборот?
В какой-то момент мы стали как сообщающиеся сосуды: спроси кто, где моя рука, где его – не смогла бы ответить наверняка, и его / мой озноб резко сменился жаром, и его / мои обмякшие руки налились тяжестью, когда я наконец поняла: из двух вариантов он не предпочитает побег. Навязанный страх породил в нём злобу, и непонятно, что было бы дальше, если б он не заметил что-то над моей головой и не сделал бы шага назад.
Воздух вмиг ожил – поднявшийся ветер откинул с глаз чёлку, взметнулись к потолку мёртвые бабочки, всполошилась пёстрая птичья стая, плотное облако из мельтешащих нестройно крыльев и клювов.
Луч падает на один глаз, и тот мигом теряет цвет, в упор таращится голым зрачком, как гвоздём прибивает к месту.
Звякнув, нож выпал.
Кое-как прорвавшись сквозь стену из перьев, я споткнулась о какой-то кирпич, рассекла кожу на колене, поднялась, опёршись на ладони – на них остался песок, – и поспешила оттуда прочь.
…следом вышла вальяжно большая белая птица.
– Что ты такое? – спросила я.
Птица хитро сощурилась, и я протянула к ней руки.
Отряхнув их сперва от песка. Она чистая, эта вот птица.
Никто ведь не гнался, но Яся бежала прочь, свернула за угол, всё бежала, бежала, не обращая внимания на саднившую боль в ноге и возмущение сидевшей за пазухой птицы, которую от быстрого нервного бега подбрасывало вверх и вниз.
Под ногу попался камень.
Яся едва не споткнулась вновь. Остановилась, взяла камень и, не раздумывая, запустила в пустое холодное небо – и смотрела долго, ждала, пока упадёт. Уже и шея затекла, и перед глазами, напряжённо пялящимися в небеса, замелькали огненные пятна.
Камень так и не упал.
Соседка, губы поджав, косится на разбитую коленку, видит грязные разводы на бледном лице – провезла ненароком рукой, на вздувшуюся за пазухой куртку. Соседка пытается вызвать очищающее чувство стыда.
– В церкви была, – учтиво кивает ей Яся и поднимается по лестнице с видом, будто за ней тянется королевский шлейф – да если бы и тянулся, показался б соседке хвостом.
Соседка подумала, что девчонка заигралась для своих лет. И пошла обсудить со знакомой: вот Яська-то с прибабахом, куда смотрит её-то мамаша. Оно и понятно, что отец сюда больше не ездит. Наездился, значит. Он ещё молодой – точно будут нормальные дети.
Яся забыла о соседке сразу, как та исчезла с глаз.
* * *
Ничего не менялось.
Разве что ветер.
Он словно бы дул во всех направлениях сразу. Быстрый, порывистый, прекращался столь же резко, как и начинался: будто кто-то наверху ослаблял слегка поводок, а затем, вдоволь натешившись испугом прохожих, дёргал обратно – «Ветер, к ноге!».
А так – всё по-старому.
Кроме вот птиц.
Число их, крылатых, не поддаётся подсчёту. То ли они слетелись сюда со всех окрестностей, то ли вдруг расплодились за очень короткий срок. Как бы то ни было, сомнению не подлежало: птиц стало больше.
Мужчина вытянул руку, чтобы остановить маршрутку, – на ладонь мгновенно сел голубь. От неожиданности мужчина резко ладонь опустил. Потерявший опору голубь завис на мгновение в воздухе, а после недоумённо похлопал крыльями и улетел.
Другой голубь призывно урчал, пушился, пытался привлечь голубку. Он так пыжился-надувался, что женщина, проходя мимо, вспомнила что-то своё, наболевшее, остановилась, крикнула тонко: «Ну-ка отстань от неё!» и страшно затопала на него ногами. Голубь ушёл токовать собственной тени, будто того и желал. Тень не поддавалась соблазну, но и не убегала.
Малыш хотел уточку покормить. Оба они – и ребёнок, и птица – переваливаются на непрочных ногах. Мама снимает семейную хронику. Малыш смеётся: как он рад найти хоть кого-то размером поменьше себя. Никто не замечает, что смех отдаётся всё более слышным эхом, и со стороны мамы, едва не сбив её с ног, несутся к ребёнку хохочущие утки, и нет этим уткам числа. Видео стало занятней, но мама так не считает.
То и дело за завтраком Кира ощущала на себе чей-то взгляд и, повернув голову, замечала по ту сторону окна то глуповатую физиономию голубя, то бесцветные галочьи глаза.
О крышу стукается камень – тоже, должно быть, повинны птицы.
А кроме – ничего не изменилось.
Город выглядел как прежде – никак. Фальшфасады натянуты на дома. Там, под тканью, они рассыпаются в прах. Высотки не пронзали небеса, и не было старинных особняков, на которые лепились бы статуи, как опята. Никаких крайностей, никаких странностей.
Снаружи.
Наугад берём окно и заглядываем в него. Выбор случаен, просто пальцем в небо, прямо вот ногтем в его сонную серость, едва ли от этого небо прорвётся дождем.
Выбор случаен, ага.
Это обман. Конечно же, не наугад. То, в какое окно мы заглянем, заранее предрешено, написано в Книге судеб. Почему? Да просто ведь…
…сколько ни тычь пальцем в небо – всё равно попадёшь в чьего-нибудь бога.
Правда, здесь, казалось, остались лишь алтари.
Эта комната как музей. Кира выучилась не шуметь. Уже не было смысла так делать, но Кира – музейная тень.
Они давно уж все вместе не жили, и возвращаться сюда было как-то не по себе, квартира усохла и сжалась, и обои почему-то были те же, и всё остальное было ровно то же, и от этого захватывало чувство, что не до конца понимаешь, сколько сейчас тебе лет – и вот-вот встретишься в коридоре с собственным призраком. Хотя бы и потому, что на косяке двери отмечен давнишний рост – и последний замер подписан «Кира 7». В среднюю школу она пойдёт не из этого дома, но измерять перестанут пораньше, словно бы запрещая расти.
Родителям-то чего. Они как были, так есть, застыли в свой ипостаси. Не они за последний десяток лет полностью обновили личину; кто-то, возможно желавший добра, взял и кинул в огонь кожицу лягушачью, обратно не повернёшь, теперь до смерти шляйся царевной. Быть ребёнком и вырасти – в самом этом факте было что-то немыслимое, дикое, хоть от чёрточки с подписью «7» до совершенно взрослого тела, подпиравшего дверной косяк, была ещё парочка вышедших Кириных версий. О них лучше не вспоминать. Есть последнее обновление, его и считаем исконным.
Первое время мама упорно напрашивалась в гости – инспектировать холодильник, разузнать, как там гладятся простыни, протирается вовремя пыль, не в свинарнике ли дочь живёт. Требовала себе копию ключа. Отказ сочла за укор, бушевала с неделю, потом позабыла, бросила «живи ты как знаешь» (будто знаешь, как надо жить). Вздыхала, что теперь Кира отдельно. За каждый день, что они проживали врозь, обострялось всё то, что их с мамой так различало: пока были вместе – пообтёрлось, сточилось, едва разлучились – опять наросло; Кире было фоново стыдно, но с этим стыдом она давно научилась существовать. Даже ладить.
Внезапно сумев дать отпор, она в ту ночь растянулась на морщинистых простынях и задумалась: для чего их вообще надо гладить? И ещё подумалось, как будто извне, словно вновь кем-то посторонним: надо же, прямо как взрослая. Никак не выходило себе объяснить, откуда бралось это «как», потому что взрослая – Кира, и зеркало вторило ей, и память услужливо предъявляла, что дети – это другие.
Здесь всё остаётся нетронутым вот уже много дней: висящий на спинке стула пиджак, незаправленная постель, ткань на зеркале («Обязательно нужно завесить!» – повторяла тогда мама, и дала свой палантин, и потом не то что забыла – не захотела забрать, как будто желая остаться здесь хоть палантином), чашка с тёмным от чая нутром. Края этой чашки и ей подобных, фигурно изогнутые, с золотинкой, как будто резали губы, и Кира вечно боялась ненароком оттяпать кусок. Ей казалось, что стоит забыться – и раздастся противный хруст, и станет во рту всё солёным-солёным. Но чашки не разбились, не потрескались, не понадкусались.
Они оказались покрепче, чем их предыдущий хозяин.
От одного вида этих ничейных предметов время скручивается в спираль, иногда – накрывает волной постпророчества, какое бывает, когда читаешь собственные дневники, воображая: сейчас – это тогда, только знаешь теперь наперёд, что станет в будущем, листаешь страницы со снисходительным вздохом то ли автора, то ли творца. Говоришь типа так иронично: «Героиня представить не может, что же ждёт её впереди».
Впереди героиню из прошлого всегда ожидает какая-то хрень.
***хор жителей дома: хорошая девочка!***
С отцом встречались обычно не здесь, почему-то всегда избегали квартиры, словно боялись наткнуться на прошлых себя. Виделись в принципе редко, словно не в одном городе жили. Казалось, каждая встреча не приносила обоим радости никакой, но никто не решался прервать этот цикл вынужденных свиданий. Отец из воспоминаний и этот, тогда реальный, получались от Киры равноудалены, и собственное звонкое, из памяти выуженное «папа пришёл!» воспринималось надуманным, привнесённым для красоты. Говорили немного. Отец по кругу начинал рассказывать какую-нибудь много раз Кирой слышанную историю. Иногда по лицу понимал, что финал ей знаком, и всё равно говорил. То ли хотел, чтобы лучше запомнила, то ли сам боялся забыть, то ли не знал, в чём смысл разменивать на неё истории посвежее.
Когда вместе сидели в кафе, Кира всё думала: вот их кто-то видит, понимают ли люди вокруг, что перед ними семейная сцена, увиделись дочка и папа, а не собес по работе с финальным «мы перезвоним».
В конце было, в общем-то, так же. На прощание не обнимал. Делал вид, что куда-то так торопился, а может, и правда спешил.
В универе Кира почти никогда на отца не натыкалась и уже начинала подумывать, что он специально её избегал (нет, конечно же нет; расписания не совпадали). Иногда в коридоре она ловила обрывки фраз: про хороших преподов, про ужасных. Отца не было ни среди первых, ни тем более среди вторых.
Мама после этих родственных встреч смотрела озадаченно, каждый раз долго допытывалась, где были, что ели, как он выглядит, не говорил ли чего кроме дежурного «маме привет». Временами, когда мамин вопрос слишком громко жаждал ответа, Кира могла приплести от себя неизбывную горечь во взгляде или улыбку, печально промелькнувшую на лице. Почти не лгала: смотрел же и улыбался. Мама тогда выдыхала спокойно и хваталась за телефон, а потом сообщала Кире, что только-только сама услышала грусть в его тоне – разумеется, он сожалеет, что не смог сохранить семью. Кира кивала.
***хор жителей дома: всегда такая спокойная!***
Свернув в круг гибкие прутики ивы, привязав крепкую нить, Кира вяжет узлы, ощущая себя той молчаливой девой с крапивой.
Проворные пальцы ловко плетут сеть – вот молодец. Если не вспоминать, что каждый паук делает примерно то же, но куда лучше и вовсе без рук.
Кира терпеть не может спать. Ещё меньше того – просыпаться, участвовать вновь в лотерее – угадай-ка, в каком из миров ты проснёшься сегодня, в самом тёмном или почти; нет хорошего варианта, но вращается барабан, который ты не крутил.
Сны слишком походят на реальность, риск не отличить одно от другого всякий раз беспокоит. Потому-то и ставит капкан – изловить докучавшего зверя: Кира плетёт ловец снов.
Узелочек за узелком, натянулась прочная нить. Это такой ритуал.
Ритуалы. Их сотни. Всех и не упомнишь, а надо. В детстве было всё чётко и ясно, ими и управлялась вся жизнь. Не наступай на трещины в асфальте, а то быть беде. Не позволяй, если гуляешь с товарищем, вырасти между вами дереву или столбу, когда же такое произошло, наскоро произнеси: «Привет на сто лет». Иначе поссоритесь. Если не исполнять миллион всяческих обрядов, может кто-нибудь умереть – в детстве смертью ты сам управляешь. Когда, например, наступили на ногу, а ты тому человеку не наступил, не сказал заветное «Раз, два, три, папа с мамой не умри», тогда будет смерть, точно, да, и только ты виноват. Нет, у знакомых, конечно, такого и не случалось, но вот был один мальчик, у которого все умерли оттого, что он прошёлся по крышке люка и никто его после этого не стукнул. Стукнули бы, так другое дело, нормально бы было всё. А так вот все умерли. Честное слово.
Таинственные знакомые знакомых – жрецы ритуала. Их усилиями держится, сил набирается страх. «Знакомый знакомого сказал…», «Был один мальчик…», «Одна девочка тоже так думала, но…» – истории, начинающиеся так, передаются пугливым шёпотом, и нет причин в них не верить.
Ритуалы обязательны. Незнание ритуала не освобождает от опасности, грозящей неисполнением. Все условия невыполнимы. Не наступать на асфальтовые трещины можно было, летая по воздуху, асфальт весь состоял из них, здесь дороги трещинами мостили. Так что Кира что ни день рисковала.
Как-то она ступила на трещину в парке, и мама тотчас заболела. Кира рыдала ночами в подушку, просила прощения у всех богов – только годы спустя и дошло, что связи тут не было никакой. Кире жаль маленькую Киру.
Совершенно в том разуверившись, она всё же плетёт ловушку, капкан из цветных – сетью связанных – ниток. Говорит – мне занять надо руки, это так хорошо отвлекает. Говорит – я не верю в их действенность. Ну серьёзно, сколько мне лет-то.
Говорит-то одно, а что делает?
Потому что вот в этом ловце не было перьев – тех самых, что притягивают добрые сновидения. Вместо них висели внизу ещё ловцы, совсем крохотные.
Ни единого пёрышка. Объяснялось всё просто: Кира не хотела снов ни добрых, ни злых, она предпочла бы не видеть их вовсе.
Она вешает ловушки в изголовье кровати и у самых ног, продевает леску под потолком и нанизывает поочерёдно, как бусы.
Комната увешана ловцами, и каждый отбрасывает на стены узорчатую тень, умножая количество многократно.
Уходите, сны, уходите прочь. Попадайтесь в нитяные сети, бейте напрасно крылами.
Из внешней почти-темноты доносится тихий плач и скрип, похожий на скрежет зубовный. Кира задёргивает шторы, успевая заметить, что одно из соседских окон горит розовым мутным светом – никогда не дремлет рассада.
В комнате делается темно, от предметов остаются одни очертания. Это, конечно, обман: окажись здесь Яся, она непременно опрокинула бы стоящий посреди комнаты стул, ударилась бы о напольную вешалку – всё, что имеет лишь контур, обрело бы вмиг тяжесть и звук.
Но Яси тут не было. А для хозяйки квартиры, двигавшейся так осторожно, стоявшие всюду предметы были тише молчания, бесплотнее тени. Что там свернулось в кресле – свитер, колготные выползки, кот?
(Хоть бы не кот. В этой тихой квартире кота не было отродясь.)
Луна лезет втихую в окна, вором крадётся невидимый пепельный свет, касается век – не спи, глазок, не спи, другой, – и от лунных прикосновений станут тёмные утром круги, метка сестринства, символ бессонья.
Уже перед самым рассветом Кира выпрямляет окаменевшую спину, потирает застывшие ладони. Солнце едва ли может пробиться сквозь плотные шторы, и Кира идёт к кровати, нашаривает край одеяла и вытягивается под ним. Приходящие сны путаются в прочных нитях, и ловец дёргается, точно встревоженный ветром. Может, не всё, и сейчас будет сон, разве ведь не об этом сигналит дурацкое чувство – как будто нога пропустила ступеньку, и ты спотыкаешься, падаешь, но никак всё не упадёшь.
Надеясь едва ли на силу ловцов, скорей на усталость от механической нудной работы, она закрывает глаза, и там, под веками, нет ничего —
Ответ 3
У меня не потерян интерес к другим людям
недели две назад, наверное
Осень началась по-настоящему, когда старик из дома напротив убрал свои цветы.
Те простояли в горшках всю весну и всё лето, и только с первыми холодами дед унёс их с балкона. Стало так непривычно пусто, и кто угодно бы понял: теперь ничего не будет, как раньше.
Внизу, на асфальте, на дне в голосину хохочет чайка. Вороны с явственным птичьим акцентом выкликают Кирино имя.
Заметив Киру, старик помахал ей рукой. Она махнула в ответ, локоть прижав к животу, – на случай, если машет не ей, руку будет быстрее убрать.
Они не сказали друг другу ни слова за всё время, что были знакомы (если это считать знакомством). Но казалось, что этот старик не из тех, кто изводит рассказами о десятках бывших любовниц, из которых одна была краше другой, ведь фантазия милосердна; не из тех, кто пытает советом как жить не просивших об этом совете.
На балкон всякий раз он выходит один, но Кира всё же предпочитает думать, что по выходным к нему прибегает целая орава внуков, а он рассказывает им о прошлом, и все вместе пьют чай с карамелью, такой квадратной, в обсыпке из сахаринок, её только деды и берут. Всё очень славно и просто, как на коробке с печеньем.
Очень давно Кире было тепло думать так. Сейчас думает на автомате.
Чайка нахохоталась всласть и пошла доедать голубя.
Кира возвращается в дом, утыкается в монитор. Нужно просто смотреть и не думать, смотреть и не думать. Мелькают красивые картинки с цитатами. Вниз, вниз, вниз. Ставь лайк и листай дальше. Заполнить день, чтобы не оставаться с собой, – вспомни, как это делают постояльцы хостела. Отлично ты их понимаешь.
Суши за перепост. Целый огромный набор.
Чем проще – тем лучше, быстрее насытишься. Море, панельки, закатное солнце, рука крупным планом, тело в татуировках, розы.
Все, кто когда-то сюда заходил, разом гибли от пафоса десятками, сотнями. Кира выстояла – закалена интернетом. Кира смотрит на фотки волков – в полный рост, профиль или анфас. Узнаёт: сильный не тот, кто силён, – ну где же ещё узнать. Столько пространства, и в нём все что-нибудь создают, хоть какое-нибудь, но своё сообщение (материал).
Выиграй суши за перепост.
Что угодно не стоит почти ничего, если разъять на куски: части маются заданной немотой, только целое говорит.
Хоть кто-то когда-то выигрывал этот набор суши за перепост?
А вот и короткие видео, короче уже не бывает, листай.
Обманчивые, неверные цитаты, вырванные из контекста, фразы, отобранные у произнесших их людей, выхваченные наспех обрывки толстенных нечитаных книг.
Фрагменты.
Суши.
Праздный наблюдатель, прогуливаясь по кладбищу, может лишь оценить фото да кто сколько прожил («о, этот пожил хорошо», «а эта – мало совсем», «парень вон на актёра похож», «стоило тратиться, им-то уж всё равно», «этот ровесник мне… да это ж я и есть!»). Вырази сожаление и иди дальше.
Сборники цитат – кладбищенские надгробия, так же наоборот.
Перемешанные осколки.
Комната заполняется призраками.
Кира обхватывает руками колени. Здесь же нет никого, почему тогда вновь началось?
На белой стене две тени – такое уж освещение – чёткая тёмная и светлая, расплывчатая, тень от тени.
Кира смотрит на них и думает, точно ли она отбрасывает их обе? Нет ли кого-то ещё, притаившегося позади, почти что вжавшегося в спину? Точно ли почти неслышное дыхание принадлежит только ей?..
Волосы застят глаза. Ничего уже не помогает.
не смей думать не думай не думай не думай иди купи хлеба
Кира думает: да, нужен хлеб.
Тень на асфальте походила на качающиеся кроссовки.
Задрав голову, Кира тут же всё поняла: тень и бросали кроссовки, связанные за шнурки. Шнурки намотались на провод.
Тут много чего висело. На дереве – бык. Большую тушу из плюша притащила с помойки женщина из совета жильцов. Она же к дереву и привязала. Двор участвовал в конкурсе на лучшую придомовую территорию. Жители соседнего дома в ответ накромсали цветов из цветных пластиковых бутылок. Получилось не хуже быка. Поэтому было пока непонятно, чей выигрыш.
Кира больше не смотрела наверх – хватило быка и кроссовок. Там, наверху, должно где-то быть небо, но она начинала опасаться, что и на него какой-нибудь мусор забросили.
Пискнула крыса, почуяв Кирину поступь, пискнула и промелькнула – длинное гладкое тело, крупное, все на подбор, хоть в костюмчики их наряжай. Резвились: то ли играли с голубями, то ли ловили. Кира не стала вникать.
Рядом стоял дедушка, распространяя пищу для пищи. Он прицельно швырялся в голубей сухарём. С явным намерением проломить головы тем, кто не столь расторопен.
– Ишь, щенки разыгрались, – умилялся дедушка, подслеповато щурясь на крыс.
Крыса бесплатная, можно забрать домой, будет тебе подружка. Хочешь увидеть щенка, милый дед, – вот тебе сразу щеночек. Крыса блестит гладким боком, смотрит диккенсовым сироткой.
Магазин совсем рядом. Вон два дома вдали под одинаковым номером, разница в литере: «А» – сетевой продуктовый, «Б» – это церковь. Не перепутай.
Магазин упорядочен: акции, полки товаров, карта любимого покупателя каждому покупателю, как зашёл – так уж сразу любим.
Кира думает: там уж всё явно идёт как обычно.
И тут:
– Всюду ложь, – изрекла продавщица.
Так и сказала. Со странной какой-то интонацией, не вполне для того подходящей. Как бы то ни было, здесь, в магазине, где товар настолько просрочен, что даже не утруждали себя перебивать даты, просто затирали год – дни и месяцы всё равно каждый раз одинаковы, – прозвучали эти слова:
– Всюду ложь.
Кира заметила на полу пакет чипсов. Подняла, поставила на место. Кире нравится, когда всё на своих местах. Чипсы падают. Ничего не зависит от Киры.
Потолок давит на жалость, весь в каких-то разводах. Сложная система балок поддерживает его, и на каждой таится по птице – ждут, когда воровать зерно.
Птицам не надо платить. Птицам не писан закон.
Некто в толстовке, на которой без жирных пятен разве что бейдж «менеджер по свежести», передвигает кефир: сильно просроченный ставит поближе – при любом раскладе его проще будет продать.
Бабуля тырит пакеты посреди овощного отдела. Активно мотает на руку, потому что пенсия маленькая, а пакеты бесплатные, у директора не убудет, всю страну растащили в пакетах эти директора магазинов. Километры мешков всё тянулись шуршащей лентой, слой за слоем скрывали бабулину руку. Нужно больше и больше пакетов. Бесцветная киноплёнка, на которой заснято ничто. Кире тоже так хотелось в них завернуться, укрыться, укутаться со всех сторон. Схорониться – чтоб с надписью сбоку «осторожно, хрупкий товар». Гроб хрустальный, как кокон пакетный.
Кира находит хлеб и прижимает к себе.
Холодный.
– Я кому говорю, всюду ложь! А ты куда ложишь? Ты на одну полку их ложишь, надо везде! – возмущённо кричит продавщица.
Воробей слетел вниз, пачка пшёнки посыпалась тонко. Воробей (который не слово: если надо, то можно поймать) на секунду припал – да и скрылся. Кто там пачку расколупал, может, Кира?
Охранник косится от нечего делать. Он болен желанием нужности – так прям и ждёт, молится божеству всех своих кроссвордов с ютубом: пусть какая-нибудь бабуля не заплатит за три пачки масла, а он может её изловить, станет и молодец, и герой. Но пока что даже тот воробей украл куда больше, нежели Кира. А бабуля мотает пакеты. И куда ей их столько домой.
Воробей смотрит.
Охранник смотрит.
Бабушка с бронированной пластиком рукой всё шуршит и шуршит, но ведь смотрит.
Кира тоже смотрит на всех, когда те не замечают, и удивляется, почему взгляд не оставит в одежде дыры. Это другой, умоляющий взгляд: сделай меня как они.
Всюду ложь.
не смей думать не думай не думай не думай пора на работу
Они останутся там стоять и смотреть в магазине: персонажи привязаны к данной локации, и нет им пути никуда.
Где-то вдали шумела вода или же кровь в ушах. Кира остановилась и приложила пальцы к вискам. Шумело всё-таки в Кире.
* * *
Птица оттолкнулась от ограждения моста и полетела над ещё не успевшей замёрзнуть водой. Белый – не цвет, но отсутствие цвета: стоило солнцу коснуться перьев, и те впитали тепло и силу, и птица стала цвета солнца.
Одно, маленькое совсем, пёрышко упало в воду. Коснувшись воды, оно зашипело, а может, шипела та грязноватая пена, что волны приносят к берегу. Мост дрожал от проезжавшего по нему трамвая. Это гудение проникало в мозг и спасительно позволяло не думать о перьях и не думать вовсе.
* * *
Как же холодно.
Кира куталась в плед, так вот в нём и ходила, походила на крупную пёструю моль.
В хостеле отключили тепло. Событие вроде вполне рядовое, но скульптор пребывал в невероятном возбуждении. Пританцовывал с энтузиазмом, повторяя, что у какой-то там тёти было четверо сыновей и все как один не ели, не пили, а только пели.
Короче, занимался обычными для себя делами. Песнь была рекурсивна, а потому не знала конца. Скульптора поражало, что никто больше не знает такую хорошую песню, и всех подначивал:
– Ну же, друзья! Почему не подпеваете?! Это отличная согревающая песня. Надо делать вот так. Ручками, ножками, головой!
Друзьями назначены новенькие. Они жались к стене, нервно строили планы побега. Не ведая, чем бы их ещё покорить, скульптор рассыпа́л жемчужины юмора вроде того анекдота, где идёт медведь по лесу, видит – машина горит, сел в неё и – что бы вы, ребятки, думали? – сгорел. Изумительная история, и финал такой неожиданный.
Скульптор взглянул на Киру, замешкался и притих.
Новенькие благополучно удрали, что-то пролепетав про экскурсии. Всем понятно, что они врут. Отродясь здесь не водят экскурсий.
Скульптор мнётся, потом выдаёт:
– Я так расстроился, когда узнал про твоего отца. Он настоящий герой. Я ведь тоже однажды чуть не попал под машину. Он же кого-то так спас. Понимаешь. Это ведь мог быть я. Он как будто меня спас.
Кира кивает.
– Я ему посвящу работу, – расщедрился скульптор.
– Круто, – говорит Кира.
– Да, – соглашается скульптор. – Да.
Ну раз он так говорит, то, конечно, теперь всё нормально, теперь папа, считай, воскрес.
Телефон терзали звонки, раз за разом строя сюжет: некая дама мыслит себя такой одинокой волчицей, её сложно приручить, поэтому надежды на романтическую связь пусты и нелепы. Её поклонник хорохорится, делая вид, что ему с этим проще простого. Оба неудовлетворены.
По телевизору шёл какой-то фильм. В руках у героя что-то дымится, смазанное, туманное, чтобы было понятно – это точно не сигарета. Он подносит это ко рту и выдыхает дым. Всем известно: курение сокращает жизнь, неопределённость как будто её продлевает.
Коллега болтала с мужчиной. Тот последовательно сокращал дистанцию между собственной рукой и её локтем. Коллега вся превратилась в локоть. Никакая сила в мире не смогла бы заставить её сдвинуться с места. Время спустя поза стала казаться неудобной, и она постаралась сменить, извиваясь всем телом, – так, чтобы рука оставалась на месте, точно склеившись со столом.
Кира заметила эти попытки. Бесстрастно отметила: это означает симпатию.
Тот, кто касался локтя, не знал, что рядом с ним происходит. Что от локтя уже потянулись незримые нити, путают, щупают, пробуют осторожно на вкус – легко будет переварить? Потребность в любви была больше, чем те, кто хоть как-то её затыкал. Потребность сжирала: сперва затыкавших, а после, совсем ошалев, напрочь выйдя из-под контроля, бросалась на ту, что кормила и грызла её по ночам. Коллега просила: прости, подожди, я найду тебе новую пищу.
Скульптор тоже заметил попытки и заметно расстроился: ему рисовалось, что все женщины хостела сплошь влюблены в него, и оскорбляло, если реальность вносила свои коррективы. Он раскрыл заляпанный спецвыпуск «Мира пельменей» и начал намеренно громко зачитывать Кире рецепт пельменного пирога. Иногда с недовольством косился на мирно болтавшую пару. В лице Киры он, как обычно, нашёл идеальную слушательницу[5].
Песня об одинокой волчице повторилась ещё раз, прежде чем до коллеги дошло, что это её телефон.
Кира смотрела на банку с чайным грибом. Гриб настоялся. С него, конечно, уже можно было брать плату как с гостя: разросся до нереальных размеров, и каждая новая банка становилась ему тесна. Он ел сахар, старательно производил мутноватую тошную жижу, которую, по идее, надо бы пить, но Кира не помнит, чтобы кто-то пил, разве что скульптор, но со скульптора чего взять, он и из лужицы выпьет.
У чайного гриба внизу белёсые нити, точно серая борода. Совсем старик.
Хозяйка, когда приходила проверить, как тут дела, запрещала звать гриб чайным грибом, говорила – «нет, это комбуча, очень модный и классный напиток». Ребрендинг не спас чайный гриб: оттого, что назвали комбучей, вкуснее нисколько не стал. Впрочем, и хостел походил больше на общагу, но раз сказала, пусть так и зовёт.
Скульптор хватает банку, поспешно наливает себе грибной воды – от монолога во рту пересохло.
Коллега подходит, жалуется на жизнь, на звонки, которые сбрасывает: это от них телефон протяжно взвывает волчицей.
Кира не хочет её получше узнать, узнает чуть лучше – станет немножечко ею, будет тогда ещё в Кире меньше от настоящей себя. Да и так ничего не осталось.
Но слишком уж рьяно ныряет в языковую среду, слишком старается для мимикрии.
Стоит послушать – и на ум полвечера после приходят совершенно невозможные какие-то слова, как, например, «хотелки», и удивляешься: неужто и правда кто-нибудь так говорит, и понимаешь: сама только что так сказала и нахмурилась не по-своему – украла да примеряешь.
Кира переставляет коллегины фразы, генерируется ответ – нового ничего не прибудет, говорящая нейросеть. Коллега слышит свои же слова, мелко и часто кивает: боже, так верно, так верно.
Кира откуда-то помнит, как правильно надо кивать.
Так хотела отдельности, но ловила себя то и дело на том, что кто-то опять произносит: «Не знаю, зачем это тебе говорю», и пустота точно бы зарастает, но это только ведь кажется. На деле – забилась чужим, да и то ненадолго, всё упавшее ухнет в яму такой глубины, что не слышно ни шума, ни всплеска: там не бывает звуков.
И коллега открывает рот, дерево за окном шевелит в такт остатками сброшенных листьев. Она закрывает рот – значит, окончена речь.
Здесь – сочувственно улыбнуться. Это несложно. Почти как искать фото, где все мотоциклы, отмечать все подряд светофоры, даже – невероятно! – выбрать уличные гидранты, никогда таких не видав. Если получится раз, значит, сумеешь и в прочие. Она чуть растягивает уголки рта. Нужно усилие. Кожа тянется, как резина, немного пружинит обратно.
– Помнишь, были такие дети индиго? Да какое там помнишь, ты-то, наверно, тогда даже не родилась. Тесты в газетах публиковали. Я их тогда вырезала, хранила, думала, что совпадает: всё, что писали, как будто бы про меня. Что это я такой ребёнок индиго, понимаешь. Что у меня аура синяя. Тесты говорили, что да. И вот я не знаю, синяя она или нет, обман, или в самом-то деле был там шанс на другое, или не было ничего, – говорит коллега. – Может, я бы вообще по-другому жила.
Кира не может больше не слушать, Кира смотрит в упор, и приделанная улыбка понемногу сползает с лица. Если дать совсем вот немножко, возможно тогда, что ничего не случится?
Фразы бегут друг за другом, нанизываясь произвольно, отвечая теперь тому, что не высказано в словах: то, что хочет услышать; то, что может утешить; то, что, в конце-то концов, позволит от Киры отстать.
– Ты меня так понимаешь, – химической ядерной мятой выдыхает на Киру коллега, пятернёй хватает плечо.
Кира вздрагивает всем телом, будто кнопку какую нажали. Рефлекторно отшатывается.
Коллега сглатывает, хочет сказать ещё доброе. Боль, теснившая её, куда-то взяла да ушла, надо чем-то в ответ одарить. Она не умеет про это сказать, и всё тёплое, близкое остаётся в глазах, а вслух произносит, желая самого лучшего, вот прямо как для себя бы хотела:
– Мужика тебе хорошего.
Это значит спасибо, но Кире становится пусто.
Кира успевает качнуть головой вслед коллегиной мощной спине, не то грозной, не то материнской. Чужая боль, крутившаяся неподалёку, нашарив вмиг пустоту, просачивается внутрь. Ненадолго становится тихо, обманчиво тихо, а после – без предупреждений, вот так вот прям сразу – начинается, третий звонок.
Мелодия повторяется вновь. Одинокая волчица так и манит, проклятая, ох как же непросто с ними бывает.
Сложно держаться, сложно держаться.
Она прикрыла глаза, но и по ту сторону век тут же замельтешили лица, будто тьма стала памятью.
Думает: не хочу смотреть сквозь. Притворяется: не понимает. Она не умеет, не надо.
Секунда – чересчур резкий качок головы – перед глазами тысяча искр – рождается новая галактика – началось.
В момент, когда сознание ускользает и начинаешь цепляться за обрывки реальности, важным становится что угодно: вдаль уносящийся смех коллеги; поролон, выбивающийся из раненого кресла; лунные отпечатки ногтей на тыльной стороне ладони.
На кухне подтекает кран. Капли падают с грохотом, кажутся отлитыми из металла. С каждым новым ударом Кира моргает.
Чайный гриб распустил щупальца, рвётся на свободу.
Слышно, как там, сверху ли, снизу, внутри ли батареи – кто знает, – разговаривают соседи, и слов не разобрать, и голоса отдаются бряцаньем металла.
Мир поначалу виделся полосатым, зарешеченным тёмно-русыми прямыми прядями, и спасительные полоски хоть чуть-чуть заслоняли свет, а после не стало ни света, ни темноты.
Внутри головы говорили, перебивая друг друга, с десяток голосов, и невозможно заставить их замолчать. Ты существуешь одновременно во множестве тел. Ты чувствуешь то же, что и они.
Что из этого «я» – та малая часть, которая просит прекратить её мучить, или те, что терзают её?
Голоса в голове галдят.
Кто останется, если я их прогоню?
больно удивление что это? БОЛИТ БОЛИТ испуг ДА ЧТО ЭТО?! любопытство гнев раздражение вина БОЛИТ
– Эй, эй! – кричит скульптор.
– Сколько пальцев показываю? Сколько пальцев? – испуганно тараторит коллега, помнившая только, что в какой-то ситуации надо непременно показывать пальцы.
– Уйди ты с пальцами своими, – отодвигает её кто-то из постояльцев (гостей, надо говорить «гостей»!) и прикладывает к Кириному лбу прохладную банку с чайным грибом. Гриб колышет всеми своими слоями и нитями, он беспокоится тоже.
В тысячный раз телефон сообщает: одинокая волчица избирательна в выборе партнёров.
Реальность дробится фрагментами, замедленным кинофильмом, очень медленно, кадр за кадром. Унизительную киноленту Кира будет крутить много раз перед сном. Вежливо улыбнувшись, слегка отстраняет банку, показывает коллеге ровно столько же пальцев, сколько и у неё, и у многих других людей тоже.
– Ты как?
Кира глядит из-под полуприкрытых век, точно думая, отвечать или всё же не стоит.
– Норм, – успокаивает всех Кира.
– Хорошо, что тут столько людей, – заявляет вдруг скульптор. – Тебе не о чем волноваться. Смотри – всюду люди.
Это как раз и пугало.
И вот что
сказала бы Кира, если бы захотела.
Мои записные книжки пусты.
Они теперь научились сами, когда захотят, открывать книжный шкаф. На днях эта башня блокнотов всё-таки рухнула, задев дверцы. Ненаписанное рвётся наружу. Ноет где-то пониже шеи, повыше груди: невысказанным словам тесно внутри.
Мне продолжают их дарить – в мягких и твёрдых обложках, в линейку, в клеточку, без тех и других, с плотной шершавой бумагой, полупрозрачными хрусткими листами.
Это дежурный подарок. Так дарят носки или дезодорант: есть стопы, подмышки – значит, тебе это нужно. Я принимаю их – эти книги, написанные никем, – и складываю. Скоро для них не останется места.
Одни предлагали вести дневник – наверняка потому и совали тетради, другие твердили: выговорись – полегчает, в обоих случаях суть одна. Рассказывали истории, как им приходилось страдать. И как не им приходилось страдать, но кому-то, кого они знали. Боль пытались перековать: посмотри, ведь другим было хуже. В тот раз тоже пытались чем-то таким утешать, мол, другие растут без отца, а тебе повезло его знать – и до того это было неловко, что только кивала и обдирала лепестки роз из букета, мяла в руке. Рука потом долго пахла увядающими цветами, ничем невозможно отмыть. Запах пробрался под кожу.
Когда говоришь «мне больно», а в ответ «это что, я вот умер», никому не становится легче, а становится больно + стыдно.
Помню только ещё, что приходила домой и обнимала отцову дублёнку и говорила дублёнке «привет».
Я не знаю, где фотоальбом, не держу на виду фотографий: его лицо и без того слишком врезалось в память.
Когда вернулась способность мыслить, первыми пришли цифры. Мозг вёл подсчёты: первый понедельник, первый праздник, первое лето. Никто не поставил на паузу, не предложил переждать. Время вдруг ошалело. Незначительное, пустое растягивалось на часы. Всё водишь, водишь щёткой бесчисленное количество раз, успеваешь рассмотреть, насколько это возможно издали, замерших в полёте птиц за окном. Смотришь, как мыльные пузырьки разбегаются по тарелке – и как лениво их сносит вода. Говоришь – и не разбираешь речь, так медлит любой собеседник, рот с усилием разлепляя и каждое слово деля не на слоги даже, на звуки.
Я не могла удержать в голове имена, события, даты, а потому вела себя так, будто после каждого прожитого дня уже не будет другого.
Отчасти оно так и стало.
Это он, не я, должен был бы оставить письмо ли, дневник. Я бы прочитала, вникла в эти лабиринты из слов (отец никогда не писал просто слева направо: кирпичики абзацев падают под немыслимыми углами, слова свиваются в спирали, потесняя друг друга), отыскала бы знак или ключ. Но не было ничего: ни памятных предметов, ни записок, ни таинственных фотоснимков. Была разве что переписка, вот только туда я не лезла. Даже когда размещала новость о похоронах. Оставь свои разговоры себе. Со стороны – жест почтения, на деле – почти что месть: в конце концов, отец тоже не проявлял излишнего внимания к моей жизни.
И неизлишнего тоже.
Перебирать отцовы бумаги – будто снова его хоронить, и, когда мама, грозно нависая, говорила «да выбрось не глядя», я всё ловила себя на мысли: что, если в этих вот черновиках его гениальный роман. Но при этом заранее знала: даже всё тут перелопатив, не обнаружу того, что ищу.
– Ой, вот остался один – много ты тут написал? – вдруг насмешливо говорит мама, и оттого, что фраза обращена к явно отсутствующему адресату, это выглядит прямо как в театре, когда вопросом бросаются в зал. Зал в единичном лице пожимал шелушащимися плечами.
Ощутимо задвигался воздух, дрогнули рюмки в серванте, листы усеяли пол.
И чей-то голос механически произнёс: «Мам, ну ты чего. Тихо, тихо. Я чаю поставлю, да? Я поставлю». Кажется невозможным наступить на бумаги, но когда это происходит, то под ступнёй не разверзается бездна, и это теперь единственное, что тяготит.
О мёртвых либо хорошо, либо.
Либо.
Ночь полна слов, они заполняют пространство – и в небе черно от нагромождения букв. Первые солнечные лучи налагают запрет: днём будешь нема как рыба.
Ответ 4
Я принимаю решения примерно так же легко, как всегда
приблизительно месяц назад
Яся ищет. Она занята.
Если не можешь найти – значит, меняй суть запроса. Быть не может, чтоб не помогло.
Там, где она смотрит, есть всё. Даже то, что никто никогда не захотел бы узнать.
На экране мелькает новое сообщение. Не меняя выражения лица, Яся шлёт отправителя в чёрный список, не тратя времени даже на то, чтобы рассердиться. Быстро скринит, кидает друзьям.
Злость потом. Сейчас Яся ищет.
На кухне темно, только два ярких оконца – телевизор да телефон. Светит прямо на подбородок, смартфон продолжает лицо – будто Ясю туда засосёт. Может, так оно и случится. Или уже. Не заметила.
От энциклопедий – к сомнительным сайтам, где половину экрана скрадывает тизерная реклама, слагает невероятные мифы. Страшные, мерзкие, кликабельные – это для смелых, кто отважится всё же узнать. Или для глупых, что иногда равноценно.
Похудеть всем поможет простая советская…
ЧИТАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ В ИСТОЧНИКЕ.
Ком червей вас наутро покинет, если пить одну ложку…
ЧИТАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ В ИСТОЧНИКЕ.
Акушеры ахнули, увидев, что лезет из…
ЧИТАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ В ИСТОЧНИКЕ.
Окунись в тот источник, там где-то на дне знание об устройстве Вселенной.
Яся хмурится. Если там, в источнике, не большая белая птица, то катитесь вы все со своими сенсациями, катитесь, как ком червей, не успевая ахнуть.
Бесполезно.
В своих поисках Яся не преуспела.
Совсем уж отчаявшись, пав ниже некуда, решила зайти в группу, где всяких ищут. Там выкладывали фотографии – смазанные, чаще всего со спины, – и писали, к примеру: «Ищу девушку, сидела напротив в автобусе, с чёрными волосами, ты супер, найдись». Иногда – без знаков препинания, и завзятые шутники проявляли ярко себя, отпускав замечания вроде: «Кто с волосами, автобус?» С ума сойти, как смешно. Высшая лига юмора. А грамотеи писали: «Русский выучи сперва!» и в рекомендации этой тоже допускали ошибки. Была также тема: если на фото попал кто-либо ещё, например старикан, следовало писать, что ищут как раз старикана. Не, ну поняли, да, ну ведь да? Не девушку, а старикана! Можно было вот так пошутить, если не застолбил про автобус.
Если существовало когда божество-покровитель комментов, тогда его лик в юникоде – пугающий смайлик 😂, у которого то ли истерика, то ли радостное лицо. Юморески, случайные шутки, любая картинка не в тему – подношения, чтобы задобрить его, чтобы верить – смеётся до слёз, а не хохочет и плачет.
Никакую девушку в итоге не находили, и от постоянного повторения одних и тех же запросов, в одинаковой степени смазанных мутных фоток, все девушки сливались в одну, неуловимую, безликую, которую искал весь город, смутный идеал, Прекрасную Даму с тысячей лиц.
Яся быстро пролистывает фотки – птицы нет, видели только котёнка, собаку, чью-то зарплатную карту и просят отозваться всех увиденных незнакомок.
От последнего Ясе становится не по себе, будто это её фоткали втихаря со спины, про неё написали – ищу, отзовись. Вспомнилось резко, как, добираясь до дома, Яся ускоряет шаг, если показались вдали знакомые очертания, как руки в карманах куртки сжимаются в кулаки. И как отпускает пружина тревоги, если всё хорошо, показалось.
Новое сообщение.
– Хочешь, я его побью? – интересуется приятель.
Новое сообщение.
– Давай я его побью! – предлагает подруга.
Яся не хочет. И вовсе без драк здесь будет кому-нибудь плохо. Так непривычно: не делая ничего, всё равно оставляешь следы. А если совсем не решать – тогда будет плохо двоим. Хотя нет, если нехорошо Ясе, то страдает абсолютно каждый в округе: смысл хоть в каком-нибудь чувстве, если не с кем его разделить.
Новое сообщение.
– Я понимаю про птицу.
Яся цепляется за телефон, сжимает во влажной руке.
Тот знакомый зачем-то решил выслать голосовое – ну когда это было бы к месту? – и Ясе ужасно не хочется слушать, но если это про птицу, то пускай те голосовые будут хоть сутки кряду. Знакомый говорит задумчиво:
– Я, когда преисполнился (так и сказал – «преисполнился»), видел не птицу, но восьмиглазую крысу, вот что я видел тогда.
– Это другое, – сердится Яся. – Это вообще, блин, другое.
Аплодисментами заходится телевизор – чтобы спрятаться от соседей, нужно выбрать самостоятельно шум. Тихо тут не бывает. Домик такой, как коробка от обуви: прорезать в ней окна, отогнуть приглашающе двери – будет вовсе и не отличить. Стены уж точно картонные.
Это, наверное, первый их дом, где оказался телик. Мама его не включала, а Ясе он казался чем-то вроде ещё одного соседа, и, оставаясь одна, она то и дело отыскивала пульт, почему-то затянутый в мутный пакет и перевязанный тонкой резинкой, – и сразу как будто в квартире появлялся кто-то ещё. Иногда – даже целые толпы.
В телешоу кричит человек, человек из народа, рабочий. Кажется, сварщик. Он пытается канцеляритом описать свои чувства к жене. Та – бродячий сюжет телешоу – родила пятерых от соседа. Муж и ей, и другим объясняет, как ему больно, языком протокола – чужим, не своим языком, потому что не знает иных сложных слов, а то, что сейчас ощущает, – непросто. Нужны тут другие слова, не те же, какие ты достаёшь, чтоб поменять на штаны, шаурму там, травмат.
Человек с интернета – какой-то там блогер – уверяет, мол, 98,8 % детей внутри браков рождены от соседей по дому. Со статистикой спорить непросто, и практически невозможно – с блогером из самого интернета.
Пятеро грустных детей бродят по студии, натыкаясь на бортики, – студия сделана как-то навроде вольера, чтобы никто не кидался на зрителей или там, например, не сбежал. Дети чувствуют эту тревогу, но не умеют назвать.
Человек из народа бросается на соседа. Речь превращается в писк, так запикивают непристойность – всё как надо, ну дети же смотрят.