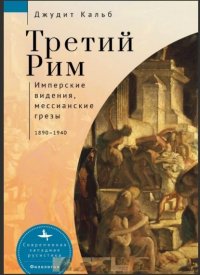
Читать онлайн Третий Рим. Имперские видения, мессианские грезы, 1890–1940 бесплатно
- Все книги автора: Джудит Кальб
Judith E. Kalb
Russia’s Rome
Imperial Visions, Messianic Dreams, 1890-1940
The University of Wisconsin Press
2008
Перевод с английского Елены Шинкаревой
Publishers edition of Russia’s Rome by Judith E. Kalb is published by arrangement with the University of Wisconsin Press.
© 2008 by the Board of Regents of the University of Wisconsin System. All rights reserved.
© Judith Kalb, text, 2008
© E. Шинкарева, перевод с английского, 2021 © Academic Studies Press, 2022
© Оформление и макет, ООО «Библиороссика», 2022
Слова благодарности
Когда я размышляю об истоках и эволюции создания книги «Третий Рим», мне вспоминается карикатура в журнале «Нью-Йоркер» от 24 апреля 2006 года, где отчаявшийся римлянин в тоге говорит другому римлянину: «Мой подрядчик заверил меня, что на Рим хватит одного дня». Основания моей версии города были заложены в диссертации, написанной в Стэнфордском университете (1996) при поддержке факультета славянских языков и литератур Стэнфордского университета, гранта от общества «Фи Бета Каппа» в Северной Калифорнии и Образовательного стипендиального фонда Американской ассоциации женщин с университетским образованием. Когда я работала над проектом, приводя его в нынешний вид, мне повезло получить финансирование от Фонда русских исследований Дэвиса при Колледже Уэллсли, Института Кеннана при Международном центре Вудро Вильсона и Колледжа искусств и наук при Университете Южной Каролины. Я благодарна сотрудникам Европейского читального зала Библиотеки Конгресса, Российской государственной библиотеке Москвы, Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге и Межбиблиотечному абонементу Библиотеки Томаса Купера в Университете Южной Каролины за неоценимую помощь.
Я бы хотела поблагодарить Стива Салемсона за то, что он предложил этот проект издательству Университета Висконсина, а также Гвен Уолкер и Шейлу Мермонд за помощь с публикацией. Также выражаю благодарность Джейн Барри за тщательное редактирование текста.
Я глубоко признательна Аврил Пайман и Михаилу Вахтелю, читавшим рукопись по просьбе издательства Университета Висконсин. Их детальные, проницательные и информативные комментарии вдохновляли меня и значительно улучшили окончательный вариант книги. Я бы также хотела поблагодарить и других людей, которые читали, комментировали или обсуждали различные аспекты моей работы. Среди них Стивен Баэр, Питер Барта, Николай Богомолов, Кэрил Эмерсон, Лазарь Флейшман, Джон Малмстад, Ирен Масинг-Делич, Пол Аллен Миллер, Стэнли Рабинович, Пол Робинсон, Дэвид Слоун и Эндрю Вахтель. Моего научного руководителя во время учебы в университете Принстона Эллен Чансез, которая увлекла меня изучением русской литературы и всегда отзывалась на мои творческие попытки с присущим ей умом, воодушевлением и интересом. Григория Фрейдина – научного консультанта моей диссертации в Стэнфорде, который неизменно поражает и вдохновляет меня своей бесконечной преданностью масштабным и амбициозным идеям и исследованиям. Выдающегося Михаила Леоновича Гаспарова, ныне покойного, который оказал мне честь в период создания книги, уделив внимание изучению ряда черновиков, поддерживая меня и щедро делясь знаниями.
Благодарю Яну Яхнину из Москвы, а также Марианну и Сергея Ланда, Юну Яновну Зек из Санкт-Петербурга за теплое гостеприимство и оживленные плодотворные беседы. Моих бывших студентов – Жанну Хаггард, Александра Дейнеку, Андре Рэмберта и Сару Сейлор – за безупречное содействие.
Моих родителей Мэдлен Кальб и Марвина Кальба, а также мою сестру Дебору Кальб, которые привили мне любовь к книгам и крепкое уважение к искусно созданному письменному тексту. Они внесли неоценимый вклад в этот проект, и я бесконечно им благодарна. Также выражаю сердечную признательность моему дорогому мужу и коллеге – слависту Александру Огдену, который оказывал мне постоянную моральную и интеллектуальную поддержку.
Я бы хотела выразить свою благодарность людям и учреждениям, которые сделали возможным русское издание моей книги.
Я признательна Программе завершения работы над рукописями Колледжа искусств и наук Университета Южной Каролины за финансовую поддержку. Особое спасибо моему талантливому переводчику Елене Шинкаревой и моим прекрасным редакторам Ирине Знаешевой и редактору по правам Ксении Тверьянович. Я хочу поблагодарить за помощь моих замечательных аспирантов Любовь Карташову и Дарью Смирнову. Наконец, я глубоко благодарна нашей дочери Элоизе Роуз Кальб Огден за ее постоянную и любящую поддержку, когда я завершала этот проект.
Части главы 1 прежде издавались в статье «Merezhkovskiis Third Rome: Imperial Visions and Christian Dreams», вышедшей в 2001 году в журнале «Ab imperio» (№ 1–2. С. 125–140). Глава 3 появилась в 2000 году в более ранней версии «А Roman Bolshevik: Alexander Bloks Catiline and the Russian Revolution» в «The Slavic and East European Journal» (Vol. 44. № 3. P. 413–428). Глава 4 с незначительными изменениями была опубликована в 2003 году под названием «Lodestars on the Via Appia: Viacheslav Ivanov s ‘Roman Sonnets’ in Context» в «Die Welt der Slaven» (B. 48. S. 23–52). Ранний вариант главы 5 был опубликован еще в 1993 году в «Soviet and Post Soviet Review» (Vol. 20. № 1. P. 35–49). Я благодарю редакции этих журналов за возможность переиздать материал. Благодарность за разрешения на иллюстрации выражаю компании Scala ⁄ Art Resource (Леонардо да Винчи, «Иоанн Креститель», Чезаре Маккари, Цицерон; Карл Брюллов «Последний день Помпеи») и попечителям Британского музея (икона Святого Иоанна Крестителя, 1450).
Введение
Зависть к Риму
Дороги к Риму
И когда я увидел наконец во второй раз Рим, о, как он мне показался лучше прежнего! Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но нет, это все не то, не свою родину, но родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде чем я родился на свет.
Н. В. Гоголь. Письмо М. П. Балабиной, 1838[1]
Недалеко от Колизея, в самом сердце Рима, возвышается базилика Сан-Клименте, названная в честь папы римского Климента, умершего примерно в 100 году н. э. Базилика датируется XII веком и расположена на руинах христианской церкви IV века, которая в свою очередь покоится на святилище I века, посвященном языческому богу Митре. Митреум возведен над другим уровнем, образованным стенами дохристианского периода, датировка которых восходит к эпохе Римской республики, предшествовавшей началу Римской империи. Поразительно, что на уровне IV века этого архитектурного палимпсеста с изложением римской истории находится гробница святых Кирилла и Мефодия, которым доверили создание первого славянского алфавита и распространение слова христианского Евангелия славянам. Там же видны памятные доски с благодарностью и настенные росписи, сделанные различными славянскими народами – русскими, словаками, болгарами, хорватами и прочими. Русская изображает Мефодия слева, в сопровождении первых слов Евангелия от Иоанна («В начале было Слово…»), а Кирилла – справа, с кириллическим алфавитом в руках. Перед этим свидетельством торжества русской религии и грамотности висит лампада. Объяснение данного неожиданного с географической точки зрения явления таково: кости святого Кирилла были захоронены его братом Мефодием в церкви IV века «справа от алтаря Св. Климента»[2].
Как посланники, несшие слово Божье славянам, оказались в Риме и как эта история связана с трудами группы русских авторов-модернистов, посвященными Риму, созданными в последние годы XIX и первые десятилетия XX века? Ответ на первый вопрос относительно ясен. Согласно легенде, в царствование римского императора Траяна (98-117 гг. н. э.) Климент был отправлен в изгнание в Крым для работы на местных каменоломнях. Несмотря на все превратности судьбы, он продолжил исповедовать христианские заветы, и тогда представители местной власти, противники христианства, привязали его к якорю и кинули в Черное море – фрески на стене базилики Сан-Клименте изображают эту легенду. Много веков спустя братья Кирилл и Мефодий проповедовали в Крыму. Предположительно в 861 году Кирилл обнаружил фрагменты тела Климента, а также знаменитый якорь на острове возле Херсонеса. После реконструкции тело с большими почестями было привезено в Сан-Клименте. Через год Кирилл умер, и папа разрешил захоронить его кости рядом с телом святого, которого он вернул в Рим [Boyle 1989: 5, 8][3].
Ответ на второй вопрос сложнее и составляет предмет моей книги. Русский вклад в создание базилики Сан-Клименте заявляет права на римское наследие, иными словами – на наследие, именуемое западной цивилизацией. Русское присутствие в сооружении, объединившем в себе наиболее яркие черты римской истории и культуры – от республиканских свобод до эпохи империи, от язычества до христианства, – подтверждает связь с русской историей на всех этапах и, что, вероятно, еще важнее, делает очевидным желание России получить признание, что сама эта связь существует. (Можно сказать, что статуя Александра Пушкина, полученная в подарок от российского правительства и установленная на знаменитой вилле Боргезе в Риме в 2000 году, является частью этой самой традиции (рис. 1).)
Рис. 1. Статуя русского поэта Александра Пушкина, установленная в садах виллы Боргезе в Риме в 2000 году. Подарок правительства Москвы Риму
В действительности русские претендовали на римское происхождение веками, начиная с историй о мифическом брате римского императора Августа Прусе, который, предположительно, был прародителем Рюрика[4], и заканчивая доктриной «Москва – Третий Рим». Хотя такого рода попытки обнаружить отзвук римского прошлого (Romanitas) в национальной истории присущи и другим странам, Россия в этом вопросе в какой-то степени уникальна. В отличие от других претендующих на римскость Россия никогда не была частью Римской империи и не входила в состав пришедшего ей на смену католического мира с преобладающей в нем латынью, который позже, в XIX веке, прославлял русский мыслитель Петр Яковлевич Чаадаев как образец объединения культур – в противоположность России. Однако на Россию оказала культурное и религиозное влияние та половина Римской империи, о которой западный мир склонен забывать: Византия, со столицей в Константинополе, провозглашенная Новым Римом в 330 году н. э. первым христианским императором Рима Константином. Византия подарила России православное христианство и, благодаря миссионерам Кириллу и Мефодию, исполненную веры славянскую речь.
«Первый», западный Рим преимущественно воплощал светскую власть и власть императора для различных русских правителей и их подданных, тогда как «второй», восточный Рим, будучи преемником светской власти западного, в то же время мог выступать как символ религиозного благочестия[5]. Константинополь, таким образом, снабдил Россию альтернативной моделью Рима, делавшей упор на чудеса веры: все-таки именно здесь, на Востоке, изуродованное тело Климента воскресил вдохновленный Богом миссионер. Многие поколения русских претендовали на имперское наследие Рима и в то же время опирались на религиозный статус Византии, утверждая временами, как в случае доктрины Третьего Рима, свою уникальную способность объединить опыт и превзойти обоих предшественников. В процессе они сконструировали сложный миф о русском – или, как позже назовет его Марина Цветаева, скифском – Риме[6]. Русская табличка в Сан-Клименте воплощает эту замысловатую схему: она заявляет о русском вкладе в римскую историю, позволяя России приобщиться к римской культуре и императорской власти и в то же время парадоксально подчеркивая русскую духовность. И именно этот процесс – процесс идентификации с Римом, его отвержения, состязания с ним и грез о нем – описали и воплотили русские модернисты, посвятившие ему часть своего творчества.
В этом первом объемном исследовании произведений русских модернистов, писавших о Древнем Риме, я анализирую так или иначе связанные с Римом тексты пяти авторов: Дмитрия Мережковского, Валерия Брюсова, Вячеслава Иванова, Михаила Кузмина и Михаила Булгакова. Такой выбор авторов обусловлен намерением охватить разные жанры: роман, эссе, лирику и пьесы, – а также рассмотреть длительный период времени от истоков символистского направления начала 1890-х годов к революциям начала XX века и до сталинских чисток 1930-х. Я пытаюсь таким образом продемонстрировать, что непреходящая власть Рима остается мощным символом для русских писателей-модернистов, несмотря на разницу жанров и радикальные изменения исторических обстоятельств. Это не исследование, посвященное русским модернистам в Риме, их впечатлениям и воспоминаниям, хотя большинство авторов, о которых я говорю, посещали Рим, и я коснусь этого там, где это будет уместно в контексте моей аргументации[7]. Мой анализ в большей степени сосредоточен на том, как эти авторы использовали Рим в качестве инструмента мифотворчества, рассуждая о современной им России и создавая на римской основе идею русской национальной идентичности – не собственно предреволюционную или советскую, но плавно охватывающую оба периода. Используя многогранность символизма и связанную с Римом риторику, русские авторы-модернисты пытались интегрировать национальную историю России в архетипический западный нарратив и в то же время утвердить значимость роли восточного партнера, которым часто пренебрегают, в римской модели. Следуя концепции Фридриха Ницше, Владимир Соловьев и другие важные мыслители и авторы периода русского модернизма в своих работах, связанных с Римом, изображали будущее России через слияние с римским прошлым, трансформируя историю в вечный миф в новом символичном литературном пространстве России[8]. Русский художник считал себя центральной фигурой этого мифотворческого процесса, способной преодолеть временной (прошлое – настоящее) и пространственный (Восток – Запад) разрыв для создания своего собственного текстуально единого и вечного Третьего Рима. Перед тем как перейти к дальнейшему анализу, важно вернуться к истокам этих произведений – сперва к западным и русским идеям о Риме, которые их питали, также к предшествующим русским отсылкам к Риму, включая миф о Третьем Риме, – а затем обрисовать картину fin-de-siecle в Европе и России, которая вдохновляла этих авторов.
Притязания и наследие
Забавна и немного пугающа, не правда ли, мысль о том, что Восток и впрямь является метафизическим центром человечества.
И. Бродский. Путешествие в Стамбул[9]
В начале III века н. э. привыкший к космополитизму культур имперского Рима ученый высказал следующее мнение: «Во… всех странах региона Северного Понта [Черного моря]… нет скульпторов, художников, парфюмеров, ростовщиков и поэтов»[10]. Такой взгляд на страны за Черным морем как на нецивилизованные и в целом варварские был распространен долгое время: в мире греческой мифологии, к примеру, волшебница Медея из Колхиды (Западная Грузия) названа варваркой. Такой же взгляд разделяли многие жители обширной Римской империи: для римского поэта Овидия в 8 году I века н. э. ссылка в румынский город Томы (ныне Констанца) на ближнем побережье Черного моря стала причиной горьких стенаний, нашедших отражение в произведении «Скорби» (рис. 2)[11].
Рис. 2. Статуя римского поэта Овидия в Констанце, Румыния, прежде город Томы
Много веков спустя, после 550 года н. э., когда Римская империя уж давно была разорена нашествием германских племен, другие племена варваров, на этот раз славяне, наконец добрались в Грецию, проделав путь через Балканы. Области, занятые этими славянскими племенами, стали известны как «территории, лишенные государственности, чье население не платило налоги и не поставляло солдат императору», – территории, «обозначавшие конец имперского порядка»[12]. В IX веке, больше чем на тысячу лет позже, чем Платон записал свои диалоги с Сократом, и почти тысячелетие спустя после знаменитых выступлений Цицерона на Римском форуме, моравский принц Ростислав призвал помощь – пришедшую в лице Кирилла и Мефодия – для создания славянского алфавита и литургии на славянских языках. Киевская Русь присоединилась к христианскому миру веком позже, а спустя еще девятьсот лет величайшие романисты России XIX столетия все еще могли восприниматься как варвары западноевропейцами, которые часто отвергали саму мысль, что Россия относится к культурно развитым странам[13]. Россия пропустила не только период Ренессанса – она пропустила также классический период, обеспечивший Западной Европе значительную часть ее культурного наследия.
Изложенное выше – это типично западный нарратив, умаляющий или даже полностью отрицающий значимость восточной половины Римской империи и, следовательно, ее влияния на славянский мир. Это версия, рассказываемая западным «центром» мира о его восточной «периферии»[14]. В силу этого в ней игнорируются осложняющие факторы, включая древнегреческие торговые колонии на побережьях Черного моря, увековеченные римлянами, а также еще более значимые связи, установившиеся между Киевской Русью и Византийской империей в X и XI веках[15]. В глазах западного человека концепция Рима по преимуществу западная концепция. Рим символизируют Форум, Сенат и Колизей, копии которых наводняют Европу и Соединенные Штаты (страну, ставшую еще одним преемником Рима)[16]. Рим отличают массивные здания и своды законов, Рим – это свобода республики и власть империи. С ним можно связать католицизм. Но нельзя связать восточное православие, иконы и восточных монархов. Их можно упоминать только в кратких ссылках и сносках.
Для русских восприятие Рима в корне иное. Рим связан для них со многими ассоциациями, понятными и для западного человека. И многие русские прозападного толка стремились отыскать эти ассоциации со своей нацией. Но, в отличие от Запада, русские не забывают о роли восточной половины империи. Эта половина подарила им алфавит и религию – качества, отличающие Россию от Запада[17].
И все же Константинополю предстояло стать, по сути, вторым Римом, и подразумевалось, что его основание рассматривалось сквозь призму его западного предшественника[18]. Раннее самоопределение Константинополя через Рим создало некую модель для оценки Россией собственного культурного «прогресса» в современный период в сравнении с западным, римским стандартом[19]. Согласно исследованиям Лии Гринфельд, жители претерпевшей трансформации империи Петра I отличались в этом отношении безотчетным воодушевлением, но позже появились менее безапелляционные оценки, в которых показывалось обескураживающее превосходство Запада [Гринфельд 2013: 224–228]. Русские стремились утвердиться через притязания на равенство, нередко преувеличенные. Истоки этих притязаний зачастую лежали в классическом мире, особенно в Риме. В 1766 году Михаил Чулков инициировал создание сборника русских сказок о древних славянских царствах, которые по силе были равны или даже превосходили Грецию и Рим. А Михаил Ломоносов написал о «равенстве» России и Рима, указав на «подобия в порядке деяний российских с римскими» [Ломоносов 1766: З][20]. В тот период европейцы не признавали Россию равной себе и таким образом отказывали русским в их причастности к политическому и культурному авторитету Рима. Гринфельд полагает, что результатом такого отвержения стало развитие в некоторых русских ресентимента, в терминологии Ницше, а также появление соответствующего нарратива, в котором Россия изображалась лучше и сильнее, чем предположительно образцовый Запад, в особенности в отношении возвышенной русской души, определяемой в противопоставлении прагматичности и упорядоченной рациональности Запада [Гринфельд 2013: 254–255][21]. Вера значила больше, чем строительство арок и акведуков. Юродивый по могуществу превосходил императора[22]. Федор Иванович Тютчев в стихотворении «Эти бедные селенья» (1855) пишет, что Христос избрал и благословил Россию из-за ее бедности. Эти слова можно трактовать как пример такого рода тенденции[23]. Обратной стороной письма Чаадаева, в котором он осуждает Россию за отсутствие связи с европейским наследием, является более поздняя «Апология сумасшедшего» (1837), где мыслитель, ранее критиковавший свое отечество, утверждает, что допетровская Россия была по сути «листом белой бумаги», что и сделало реформы Петра возможными, и предвидит способность России «завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество» [Чаадаев 1991: 534][24]. И то отсутствие связи, которое оплакивал Чаадаев, превратилось в новом изложении в спасение России и мира.
Это тесное смешение конкурирующих нарративов отражает в некотором смысле создание Римом мифа о себе, которое на раннем этапе породило действенную модель «периферии», ставшей «центром». Когда император Август заказал Вергилию написать эпическую поэму о Риме, тот сознательно опирался на «Илиаду» и «Одиссею» в качестве образцов: Вергилию нужен был культурный авторитет Греции для создания собственной словесной империи[25]. В своей «Энеиде» Вергилий рассказывает историю «благочестивого» Энея, выжившего при победоносном сокрушении Трои греками в конце Троянской войны. Эней берет статуи домашних богов и, посадив на плечи старика-отца, покидает горящий побежденный город, чтобы вопреки всем напастям добраться до Италии и основать там Римскую империю[26]. Вергилий заявил права на культурное наследие другой страны с тем, чтобы подкрепить римское прошлое героической историей и предсказать выдающееся будущее Рима. Тем самым он обеспечил писателей на века вперед воодушевляющим нарративом о шатком, но богатом культурными ценностями восточном государстве, превратившемся в «империю без конца»[27]. Хотя русские правители, в отличие от других, никогда открыто не заявляли претензий на троянские корни [Уортман 2002, 1: 47], история Энея, а также созданная Вергилием литературная модель строительства нации находила глубокий отклик у русских писателей-символистов на пороге XX века, так как они использовали миф и пример Вергилия для собственных произведений, в основе которых лежала национальная идея.
Таким образом, процесс самоидентификации России с Римом является одним из элементов сложной и долгой мифотворческой традиции, начатой самими римлянами и составленной из ряда нарративов, определений и выводов. Хотя Петр I был первым русским царем, внедрившим романизацию в широком масштабе в свои планы развития России как империи, этот процесс начали его предшественники. Ричард Уортман пишет, что еще в конце XV века русские монархи присваивали характерные римские черты в попытке притязать на статус западных правителей, делавших то же самое: «Россия обрела Рим через Европу, затем присвоила классические символы как указания на собственную западную природу» (там же)[28]. Затем XVIII век обеспечил благодатную почву для этих ранних всходов. Как Вергилий признавал авторитет Греции, так Петр I осознавал, что ради осуществления цели стать частью Европы необходим Рим. Петр приказал перевести с латыни на русский ряд классических произведений, в его правление также были созданы латинско-русско-немецкий и латинско-русско-голландский словари, а также латинская грамматика[29]. И, что более важно, Петр и его последователи использовали Рим для продвижения его имперских амбиций: ведь он возложил на себя римские титулы императора и отца Отечества, праздновал свои военные победы традиционными римскими триумфальными шествиями и поощрял положительные сравнения России и Рима. После основания Петербургской академии наук в 1724–1725 году в новой столице Петра, которая сама была создана по римской модели, русские ученые получили место и государственную поддержку, чтобы изучать Древний мир, и это стало началом новой впечатляющей традиции научных исследований в данной дисциплине [Фролов 1989: 58–60].
Екатерина II продолжила начатую Петром традицию романизации – процесс, символом которого стал Медный всадник, статуя Петра I, вдохновленная римским изображением императора Марка Аврелия, с посвящением на русском и на латыни. Она также поощряла писателей, таких как Михаил Херасков и Василий Майков, изображать Рим, могущественную империю, как модель расширяющей границы имперской России[30]. Как отмечает Стивен Л. Баэр, «былая слава Рима обозначала будущую славу России» [Baehr 1991: 50]. Имперские завоевания Екатерины, включая присоединение Крыма в 1783 году, совершались с оглядкой на Римскую империю. Овладение территорией, которая когда-то была частью Восточной Римской империи, могло рассматриваться как первый шаг на пути восстановления владычества православного Константинополя [King 2004: 140–147][31]. (Ее выбор имени Константин для одного из внуков тоже можно трактовать в этом ключе [Reyfman 2003: 64].) При Александре I Россия также присоединила часть Грузии. Эти новые владения стали существенным географическим подтверждением русских притязаний, ранее базировавшихся в основном на принятии Россией православия, и усилили связь с древним миром[32].
Русско-римские связи также выполнили свою функцию в менее приятном для императрицы и ее преемников ключе, когда Александр Радищев нелестным образом сравнил Россию с «более свободной» Римской республикой [Baehr 1978: 13]. В начале XIX века восхищение Римской республикой стало широко распространено среди приверженцев реформирования русского самодержавия [Baehr 1991: 161–162]. Декабристы, восставшие против существующего режима в 1825 году, вдохновлялись древними авторами, такими как Плутарх, Ливий и Цицерон, и в сибирской ссылке продолжали заявлять об их значимости. Наиболее важным для декабристов был Тацит, автор исторических трудов о Риме I века [Кнабе 2000: 132–133]. Тацит оказал серьезное влияние и на Александра Сергеевича Пушкина. Тот читал труды римского историка, работая над драмой «Борис Годунов» в 1825 году. Как отмечает Г. С. Кнабе, Пушкин заимствовал мифологические имена для своих литературных текстов из эллинской Античности, но, когда он писал о культуре или истории Древнего мира или отмечал их связь с Россией, он имел обыкновение опираться на римский материал[33].
В то же самое время русские знакомились с объектом своих сравнений. Советник Петра I Петр Андреевич Толстой, совершивший путешествие по Италии в последние годы XVII века[34], стоял особняком среди современников, но уже в первой половине XIX века многие крупные русские писатели и художники посещали Вечный город и даже жили там продолжительное время – например, Николай Васильевич Гоголь во время создания первого тома «Мертвых душ» (1842)[35]. Итальянские картины русских художников Карла и Александра Брюллова, Александра Иванова, Сильвестра Щедрина и других свидетельствуют о романтическом феномене «тоски по Италии», распространенном среди образованной прослойки русского населения в первой половине XIX века. «Последний день Помпеи» (1830–1833; рис. 3) Карла Брюллова и «Явление Христа народу» Иванова (1837–1857), ключевые работы русского искусства XIX века, создавались в Риме [Hamilton 1983: 7][36].
Рис. 3. Карл Брюллов. Последний день Помпеи, 1830-1833
Те русские, кто предпочитал оставаться дома, могли наслаждаться многочисленными переводами на русский латинских текстов, особенно стремительно появлявшимися во второй половине XIX века, когда Афанасий Афанасьевич Фет стал главным переводчиком латинских поэтов, таких как Вергилий, Овидий и Ювенал [Гаспаров 1995: 10–11][37]. Тем временем стремление русских ассимилировать классическое наследие отразилось и в сфере образования: XIX век стал эрой классических гимназий в России, хотя требования к студентам сильно разнились в зависимости от преобладающего курса[38]. При Сергее Семеновиче Уварове, занимавшем пост министра образования с 1833 по 1849 год, в русских гимназиях акцент делался одновременно на латынь и древнегреческий[39]. Школьная реформа 1849 года снизила требования к изучению древних языков (латынь все еще требовалась тем, кто стремился получить университетское образование, но древнегреческий – нет), но после 1871 года, при министре образования Дмитрии Андреевиче Толстом, начался новый период более строгих требований к выпускникам, включавших финальный экзамен по древним языкам (там же, 217). Классицизм Толстого был связан с консервативными политическими идеями, суть которых состояла в поддержке имперской власти, и потому латынь, вызывавшая ассоциации с империей, ценилась им выше греческого – несмотря на акцент, делавшийся на православие, которое отвечало его консервативным идеалам (там же, 217–218)[40]. И все же приверженность Толстого классической эпохе вызывала разочарование и недовольство многих студентов: ведь упор в преподавании делался на грамматику, а не на содержание. Мережковский, ходивший в Третью классическую гимназию в Петербурге, позже напишет следующие лишенные всякого энтузиазма слова: «То был конец семидесятых и начало восьмидесятых годов, – самое глухое время классицизма: никакого воспитания, только убийственная зубрежка и выправка» [Мережковский 19146,1:290] Писатель Александр Амфитеатров также вспоминал этот период как удручающее преобладание грамматики над идеями [Амфитеатров 1996, 2: 571].
Рис. 4. Участники постановки комедии «Менахми» римского поэта Плавта в Керченской гимназии, 6 января 1914 года («Гермес», март 1914)
Однако, как отмечает А. А. Носов, такая картина не была однородной: в частных учебных заведениях преподавали превосходно, включая гимназии Франца Краймана и Льва Поливанова, что приводило к восторженному восхищению классическим миром у восприимчивых студентов. Андрей Белый, посещавший гимназию Поливанова, вспоминал присущий тому живой стиль преподавания, включавший энергичные шествия перед учениками в стиле римских сенаторов, облаченных в тоги[41]. И все же число жалоб и сомнений росло, и по окончании толстовского правления в Министерстве образования в 1890 году курс снова поменялся, и упор на древние языки стал меньше.
Несмотря на свои недостатки, классические гимназии, и в особенности их особое внимание на латынь, обеспечили научную основу для создания текстов русских модернистов, посвященных Риму[42]. К концу XIX столетия российские читатели, в особенности те, что окончили классические гимназии, получили доступ к лучшим произведениям признанной литературы на латыни (рис. 4). Эта светская, прозападная линия восхищения Римом развивалась одновременно с традицией, выводившей на первый план восточные, религиозные истоки России: традиция считать Москву, лицо всей России, Третьим Римом.
Филофей и его толкователи
Когда же пал Царьград и с ним прирожденный защитник православия, царь греческий, и Иоанн Васильевич женился на греческой царевне и на него перешло, вместе с царским венцом и царскими регалиями, высокое звание, права и обязанности великого и единого поборника истинной веры <…> И не одни русские люди разумели так.
А. Н. Майков. Москва – Третий Рим (1869)[43]
Формула, сегодня уже превратившаяся в клише, гласит: «Все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя, согласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать»[44]. Вероятно, самым известным моментом самоидентификации России с Римом стала доктрина Третьего Рима, истоки которой восходят к началу XVI века, когда псковский монах по имени Филофей написал ряд писем различным государственным мужам, в том числе и царю Василию III[45]. Эта доктрина в последующие годы использовалась для подкрепления экспансионистских настроений Московского государства[46], но первоначально она основывалась на преимущественно религиозном тезисе, гласившем, что Россия приняла в свои руки мантию православия, потерянную Византией после ее завоевания турками-мусульманами в 1453 году Как хранительница православной веры Россия должна была ценить эту веру и ее духовных представителей перед лицом растущего мирового могущества [Andreyev 1959:29–30]. Концепция Третьего Рима, сфокусированная на религиозном начале, опиралась на предания прошлого, такие, как «Повесть о белом клобуке» – легенду конца XV века, в которой рассказывается о том, как священное одеяние пересылают из Рима в Константинополь, а затем в Россию, оставшуюся единственной защитницей «истинной» христианской веры. Такой акцент на православных священных традициях России создал почву для русских староверов, продолжавших продвигать идею Третьего Рима как видение идеального будущего России – преданного, как в пророчествах о последних днях, проводимыми в России церковными реформами – даже после того, как доктрина перестала широко использоваться в XVII и XVIII веках [Рое 2001: 418–419][47].
В середине XIX века интерес к Третьему Риму возродился, в особенности после публикации различных источников, включая «Повесть о белом клобуке» и одного из писем Филофея (оба произведения были изданы в 1861 г.)[48]. Маршалл По полагает, что следующим поворотным моментом стало исследование Владимира Степановича Иконникова 1869 года о культурной значимости Византии для России. Иконников видел в доктрине Третьего Рима утверждения русского мессианизма – Россия может избавить мир от грядущего апокалипсиса, искупив грехи своей верой, – таково традиционное для рубежа XIX и XX веков прочтение слов Филофея[49]. К концу XIX века эта доктрина стала широко известна и упоминалась как в публикациях престижных научных журналов, так и в популярных газетах. К примеру, после визита Николая II в Москву на Пасху в 1903 году газета «Московские ведомости» заявила о священном статусе города со ссылкой на идею Третьего Рима: «Здесь, среди кремлевских национальных святынь, невольно шепчут ныне уста, это третий Рим, и четвертого не будет» [Уортман 2004, 2: 505].
И хотя идея Москвы как Третьего Рима изначально основывалась на словах Филофея, в этом мифе неизбежно присутствует имперское начало. В конце концов, Рим – это архетипическая западная империя, и доктрина Третьего Рима может восприниматься как пример translatio imperii, т. е. перехода империи, – этот средневековый термин обозначает переход политической власти от одной империи другой. (Тот факт, что доктрина Третьего Рима не допускает появления четвертого, придает мессианский оттенок тому, что можно трактовать как имперские притязания.) Возможно, сам Филофей исключительно заботился о религиозной стороне вопроса, но выбор формулировки в сочетании с политическим контекстом привел к тому, что следующие поколения русских и западных критиков видели в ней имперский подтекст. Доктрина возникла в период роста значимости Москвы: в 1472 году Иван III женился на Софье Палеолог, племяннице последнего византийского императора, и принял титул «царь» – слово, происходящее от латинского «кесарь», а также добавил двуглавого византийского орла к символам, олицетворяющим российскую монархию. Осознавая растущую мощь Москвы, посланники папы, заинтересованные в объединении Западной и Восточной церквей и восстановлении Константинополя, в XV и XVI веках обращались с этим вопросом к России. Не слишком разделяя устремления Рима, русские все же посещали Ватикан для проведения переговоров в этой связи в период русского Средневековья[50]. Василий Осипович Ключевский отразил свое толкование этой темы в статье 1872 года, написав, что Филофей «вполне проникнут действием мировых событий, изменивших церковное положение России»; другими словами, Филофей не просто фокусировал внимание на внешнем мире, но был осведомлен, как написал Ключевский, о том особом государственном росте, доставившем «русской иерархии церковную автономию» [Ключевский 1918: 33]. В коронационном альбоме Николая II идея Третьего Рима одновременно представлена в религиозном и государственном аспектах: как отмечает Уортман, цитируя этот альбом, когда Византия перестала быть православной, «императорское достоинство, созданное политическою жизнью властителей мира римлян, отныне стало достоянием оного русского православного самодержца» [Уортман 2004, 2: 466]. В 1914 году в книге, посвященной теме Третьего Рима, писатель И. Кириллов охарактеризовал Филофея как одного из «первых политических мыслителей России» и представителя «юного русского национального самосознания» [Кириллов 1914:25–26]. Таким образом, идея Третьего Рима помогла преодолеть прежнюю обеспокоенность статусом России в сравнении с Европой. Русская теократия, помазанная Богом, способна была превзойти все предшествующие царства и культуры, включая первый и второй Рим с их уникальностью.
Идея России как мессианского слияния восточных и западных тенденций превалирует в произведениях о Третьем Риме русского философа Владимира Соловьева, невероятно влиятельной фигуры для русских символистов начала XX века. Вдохновленный взглядами Федора Михайловича Достоевского на Россию, которые нашли отражение в его Пушкинской речи (1880), как на страну, способную объять характеристики всех народов, Соловьев настаивал на том, что могущество России как Третьего Рима лежит в ее способности соединить Восток и Запад. Для Соловьева, заинтересованного в слиянии Восточной и Западной церквей, Россия олицетворяла «третий принцип», который имеет шанс преодолеть различия между восточным «богочеловеком», сконцентрированным на религиозной вере, и западным «человекобогом», сфокусированным на человеческом, земном потенциале. Соловьев прославлял Петра I, чья деятельность по европеизации России сделала возможной ее интеграцию с Западом и, следовательно, обусловила ее роль посредника между культурами. В своей статье «Византизм и Россия» Соловьев писал, что языческий Рим пал из-за преклонения перед Цезарем, а Византия пала, потому что не следовала христианским принципам, которые представляла на словах. И России выпала роль доказать практическую осуществимость христианского государства [Соловьев 1911–1914, 7: 285–286][51].
Но с годами у Соловьева стали появляться сомнения в способности его нации жить в соответствии с миссией, которую он ей приписал. Крупное разочарование пришло к нему уже в 1881 году, когда царь Александр III отказался простить убийц своего отца Александра II. В своем стихотворении «Панмонголизм», которое позже процитирует Александр Блок в качестве эпиграфа к стихотворению 1918 года «Скифы», Соловьев предупредил читателей о новом нашествии монголов и отверг свою былую веру в Россию как в Третий Рим. Россия не вынесла урока из судьбы павшей Византии и забыла «завет любви», заявляет Соловьев, и потому стала добычей разрушительных сил Востока. Стихотворение завершается такими строками: «И Третий Рим лежит во прахе, \ А уж четвертому не быть» [Соловьев 1994: 393]. В «Краткой повести об Антихристе» (1899) Соловьев описывает, как обманчиво привлекательный Антихрист объединяет мир под своей властью. Но поскольку он не верует в Бога, это единство фальшиво и предвозвещает апокалипсис. Православные христиане, поддерживаемые другими христианами и иудеями, распознают Антихриста и после многих кровопролитий обретают истинное единение с Иисусом Христом и правят по его благословению тысячу лет. Вдохновленное религией слияние Востока и Запада происходит не в исторической России, а в постапокалиптическом мире, где Новый Иерусалим приходит на смену Риму.
Представление Соловьева об объединяющей роли Третьего Рима породило вокабуляр географических понятий, имеющих апокалиптическую окраску; им активно пользовались символисты, создавая свои тексты на тему Рима. Как показал Соловьев, «Восток» был подвижным понятием, вызывавшим самые разные и иногда противоречивые ассоциации – от христианской святости до монгольских варваров[52]. Связывая «Восток» с иррациональным началом, верой и христианскими истоками, символисты населили его скифами, «восточными деспотами» и «варварами», составлявшими резкий контраст с «рациональностью», которая для этих авторов ассоциировалась с европейским «Западом»[53]. Эти авторы опирались на идеи Соловьева и соединяли их с более ранними университетскими и гимназическими работами, устоявшимися русскими мифами и новыми открытиями русских и европейских ученых об античном мире и актуальности этого мира для современности. Их работы и произведения, вдохновленные ими, представляют собой сочетание таких влияний. Они также свидетельствуют о вере этих авторов в ту роль, которую искусство способно сыграть в создании концепции единого, находящегося в равновесии мира.
Обстановка fin-de-siecle
Это все строилось вокруг одного – мир, аккуратно возведенный вокруг старого классического вкуса, вокруг свершившегося факта.
Уолтер Патер. Марий-эпикуреец (1885)
К концу XIX века археологические раскопки Римского форума и Аппиевой дороги (рис. 5), а также ранних христианских катакомб явили физические останки Римской империи взору современных европейцев[54]. При Наполеоне, в 1810 году, французское правительство создало Комиссию по античным памятникам и гражданским зданиям Рима и, расширяя зоны раскопок, включило в них Форум императора Траяна, храм Юпитера и «Золотой дом» императора Нерона I века н. э. Последний фигурирует в беллетристических произведениях Валерия Брюсова и Михаила Кузмина. В середине века итальянские исследователи открывали и восстанавливали тропы, найденные возле Аппиевой дороги, «царицы дорог» Древнего Рима, часто упоминаемой в поэзии Вячеслава Иванова; дом Ливии, жены императора Августа I века н. э., а также катакомбы Святого Каллиста (рис. 6), к которым не было доступа в течение предшествующего тысячелетия. Катакомбы дали много ценной научной информации о традициях ранних христиан, и паломники устремились туда исследовать могилы, живопись и надписи. Мережковский описывал эти надписи в своем раннем произведении[55]. Всесторонне образованный немецкий историк Теодор Моммзен (который впоследствии послужил источником вдохновения для Иванова, писавшего диссертацию на латыни по системе налогообложения в Риме) помогал археологам середины века идентифицировать определенные места Римского форума (рис. 7), который к тому времени был восстановлен по большей части и освобожден от недавнего статуса коровьего пастбища[56].
Рис. 5. Аппиева дорога, «царица дорог» Древнего Рима, которую в значительной мере раскопали и восстановили в девятнадцатом веке (из книги П. Д. Чандлери «Прогулки пилигрима в Риме», 1908 год)
Восторги по поводу античного мира разгорелись с новой силой, когда в 1871 году археолог-любитель Генрих Шлиман обнаружил то, что провозгласил «гомеровской Троей».
Хотя в действительности драгоценная находка Шлимана датировалась периодом на тысячелетие раньше, чем события, описываемые в Илиаде, энтузиасты загорелись идеей о том, что сказания Гомера, послужившие культурным источником легенды Вергилия об основании Рима, могут иметь историческую почву. Русские археологи приняли активное участие в общем для всей Европы поиске останков классического прошлого. Под покровительством российской Императорской археологической комиссии, созданной в 1859 году, на юге России и в Крыму проводились раскопки, основанные на более ранних экспедициях, нацеленные на обнаружение следов древних скифов и греческих торговых колоний на побережье Черного моря, особенно в Херсонесе[57].
Рис. 6. Катакомбы святого Каллиста, ставшие доступными путешественникам и исследователям в девятнадцатом веке (из книги П. Д. Чандлери)
Рис. 7. Римский форум в 1821 году, видны древние и современные слои (гравюра Родольфо Ланчиани «Разрушение Древнего Рима», 1903)
Отчеты об этих раскопках, в числе участников и организаторов которых значились такие выдающиеся русские ученые, как Иван Егорович Забелин, Иван Владимирович Цветаев и Василий Осипович Ключевский, публиковались в самых известных журналах и газетах[58]. Анна Ахматова, в детстве проводившая много времени в Крыму, позже вспоминала проводившиеся там в то время раскопки и называла себя «последней херсонидкой»[59].
Ученые того периода придавали решающее значение популяризации академических знаний. Университетские лекции по древней истории привлекали жадную толпу слушателей. Как пишет И. С. Свенцицкая, Мережковский был одним из многих восторженных студентов историка Федора Федоровича Соколова, а Ключевский писал в своих мемуарах, что часто пропускал лекции по русской истории Сергея Михайловича Соловьева, если они совпадали с занятиями по Древнему миру Федора Ивановича Буслаева и Г. И. Иванова[60]. Успех Цветаева в создании Музея изящных искусств (сегодня известен как Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина) в сотрудничестве с Московским университетом свидетельствует не только о его самоотверженном стремлении показать античный мир русской публике, но и об интересе журналистов к этому предприятию, упоминавшемуся, в частности, в журнале «Гермес», который был «иллюстрированным научно-популярным вестником античного мира» [Захаров 1912: 249–252][61]. Среди других примеров ревностной популяризации исследований античности в России можно привести работы европейских историков, переведенные на русский язык с особой заинтересованностью, такие как работы французского ученого Гастона Буассье (в 1894 году Буассье был избран членом Петербургской академии наук) [Кнабе 2000: 210]. Труд «Закат и падение Римской империи» Эдварда Гиббона, впервые опубликованный в 1776-м, был переведен на русский в 1883–1886 годах [Васильев 1998: 11].
Особое влияние на восприятие античности как важнейшими писателями-символистами и их последователями, так и широкой публикой в России в целом оказал антиковед Фаддей Францевич Зелинский (Тадеуш Зелинский), поляк по рождению, выросший в России, учившийся и путешествовавший за границей и ставший в 1871 году профессором Санкт-Петербургского университета. В числе вдохновленных его речами студентов был сам Александр Блок[62].
Зелинский дружил с Вячеславом Ивановым и Иннокентием Анненским, был завсегдатаем сборищ литературной элиты Петербурга в начале XX столетия и признанным переводчиком и исследователем[63]. Используя свою роль публичного интеллектуала, он также выступал посредником и парламентером для широкой публики, возрождая к жизни Древний мир серией популярных лекций, статей и книг, рассчитанных на обычного слушателя. Его вера в связи между Древним Римом и современной Россией и убежденность в том, что возвращение славян к Античности может способствовать единению стремительно дробящегося на части мира, помогли Зелинскому кратко отразить суть характерных черт русского восприятия Рима на пороге XX века. В книге «Древний мир и мы», переведенной на английский в 1909 году под названием «Our Debt to Antiquity», он рассказал читателям, что «мы в своей умственной и нравственной культуре никогда еще не стояли так близко к античности, никогда так в ней не нуждались, но и так не были приспособлены понимать и воспринимать ее, как именно теперь» [Зелинский 1911][64].
Зелинский в особенности ценил античность, так как верил, что через изучение классики и восхищение ею нация может прийти к «цивилизованности», основу которой он видел в классическом наследии [Азоян, Малафеев 2000:263]. Цивилизованность влечет за собой ряд обязанностей: как позднее вспоминал Николай Михайлович Бахтин – он и его брат Михаил учились вместе у Зелинского, – «изучение классической филологии было не просто практикой, но средством возродить жизнь» (там же, с. 250). В частности, возрождение классики было призвано вдохновить то, что Зелинский обозначил термином «славянское Возрождение», – третий Ренессанс после итальянского в XIV веке и немецкого в XVIII[65]. Славянское Возрождение, основанное на убеждении Зелинского, что «то, что сплачивает воедино европейские народы, несмотря на их не только национальное, но и племенное различие – это одинаковое происхождение от античности» [Зелинский 1911], было призвано обеспечить возможную преграду для защиты от нового периода варварства, который, как он боялся, снова угрожал Европе. Ю. Азоян и А. Малафеев полагают: Зелинский верил, что возрождение и укрепление объединяющего начала западной цивилизации – а именно ее классической основы – могло воспрепятствовать наступлению этого вероятного конца[66]. Зная о том, какая дистанция в реальности существует между Россией и Римом (Зелинский даже утверждал, что латынь и русский язык представляют собой два противоположных полюса с точки зрения преобладания в них сенсуалистических и интеллектуалистических элементов соответственно [Зелинский 1911]), Зелинский тем не менее заявлял о главенствующей роли славянских народов в возрождении культурного наследия, воплощаемого Римом. Славянам предстояло принять классическое наследие Запада и, став его воплощением, в дальнейшем объединиться с Западом и тем самым спасти его.
Внимание Зелинского к роли прошлого при интерпретации настоящего было типично для развития исторической мысли в конце XIX века. Историческим трудам 1860-1870-х годов было свойственно преобладание позитивистских тенденций, применявших методы естественных наук для изучения прошлого [Hughes 1992: 31–32]. К концу века зародилась волна негативной реакции на историцизм, и новое поколение мыслителей предложило альтернативные методы в историографии. Отвергнув позитивизм, часть из них обратилась к историческому идеализму, согласно которому цель историка в возрождении духа ушедшей эпохи не только путем кропотливых исследований, но и благодаря силе воображения. Другие приняли теорию циклического развития истории и создали произведения о взлетах и падениях народов и актуальности прошлого опыта для современности[67].
При подходе к истории с точки зрения взаимосвязанности миф рассматривался как способ придания смысла настоящему через поиск корней в далеком прошлом[68]. Мифологические нарративы, основанные в прошлом на священных источниках, добавляли духовный аспект в изучение давно минувших эпох[69]. Как представление «реальности в идеалистических терминах» настоящее, или «временное и сиюминутное», можно было увидеть в свете «вечного и трансцендентного» [Gaster 1984:112]. Как утверждает Мирча Элиаде, историки стремились в своих произведениях «пробудить» античные миры через воспоминания и возрождение прошлого, что приводило, по мнению современных исследователей, к ощущению «солидарности» с ранними эпохами [Элиаде 1995, гл. VII][70]. Как писал Мережковский: «Скажи мне, какие у тебя легенды, и я скажу, какой ты народ»[71].
Для многих русских модернистов самой значимой фигурой в этой широкомасштабной трансформации исторической мысли был Фридрих Ницше, который в своей работе «О пользе и вреде истории для жизни» (1874) предупреждал современников о вреде «избытка истории», но тем не менее признавал, что переосмысленная история может послужить важной цели: «Только благодаря способности использовать прошедшее для жизни и бывшее вновь превращать в историю человек делается человеком (из преобразования этих событий выросла наша сущность)» [Ницше 1990,1:164]. В «Рождении трагедии» (1872) Ницше, получивший классическое образование, высказался против зачерствелости современной европейской мысли и предложил невероятно радикальную и влиятельную интерпретацию классического мира. Он отверг концепцию Иоганна Винкельмана о классической Греции как оправы для «благородной простоты и тихого величия»[72]и описал эту цивилизацию как противостояние рационального, индивидуалистического аполлонического начала и коллективного, оргиастического дионисийского. Позднее в труде «Так говорил Заратустра» (1883–1885) Ницше предложил свою концепцию «вечного возвращения», идеи, что один и тот же момент может повторяться бесконечно много раз. Таким образом, прошлое, настоящее и будущее сливаются. Как отмечает Стивен Керн, «в конце века стрела времени не всегда летела прямо и верно» [Kern 2003:29].
Новые способы мышления требовали новых способов выражения. Так же как позитивистский подход к истории был признан недостаточным, язык прошлого рассматривался как негодный для мира, где устоявшиеся понятия, такие как причинность, рациональность и само время, подвергались сомнению[73]. Как написал в 1893 году в своем дневнике Брюсов, вряд ли можно использовать язык Пушкина для описания понятий конца века [Брюсов 1927][74]. Писатели по всей Европе овладевали языком символов и мифов: «логическая» речь, как позже напишет Иванов, контрастировала с «мифологической», и символ был концептом, или «подлежащим», а миф развился позднее как его «предикат» [Иванов 1924:75–80]. «Из символа рождается миф», – объясняет Иванов [Иванов 1979, 3: 75].
Рим оказался плодотворным и притягательным символом для поэтов и художников; «золотой ветвью» Джеймса Фрейзера в его одноименном произведении 1890 года, посвященном изучению мифа, стала ветвь, которую Эней сорвал перед тем, как спуститься в подземное царство. В дальнейшем Рим – город, одновременно явившийся и воплощением империи и, в силу статуса «разрушенного», падения империи под влиянием новых сил, таких как христианство и «варвары», – порождал ассоциации с начинавшимся затуханием имперского периода в Европе. «Декаденты» отображали всем известный закат и падение Рима и призывали новых варваров уничтожить избыточное потребление в мире, порожденное «буржуазной» механизацией и развращающим прогрессом[75].
Русские с их многовековой историей противоречивого тяготения к Европе и западному христианству приняли участие в этом процессе мифотворчества. Для нового русского поэтического течения – символизма, возникшего в 1890-е годы в ответ на схожее более раннее течение во Франции и существовавшего примерно до конца 1910-х, Рим являлся ценным и многозначным символом, с помощью которого символисты и следующие за ними поколения русских авторов выражали историософские взгляды, в той или иной степени окрашенные соловьевским христианским идеализмом и апокалиптизмом, а также ницшеанской увлеченностью Дионисом[76]. Русские авторы, говоря словами Юрия Михайловича Лотмана, пользовались преимуществами «существенного семиотического полиглотизма»[77] Рима и возродили существовавшие веками ассоциации: Рим как вечный, архетипичный город, Рим имперский, республиканский, декадентский, языческий или христианский. При этом высокий накал революционных настроений в России на пороге XX века сочетался с мессианским началом, которое некоторые русские приписывали революционному движению, вновь придавая особый русский характер широко распространенному в Европе fin-de-siecle феномену отождествления с Римом.
Период римской истории, охарактеризовавшийся стычками язычников с христианами[78], когда глубоко засевшая в окопах империя выдерживала натиск революционного «Города Бога», казался глубоко созвучным революционному периоду русской истории, когда императорская власть пыталась противостоять «новохристианским», как называли их некоторые русские авторы, силам социализма. Русские модернисты перекроили всем известную историю античного Рима для создания нарративов, созвучных их собственному напряженному настоящему. Ранние христиане восстали против империи, и поэтому современные русские революционеры – несмотря на распространенный в их среде атеистический марксизм – ассоциировались с христианством. Тем временем Рим – архетипическая империя в осаде – мог быть связан с русским самодержавием, сходным образом окруженным, как виделось авторам, революционной оппозицией. Кроме того, согласно связанным с Римом русским нарративам о национальной идентичности, существовала тенденция ассоциировать христианство с Востоком, а империю, воплощенную в тщательно спланированных улицах новой столицы Петра I, – с «рациональным» Западом. Различные авторы-символисты использовали эти ассоциации для повествования о революции в географических терминах: «религиозный» Восток боролся в их текстах с «империалистическим» Западом.
Преобладающая парадигма Россия – Рим, созданная на пороге XX века, в значительной степени пережила период революции и становления советского правления, хотя роль ее и претерпевала сдвиги по мере изменения власти и государственности. Укрепившись, революционеры унаследовали имперский статус, и по их прежним бунтарским следам теперь следовали интеллектуалы, которые теперь печалились по поводу того, что сами некогда помогли советским вождям прийти к власти. Если ранние модернистские тексты о Риме связывают интеллигенцию и революционеров в противопоставлении их государству, более поздние тексты, такие как тексты Кузмина и Булгакова, связывают в единый нарратив большевиков и Римскую империю в противопоставлении их художественному откровению и вере[79].
Раскол и колебания русского общества в этот бурный период приводили к смятению и тревогам. «Мы переживаем кризис», – заявил Андрей Белый в первые годы XX века [Белый 1969: 16]. «Все совершающееся мы ощущали как предвестия, – вспоминал позже этот период Владислав Ходасевич. – Чего?» [Ходасевич 1996: 74]. Оглядываясь назад, Зинаида Гиппиус говорила о том, что «на рубеже веков в воздухе чувствовалась трагедия»[80]. Осознавая окружающую их разобщенность, эти авторы искали выход из «апокалипсического ритма времени», по выражению Белого[81]. Тогда как модернистская литература, некоторым образом, обозначала собой разрыв с гражданской литературой прошлого, темой которой было улучшение социальных условий в России, связанные с Римом тексты русских символистов и вдохновленных ими авторов также испытывали влияние современной российской реальности и ориентировались на нее, хоть и воспринимали ее сквозь мутноватую призму символизма. Убежденные в том, что перед той культурой, которую они знали, встал суровый выбор между ведущей к единению трансформацией и отрицанием, авторы стремились в своем творчестве противодействовать разобщенности мира вокруг них.
Эти авторы принимали участие в сложном мифосозидательном феномене жизнетворчества, в соответствии с которым, как пишет Ирина Паперно, «искусство было провозглашено силой, способной и предназначенной для творчества жизни, а жизнь виделась как объект художественного творения или творческий акт» [Рарегпо 1994: 1]. В контексте самоотождествления России с Римом последствия данного феномена были двойственны. Во-первых, художественный текст стал пространством, где рассматривалась и, согласно термину жизнетворчество, воплощалась трансформация реальности через искусство. Говоря о разобщенности, авторы могли предупредить о ней читателя, объяснить ее последствия и предложить решение проблемы. Таким образом, Рим служил авторам каркасом для создания собственных представлений о современной русской национальной идентичности и освещения важных вопросов, вставших перед Россией в этот переломный период её истории. Во-вторых, придерживаясь в большей степени цикличных и индивидуальных пониманий истории в этот период, авторы пришли к мнению, что их окружение и сами жизни являются продолжением и повторением прошлого Рима. Елизавета Кузьмина-Караваева, к примеру, описывала Россию в 1910 году как «Рим времен упадка»[82]. Соответственно, римские персонажи, населявшие тексты этих авторов, могли выступать как их alter egos, а литература, обращенная к Древнему Риму, служила средством обсуждения эмоциональных, художественных и политических тем, значимых для России того времени. Таким образом, Рим выступал в качестве канонического мотива как на национальном, так и на персональном уровне.
Тексты
Уильям Батлер Йейтс.Плавание в Византию[83] (1926)
- Развоплотясь, я оживу едва ли
- В телесной форме, кроме, может быть,
- Подобной той, что в кованом металле
- Сумел искусный эллин воплотить,
- Сплетя узоры скани и эмали, —
- Дабы владыку сонного будить
- И с древа золотого петь живущим
- О прошлом, настоящем и грядущем.
Когда речь заходит о такой важной и обширной теме, как Рим, чрезвычайно трудно выделить из всего многообразия текстов наиболее подходящие для исследования. В основном я сконцентрировалась на русских символистах, хотя последние два рассматриваемых произведения выходят за пределы этого движения, демонстрируя живучесть ассоциаций, созданных символистами. Из всего многообразия возможных вариантов я выбрала по большей части тексты менее изученные, несмотря на выдающийся уровень их авторов[84]. Недостаток последовательного внимания исследователей к этим текстам означает также, что было упущено из виду более широкое явление, которое они отражают: участие русских писателей в европейском процессе мифологизации Рима и пересоздании этого мифа в модернистский период. В главе 1 я утверждаю, что данный процесс начался с популярной и имевшей большое влияние трилогии Мережковского «Христос и Антихрист», состоящей из трех романов: «Смерть богов. Юлиан Отступник» (1895), «Воскресшие боги: Леонардо да Винчи» (1900) и «Антихрист: Петр и Алексей» (1904–1905). Трилогия, чье влияние на рубеже веков только в последнее время вызвало интерес исследователей, была написана в течение весьма бурного десятилетия русской истории и в свое время привлекла пристальное внимание литературных кругов и прессы. Литературный критик Д. С. Святополк-Мирский позже утверждал, что «Юлиан Отступник» Мережковского – «замечательный “домашний университет”, по-настоящему сумевший заинтересовать русских читателей античностью» [Святополк-Мирский 2005: 702].
В этом первом масштабном исследовании темы Рима, ее развертывания в трилогии Мережковского и ее связи с другими его текстами того же периода я пришла к мнению, что в первых двух романах Мережковский стремился вдохновить Россию использовать свой потенциал как объединяющего Третьего Рима, способного слить западный секуляризм с восточной духовностью в некое трансцендентное целое. В третьем романе, утратив, как и Соловьев, иллюзии из-за усилившейся разобщенности нации, он потерял былую веру в имперское величие России, что отразилось в повторяющихся отсылках к Древнему Риму. При этом он отверг концепцию теократического Третьего Рима и возгласил грядущий апокалипсис.
Трилогия «Христос и Антихрист» стала настоящей энциклопедией римского мира для русских читателей и русских писателей более позднего периода: ведь Мережковский использовал великое множество ассоциаций с Римом, чтобы создать аллегорические резонансы и параллели с русским контекстом. К примеру, Юлиан Отступник у Мережковского жаждет вернуться к языческим богам, но парадоксальным образом нуждается в Христе, что проливает свет на настроения самого Мережковского и его соратников – модернистов в начале и середине 1890-х годов. В «Леонардо да Винчи» представление России как Третьего Рима глазами русского иконописца предвещает наступление славянского художественного Возрождения, которое Мережковский надеялся увидеть в начале XX столетия. // представленный в духе Рима Петр Великий, убивая царевича Алексея, дает толчок тем противоречиям, которые впоследствии привели к революции 1905 года. В своей трилогии Мережковский сохраняет веру в русского художника: сначала в его способность объединить через свое искусство Восток и Запад, христианство и язычество, а затем – в «конечное откровение», которое будет ему явлено. Мережковский заявил о притязаниях России на Рим в его самых разных проявлениях и продемонстрировал современникам могущество Рима как некий символ в поисках Россией собственного пути и своей самобытности.
Отслеживая развитие русско-римских ассоциаций, которые Мережковский в своей трилогии сделал частью русского культурного дискурса, я изучаю также связанные с Римом тексты его соратников – символистов Брюсова, Блока и Иванова, а также произведения писателей постсимволистского направления – Кузмина и Булгакова. Все они затрагивают конкретные события древнеримской истории. И все используют, в ряде случаев эксплицитно, элементы римской парадигмы в отношении русской миссии и культуры, которую создал Мережковский, но в манере, созвучной как личным историческим и культурным воззрениям, так и времени создания произведения. Наконец, все они возвращаются к ранним убеждениям Мережковского, что художник, создатель мифа, сыграл особую роль в формировании связей между духовностью Востока и секулярной имперскостью Запада – внимание символистов и их последователей к этой теме не удивительно, если учитывать их веру в общность искусства и жизни.
В главе 2 я обращаюсь сперва к роману Брюсова «Алтарь победы» 1911–1912 годов и его незаконченному продолжению «Юпитер поверженный» (писался между 1912 и 1913 годами, впервые опубликован в 1934-м). В отличие от более раннего и хорошо известного романа Брюсова «Огненный ангел» его романы, связанные с Римом, не удостоились пристального внимания исследователей и остались неизвестны большинству читателей, несмотря на признанную увлеченность автора Древним Римом. Рассматривая романы Брюсова в контексте трилогии Мережковского и современных дискуссий на тему искусства и политики в период между революциями 1905 и 1917 годов, я трактую тексты Брюсова как явную отрицательную реакцию на мессианские и апокалиптические представления Мережковского о России и русском творце. Преимущественно сторонник вестернизации и империи, так же приверженный борьбе язычников и христиан в Риме в четвертом веке, как Юлиан Отступник, Брюсов оплакивает падение Западной Римской империи и переход ее в руки христиан, которых он изображает малопривлекательными, опасными сектантами оргиастического Востока. Однако его главный персонаж Юний Норбан – прагматик. В конце он приветствует победившую христианскую веру, которую ранее отвергал. После прихода к власти большевиков Брюсов, являвшийся сторонником монархии, последовал примеру своего героя и приветствовал социализм, который прежде считал варварским и сравнивал с силами, напавшими на Римскую империю. Поэтому я считаю принятие Брюсовым власти большевиков не простым актом политической целесообразности, как принято считать, но и логичным и даже болезненным следствием его стремления принимать новые «верования», насколько бы неприятными ни казались такие верования на первый взгляд.
Я считаю, что в творческом плане романы Брюсова являются своего рода постскриптумом к «кризису» символизма 1910 года, когда Брюсов, внесший значительный вклад в создание символистского движения, показал, что отошел далеко от взглядов многих его коллег – символистов. В период написания романов на римскую тему Брюсов принял болезненное решение отвергнуть символизм в пользу того, что он обозначил как новое творческое «верование», – «научной поэзии». Но, несмотря на его пресловутую веру в «новое» в политике и искусстве, его романы в тот период фактически отражают синтез сил прошлого и настоящего как в историческом, так и в литературном плане. Бывший язычник Юний и его современники создают христианскую церковь, которая становится похожа на ту империю, которой она пришла на смену, когда империя и вера сливаются воедино. Сходным образом, невзирая на их «научный» аспект, стилистически и тематически романы Брюсова отражают его неспособность решительно отстраниться от собственной литературной практики прошлых лет. Как и его более ранние тексты, римские романы являются, по сути, воспеванием человеческих достижений, высочайшим из которых Брюсов считал искусство. Его романы предвозвещают его собственную будущую убежденность, возникшую несмотря на все его усилия стать частью нового Советского государства, в том, что социалистической России не следует полностью отрываться от своего имперского прошлого. Связанное с Римом искусство и его объединяющая философия указывали путь к сложному брюсовскому принятию советский жизни.
Эссе Блока «Катилина» (1918), написанное вскоре после захвата власти большевиками, составляет тему главы 3. Как и римские романы Брюсова, это эссе не привлекло широкого внимания исследователей. Блок описывает римского бунтаря Катилину, поднявшего восстание против Римского государства в I веке до н. э., подавленное Цицероном и римской армией. В изложении Блока вдохновленное Катилиной восстание знаменует собой революционные настроения, которые Иисус Христос позже принесет в Римскую империю. Катилина – это «римский большевик»; таким образом Блок наделяет священной миссией русских красногвардейцев, связывая их с Иисусом и прославляя их революционные задачи. Желая, чтобы вся Россия последовала этим путем, но понимая малую вероятность такого развития события, Блок призывает авторов сохранять в их творчестве живой революционный дух, даже будучи окруженными мертвящей бюрократией имперского толка. Блок сравнивает Катилину с мифической фигурой фригийского Аттиса, указывая на восточный подтекст в восстаниях Катилины и большевиков против западного государства. Включая в свои рассуждения более известные поэмы «Двенадцать» (1918) и «Скифы» (1918), я прихожу к выводу, что для этого автора пронизанная духовностью революция постоянно повторяется. Русский творец, еще раз, хранитель мифов.
Глава 4 посвящена «Римским сонетам» Иванова, написанным после бегства поэта из большевистской России в убежище Рима в 1924 году. Весь цикл редко анализировался в контексте доэми-грационных произведений автора. Подтекст этих стихотворений – тема погибших империй: Римской, Российской и Троянской. Иванов отождествляет себя с Энеем, легендарным основателем Рима, оставившим свою побежденную родину Трою и создавшим новую империю, а также с Вергилием, увековечившим в стихах его путь с Востока на Запад и тем самым определившим самобытность своей нации через священный процесс вдохновенного мифотворчества. Так же, как Эней и Вергилий, Иванов, поэт-эмигрант, становится создателем нового царства, в его случае определяемого искусством, памятью и религией. Притязая на свое место в мире «первого» Рима, чье былое имперское величие сохранилось в его монументах и мифах, и связывая его в своих стихах с Россией, эмигрант Иванов парадоксальным образом достигает в своей поэзии на личном и художественном уровне того всеобъемлющего характера, который он приписывал России как Третьему Риму и идеальному слиянию Востока и Запада в своем эссе 1909 года.
Пьеса Кузмина «Смерть Нерона» (1928–1929) является темой главы 5. В ней он обращается к России и теме художника-революционера, затронутой и в работе Блока, но в другом ракурсе. Текст Кузмина, задуманный в период прихода к власти Сталина и посвященный правлению римского императора Нерона в I веке н. э., создает параллель между римским диктатором и лидерами большевиков, такими как Ленин и Сталин. В то же время в образе творца XX века, который в тексте связан с образом Нерона, Кузьмин показывает, что интеллигенция предреволюционного периода была причастна к установлению деспотического правления большевиков. Отвергая это правление и утопические мечты, вдохновившие его приход, Кузмин призывает к взаимному прощению и уважению между художником и тираном – но только на уровне личности, в духе гностических и неоплатонических взглядов, которые он ценил. Опубликованная только в 1977 году пьеса Кузмина представляет собой занимательный пример острого интереса его автора к периоду раннего христианства и его связи с современностью, столь характерный для его эпохи.