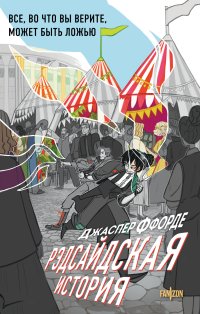Читать онлайн Оттенки серого бесплатно
- Все книги автора: Джаспер Ффорде
Jasper Fforde
SHADES OF GREY
Copyright ©2009 Jasper Fforde
All rights reserved including the rights of reproduction in whole or in part in any form
© Петров В.А, перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, ООО «Издательство „Эксмо“», 2024
* * *
Табите в качестве первого приветствия на пути к обретению бесспорно увлекательного и часто недооцениваемого опыта, которое мы называем существованием
Ни света, ни цвета как таковых в окружающей нас природе не существует. Это простое движение материи. <…> Когда свет проникает вам в глаза и падает на сетчатку, это движение материи. Воздействие на ваши нервы и ваш мозг – это также простое движение материи. <…> При восприятии мозг испытывает ощущения, которые, собственно говоря, являются лишь свойствами мозга.
Альфред Норт Уайтхед
Утро в Гранате
2.4.16.55.021: Во время внутриколлективной поездки мужчины должны быть одеты согласно дресс-коду № 6. Наличие головных уборов приветствуется, но не обязательно.
Началось все с того, что отец не захотел смотреть последнего кролика, а закончилось тем, что меня вот-вот съест хищное растение. Для себя я хотел другого – жениться на девушке из семейства Марена и порулить их веревочной империей. Но то было четыре дня назад, до того, как я встретил Джейн, вернул пропавшего Караваджо и исследовал Верхний Шафран. И вместо наслаждения преимуществами цветового продвижения я погрузился в чавкающую трясину дерева ятевео[1]. До чего обидно.
Но не все так плохо, и вот почему. Первое: я, к счастью, приземлился вниз головой, а значит, буду поглощен всего за минуту. Это намного – намного – лучше, чем если тебя засасывают, все еще живого, в течение недель. Второе и самое важное: мне не придется умирать в неведении. Я открыл нечто такое, что не заменят никакие награды и отличия: правду. Не всю правду, но немалую часть ее. Поэтому чертовски обидно, что все так сложилось. Я ничего не могу сделать с этой правдой. Правда эта слишком велика, слишком ужасна, чтобы оставаться скрытой от людей. Но я хотя бы обладал ею целый час и понял, в чем ее смысл.
Вообще-то, меня послали не за этим. Я был отправлен к Внешним пределам, чтобы провести перепись стульев и научиться смирению. Но правда неумолимо нашла меня, как и полагается большой правде, – как находит мозг потерявшаяся мысль. Еще я нашел Джейн, или она меня – неважно. Мы нашли друг друга. И хотя она была серой, а я красным, мы оба жаждали справедливости, которой не давала цветовая политика. Я полюбил ее, больше того – начал думать, что и она меня любит. В конце концов, она сказала «прости» перед тем, как толкнуть меня, после чего я упал на голую землю прямо под кроной ятевео. Значит, что-то она ко мне чувствует.
Итак, четыре дня назад я шел по Гранату, транспортному узлу Западного Красного сектора. Мы с отцом прибыли в город за день до того и остановились в «Зеленом драконе». Прослушав утреннее песнопение, мы сели позавтракать, слегка раздосадованные, но не удивленные тем, что ранние пташки из числа серых уже уничтожили весь бекон, оставив нам лишь соблазнительный запах. До поезда оставалось несколько часов, и мы решили пройтись по городу.
– Не посмотреть ли последнего кролика? – предложил я. – Говорят, это главная достопримечательность.
Но уникальный кролик не слишком заинтересовал отца – по его словам, до поезда нам надо было посмотреть плохо нарисованную карту, Мемориал Оза, цветной сад и уж потом – кролика. Кроме того, в музее Граната хранится лучшее в Коллективе собрание бутылок из-под «Вимто»[2], а по понедельникам и вторникам там даже показывают граммофон!
– Сорок второй клип на песню «Something Got Me Started»[3], – сказал он, словно что-то, хоть отдаленно связанное с красным, могло переубедить меня. Но я не собирался сдаваться так легко.
– Кролик уже совсем старый, – настаивал я, вспоминая инструкции по безопасности из буклета «Правильное общение с кроликом», – а гладить его уже необязательно.
– Дело не в этом, – пожал плечами отец, – дело в ушах. Я вполне могу обойтись, – заключил он безапелляционно, – и прекрасно обойдусь без кролика.
Это было правдой. Я тоже вполне мог обойтись без кролика. Но я обещал своему лучшему другу Фентону и еще пяти приятелям, что я запишу для них таксономический номер одинокого кролика и они смогут занести его в свои книги наблюдения за животными как «опосредованно виденного». Я даже взял с них за это по четверти доллара – деньги пошли на лакричные конфеты для Констанс и на синтетические красные шнурки для меня.
Мы с отцом препирались еще какое-то время, и в конце концов он согласился обойти все городские достопримечательности – по кругу, чтобы не сильно изнашивать ботинки. Кролик стоял в списке последним, за цветным садом.
Согласившись по крайней мере включить кролика в наш маршрут, папа вернулся к своим тостам, чаю и газете «Спектр». Я же принялся лениво оглядывать убогую столовую в поисках источника вдохновения, так как собирался писать открытку. «Зеленый дракон» построили еще до Явления. Как и многие постройки в Коллективе, он видел массу разнообразных событий, и каждое оставляло на нем свой след. Краска на стенах порядком облупилась, лепнина рассохлась и стала рассыпаться, клеенка на столах протерлась до основы, а ножи были согнуты, поломаны или утащены. Однако запах горячих тостов, кофе и бекона, приветливая обслуга и шумная болтовня приезжих, завязывавших мимолетные знакомства, придавали заведению особый шарм, так что с ним не могло сравниться ни одно приличное кафе у нас в Нефрите. Я обратил внимание, что в общем пространстве любой мог занять какое угодно место, но посетители бессознательно рассаживались по цветам. Одному фиолетовому предоставили целый стол в его распоряжение, а у дверей жались несколько серых в ожидании свободного стола, хотя рядом с фиолетовым были свободные места.
Мы сели рядом с парочкой зеленых – пожилыми мужем и женой. Они были достаточно богаты, чтобы позволить себе искусственно выкрашенную зеленую одежду, видную для всех, – этакая гордая, безвкусная и дорогостоящая демонстрация привязанности к своему цвету. Эти двое явно продали свою квоту на детей ради таких одеяний. Наша с отцом одежда была общепринятой раскраски, видной лишь другим красным. Сидящие напротив зеленые видели только красные кружки, отличающие нас от серых, – впрочем, эта пара встретила нас с не меньшим пренебрежением. Говорят, красный и зеленый цвета взаимно дополняют друг друга; но нас с зелеными объединяет только неприязнь к желтым.
– Эй ты. – Зеленая бесцеремонно показала на меня ложкой. – Передай мне джем.
Я послушно исполнил приказание. Ее начальственный тон был вполне объясним: мы стоим тремя ступенями ниже зеленых на хроматической шкале и обязаны им подчиняться. Но, несмотря на это, мы первенствуем в старинной цветовой схеме «красный – желтый – синий». Красные неизменно входят в состав сельских советов, что не разрешено зеленым из-за их неполноценного статуса: зеленый – смесь желтого с синим, не более того. Это дико их бесит. Вот скромным оранжевым – тем все равно, они принимают свою судьбу добродушно, даже с юмором. А зеленые так и не могут отделаться от чувства, что к ним относятся несерьезно. Все очень просто: ведь их цвет – это цвет растительности, и они полагают, что их роль в Коллективе должна соответствовать доле зеленого цвета в природе. Только синие могли бы соперничать с ними в количественном плане, так как за ними – небо, но чистое небо видишь не всегда, и если оно покрыто тучами, понимаешь, до чего безосновательны претензии синих.
Но зеленая дама отдала мне приказание не только из-за моего цвета – под моим красным кружком виднелся значок «Ищу смирения». После стычки с сыном верховного префекта мне велели носить его в течение недели. Возможно, зеленая не пожелала заметить другой мой значок – «1000 баллов», очень престижный. А может, ей просто захотелось джема.
Я взял джем в буфете, с почтительным кивком подал его зеленой и вернулся к своей открытке. На ней был изображен старый каменный мост в Гранате; легкая синева неба стоила лишних пяти цент-баллов. За десять цент-баллов я получил бы открытку с зеленой травой, но моя будущая невеста Констанс Марена, которой и предназначалась открытка, называла пестроту вульгарной. Ее родичи – старая цветовая аристократия – придерживались вчерашних взглядов на цвет, везде предпочитая приглушенные тона, хотя и могли выкрасить свой дом в самые яркие оттенки. Впрочем, для них много что было вульгарным, в том числе и род Бурых – выскочки, nouveau couleur, с их точки зрения. Поэтому я был лишь «будущим женихом». Отец договорился об этом «полуобещании», то есть Констанс имела на меня преимущественное право. Я едва не получил такого же права – все сорвалось в последний момент. Но так или иначе сделка была выгодной – хотя мое семейство отделяло от серых всего три поколения, меня считали в достаточной мере старокрасным. А потому к нашей полупомолвке не следовало относиться несерьезно.
– Пишешь Рыбьей Морде? – с улыбкой спросил отец. – Вряд ли она забыла тебя так скоро.
– Да, – согласился я. – Но все же, несмотря на имя[4], верностью она не отличается.
– A-а. Роджер Каштан уже вьется вокруг нее?
– Как муха вокруг тарелки с медом. Не называй ее Рыбьей Мордой, пожалуйста.
– Масла, – велела зеленая, – и пошевеливайся на этот раз.
Мы закончили завтракать, наскоро упаковали вещи и спустились к стойке. Отец стал объяснять носильщику, что наши чемоданы нужно отнести на вокзал.
– Чудесный день, – заметил, пока мы оплачивали счет, мужчина за стойкой – худощавый, с прекрасно вылепленным носом и одним ухом.
Потеря уха была обычным делом – они отрывались с пугающей легкостью. Необычным было то, что этот человек не позаботился вернуть ухо на место, хотя что тут сложного? Еще любопытная деталь: он носил свой синий кружок высоко на лацкане пиджака – этот негласный, но широко распространенный условный знак намекал, что за особую плату его носитель улаживал разные вопросы. И действительно, накануне вечером нам на обед подали раков, а он не отметил это в рационной книге. Это стоило нам половины балла, завернутого в салфетку и незаметно переданного по назначению.
– Каждый день чудесен, – приветливо откликнулся отец.
– Точно, – весело подтвердил тот.
Мы обменялись дежурными фразами: насчет отеля, что он чист и умеренно комфортен, и насчет нас, что мы не роняем репутации заведения, умеем вести себя за столом и не горланим в общественных местах. После этого служащий отеля спросил:
– Далеко собрались?
– В Восточный Кармин.
Поведение синего внезапно изменилось: он странно поглядел на нас, вернул наши книжки с баллами, пожелал приятного и спокойного времяпрепровождения – и тут же повернулся к другому клиенту. Мы вручили чаевые носильщику, еще раз проверили время отхода поезда и направились к первому из пунктов нашего маршрута.
– Гм, – хмыкнул отец, глядя на плохо нарисованную карту, после того, как мы отдали десять цент-баллов и очутились внутри ветхого, но чистенького домика. – Ничего не понимаю.
Плохо нарисованная карта, возможно, не волновала воображение, но полностью оправдывала свое наименование.
– Может, потому, что она пережила Дефактирование? – предположил я.
Карта была не только загадочной, но и невероятно редкой. Кроме геохроматической карты Прежнего мира, в настольной игре фирмы «Паркер» то была единственная карта, составленная до Явления. Однако древность экспоната не делала его интересным. Мы какое-то время пялились на выцветшую бумагу, надеясь, что наше понимание, пусть и неправильное, перейдет на более высокий уровень. И потом, жалко было заплаченных денег.
– Чем дольше и пристальнее мы на нее глядим, тем больше получаем за ту же плату, – объяснил отец.
Я захотел было спросить у него, сколько нужно смотреть, чтобы нам еще остались должны, но не стал. Наконец он убрал свой путеводитель, и мы снова оказались под теплыми лучами солнца, чувствуя, что нас попросту обобрали на десять цент-баллов. Однако мы написали благодарственный отзыв: экспонат оказался посредственным, но музейщики-то были ни при чем.
– Папа…
– Да?
– Почему тот человек в отеле так странно повел себя, услышав про Восточный Кармин?
– Жизнь во Внешних пределах, как считают, отличается асоциальной динамикой, – ответил он, немного подумав, – и некоторые полагают, что обилие событий может породить прогрессистские настроения, а это поставит под угрозу Стабильность.
То была дипломатичная, но очень мудрая и провидческая реплика. Я не раз возвращался к ней мыслями в последующие дни.
– Хорошо, но что думаешь ты? – настаивал я.
Отец улыбнулся:
– Я думаю, что нам надо осмотреть Мемориал Оза. Даже если он уныл, как магнолия, то все равно это в тысячу раз занятней плохо нарисованной карты.
Мы зашагали к музею по шумным улицам Граната, с их теснотой, суетой и нечистотой, изнемогая от жары. Вокруг было множество людей, готовых удовлетворить ваши каждодневные нужды: сутенеры, продавцы воды и пирожков, рассказчики историй, умельцы, определяющие вес на глазок. В лавках по обе стороны улицы шла коммерция посерьезнее: их занимали сапожники, портные, продавцы всякой утвари, вычислители, готовые мигом что-нибудь умножить или разделить. Можно было зайти к модератору или крючкотвору и тут же получить консультацию, что означает то или иное правило и как его обойти. В одной лавке продавали исключительно парящие предметы, а другая специализировалась на посткодовой генеалогии. По пути нам попадалось необычно много желтых – возможно, они следили за нелегальным цветовым обменом, торговлей семенами и ношением колющих и режущих предметов.
Гранат, хоть и назывался региональным транспортным узлом, был расположен на задворках цивилизованного мира. Далее к востоку лежали только Красные Горы и редкие поселения-аванпосты вроде Восточного Кармина. На необитаемых диких землях водились мегазвери, встречались заброшенные городки неопределенного цвета и, вероятно, орудовали туземные банды. Все это возбуждало и тревожило одновременно. Двумя неделями раньше я вообще не знал о существовании Восточного Кармина и уж точно не думал, что меня пошлют туда на месяц подвергаться корректировке смирением. Мои друзья были в ужасе, возмущенные – кто слегка, а кто и посильнее – таким обращением со мной. Они обещали, что когда возьмутся за карандаш, то непременно составят воззвание к властям.
– Границы – это место для слабовольных, слабочелюстных и слабоцветных, – заметил Флойд Розоватый, к которому, по правде говоря, все эти три определения подходили идеально.
– Будь осторожен, там полно лузеров, нарушителей, онанистов и сексуально озабоченных, – добавил Тарквин.
Судя по его происхождению, он тоже чувствовал бы себя там как дома.
Потом они сообщили, что это безумие – хоть на секунду высовываться за ограду города и что во Внешних пределах я за неделю опущусь – буду сутулиться, есть руками и отпущу волосы до плеч. Я уже подумывал откупиться от наказания, заняв денег у моей дважды вдовой тетушки Берил, но Констанс полагала иначе.
– Что тебе нужно там делать? – спросила она, когда я назвал цель моей поездки в Восточный Кармин.
– Участвовать в переписи стульев, моя куколка, – объяснил я. – Главная контора опасается, что количество стульев упадет ниже значения одной целой восьми десятых на человека.
– Какой ужас. А оттоманка считается стулом или все же очень толстой подушкой?
Она хотела сказать этим, что поездка будет с моей стороны решительным и мужественным поступком, и я поменял свое намерение. Поскольку я собирался войти в семью Марена и, возможно, в будущем стать префектом, далекое путешествие и участие в переписи помогли бы мне расширить взгляд на мир. Месячное пребывание во Внешних пределах было с этой точки зрения отличным вариантом.
Мемориал Оза превосходил плохо нарисованную карту хотя бы тем, что был трехмерным. То было бронзовое изваяние футов в шесть высотой и четыре шириной, изображавшее причудливых животных. Судя по музейному буклету, в ходе Дефактирования его распилили на части и бросили в реку, так что из пяти зверюшек теперь было только две: свинья в одежде и с кнутом – она сохранилась получше, – а также пузатый медведь в галстуке. От третьей и четвертой фигур не осталось почти ничего, а от пятой – только нижние части лап, похожие на когти: ни у кого из современных животных такого не было.
– Глаза слишком велики для свиньи и похожи на человеческие, – изрек отец, подходя ближе. – А медведей в галстуках я и вовсе никогда не видел.
– Чрезмерный антропоморфизм, – сообщил я более-менее установленный факт.
У Прежних имелось много необъяснимых обычаев, и в первую очередь – смешивание действительности с вымыслом: ты никогда не знал наверняка, где кончается одно и начинается другое. Известно было, что изваяние отлито в честь Оза, но надпись на постаменте сильно пострадала, и скульптуру никак не могли связать с прочими дошедшими до нас упоминаниями об Озе. «Проблема Оза» служила предметом долгих споров внутри дискуссионных клубов, результаты которых выливались в научные статьи на страницах «Спектра». И хотя удалось обнаружить останки железных людей, хотя Изумрудный город оставался важным административно-культурным центром, нигде в Коллективе не нашли следов дорог из желтого кирпича, будь то натуральный или синтетический желтый цвет, а зоологи давно доказали, что обезьяны не могут летать. Все, что связано с Озом, признали вымыслом и даже буйством фантазии – но памятник-то стоял! Загадка.
После этого мы лениво прошлись по музею, посмотрели на бутылки из-под «Вимто», на сохранившийся «Форд-Фиесту» с его намеренно архаичным – до бесстыдства – дизайном и на пейзаж Тернера, не из лучших, как счел отец. Затем мы спустились этажом ниже и застыли в восхищении перед диорамой, изображавшей типичный лагерь бандитов – представителей вида homo feralensis[5]. Все выглядело пугающе правдоподобно и дышало диким, разнузданным восторгом – основой для композиции послужила эпохальная работа Альфреда Пибоди «Семь минут среди бандитов». Вместе с нами истуканов разглядывали несколько школьников – вероятно, сейчас они проходили низшие человеческие расы по программе изучения исторических альтернатив.
– А правда, что они едят своих младенцев? – спросил один, с ужасом и восхищением уставившись на сцену.
– Абсолютная правда, – подтвердил учитель, пожилой синий, видимо знавший материал нетвердо. – И вы станете такими, если не будете слушаться родителей, выполнять правила и доедать овощи.
У меня самого имелись сомнения насчет кое-каких нелепых обычаев, якобы свойственных бандитам. Но я не стал их высказывать. Исторические альтернативы обычно изучались на примере диких племен.
Фонограф, как оказалось, не только не заводят, но и вообще не демонстрируют. Нам объяснили, что и аппарат, и диск «выведены из строя» при помощи большого молотка. Это было не преступным деянием, а неизбежным следствием проверки на соответствие скачкам назад – какой-то болван не занес экспонат в ежегодный список предметов, сохраняемых в порядке исключения. Музейщики расстроились – теперь в Коллективе остался только один пригодный для демонстраций фонограф, в Музее прошлых событий города Кобальта.
– Но есть и плюсы, – заметил музейный сотрудник, красный с очень густыми бровями. – Я могу похвастаться, что был последним в мире человеком, кто слушал Simply Red.
Оставив подробный отзыв, мы направились в сторону муниципальных садов, остановившись на минуту перед древним граффити на торце кирпичного дома. Надпись призывала давно исчезнувших покупателей: «Пейте овалтин – он дает здоровье и энергию». Под ней двое детей странного вида – но, видимо, вполне счастливых – склонились над кружкой, тараща глаза размером с футбольный мяч на окружающий мир. В этих глазах читались удовольствие и бесконечная жажда овалтина. Изображение выцвело, но красный цвет детских губ и надписи все еще ясно различались. Граффити, сделанные до Явления, были редкостью, и от изображений Прежних на них обычно бросало в дрожь. Из-за глаз. Ненормально расширенные, темные, пустые зрачки – казалось, будто в головах у этих людей тоже пустота, – делали их обладателей ненатурально, притворно радостными. Постояв около дома, мы пошли дальше.
Цветные парки всегда числились среди главных достопримечательностей, и гранатский нас не разочаровал: тенистый уголок, полный причудливо подстриженных растений, фонтанов, пергол, гравийных дорожек, статуй и цветочных клумб. Мы нашли и эстраду, и лоток мороженщика, хотя никто не играл музыки и не продавал мороженого. Гранатский парк отличался тем, что цвет подавался прямо от сети и был поэтому особенно ярким. Главная лужайка позади живописного, увитого плющом Родена поразила нас своей синтетической зеленью – прежде всего по сравнению с парком в Нефрите. Здесь все было устроено для красных с их особенностями зрения, а у нас в городе, наоборот, для зеленых: трава очень слабой окраски, тогда как все красное сделано слишком ярким. В Гранате достигли цветового баланса, близкого к идеальному. Мы стояли и наслаждались изысканной симфонией цвета.
– Отдам свою левую руку, лишь бы переехать в Красный сектор, – пробормотал отец, весь во власти сильного переживания.
– Ты уже обещал ее отдать, – напомнил я, – если старик Маджента уйдет пораньше.
– Разве?
– Да. Прошлой осенью, после случая с ринозавром.
– Вот ведь старый пень, – грустно покачал головой отец. – Как и многие пурпурные, старик Маджента, наш префект, с трудом мог разглядеть себя в зеркале. – Как ты думаешь, трава и вправду такого цвета? – помолчав, спросил он.
Я пожал плечами. Что тут скажешь? Максимум, что это цвет травы в представлении Национальной службы цвета. Спроси у зеленого про цвет травы, а он в ответ спросит тебя про цвет красного яблока. Но вот любопытная деталь: трава не была единообразно зеленой. Участок размером с теннисный корт на дальнем конце лужайки приобрел неприятный зелено-голубой оттенок и расползался, точно пятно воды. Стоящее рядом дерево и трава на нескольких клумбах также переменили расцветку и теперь, пожалуй, не соответствовали стандартной ботанической шкале цветов. Заинтригованные, мы вскоре заметили, что неподалеку от аномалии кто-то глядит в смотровой люк, и поспешили туда. Это оказался не инженер из Национальной службы цвета, как мы подумали, а смотритель Красного парка. Посмотрев на наши кружки, он тепло поприветствовал нас.
– Что, проблемы? – спросил отец.
– И еще какие, – устало ответил смотритель. – Снова нет доступа к сети. Совет обещал поменять трубки, но стоит им заполучить деньги, как все тратится на системы раннего оповещения, громоотводы и тому подобную хрень.
Говорил он достаточно свободно, как красный с красными. Охваченные любопытством, мы заглянули в смотровой люк, где синие, желтые и красные трубки вели к тщательно откалиброванному смесителю. Внутри его формировались оттенки, необходимые для окраски травы, кустарников и цветов, которые затем расходились по капиллярной сети, пронизывавшей все пространство под парком. Цветные сады имели сложное устройство – нужно было учитывать осмотические коэффициенты различных растений и одновременно удельный вес красителей. А еще коэффициент испарения в зависимости от давления и сезонные вариации цветов. Колористы не зря получали свои деньги и бонусы.
Даже не глядя на счетчики расхода жидкости, я понял, что случилось, отчего лужайка стала голубоватой, чистотел – серым, а маки – фиолетово-пурпурными. Дело было в локальной нехватке желтого. Его счетчик и вправду показывал ноль. Но если смотреть в люк, желтого имелось в изобилии. Значит, жидкость от парковой подстанции подавалась исправно.
– Кажется, я знаю, в чем дело, – тихо сказал я, отдавая себе отчет, что порча имущества Национальной службы цвета карается пятисотбалльным штрафом.
Смотритель перевел взгляд на меня, потом на отца, потом опять на меня, закусил губу и почесал подбородок, после чего, оглянувшись, зашептал:
– А можно это быстро починить? У нас в три часа тут свадьба. Одни серые, правда, но все же.
Я посмотрел на отца – тот утвердительно кивнул – и указал на трубы.
– Счетчик желтого заело, и на лужайку поступает только голубой компонент цвета. Я ни в коем случае не собираюсь нарушать никаких правил, – тем самым я заранее снимал с себя ответственность, если все обернется плохо, – но думаю, что удар каблуком ботинка может поправить дело.
Смотритель оглянулся, снял ботинок и сделал, как я сказал. Почти сразу же раздалось бульканье.
– Да поразит меня желтуха, – объявил он. – Неужели все так просто?
Он выдал мне полбалла, поблагодарил нас и пошел укладывать новую траву для восстановления цветового баланса.
– Откуда ты знаешь, что нужно делать? – спросил меня отец, когда смотритель удалился на безопасное расстояние.
– Да так, слышал однажды.
Несколько лет назад у нас пробило трубу с маджентой. Зрелище удивительное и пугающее – бурный поток пурпурной жидкости, устремляющийся по главной улице. Специалисты Национальной службы цвета прибыли тут же, и я вызвался помочь – просто хотелось посмотреть на все это. Цветчики обменивались непонятными техническими терминами, но кое-что я все же понял. Все мечтают работать в НСЦ, но мало кому это светит: глаза, отзывы о вас, запас баллов и запас подхалимства – все должно быть на высшем уровне. Лишь одного из тысячи допускают до вступительных экзаменов.
Мы слонялись по саду до упора, погружаясь в успокаивающий мир синтетических цветов. Поразительно, но там были гортензии обеих расцветок и азалии, аккуратно выкрашенные от руки, кажется, без соблюдения официальной пропорции базовых цветов. Редкая роскошь – видимо, дар от богатой сиреневой. Чисто-желтого было немного: скорее всего, реверанс в сторону желтых, обитавших в городе. Они любили цветы только природной окраски, устраивая скандалы по поводу синтетики, так что им старались не давать повода. Когда на обратном пути мы вновь прошли мимо лужайки, на поврежденном участке уже восстанавливался ярко-зеленый цвет: 102–100–64. Ко времени свадьбы все следы аварии должны были исчезнуть.
Из сада мы зашагали на главную площадь. По дороге нам попался прыгун, завернутый в грубую холстину, – виднелась лишь протянутая рука. Я положил в нее только что добытые полбалла, и тот благодарно кивнул. Отец посмотрел на часы.
– Кажется, – произнес он без особого энтузиазма, – нам пора на свидание с кроликом.
Краски и пурпурный
2.6.19.03.951: Гражданин определяется как пурпурный, если его доступные восприятию параметры красного и синего: а) превосходят 35 пунктов по отдельности либо б) отличаются друг от друга не более чем на 220 пунктов. Во всех остальных случаях гражданин определяется по более сильному из этих двух цветов. Переход в другой цвет при вступлении в брак происходит по общим правилам.
Дорога к кролику, которого мы так и не увидели, пролегала мимо городского магазина красок: мы не учли этого, планируя наш маршрут. Знай я, что у НСЦ здесь есть своя торговая точка, я бы непременно предложил отцу прогуляться мимо этого места раз пять, не меньше. И медленным шагом. Витрины были декорированы в нежных оливковых и лимонных тонах, а над ними висела вывеска: «Национальная служба цвета» – ярко-голубая: таким, мне кажется, бывает иногда небо. Внутри виднелись ряды соблазнительных баночек с красками и небольшие тюбики подкрашивателей для растений – ими пользовались те, кто не мог позволить себе подключиться к сети. А еще – жестянки с красителями для тканей, ведь некоторые модники любили подчеркивать свой цвет. И ампулы с пищевыми красителями – видимо, это как-то оживляло скучные официальные обеды.
Я неторопливо прошел мимо магазина: таращиться на все это великолепие считалось недостойным, низкоцветным, а входить внутрь просто так, не по делу – чуть ли не преступлением. Кое-какие из цветов в витрине я признал, например, тот оттенок желтого, что присущ нарциссам, лимонам, бананам и дроку. Но были и другие, никогда мной не виданные, – дикие, буйные синие краски; бесстыдный бледно-желтый, пригодный уж не знаю для чего; капризно-лиловый, от которого внутри так и екнуло. На банках я прочел много знакомых названий – умбра, фисташковый, гордини[6], темно-лососевый, сиреневый, кубовый, бирюзовый, аквамариновый. И много названий, которых я в жизни не слышал, – кукурузных рылец, дома пастора, ягуар[7], старой струны, бисквитный желтый, синей стали. Загляденье, да и только. У двери я еще больше замедлил шаг – интерьер не уступал витринам: сметливые и разговорчивые продавцы помогали префектам из далеких городов, желавшим выделиться на фоне соседей. Нашим префектам следовало бы завернуть в такой магазин, чтобы купить по сходной цене изумрудную краску, с недавних пор сверкавшую на ратуше. И господину Марене тоже. Семейство Марена могло позволить себе собственные цвета – немыслимые, к восторгу толпы, сочетания этрусской охры и клейновского синего; они дразнили воображение тех, кто приглашался на ежегодный панхроматический прием в саду.
И вот мы прошли мимо открытой двери, мимо цвета, мимо чуда, и кролик, еще недавно безумно притягательный, стал казаться скучным и бессмысленным. Хотя путь к вокзалу все равно лежал мимо него.
Но тут вмешался случай. Послышались удар, шлепки, крики, и через несколько секунд на улицу выбежал сотрудник НСЦ.
– Эй ты! – велел он первому же серому. – Найди цветоподборщика, да поживее!
В такие моменты радуешься, что кому-то плохо, что он ранен или даже убит. Ведь отец как раз был цветоподборщиком! Благодаря чьему-то несчастью я смогу заглянуть в магазин красок, пусть даже на пару минут! Я хлопнул его по руке.
– Папа…
Он мотнул головой. В конце концов, это не входило в его обязанности. В Гранате было полно практикующих целителей, и в случае неудачи на счет отца записали бы плохой отзыв. Надо было соображать быстро. Я постучал по левому запястью – там, где носят часы, – и согнул пальцы, изображая кроличьи уши. Отец понял меня мгновенно, повернулся на каблуках и поспешил внутрь магазина. Между плохим отзывом и кроликом он без колебаний выбрал первое. Вот так мы не увидели последнего кролика, так начался мой путь к хищному дереву ятевео.
В нос мне сразу же ударил сладкий аромат синтетических красок. Его не спутаешь ни с чем – занятная смесь запахов подгоревших яблок в карамели, рисового пудинга и нафталиновых шариков. Сразу же вспомнились ежегодные перекрашивания, которые я видел в детстве. Все ребята стояли внизу, стараясь вдыхать глубоко, а наверху орудовали маляры. Запах свежей краски был неотделим от приготовлений ко Дню основания, от ремонта и обновления.
– Кто вы? – спросил синий, тот самый колорист, который отдавал приказание серому.
Он с подозрением взирал на отцовский красный кружок.
– Холден Бурый, – ответил отец, – цветоподборщик второго класса в отпуске.
– Ага, – угрюмо отозвался синий. – Ну что ж, приступайте.
Отец склонился над пациентом, а я с любопытством оглядывался вокруг. На стенах были развешаны образцы видимых всем цветов, одобренные НСЦ, листы с руководством «Как раскрасить свой сад за небольшую цену» и реклама нового цвета, только-только включенного в расширенную палитру: оттенок желтого, который позволит бананам разительно отличаться по цвету от лимонов и заварного крема. Были там и полноразмерные образцы для настенных росписей, напечатанные на тонкой бумаге, с номерами для лучшей ориентировки; а рядом с прилавком я увидел смесительные емкости, муштабели, разбавители, реабсорберы, всевозможные кисти, валики для больших, а потому престижных работ. За штабелями банок с красками виднелся вход в Магнолиевую комнату, где покупатели очищали свою зрительную палитру, чтобы оценить особо тонкий оттенок.
Отец толкнул меня локтем, и я опустился на колени рядом с ним. Пациент оказался хорошо одетым мужчиной лет шестидесяти. Он лежал ничком: голова повернута набок, глаза смотрят в одну точку. Падая, он опрокинул емкость с синей краской, и работники магазина теперь суетились, собирая драгоценный краситель обратно при помощи совков и лопаток.
Папа спросил у пострадавшего, как его зовут. Не получив ответа, он быстро открыл свой дорожный рабочий чемоданчик и прикрепил монитор к мочке уха пациента.
– Держи его руку и следи за показателями, – велел он мне.
Секунда – и монитор распознал внутреннюю музыку мужчины. Загорелся средний индикатор, без вспышек – хороший знак. Немигающий желтый: случай легкий, как летний дождик. Отец порылся у пациента во внутреннем кармане пиджака, достал книжку с баллами и открыл на последней странице, где указывался цветовой ранг.
– О нет, – вырвалось у него.
Это могло значить лишь одно.
– Пурпурный? – спросил я.
– Красный шестьдесят восемь, синий восемьдесят, – бросил он, и я послушно записал ранг на предплечье мужчины, в то время как отец набирал цветовую поправку на коррекционных очках.
Я не собирался идти по его стопам, но кое-что понимал в этом деле. Цветовые средства общего назначения, используемые в хроматикологии, действовали безотносительно цветового восприятия человека. Более тонкие оттенки для воздействия на головной мозг требовали стандартного зрения, и вот тут требовалась цветовая поправка.
– Он пурпурный? – обеспокоенно спросил один из продавцов.
Пурпурные заботились о своих гражданах. И если бы кто-нибудь допустил оплошность в своем старании поддержать продолжительность жизни этого мужчины, последовало бы суровое наказание.
– Семьдесят два процента, – заметил я, произведя в уме довольно сложные вычисления, и добавил, хотя это и так было понятно: – Почти наверняка префект.
Мы перевернули пострадавшего на бок. Как только продавцы и покупатели увидели у него на лацкане пурпурный кружок, в помещении стало тихо. Только фиолетовый, если бы с ним случилась цветовая неприятность здесь, в магазине, мог доставить больше головной боли. Но теперь и отец находился под давлением: если из-за него этот тип посереет, на счет отца запишут отрицательный отзыв и придется давать серьезные объяснения. Неудивительно, что цветоподборщики старались пропускать мимо ушей крики о помощи.
– Мы собирались посмотреть на кролика, – пробормотал он, надевая очки на пациента. – Дай мне 35–89–96.
Я порылся среди небольших стеклянных кружочков в его портативном чемоданчике, выбрал линзу и протянул отцу, повторив «35–89–96» тоном знатока.
– Шестьдесят восемь пунктов, две фут-свечи, левый глаз, – сказал он, устанавливая линзу в очки, потом набрал необходимое световое значение на импульсной лампе.
Послышалось тихое гудение – аппарат заряжался. Я указал время, код, дозировку и глаз на лбу у мужчины, чтобы другие специалисты поняли, в чем заключалось лечение. Когда маячок зарядился, отец распорядился: «Закрыть глаза!» – и все присутствующие крепко зажмурились. Раздался пронзительный визг, и маячок послал вспышку через корректировочную линзу на сетчатку пациента и далее – в зрительную кору мозга. Меня охватило странное чувство, что к этому невозможно привыкнуть. Я впервые проходил лечение вспышкой в шесть лет, по случаю потери зрения (лихорадка Эбола с корью и гриппом штамма H6N14), и в течение краткого, восхитительного мгновения мог видеть музыку и слышать цвета – по крайней мере, ощущение было именно такое. Потом весь день я исходил слюной (обычный симптом), и неделю меня преследовал запах хлеба (необычный симптом).
Пурпурный напрягся – свет полился в зрительную кору мозга. Светло-оранжевая линза должна была привести его в сознание. Как именно это делалось, никто не знал. Хроматикология приносила громадную пользу Коллективу, но теоретические основы ее оставались почти неразработанными. Правда, для отца это было неважно. Он не смешивал цвета и не занимался поиском новых, а лишь диагностировал проблему и выбирал нужный оттенок. Когда он хотел поскромничать, то называл это «лечение числами».
Пациент смеялся, не приходя в сознание: такое случалось редко, но все же случалось. Однако ему становилось все хуже.
– Мигающий желтый, – сказал я, глядя в монитор.
– Мы теряем его, – выдохнул отец, протягивая обратно линзу 35–89–96. – Дай мне 116–37–97.
Я нашел светло-зеленый диск и вручил ему. Отец вставил ее – на этот раз в другую половину очков – и снова крикнул: «Закрыть глаза!» Последовала вспышка, левая нога мужчины резко дернулась, а диоды замигали красным и желтым. Отец тут же велел подать ему 342–94–98, чтобы добиться ровного красно-охристого свечения и уничтожить эффект от 35–89–96. Это немедленно возымело действие, но совсем не то, которого мы хотели. Пурпурный дернулся, все признаки жизни исчезли, монитор на ухе загорелся ровным красным светом.
– Он умер, – сказал я.
Все, кто смотрел на нас, глубоко вдохнули.
– Только от 342–94–98? – недоверчиво протянул отец. – Не может быть!
Он проверил линзу, которую я дал ему: никакой ошибки. Отец вытер лоб, вынул из чемоданчика песочные часы на девяносто секунд и поставил их на пол. После остановки сердца кровь отливала от сетчатки в течение девяноста минут. После смерти глаза в пациента уже нельзя было влить никакого цвета: бесповоротный конец. Плохо, очень плохо: не только потому, что мы имели дело с пурпурным, но и потому, что срок его жизни оказался ниже ожидаемого. А это означало разбазаривание общественных средств.
Отец попробовал дать еще несколько вспышек с разными стеклами – без толку – и принялся думать вслух. Песок в часах медленно тек.
– Все безрезультатно, – выдохнул он, обращаясь ко мне. – Здесь нет очень нужных вещей.
Все вокруг молчали, затаив дыхание. И продавцы, и покупатели тупо глядели перед собой. Помощи ждать было не от кого. НСЦ работала только с декоративными, а не с лечебными цветами. Конечно, они производили смеси, позитивно действовавшие на сознание граждан, но лишь под надзором главного специалиста по цвету.
Внезапно меня осенило:
– Ничего не вышло, – прошептал я, – потому что он не пурпурный!
Отец нахмурился. Подмена собственного цвета была делом почти что неслыханным и каралась штрафом в тридцать тысяч баллов – можно сказать, полной перезагрузкой. Все равно что сразу сесть на ночной поезд.
– Даже если так, что нам это дает? – тихо произнес он. – Красный, синий, желтый? И в каких пропорциях? Перебор всех возможных комбинаций займет полгода!
Я посмотрел на запястье мужчины, которое все еще продолжал сжимать, и впервые заметил, что ладони его шершавы, что у одного пальца не хватает фаланги, а ногти неухоженны и обгрызены.
– Серый.
– Серый?
Я кивнул. Отец уставился на меня, потом на пациента, потом на часы, где падали последние песчинки. Не имея никакого плана действий – разве что «ждать и надеяться», – отец убрал корректировочные линзы, выбрал стеклянный кружочек, вновь прокричал: «Закрыть глаза!» – и направил вспышку на мужчину. Эффект оказался моментальным и очень сильным: серый дернулся, сердце его забилось, индикатор над монитором засветился ровным желтым. После нескольких тщательно продуманных перемен линз – реакция пациента каждый раз была незамедлительной и, что важнее, предсказуемой – мы добились мигающего зеленого света. Собравшиеся с облегчением заговорили о том, что отец заслуживает минимум наивысшего отзыва, А++, и дополнительного талона на торт за спасение жизни такого – предположительно – именитого гражданина. Мы с отцом обменялись взглядами, но он решил пока что не раскрывать тайны. Во-первых, это могло повредить полному восстановлению. Во-вторых, Коллектив нуждался в каждом сером – намного больше, чем в пурпурных, хотя об этом никто не осмеливался говорить.
Кто-то вбежал в магазин и тоже встал на колени рядом с пациентом. Это оказалась госпожа Рози, младший цветоподборщик, которая изумленно поглядела на отца, заметив, сколько цифр с обозначениями цветов записано у мужчины на лбу. Отец быстро рассказал ей о цветоподмене.
– Вы шутите? – спросила Рози, сразу же занервничав, словно, столкнувшись со столь тяжким преступлением, она невольно становилась соучастницей.
– Я серьезен, как никогда в жизни. Можете сказать, кто это?
– Он не из наших, – ответила девушка, присмотревшись. – Возможно, приговоренный к перезагрузке серый, которому нечего терять. Дайте-ка взглянуть…
Она расстегнула рубашку серого в поисках почтового индекса, но в этом месте кожа была порезана, и рубец не позволял прочесть код целиком. Итак, этот человек не только совершил цветоподмену, но и попытался скрыть свой индекс.
– Похоже, что начинается с ЛД2, – сказал отец, внимательно разглядывая изуродованную плоть, – но остального разобрать не могу.
Госпожа Рози взяла левую руку серого. Фаланга среднего пальца была отрублена, чтобы нельзя было идентифицировать его по ногтевому ложу. Кто бы это ни был, он не хотел, чтобы его опознали.
– Как по-вашему, отчего ему стало плохо? – спросила девушка, заполняя листок с отзывом, чтобы мы могли двинуться дальше.
Отец пожал плечами:
– Вероятно, плесень.
– Гниющий?
Она сказала это слишком громко, и все присутствующие мигом устремились к двери, где возникла давка: страх подхватить плесень возобладал над любопытством и хорошими манерами. Я никогда не видел, как восемь человек выходят все вместе в одну дверь. Им это как-то удалось. Через двадцать секунд мы остались одни.
– Итак, – объявил отец, питавший склонность к таким проказам, – не знаю, что там у него, но точно не плесень. Позволю себе предположить, что аневризма. Я рекомендовал бы гамму светло-желтых оттенков – жервe[8] и тому подобные – для дальнейшего лечения. Но только он должен находиться без сознания. Иначе появится плесень.
– Да, – раздумчиво произнесла госпожа Рози, – мы обязаны всегда помнить об этом.
И замолчала. Говорить о плесени не любил никто.
Слово
2.3.02.62.228: Официально утвержденные бранные слова перечислены в Приложении 4 (разрешенные восклицания). Все прочие ругательства строго запрещены. Кара за нарушение: по усмотрению префекта, но не более ста баллов.
Госпожа Рози дала отцу положительный отзыв, мы пожелали ей хорошего дня и вышли обратно под лучи летнего солнца. Ослабив галстуки, насколько это было разрешено, мы огляделись. Площадь, еще недавно суетливая и шумная, превратилась в пустыню. Местные отгородили участок в пятьдесят ярдов шириной, считая от магазина: действие обычное в таких случаях, но совершенно бесполезное. Носитель плесени становится заразным лишь через час после смерти: кожа покрывается тонкими серыми щупальцами, и мертвец, в чьих легких быстро разрастается забивающая их масса, в предсмертном кашле невольно выбрасывает губительные споры в воздух. Вот тут впору паниковать и выпрыгивать из ближайшего окна: неважно, на каком оно этаже, открыто или нет.
Если не считать аварий на производстве, внезапного отказа внутренних органов, нападений мегазверей и бандитов, а также – как в моем случае – возникшего на пути дерева ятевео, именно плесень обрывает жизнь людей. Не обращая внимания на цветовые барьеры, она поражает и крепких фиолетовых, и слабых бесцветных. Однажды утром ты обнаруживаешь, что у тебя внезапно выросли ногти, а локти онемели, – и к обеду ты уже годишься разве что на жир для свечей да на костную муку. Но удивительно: хотя плесень – убийца номер один, очень мало людей умирают от нее. После того как жертве поставлен диагноз, ее, едва успевшую проскрежетать слова прощания заплаканным родственникам, увозят в ближайшую Зеленую комнату, где погружают в сладкий сон, из которого она переходит в объятия смерти. И предсмертный кашель настигает такого страдальца в морозилке – так безопаснее.
Зеваки у ограждения – небольшая кучка – расступились, когда мы подошли, но засыпали нас вопросами. Отец отвечал как можно более двусмысленно. Нет, ему неизвестно, подтверждено наличие плесени или нет. Да, госпожа Рози полностью контролирует ситуацию. Потом к нему пристал репортер «Гранатского вестника», попросив об интервью. Отец поначалу ответил отказом, но, узнав, что журналист пишет и для «Спектра», согласился поговорить с ним. Я в это время разглядывал собравшихся горожан и смотрел на часы. До поезда оставалась тридцать одна минута. Если на контроле сегодня стоит медлительный желтый, то мы имеем все шансы провести в Гранате еще один день.
И вот тогда я увидел Джейн. Конечно, тогда я еще не знал, что она Джейн. Ее имя стало мне известно лишь позднее, когда она сделала невозможное. Обычно я не пялюсь на девушек, особенно когда рядом Констанс. Но тут я попросту разинул рот. Я был поражен, изумлен, ошеломлен – выберите сами нужное слово. А почему – не знаю. Даже сейчас, если выдернуть меня, уже полупереваренного, из ятевео, посадить на пенек и спросить: «Эдди, старина, да что же именно ты в ней нашел?» – я пролепечу что-нибудь: очень маленький, очень курносый носик, и меня сочтут ненормальным и бросят обратно. Возможно, меня поразило не то, что в ней было, а то, чего не было. Она не была ни высокой, ни стройной, без каких-либо особенностей в осанке или манере держаться. Большие глаза глядели вопросительно и затягивали меня, как омут, где-то на самом дне кипела холодная ярость. Но думаю, главным была дикарская загадочность, сквозившая во всем ее виде. Вот в чем крылся секрет ее сокрушительного очарования. Я моментально забыл о Констанс с ее важными родственниками и какое-то время мог думать только о серой девушке в грубых холщовых штанах.
Я попытался придумать, как начать разговор, – я держал наготове несколько фраз, которые можно было расценить как смешные или умные (но не то и другое одновременно). Почему именно мне потребовалось заговорить с ней – не представляю. Через полчаса я собирался покинуть этот город – вероятно, навсегда. Но короткий разговор с этой девушкой скрасил бы мне весь день, а ее улыбка – всю неделю.
Мысли мои внезапно прервались – по толпе пошел шепот. Лжепурпурного вынесли – но вынесли на носилках, а не в бесшовном пластиковом мешке: ко всеобщему облегчению, то оказалась не плесень. И только лицо Джейн выражало не облегчение, но озабоченность. Мое сердце забилось быстрее. Она знала этого человека – а возможно, знала и что он там делал. Я шагнул вперед и коснулся ее руки – без всякого злого умысла, – но Джейн отреагировала бурно. Метнув на меня взгляд, полный холодной ненависти, она угрожающе прорычала:
– Тронь еще раз, и я сломаю твою долбаную челюсть.
Я застыл как вкопанный – не столько из-за услышанных мной очень плохих слов, сколько из-за угрозы физической расправы по отношению к тому, кто стоял выше ее в цветовом смысле. И все это – без малейшей провокации с моей стороны. Я оскорбился:
– Не смей так со мной говорить!
– Это еще почему?
Ответ был очевиден, но я все же выдал его:
– Да потому, что ты серая, а я красный!
Она шагнула ко мне, сорвала с моего лацкана красный кружок, бросила на мостовую и насмешливо спросила:
– Ну что, теперь можно сломать тебе челюсть?
Запредельная наглость! Моя все еще целая челюсть отвисла. Надо было как следует осадить девицу и спросить ее, кто таков этот лжепурпурный, но тут отец позвал меня. Я обернулся. И в этот момент серая скрылась в толпе.
– Кого ты высматриваешь, Эдди?
– Девушку.
– Забыл, что у нас поезд через полчаса? Ты неисправимый оптимист!
На вокзале наши почтовые индексы не подтвердили: желтый нашел у нас нарушение дресс-кода – что-то типа ношения рабочей обуви в сочетании с одеждой для поездок № 3. После проверки билетов и доставки багажа мы устроились в самом конце вагона. Я уставился в окно, погрузившись в раздумья.
– У меня есть кое-что для тебя. – Отец протянул мне выщербленную суповую ложку, истертую за столетия пользования.
– Где ты ее взял?
– В кармане жилета у того серого. Я забрал ее вместо платы.
– Папа!..
Он пожал плечами:
– Ты спас ему жизнь. И потом, у тебя такой нет.
Когда речь шла о ложках, все общепринятые правила поведения отменялись: этих предметов страшно не хватало. Цены на них были заоблачными, ложки передавались по наследству внутри семей. Их снабжали гравировкой – индивидуальный почтовый индекс – и носили с собой. И даже правила поведения за столом, один из восьми нравственных столпов Коллектива, соблюдались теперь не так строго: чай разрешалось помешивать – о ужас – ручкой вилки.
Не говоря ни слова, я сунул ложку в карман, ведь совершивший цветоподмену всяко был у меня в долгу. Мы стали ждать, пока не сядут остальные пассажиры.
– Папа, – наконец спросил я, – а что может делать серый, выдающий себя за пурпурного, в гранатском магазине красок?
– Полегче, – улыбнулся отец. – «Любопытство – лестница, ведущая вниз…»
– «…и в конце тебя ждет неприятный сюрприз», – закончил я старую рифмованную поговорку. – Но любознательность пригодится мне, когда я стану старшим советником.
– Если ты станешь старшим советником, – поправил он. – Мы даже не знаем, унаследуешь ли ты красный цвет, а рука Констанс тебе еще не гарантирована. И помни, любознательность – вредная привычка. Так можно дойти до перезагрузки. Помнишь Морково – как его звали?
– Дуэйн.
– Вот именно. Дуэйн Морково. Слишком много дурацких вопросов. Будь осторожен.
Дав этот универсальный совет, он развернул свой «Спектр» и погрузился в чтение. Хотя мы были откровенны друг с другом, я не рассказывал отцу, что вижу чуть больше красного, чем мне разрешено. Вопрос был не в том, есть ли у меня пятьдесят процентов, необходимые для хромогенции и старших советников. А в том, обладаю ли я семьюдесятью процентами, без которых нельзя стать красным префектом. Я скромно надеялся, что все же обладаю, – но без уверенности. Цветовосприятие было делом крайне субъективным. Различные уловки, преувеличенные надежды, самообман – все это, будучи по-человечески понятным, делало любую предварительную оценку бесполезной. И наконец, вы проходили цветовой тест Исихары. В этот день все сомнения рассеивались – никто не мог провести цветчика. А дальше действовал принцип: человек есть то, что показал тест. Навсегда. Ваша жизнь, карьера, положение в обществе становились известны тут же, тревожной неопределенности больше не существовало. Мгновенно становилось известно, кто вы, чем будете заниматься, куда вас направят, чего от вас ждут. Взамен вы попросту смирялись со своим положением внутри Цветократии и прилежно следовали Книге правил. Ваша жизнь отныне была подробно размечена. И все это случалось за считаные минуты.
Путешествие в Восточный Кармин
3.9.34.59.667: С целью поддержания качества живого материала и сохранения общественных приличий браки между представителями взаимодополняющих цветов строжайше запрещены. (Примеры: оранжевый/синий, красный/зеленый, желтый/пурпурный.)
Через несколько минут блестящий паровоз, ритмично пыхтя, присвистывая и выпуская большие клубы белого дыма, медленно увозил наш поезд прочь от Граната. Тоненько жужжали гирокомпасы, воздух полнился жаркими запахами мазута и угольного дыма. Состав набирал скорость, слегка накреняясь: мы проезжали мимо боковых путей с локомотивами, заброшенными со времен последнего Великого скачка назад – то есть лет уже этак сто.
Пассажирский вагон был лишь один, и относительно пустой. Несколько синих фабричных клерков громко рассуждали о том, что потребность в рабочей силе опять выросла и трудовую неделю для серых пришлось удлинить. Тревожная новость: раз серых не хватает, значит, скоро начнут привлекать красных, стоящих в цветовой иерархии сразу после них. Но первыми, к счастью, начнут забирать красных с низким цветовосприятием. Недостаток рабочей силы должен вырасти до угрожающих масштабов, чтобы мне пришлось взять в руки кирку или встать к конвейеру.
Кроме обеспокоенных синих, с нами ехал желтый старший советник, весь поглощенный «Карманным справочником по выполнению гражданского долга», а в начале вагона разместились двое оранжевых, выряженных, словно бродячие музыканты. На них прикрикнули сперва синие, которые сами хотели ехать в начале, а потом желтый и зеленые, по той же причине. Оранжевые лишь дружелюбно кивали, и прочим пассажирам приходилось занимать места без соблюдения цветового порядка, что взбудоражило весь вагон. В итоге напыщенные зеленые из «Дракона» оказались прямо напротив нас, и, увы, их враждебность никуда не делась.
Я смотрел на поля за окном, избегая злобного взгляда зеленой женщины, – та явно размышляла, не дать ли мне нового поручения. Но я думал лишь о загадочной серой девушке, которая грозилась сломать мне челюсть. Она, если говорить кратко, осквернила, опозорила, обесчестила тонко настроенный социальный порядок, служивший незыблемым фундаментом для Коллектива. Удивительно, как человек, способный на такую грубость, дожил до ее лет. Нарушители выявлялись рано – по полугодовым отчетам, где указывались полученные баллы и отзывы. При нормально работающей системе девушку давно уже отправили бы на перезагрузку – научиться хорошим манерам. Однако эта бьющая в глаза антисоциальность делала ее не только достойной внимания, но и странным образом привлекательной.
– А не выпить ли мне чаю? – сказала зеленая.
Видимо, ей казалось, что ничего не делающий низкоцветный будет бездельничать всю жизнь, если вовремя не вмешаться. Я проигнорировал ее слова, так как это не было приказом, но вскоре женщина ткнула меня зонтиком:
– Эй, парень, принеси чаю. Без сахара. И с лимоном, если есть.
Я посмотрел на нее и глубоко вздохнул:
– Да, мадам.
– И печенье. Если есть с шоколадом, то его, а если нет, тогда без шоколада.
В вагоне охраны громоздились коробки со свежими фруктами, ящики с цыплятами и багаж, который не подлежал перевозке в грузовом вагоне. Поезд был слишком мал, и буфетчика-серого здесь не полагалось: пассажирам приходилось заниматься самообслуживанием на крохотной кухоньке. Я увидел, что на груде кожаных чемоданов сидит потрепанного вида человек лет сорока с небольшим, одетый – вот нелепость! – согласно общественному стандарту № 4: спортивная куртка, рубашка в полоску, небрежно завязанный однотонный галстук. Не слишком подходяще для поездки. На грязном лацкане куртки виднелся выцветший желтый кружок, а пробор у человечка был не то что неровным – пробора не было вообще! При виде желтого кружка мне следовало проникнуться к нему неприязнью, но есть что-то невыразимо грустное в опустившихся желтых – сами желтые ненавидят их даже больше, чем нас. Я зажег спиртовку и поставил на нее чайник.
– Куда направляетесь? – спросил я.
– В Смарагд[9], – тихо ответил он, – на ночной поезд.
То есть на перезагрузку. В исправительный колледж прибывали всегда на рассвете. Считалось, что это символизирует зарю новой жизни, начатой с чистого листа.
– Тогда вы не туда сели, – заметил я. – Северный Зеленый сектор – в другую сторону.
– Чем дальше, тем лучше. Мне там уже неделю как надо быть. Не найдется ли у вас чего поесть?
Я дал ему кусок кекса с тмином, найденного на кухне, и опустил в стакан балльную монету. Незнакомец жадно слопал кекс и сообщил, что он – Трэвис Канарейо из Кобальта.
– Эдди Бурый, – представился я, – из Нефрита, Южный Зеленый сектор.
– Друзья?
Желтые нередко предлагали дружбу, обычно я отказывался. Но этот мне почти нравился.
– Друзья.
Мы пожали друг другу руки.
– А ты куда? – поинтересовался он.
– В Восточный Кармин. Местный цветоподборщик неожиданно вышел в отставку, и отец временно будет его замещать, пока не подберут кого-нибудь.
– Я тоже хотел стать цветоподборщиком, – задумчиво сказал Трэвис, теребя наклейку на коробке с банками какао, – лечить людей и все такое. Но я офисный менеджер в третьем поколении, выбора у меня не было. А почему ты едешь с отцом? Набираешься опыта?
– Нет. Я заставил Берти Мадженту изобразить слона за ланчем. Он выпустил из носа две струи молока и попал прямо в молодую госпожу Синешейку. Мне удалось доказать, что это была лишь шутка, но главный префект решил, что немного смирения во Внешних пределах мне не повредит. Понимаешь ли, Берти – его сын.
– Они дали тебе бессмысленное задание?
– Я провожу перепись стульев.
– Могло быть и хуже, – ухмыльнулся он.
И правда: мне могли поручить проверку твердости кала внутри Коллектива для диетологических исследований Главной конторы или что еще. Вот это был бы наихудший сценарий.
Я опустил щепотку чая в заварочный чайник-домик, затем поискал лимон, но не нашел. Трэвис оглянулся и достал из кармана серебряную коробочку цветоподборщика. Открыв ее, он внимательно поглядел на скрытый внутри цвет и спросил:
– Лаймовый?
На секунду я подумал было, что Трэвис хочет толкнуть меня на нарушение и тем самым вытянуть балл-другой, но он выглядел таким потерянным, побитым и голодным, что я отмел эту мысль. И потом, я уже несколько месяцев не всматривался ни в какой зеленый. Отец был категоричен, считая, что от лаймового быстро переходишь к цветам пожестче. Но он здраво смотрел на вещи. «Как только пройдешь тест Исихары, – говорил он, – можешь творить сколь угодно бежевое дело».
– Давай.
Трэвис повернул коробочку содержимым ко мне. Взгляд мой упал на успокаивающий оттенок, мышцы стали расслабляться, тревоги по поводу Восточного Кармина улетучились. Все вокруг стало казаться прекрасным, даже мелкие неприятности, которых хватало: непостоянство Констанс, например, а также то, что я никогда не увижу странной грубой девчонки со вздернутым носиком. Но у меня не было привычки всматриваться в цвет, и в голове моей зазвучал «Мессия» Генделя.
– Осторожно, тигр! – с этими словами Трэвис захлопнул коробочку.
– Прости? – Музыка тут же перестала звучать для меня.
Трэвис, засмеявшись, спросил, что это было: Шуберт?
– Гендель, – сказал я.
Раскрепостившись под воздействием лаймового, я спросил у него:
– А из-за чего тебя направили на перезагрузку?
Он ответил не сразу:
– Знаешь, почему гражданам не рекомендуют перемещаться внутри Коллектива?
Я знал об ограничениях на поездки, но никогда не задумывался, в чем тут причина.
– Чтобы прекратить распространение плесени и неуместные шутки насчет пурпурных. Мне так представляется, – сказал я.
– Для того чтобы почтовая служба не погрузилась в хаос.
– Безосновательное предположение.
– Разве? Многовековые беспорядочные передвижения оставили нам тяжелое наследство. Письма могли до бесконечности пересылаться по разным адресам, ведь они повторяли не только все твои маршруты внутри Коллектива, но и маршруты всех твоих предков.
Он говорил правду. Бурые переезжали только дважды после понижения в ранге, и письма доходили к нам за два дня. А Марена, из старинного рода, представители которого много путешествовали, с их престижным кодом СВ3, получали почту только после восьмидесяти семи пересылок – в лучшем случае через девять недель, если получали вообще.
– Система не очень, – согласился я, – но ведь она работает.
– Отнюдь. Если ты или кто-нибудь из твоих предков жили на одном месте больше чем один раз, с этого адреса почта направляется на более ранние и дальше идет по кругу. Система на три четверти занята именно пересылкой таких вот закольцованных почтовых отправлений. Понятное дело, они никогда не доходят. Но главный идиотизм в другом. Основы работы почтовой службы – это часть правил, они не могут меняться. А потому, вместо того чтобы разгрузить почту, Главная контора ограничила передвижения.
– Безумие! – воскликнул я.
Язык мой все еще заплетался от лаймового.
– Таковы правила. А правила надлежит неукоснительно выполнять.
Трэвис опять говорил правду. Между миром, основанным на цветовой системе Манселла[10], и правилами можно было спокойно провести знак равенства. Они определяли все наши действия и вот уже четыре столетия обеспечивали мир внутри Коллектива. Конечно, правила порой звучали очень странно: запрещалось использовать число, стоящее между 72 и 74, запрещалось считать овец, производить новые ложки и использовать аббревиатуры. Почему – никто толком не знал. Но это были правила, установленные, должно быть, не просто так, пусть даже мы не всегда могли докопаться до причины.
– Так что же ты такого сделал? – спросил я.
– Я работал в главном сортировочном отделе Кобальта. Я попробовал применить уловку и обойти правила, чтобы прекратить отправку писем для давно умерших получателей. Ничего не вышло, и я написал в Главную контору. Мне пришел стандартный ответ – «Ваш запрос рассматривается». После шестой отписки я сдался и поджег три тонны никому не нужных писем во дворе почты.
– Неплохой, должно быть, вышел костерчик.
– Мы потом пекли на углях картошку.
– А я, – мне захотелось доказать Трэвису, что он не один такой радикальный, – однажды предложил способ избавиться от очередей в столовой: поставить вместо одного подавальщика нескольких.
– И как все обернулось?
– Так себе. Тридцать баллов штрафа «за покушение на чистую простоту очереди».
– Надо было зарегистрировать предложение как стандартную переменную.
– А это работает?
Трэвис ответил, что да, работает. Стандартные переменные позволяли вносить в правила минимальные изменения. Взять, например, правило: «Детям до десяти лет в одиннадцать утра следует давать стакан молока и на орехи». Двести лет его понимали буквально: детям давали молоко, а потом затрещину. Но один смелый префект заметил – с величайшей тактичностью, разумеется, – что в текст, видимо, вкралась ошибка и вместо «на орехи» следует читать просто «орехи». Непреложность правила не поставили под сомнение, назвав это ошибкой переписчика, и приняли стандартную переменную. Большинство случаев обхода правил, как и принципа скачка назад, основывались именно на стандартных переменных. Еще один пример – поезда. Железнодорожные пути были упразднены во время Третьего скачка назад, но один хитрый железнодорожник заметил, что единственный путь никто не запрещал. Отсюда и наши монорельсы с гироскопической стабилизацией составов: классический случай обхода правил.
– Не все это знают, но каждый может подать запрос на регистрацию стандартной переменной. Самое худшее, что будет, – отказ со стороны Совета.
– Они обязательно откажут.
– Да, но зато ты действуешь строго по закону.
Я закончил заваривать чай и поискал печенье – безуспешно.
– Кстати, – у Трэвиса как будто появилась некая мысль, – а что это за место, Восточный Кармин?
– Понятия не имею. Внешние пределы. Место довольно дикое, я так думаю.
– Звучит заманчиво. Может, какой-нибудь желтый проникнется участием и попросит для меня прощения. У тебя нет, случайно, с собой пяти баллов?
– Есть.
– Покупаю за десять.
– И в чем смысл?
– Просто положись на меня.
Заинтригованный, я протянул ему пятибалльную банкноту.
– Спасибо. Донеси на меня желтому контролеру, когда мы приедем в Восточный Кармин.
Я согласился и, подумав, спросил:
– А нельзя ли еще вглядеться в лаймовый?
– Валяй.
Вновь нахлынуло то самое необычное ощущение, и я поделился с Трэвисом, что собираюсь жениться на одной из Марена.
– На которой именно?
– Констанс.
– Никогда не слышал.
– Сколько можно ждать! – воскликнула зеленая, когда я появился с чаем. – Что ты там делал? Трепался с кем-нибудь, как распоследний серый?
– Нет, мэм.
– А печенье? Где мое печенье?
– Печенья нет, мэм. Даже самого завалящего.
– Хмм, – промычала она так, будто ей нанесли величайшее оскорбление. – Тогда еще стакан, парень, для моего мужа.
Я поглядел на зеленого. До этого момента он не выражал желания выпить чаю.
– Неплохая мысль, – одобрил он. – И с молоком…
– Он не пойдет, – вмешался мой отец, не отрываясь от «Спектра».
– Да ничего страшного, – сказал я, думая о Трэвисе и лаймовом, – я схожу.
– Нет, – повторил отец с нажимом, – ты не пойдешь.
Зеленые недоверчиво уставились на нас.
– Прошу прощения, – сказал зеленый с нервным смешком. – Мне на секунду показалось, что вы велели ему не идти…
– Именно так, – ровным голосом ответил отец, по-прежнему глядя в газету.
– Почему это? – Голос зеленой женщины дрожал от праведного негодования.
– А где волшебное слово?
– Нам не нужно никакого волшебного слова.
Отцу – красному в зеленом секторе – жилось непросто. В нашем городе был неплохо представлен весь цветовой спектр, но преобладали зеленые, которые навязывали свои решения, и потому отец был лишь цветоподборщиком в отпуске: его сместили с постоянной должности и отдали ее зеленому. Но так или иначе, отец слишком много повидал в жизни, чтобы позволять помыкать собой. Раньше я с ним никогда не путешествовал и теперь с восхищением наблюдал, как он бросает вызов представителям высших цветов.
– Раз ваш сын не хочет или не может выполнить простое поручение, мы попросим желтого рассудить это дело, – угрожающе продолжил зеленый, кивая в сторону желтого. – Если, конечно, – ему внезапно подумалось, не допустил ли он смертельную ошибку, – я не имею чести разговаривать с префектом.
Отец не был префектом, а его титул старшего советника был скорее почетным, не давая реальной власти. Но у него имелось кое-что, чего не было у зеленых: буквы. Он пристально поглядел на парочку и произнес:
– Разрешите представиться: Холден Бурый, Г. X., Поч.
Только членам Хроматикологической гильдии, или Национальной цветовой гильдии, и выпускникам Смарагдского университета разрешалось ставить буквы после имен. Прочие аббревиатуры были запрещены. Зеленые беспокойно переглянулись. Дело заключалось не в самих этих буквах, а в чувстве тревоги, порождаемом ими. Существовал страх – и сами хроматикологи, думаю, искусственно раздували его, – что, если обидеть цветоподборщика, он пошлет вам вспышку цвета 332–26–85, обеспечив мгновенную закупорку сосудов. Поступать так строжайше запрещалось, но сама боязнь этого делала людей шелковыми.
– Да, вижу… – зеленый глотнул воздуха, готовя отступление, – возможно, мы слишком поспешно стали выдвигать требования. Хорошего вам дня.
И оба потихоньку двинулись вдоль вагона. Я посмотрел на отца – его способность разговаривать на равных с более высокоцветными поразила меня. Никогда прежде я за ним такого не замечал. Интересно, что еще придется увидеть в Восточном Кармине? Но сам он сидел с безразличным видом, закрыв глаза, – собирался вздремнуть.
– И часто ты так делаешь? – спросил я.
У меня уже наступало цветопохмелье от лаймового, на периферии зрения появлялись розовые точки.
Отец слегка пожал плечами:
– Иногда. Иметь право приказывать и не пользоваться им ежеминутно – вот признак хорошего гражданина. Невежливость – это плесень на человечестве, Эдди.
Это был один из трюизмов Манселла, но, в отличие от большинства трюизмов Манселла, он сохранял силу.
Поезд остановился в Померанце Речном, где его покинули оранжевые, а вместо них вошли несколько синих. Из товарного вагона в наш осторожно перенесли пианино – на станции шла проверка и погрузка клади. Наконец состав тронулся и через десять минут проехал станцию Медовую, громыхая, свернул вправо и поехал по мосту на деревянных опорах, за которым расстилалась безлесная равнина. На ней паслись стада гигантских ленивцев, жирафов, лесных антилоп и скачущих коз, но эти животные нас не слишком заинтересовали. Путь повернул на север, поезд въехал в ущелье невыразимой прелести. Рядом с рельсом по камням бежала бурная речка, с обеих сторон виднелись крутые холмы, поросшие дубом и белой березой. Они заканчивались утесами из песчаника, над которыми парили воздушные змеи.
Я неотрывно глядел в окно, жадно выискивая красное, как финк-крыса выискивает угланчика[11]. Стояла середина лета; ранние орхидеи уже отошли, настало время маков, цветков щавеля и розовых смолевок. А когда отойдут и они, нас будут до поздней осени радовать львиный зев и гвоздики-травянки. Вот так мы, красные, держимся весной и летом на нашей скромной цветовой диете. Надо сказать, что наше восприятие не полностью притупляется к концу года. Конечно, глаза оранжевых и желтых лучше улавливают осенние оттенки. Но зачастую это время года приносит бурные восторги и нам, когда листья задерживаются на деревьях и потом краснеют от внезапной волны тепла. С представителями других цветов дело обстоит примерно так же. У желтых больше сезонных цветов, у синих и оранжевых меньше. А у зеленых – о чем они все время напоминают – только два хроматических времени года: изобилие угасания и изобилие расцвета. Наконец мне все это надоело, и я взглянул на отцовскую газету.
Там было примерно то же, что и всегда: редакционная статья, восхваляющая функциональную простоту экономики, основанной на различии цветов. На второй и третьей страницах – иллюстрированные рисунками заметки о нападениях лебедей и гибели граждан от молний. Затем шли «Важные советы»: как увеличить свои шансы на выживание, если вас застигла темнота, и еженедельная «Пикантная история». Далее – перечень остановок поездов и рубрика «Новое в науке»: на этот раз в ней помещалась статья о связи солнечных пятен со всеобщим повышением блеклости. А еще – забавные истории от читателей, комикс «День рождения Лапушки Кролика», обзор предстоящей ярмарки увеселений и прогноз: что запретят при Четвертом Великом скачке назад, ожидаемом в ближайшие три года.
Но первым делом я заглянул в раздел брачных объявлений. Не то чтобы я искал кого-то вдали от дома, но там приводились приблизительные расходы на все, связанное с межхроматическими браками. Меня это касалось напрямую – если отец хотел видеть меня женатым на Констанс Марена, он должен был порядком раскошелиться. Объявления делились на два типа. В одних родители указывали, сколько баллов они дают за брак своего ребенка с кем-нибудь, стоящим выше по цветовой шкале, например:
Дев., 21 год (К: 32.2 %, Ж: 12 %), разнообр. кач-ва. Приятная, хозяйственная, высокий рейтинг удовлетворенности. Ищет более высокоцветн. Приданое: 4125 баллов, 47 овец. Доставка обсужд., возможен послед. отказ. Просмотр: Долинная Охра, ПО6 5АД.
Другие же объявления помещались родителями, желающими породниться с низкоцветными в обмен на баллы и прочее приданое, вроде этого сомнительного анонса:
Бета-желтый мужч. (Ж: 54.9 %, К: 22 %), 26 лет. Отзывы в целом положит., здоровый, зрение не оч. острое. Слегка неряшлив. Кач-ва сообщ. по треб. Ищет 8000 баллов или близкие предлож. Рассматривает все варианты. Обстановка прилагается. Частичн. возмещ-е расходов в случае бесплодия. Просмотр: Бол. Чистотел, СА4 6ХА.
Я даже наткнулся на одно объявление из Восточного Кармина:
Дев. 18 лет, сильн. пурп., 75 подлинных кач-в, работящая, желающ. понравиться, разреш. на зачатие, отличн. отзывы. Рассм. предлож. от 6000. Доступность: ближ. время. Право на отказ не сохр. Муж наследует. Просмотр настоят. рекоменд. Вост. Кармин, ЛД3 6КЦ.
Объявление было порядком зашифровано – в правилах подробно расписывалось, что можно помещать и чего нельзя. «Доступность: ближ. время» означало, что девушка еще не прошла теста Исихары, но «сильн. пурп.» говорило о том, что ожидалось преодоление 50-процентного барьера. Шесть тысяч баллов были справедливой ценой, особенно с разрешением на зачатие. А вот что читалось между строк: мы хотим породниться с богатым пурпурным родом, который недавно утратил свой цвет, но надеется на восстановление семейной славы и притом желает ребенка в ближайшем будущем. Список качеств мало что значил, а вот «Право на отказ не сохр.» – наоборот, очень многое: кто из пурпурных больше даст, тот и получит невесту. Либо она была слишком послушной, либо родители – слишком властными. Все-таки теперь родители в большинстве своем хотя бы советовались с детьми перед началом брачных переговоров, а самые передовые даже позволяли им не соглашаться с выбором старших.
В окне слева показался недавно заброшенный город на другом берегу реки. Я смог прочесть название станции, мимо которой мы промчались без остановки: Ржавый Холм. Платформа была буквально завалена пометом животных и землей, что принес ветер. Между тротуарных плит пышно разрослись сорные травы. Но все оставалось на своих местах. На столах в станционном буфете виднелись чашки и тарелки, а в зале ожидания я заметил кучу чемоданов, превращавшихся в черную массу гнилья под протекающей крышей. С крыш кое-где была сорвана черепица, там и сям попадались разбитые окна. Люди покинули город не больше пяти лет назад.
Мимо нас пронеслись огороды, тоже заброшенные, пара трансформаторов в клетках Фарадея, затем потянулись поля, заросшие высокой травой, низким кустарником, куманикой и молодыми деревцами. Редкие постройки давно заполнила дикая жизнь, мегазвери проделали дыры в кирпичных стенах. Даже теплица с железным каркасом медленно сдавалась на милость дождей и ветров снаружи и ползучей поросли внутри; никем не подрезаемая ветка яблони выбила несколько стекол. Если здесь никто не поселится в ближайшие двадцать лет, предместья городка, считай, погибли. Границу города обозначал автоматический шлагбаум. Мы выехали на широкую равнину, где было еще больше надоедливых рододендронов. Кое-где попадались рощицы взрослых деревьев. Я отмечал полустертые следы прошлого времени: кучка чудом не развалившихся ветхих зданий; остатки стального моста, ныне окруженного со всех сторон рекой, проложившей новые русла; и самое впечатляющее – телефонная кабинка, изъеденная ветром и дождем до состояния стального кружева.
Через двадцать минут мы въехали в очередное ущелье, пересекли реку и проехали V-образную расщелину. Здесь, в одном из просветов между деревьями, когда дым и пар на мгновение рассеялись, я впервые увидел Восточный Кармин: две кирпичные трубы – линолеумная фабрика, как я узнал позже. Поезд миновал Внешние пределы, проехал по мосту через реку, замедлил ход у ограды из брусьев и помчался вдоль распаханных полей Приколлектива. Размеры Восточного Кармина составляли примерно тридцать миль на десять в самой широкой его части. Он лежал посреди обширной плодородной равнины: с востока ее замыкали холмы, с севера и запада – горы. Теперь я понимал, почему здесь стали селиться люди. Была в нем необычная, бесхитростная прелесть, и, хотя местность продувалась ветрами, погода здесь оказалась теплее, а растительность – пышнее, чем я думал. Станция находилась где-то в полумиле от города, застроенного низенькими домами, – кроме видной отовсюду зенитной башни, которая вместе с перпетулитовыми дорогами оставалась самым зримым и поразительным свидетельством прошлого времени. Зачем было строить мощные башни без окон по всей стране – никто не знал, и что означает «зенитная» – тоже. Но здешняя была увенчана куполообразной конструкцией.
– Уже? – пробормотал отец, когда я разбудил его. Он встал, взял с полки наши чемоданы, выставил их в коридор и повернулся ко мне: – Эдди, давно мы с тобой отец и сын?
– Сколько я себя помню.
– Именно. Так вот, запомни: вести себя идеально, держать свои знания при себе. Во Внешних пределах люди иногда толкуют Книгу правил не так, как привыкли мы, и запросто могут сделать что-нибудь не то.
Я кивнул. Высокие трубы в окне все росли. Под скрежет тормозов и свист пара, большое облако которого быстро рассеялось, мы прибыли в Восточный Кармин.
Восточный Кармин
2.4.01.03.002: Однажды выданный отзыв не может быть изменен.
Встречать поезд вышли начальник станции, начальник товарного отделения, почтальон и желтая контролерша, проверявшая прибывающих. Моложавый начальник станции с синим кружком на кителе стал выговаривать машинисту за минутное опоздание: придется, мол, составить рапорт. Машинист возразил, что все равно, считать ли поезд прибывающим к станции или станцию прибывающей к поезду, и вина лежит и на начальнике станции. Тот ответил, что не может контролировать скорость движения станции, но машинист сказал, что он зато может контролировать ее местоположение, и если бы станция была на тысячу ярдов ближе к Гранату, опоздания не случилось бы. Тогда начальник станции объявил, что, если машинист не признает своей вины, он, начальник, передвинет станцию на тысячу ярдов дальше от Граната, и тогда небольшое опоздание превратится в проступок, караемый лишением баллов.
Почтальон выслушал этот спор с озадаченной ухмылкой, после чего свалил со своей тележки мешок с письмами, предназначенными к отправке, взял мешок, приехавший с поездом, и без единого слова направился обратно в город. Начальник товарного отделения, не обращая ни на кого внимания, зашагал в конец поезда, к платформам, – следить за погрузкой линолеума и выгрузкой сырья.
Мы были единственными пассажирами: немного работы для желтой.
– Коды, пункт отправления? – спросила она с места в карьер, даже не поздоровавшись.
Отец сообщил наши коды и название города, та записала их в регистрационную книгу. Ей было лет двадцать пять: пухленькая, в длинном, до щиколоток, платье. Из двадцати шести моделей платьев, разрешенных для девушек, эта была самой неприглядной: не столько платье, сколько длинный мешок. И как часто бывает с желтыми, испытывающими болезненную гордость за свой негодный цвет, оно было подкрашено искусственным желтым. Она не просто питала привязанность к своему цвету, но еще давала всем знать об этом.
– Я цветоподборщик в отпуске, сменщик Робина Охристого, – сообщил отец, поглядев вокруг. – Разве он не должен нас встречать?
Девушка подозрительно взглянула на него:
– А вы с ним знакомы?
– Вместе учились в хроматикологической школе.
– А-а-а. – И желтая погрузилась в молчание.
– Так что же, – отец поспешил заполнить тягостную паузу, – кто-нибудь нас встречает?
– Типа того, – пробурчала она, не вдаваясь в дальнейшие объяснения.
Для представителя любого другого цвета ее поведение было бы откровенно грубым, но желтые всегда вели себя так.
– В поезде прячется один тип, приговоренный к перезагрузке, – сказал я, вспомнив, что Трэвис Канарейо должен мне десять баллов.
Желтая посмотрела на меня, потом на поезд и молча удалилась.
– Это отвратительно, – тихо сказал отец. – Я ведь говорил тебе, что в семействе Бурых нет доносчиков?
– Он заплатил мне за это. Нам достанется по пять баллов. Его зовут Трэвис Канарейо. Он сжег три тонны недоставленной почты, а на углях потом пек картошку.
– Пока ты не стал объяснять, все было как-то намного проще.
– Добро пожаловать в Восточный Кармин, – раздался у нас за спиной жизнерадостный голос.
Мы едва не подпрыгнули.
Мы думали, что нас встретят Робин Охристый или префект, но нет: обладатель голоса был носильщиком. Если не считать скрытого оскорбления – мол, вы ничуть не лучше серых, – он казался вполне приличным человеком: безупречно отглаженная форма, возраст около сорока, а выражение лица такое, будто ему только что рассказали смешной анекдот.
– Господин Бурый с сыном? – спросил он, глядя попеременно то на отца, то на меня. Отец подтвердил, и носильщик согнулся в почтительном поклоне. – Я Стаффорд С-8. Главный префект велел мне отвезти вас на квартиру.
– А префекты все заняты?
– О боже, – пробормотал носильщик, внезапно сообразив, что мы можем счесть такую беспрефектную встречу несколько оскорбительной для себя. – Не усматривайте здесь ничего такого. Во вторник днем префекты всегда играют парные смешанные партии.
– Крокет или теннис?
– Скрэббл.
Мы с отцом переглянулись. Подозрения оправдывались – население во Внешних пределах заразилось невежливостью. Пока мы размышляли над этим, показалась желтая вместе с Трэвисом.
– Кто это? – спросил Стаффорд, нарушая протокол: ему не полагалось начинать разговор.
– Он сжег несколько мешков картошки, – сообщил отец, – а на углях приготовил недоставленные письма.
– Да неужели? – удивился Стаффорд. – Вот чудак. Я бы сделал наоборот.
Трэвис с контролершей подошли ближе. Я услышал его голос:
– При всем моем к вам уважении, мадам, не понимаю, как небрежно повязанный галстук может угрожать Коллективу.
Желтая, однако, не уловила иронии.
– Слабо затянутый полувиндзорский узел – первый симптом хронической неряшливости, – заявила она покровительственным тоном, которым желтые разговаривают с нарушителями правил, – а игнорирование проступка оставит впечатление, будто недолжный внешний вид вполне допустим. За этим последуют плохо начищенные ботинки, примитивный язык, фатовство и грубое поведение. Вирус дисгармонии незаметно поразит все, что нам близко и дорого.
И после фразы «вы позорите свой цвет» она повела Трэвиса в город.
– Кто эта желтая? – спросил отец.
– Госпожа Банти Горчичная, – ответил Стаффорд, подхватывая нашу поклажу, – присяжная осведомительница и верная сторонница Салли Гуммигут[12], желтой префектши. Мерзкое создание, на нее ни в чем нельзя положиться. И при этом лучше всех остальных желтых во власти. Представьте, каковы остальные.
– Наименее кусачая из пираний?
– Точно. Что до пираний, остерегайтесь сына госпожи Гуммигут. С ним лучше всего…
– Лучше всего что?
– Лучше всего вообще не пересекаться. Они с Банти помолвлены. Кортленду стоит только попросить ее руки.
Носильщик уложил наши чемоданы в багажную корзинку своего велотакси. Мы втроем разместились впереди, и Стаффорд повез нас на приличной скорости по гладкой перпетулитовой дороге, мимо фабрики, внутри которой что-то звенело и лязгало. В воздухе стоял терпкий запах, словно что-то жарили на масле.
– Каждый квадратный ярд линолеума, но которому вы ходили, произведен здесь, – с гордостью пояснил Стаффорд. – В два ноля четыреста двадцать седьмом году в Восточном Кармине проходила ярмарка увеселений. Главным экспонатом на ней был Дом линолеума, построенный целиком из этого материала. По случаю ярмарки придумали даже новый пищевой продукт: бисквитолеум. С тех пор это наш местный деликатес.
– И как, ничего?
– На вкус не очень, зато по долговечности – вне конкуренции. У нас есть и Музей линолеума. Хотите заглянуть на минутку? Я вожу по нему экскурсии.
– Попозже.
– Все так говорят, – приуныл носильщик. – Можно я ослаблю галстук? Очень жарко.
Отец разрешил, и мы покатили дальше в бодром темпе. Через несколько минут показался мост с выцветшей табличкой перед ним: «Добро пожаловать в Восточный Кармин». На мосту стояла девушка с длинными черными волосами. Она держала маятник над ладонью второй руки, а рядом, на парапете, лежал раскрытый блокнот. Девушка метнула на нас странный взгляд.
– Люси Охристая, – сказал носильщик, когда мы поравнялись с ней. – Дочь господина Охристого. Большая оригиналка.
– Зачем ей маятник?
– Она ищет «гармонические линии» – музыкальную энергию, которая пронизывает Коллектив. Так она говорит.
– Что думают префекты?
– Что она девушка со странностями, – пожал плечами Стаффорд. – Но нарушения правил здесь нет, если вы тратите только личное время и не пытаетесь склонить к этому других.
Отец оглянулся, но девушка уже была поглощена своим маятником. Такси преодолело подъем, и показался город: низенькие домики со множеством окон и белеными стенами. Над крышами виднелись гелиостаты, дымовые трубы и водогреи. Перед городом располагались поросшие травой невысокие холмы, испещренные остатками прошлого: кирпичные здания, бетонные плиты, причудливые, насквозь ржавые железные конструкции. Хотя Восточный Кармин и располагался во Внешних пределах, когда-то он был крупным поселением. У нас в Нефрите насчитывалось от силы пять улиц с заброшенными постройками, а здесь они простирались почти на полумилю в каждом направлении.
– Восточный Кармин сейчас – лишь тень себя прежнего, – заметил Стаффорд. – Дефактирование здесь было не слишком суровым, и можно порой найти артефакты почти в идеальном состоянии. В свободное время я реставрирую старинное офисное оборудование. У меня уже шесть работающих степлеров и один ротатор фирмы «Гештетнер». Я проделываю дырки по выгодной цене, а мой рецепт для черных чернил известен во всем секторе.
Былые очертания улиц легко различались с перекрестков заросших травой дорог, где стояли дырявые почтовые ящики и фонари. Деревьев и кустов было мало – эти районы традиционно отводились под пастбища и места проживания для людей прошлого, которые пожелали бы вернуться. Предполагалось, что дома просто будут стоять пустыми. Но время и небрежение делали свое дело – понемногу от всего оставались лишь холмы и неумолимое правило, гласившее, что именно так и должно быть. Никто всерьез не думал, что некогда многочисленные люди прошлого вернутся, но правила есть правила.
– Как вам наш громоуловитель? – спросил Стаффорд, показывая на сооружение, венчавшее зенитную башню.
– Впечатляет, – пробормотал я.
– Префекты, и особенно госпожа Гуммигут, крайне озабочены опасностью от молний. Его возвели на самую длинную ночь, и молния уже ударяла в него раз сто.
То была деревянная решетчатая конструкция с бронзовым куполом футов тридцати в диаметре. Каждый дом в Коллективе имел металлическое приспособление для улавливания дневного света, а потому молнии были серьезной проблемой: проникая внутрь по регулировочным штокам, они часто устраивали в жилище электрическую вакханалию. Потом находили несчастных: спаянных с кусками металла, полуиспарившихся, а иногда просто мертвых в своих постелях, – но их внутренние органы напоминали густую похлебку. Мрачные сводки вместе со снимками еженедельно помещались в «Спектре».
– Надеюсь, в ваших краях к вопросам молниезащиты относятся серьезно? – поинтересовался Стаффорд.
– Наш Совет больше озабочен нападениями лебедей, но и о молниях не забывает, – сказал отец. – Есть с полдюжины специально приспособленных «фордов». У каждого в кузове стоит бронзовый уловитель на опорах. Они едут навстречу буре, когда известны направление и сила ветра.
– У нас аномалия с наветренной стороны, миль десять в диаметре, и шаровые молнии здесь довольно часты. Есть план возвести стальной стержень на Западных холмах, но пока идут лишь разговоры.
Обычные молнии легко отводились от жилых домов, но шаровые были вещью в себе. Они двигались в направлении ветра и, подхваченные воздушными вихрями, порой залетали в окна, легко притягивались к любым органическим соединениям. Бывало, что от человека оставалась лишь кучка пепла, и особо мнительные граждане, не имеющие ложек, носили в кармане стальное блюдце с выгравированным именем.
Дорога пошла под уклон. Мы приближались к городу – группке зданий на вершине холма, выполненных в дикарском стиле, то есть с использованием самых разных строительных техник и материалов – от старинного тесаного камня до рубероида, кирпича, глины, неновых досок. Кое-где встречались более современные ограды: плетни с глиняной обмазкой внутри четырехугольников из дубовых брусьев. Мы свернули с перпетулитовой дороги на мощенную булыжником улицу. Отец спросил Стаффорда, что случилось с Робином Охристым, местным цветоподборщиком.
– Мы все глубоко сожалеем, что он нас покинул, – ответил носильщик. – Робин оставил жену и дочь.
– Он ведь их скоро вызовет к себе? – спросил я, поняв все не так.
– Не уверен, что он в состоянии что-либо делать.
– Мне казалось, – медленно проговорил отец, – что господин Охристый оставил свое занятие.
– А! – воскликнул Стаффорд. – Эвфемистически верная, моя фраза, однако, ввела вас в заблуждение. Могу лишь процитировать решение Совета: господин Охристый… ммм… фатально ошибся в собственном диагнозе.
– Робин мертв? – спросил отец.
– Ну, я не эксперт по медицинским вопросам, – задумчиво произнес носильщик, – но именно это с ним и случилось, да. Ровно четыре недели назад.
Мы с отцом переглянулись: почему-то нам об этом не сообщили. Я стал размышлять, что означает «фатально ошибся в собственном диагнозе», но тут такси остановилось перед красной дверью на террасе, общей для нескольких домов, что стояли на южной стороне площади. Итак, нас привезли к черному ходу. Главные фасады выходили на площадь. Если бы не горестная новость о судьбе Робина Охристого, отец, думаю, потребовал бы подвезти нас к парадному входу, а так не сказал ничего.
Носильщик открыл дверь и пригласил нас войти, а потом занес наши вещи в чулан. Мы стояли, моргая, среди полумрака.
– Ничего себе, – воскликнул Стаффорд, – здесь темно, как в лягушачьем брюхе!
Он прошел мимо нас на кухню. В тусклом свете из окна я с трудом видел, как он поворачивает ручку и что-то делает с двумя стержнями, которые торчали из потолка. Зеркало над крышей повернулось навстречу солнцу, поймало лучи, направило их вниз по световому колодцу и затем – на матовое стекло, прикрепленное к потолку.
– Ох, – сказал Стаффорд, когда свет рассеял неприятную мглу, – надо было завести механизм гелиостата еще до вашего приезда. Здесь долго никто не жил. Что еще?
– Как так может случиться – «фатально ошибся в собственном диагнозе»? – спросил отец, все еще под впечатлением от известия о смерти бывшего коллеги.
Носильщик на секунду задумался.
– Совет рассмотрел материалы следствия. И решил так: господин Охристый обязан был подумать о том, что у него плесень, и отправить сам себя в Зеленую комнату. Но он не сделал этого.
– Ужасная ошибка.
– О да. Прекрасный был человек. За семь лет – ни одной смерти от плесени во всем городе. И никакого цветового фаворитизма, если вы понимаете, о чем я.
– Манселл утверждает, что лечение должно применяться ко всем без различия, – заметил отец, но оба мы знали, что кое-кто из цветоподборщиков усердствует, лишь имея дело с людьми своего цвета.
Отец дал Стаффорду блестящие полбалла. Тот приподнял шляпу и пожелал, чтобы наше пребывание в Восточном Кармине было счастливо-бессобытийным. Когда он уже дошел до задней двери, я спросил его, читают ли префекты исходящие телеграммы.
– Госпожа Ивонна Алокрово, отправляющая телеграммы, известна своей надежностью, особенно если накинуть двадцать цент-баллов сверх тарифа. Но даже она не станет отправлять послание, подозрительное по стилю или противоречащее интересам Коллектива.
– Это стихи, – сказал я. – Послание к возлюбленной.
Стаффорд улыбнулся.
– Понимаю. С госпожой Алокрово не будет проблем. Она и сама – романтичная душа.
Новость была хорошей, хотя и вынуждала к лишним тратам. Но что делать – Марена получали письма лишь после девятинедельных пересылок, а я уехал всего лишь на месяц.
– Отлично! – кивнул я. – Думаю…
Внезапно взгляд мой упал на человека лет тридцати с небольшим, что прятался в проходе между домами: грязный, небритый, с надписью НС-Б4, неуклюже процарапанной под левой ключицей. Обычно такие шрамы делались аккуратно, но у него напоминали небрежный сварочный шов. Он также был вызывающе раздет и, бездумно уставившись в небо, мочился себе на левую ступню.
– Стаффорд? – прошептал я дрожащим от страха голосом.
– Да, мастер Эдвард?
Носильщик повернулся, поглядел на человека и сказал:
– Никого не вижу.
– Как так не видите? Он мочится на собственную ногу.
– Мастер Эдвард, вы не можете его видеть.
– Могу.
– Не можете. Его не существует, мастер Эдвард. Клянусь Манселлом.
Я понял. Правила, сложные и широкоохватные, никак не применялись к тем, кто не имел определенного положения в мире упорядоченных сущностей. Попыток понять или объяснить таких людей не делалось. Они получали статус «апокрификов», и остальные их не замечали, дабы не ставить под угрозу правила.
– Он апокрифик? – спросил я.
– Будь он здесь, он был бы апокрификом. Но его нет.
Упорство Стаффорда было объяснимо. Признать существование апокрифика значило навлечь на себя пятисотбалльный штраф: серьезный проступок! Для описания таких существ имелись разнообразные эвфемизмы, но их никто не использовал: неправильно употребленное время могло уничтожить все ваши накопленные с таким трудом баллы.
– Никогда в жизни не видел апокрификов, – заметил я, не отрывая взгляда от окна, – и, гм, сейчас тоже не вижу. Как по-вашему, на кого они были бы похожи… если бы существовали?
– Я не видел только одного. – Стаффорд посмотрел туда же, куда я. Невидимый плескал на себя водой из бочки. – Поэтому даже не знаю, как они не выглядят. Простите, но мне пора. Я обещал поискать вторую лучшую шляпу господина Смородини. Она, конечно, у него на голове, как и всегда, но Смородини дает хорошие чаевые.
Он снова коротко поклонился. Я бесшумно закрыл дверь и пошел к отцу на кухню.
– Все это очень странно.
– Ну да, – согласился отец, с любопытством оглядываясь на меня: он в это время осматривал шкафы. – Как можно не распознать плесень? Особенно на себе самом. Это же так просто.
– Я не об этом. Я об апокрифике в проулке, который мочился на собственную ногу.
– «Недавно, спускаясь по лестнице вниз, я видел того, кого не было там», – с улыбкой ответил отец. – Вот тебе и Внешние пределы. Мне жаль бедняг, с которыми он не живет вместе.
Дом
9.3.88.32.025: Огурец и томат – фрукты, авокадо – орех. Для совместимости с пищевыми ограничениями вегетарианцев цыпленок считается вегетарианским блюдом каждый первый вторник месяца.
Мы принялись исследовать дом. Судя по деревянному каркасу, возвели его в первом столетии после Того, Что Случилось. Хотя строение еще держалось, но уже обнаруживало свой возраст. Пол был выложен плиткой, чтобы давать прохладу жарким летом. На окнах, разделенных пополам вертикальными брусками, имелись ставни и занавеси. Чисто вымытые белые оштукатуренные стены увеличивали освещенность комнат. Судя по слабому запаху буры, все дыры недавно были заткнуты.
Всего в доме было три этажа. На кухне я нашел все необходимое: газовую плиту, пошедшую пятнами фаянсовую раковину, стол, часы, шкаф со стеклянными дверями, полный столовой посуды из линолеумита. На крючках, вбитых в стены, висело множество хорошо начищенных горшков и кастрюль. А в ящике для столовых приборов обнаружились ножи и вилки, но, как и следовало ожидать, ни одной ложки.
Я поставил чайник – вдруг префекты заявятся без предупреждения? – нашел коробочку с чаем, выбрал самые приличные из чашек костяного фарфора и быстро расставил все на столе.
– Только без блюдец, – предупредил отец. – Пусть не думают, что мы тут пускаем пыль в глаза.
– А вдруг они пьют из блюдец?
– Да… Тогда поставь рядом с чашками.
Дверь из кухни выходила в коридор, который вел сперва к небольшой, обшитой деревом комнате. Там стоял ореховый стол, стул и сверкающий бакелитовый телефон – вероятно, он соединялся с городской сетью, а не красовался просто так, как у старика Мадженты. Дальше была главная прихожая, выложенная плиткой: если идти по коридору, взгляд упирался прямо во входную дверь. Справа и слева располагались гостиные. В каждой имелось широкое панорамное окно, выходившее на главную площадь, верхняя треть окон была отделана призмами «Люксфер», благодаря чему в помещение проникало больше света. Отделка комнат показалась мне восхитительной – разные сорта линолеума «под дерево». Мебель, хоть и изношенная, все еще годилась к употреблению. В рисовальной висела пара полотен Веттриано. Под ними стояла стеклянная витрина с достопримечательностями, оказавшимися здесь во время Локализации. Среди разношерстного антиквариата виднелись три шахматные фигурки, грубо вырезанные из слоновой кости, украшенный орнаментом церемониальный меч, искусно расписанное яйцо и несколько необычных медалей с надписью «XCIV Олимпиада». Для такого захолустья – впечатляющая коллекция. Но, как мы уже знаем, Восточный Кармин некогда был городом куда более населенным и значительным. Пока что я видел столько изобилия и роскоши разве что в доме у Марена, когда Констанс представляла меня родителям. Тогда случился неловкий момент – Констанс ушла сказать дворецкому, что к ужину нужен лишний прибор, а господин Марена, забыв, кто я и что здесь делаю, принял меня за лакея. Я не знал, что и сказать, и если бы Констанс вовремя не вернулась, наверное, мне пришлось бы разливать чай и подавать крекеры.
Лестница прямо напротив входной двери была винтовой. Лестничный колодец служил одновременно и световым – сквозь остекленный световой фонарь виднелся блестящий гелиостат над домом.
Поднявшись по скрипучим ступенькам на второй этаж, мы нашли там три спальни – без излишеств, но удобные. В каждой стояли: кровать, комод, стул, пресс для брюк и письменный стол с бланком почтовой бумаги на нем. «Восточный Кармин – ворота в Красные края», – гласил бланк. Еще в спальнях были латунные рефлекторы, которые могли изгибаться под углом и посылать свет куда нужно.
– Я займу ту, что выходит окнами на фасад, – заявил отец и стал обследовать свою комнату. После краткой разведки я выбрал спальню, выходившую на противоположную сторону дома. Там было посветлее, чем в третьей, а окна смотрели на закат. Я уже собрался наведаться на третий этаж, как вдруг остановился: в доме был еще кто-то. На лестнице беспорядочно громоздились картонные коробки и стоял резкий запах. И еще – музыка.
– Боже, – сказал подошедший отец. – Это же «Охрахома»!
Я тоже знал это, хотя никогда не видел либретто. Музыкальные шоу были делом привычным – во всех городах предписывалось устраивать не меньше двух представлений в год. А вот работающий фонограф считался редкостью. Восковой цилиндр остался единственным разрешенным средством звукозаписи, и на владение им требовалось разрешение Совета, возобновляемое каждый год. Эта музыка была некоторой компенсацией за сломанный фонограф в Гранате, но все это так или иначе выглядело странно.
– Привет! – крикнул я.
Никто не отозвался.
– Оставляю все в твоих умелых руках, – нервно сказал отец. – Мне надо заполнить форму на перенаправление нашей почты, до того как появится главный префект. Может, пригласишь нашего хозяина на ужин?
И, не дожидаясь ответа, он поспешил вниз по лестнице.
Я снова позвал невидимого хозяина – с тем же результатом – и решил взобраться по ступенькам. Я уже видел коридор третьего этажа, когда почувствовал, что глаза мои слезятся, и чихнул. К десятой ступеньке я чихал уже беспрерывно и очень сильно, все это болью отдавалось в голове. От слез все поплыло перед глазами. Пришлось срочно отступить на площадку второго этажа, где чиханье закончилось так же внезапно, как началось. Я вытер глаза платком и сделал новую попытку. На девятой ступеньке и шестом чиханье я сдался и вернулся вниз, слегка сконфуженный, с текущим носом. Тут музыка прекратилась – не потому, что прозвучали финальные аккорды или кончился завод: казалось, иголку сняли с цилиндра. Послышался звук отодвигаемого стула. Хозяин был дома.
– Привет! – сказал я как можно вежливее. – Меня зовут Эдди Бурый. Мы с отцом хотим знать, не придете ли вы к нам на ужин?
Молчание.
– Привет! – повторил я.
Внизу скрипнула ступенька. Я обернулся. Но это оказался не отец, а – удивительное дело – апокрифик, который поднимался по лестнице. Он никак не отреагировал на мое присутствие. Мне пришлось отступить на шаг, иначе он столкнулся бы со мной. Только тут я осознал, что он и есть хозяин – один или вместе с тем, кто двигал стулья наверху.
– Экс-президенты – все серферы, – говорил он, взбираясь по лестнице, – и не орите на меня, господин Варвик.
Я проигнорировал его, согласно протоколу, при этом заметил, что апокрифик ни разу не чихнул, и медленно побрел к себе – распаковывать вещи.
Одежду я аккуратно сложил в три ящика, один над другим, на случай инспекции, но все личные вещи оставил в маленьком чемоданчике. Я взял его с собой, ибо чемоданчик был единственным личным пространством человека: два кубических фута, которые принадлежат одному тебе. Правило это соблюдалось так строго, что без разрешения ближайшего из родственников чемоданчик не могли вскрыть даже после смерти. Была тут и оборотная сторона: все, что я оставлял дома, не подпадало под правило о частной жизни 1.1.01.02.066, а значит, могло быть обнаружено и конфисковано. И в случае необходимости меня бы наказали. Приходилось носить с собой все, что не соответствовало правилам.
Конечно же, в большинстве чемоданчиков перевозилась контрабанда: сверхнормативные ложки, незаконно присвоенные цвета, предметы, технологии которых утратились с Большим скачком назад. Но еще чаще люди возили в них частные собрания предметов, выпущенных до Явления. То была неофициальная валюта, к тому же не подверженная инфляции. Голова от куклы стоила как чай с легкой закуской, а красивое украшение – как уик-энд в Красном бассейне.
У каждого было что-нибудь, оставшееся от Прежних, просто потому, что они оставили много всего. Моя скромная коллекция насчитывала: фальшивый черепаховый гребень со всеми целыми зубьями, металлические пуговицы, несколько монет, половину телефонной трубки, пластмассовую гоночную машинку, но главное – моторчик размером с лимон. На нем была надпись «Пер. Мот. Комп., Мк6b 20В»: вероятно, он служил начинкой для какого-то домашнего прибора. Я нашел его в реке, в миле за Внешними пределами Нефрита, – длинный, плавный изгиб благоприятствовал охоте за артефактами. Я спокойно собирал пуговицы и вдруг наткнулся на моторчик, а дальше там оказалось еще много чего. Тем утром я вернулся в город с кучей красных пластмассовых штук и блестящей металлической игрушкой, которая оказалась ярко-голубой.
Главный инспектор по улову артефактов немедленно устроил поход в те места. Выяснилось, что через остатки старой деревни недавно прорыли канал. Хотя он был в трех часах ходьбы в сторону Дикого поля и находился ближе к поселку Зеленя, власти Нефрита объявили это местом цветных находок и шесть лет выгребали оттуда всякие штуковины насыщенных оттенков. Совет был крайне признателен мне. Я удостоился двухсот баллов и разрешения сохранить моторчик, что было знаком благосклонности: согласно правилу 2.1.02.03.047, любые материальные воплощения доскачковых технологий подлежали «выведению из строя» – обычно это означало несколько ударов кузнечным молотом. Мой моторчик, конечно же, не работал. В момент находки. Через полгода, хорошо высохнув, он снова принялся за старое, но делал это медленно и только в ветреную погоду. Об этом так никто и не узнал: его конфисковали бы, несмотря ни на какие прошлые решения.
Вернувшись на кухню, я обнаружил, что чайник весело посвистывает и уже наполовину выкипел. Я стал доливать воду, и тут в заднюю дверь кто-то тихонько постучал. Открыв ее, я увидел бледного молодого человека с крохотным носом и такими большими глазами, что он выглядел постоянно удивленным. Парень нервно мял собственные руки. Казалось, он в смущении.
– Мастер Эдвард? Меня зовут Северус С-7. Я городской фотограф и редактор «Восточнокарминского Меркурия». Не хотите ли печенья?
Поблагодарив, я взял одно из открытой пачки.
– Ну как вам?
– Честно говоря… песчаное.
Молодой человек принял подавленный вид.
– Я боялся этого. Мне пришлось положить песок вместо сахара. В наших краях так сложно достать ингредиенты… Я надеюсь найти поставщика продуктов для кулинарии. Вы не знаете никого?
Отец моего приятеля Фентона управлял фабрикой декоративного оформления пирожных, принадлежавшей Коллективу. Я сказал о нем Северусу.
– А что вы предлагаете? – спросил я.
Существовали большие различия между легальным бартером и нелегальной продажей за наличные на бежевом рынке.
– Есть немного парящих предметов, – сказал он, порылся в кармане, достал кожаный мешочек и с ухмылкой опорожнил его.
Весьма невыразительная коллекция, сказал бы я, с полдюжины тусклых металлических штук: они качались в воздухе, пока не зависли на стандартном уровне – примерно на расстоянии ярда от нижней точки кухонного пола, которая располагалась у шкафа с метелками. Во время прогулок мне случалось находить похожие штуки и покрупнее, а у старика Мадженты одна была такого размера, что порой служила столиком. Но тут ведь Внешние пределы! Я не хотел обидеть Северуса.
– М-да… впечатляет. Думаю, с этим можно двигаться вперед… А еще есть?
Он объяснил, что сейчас распахивают Восточное Поле, а именно там парящие предметы обычно всплывают из свежеразрытой земли. У его семьи есть права на предметы, извлеченные из земли. Я пообещал связать с Фентоном – вдруг нарисуются перспективы бизнеса? – и отфутболил пальцем одну из штуковин побольше. Та отлетела на другой конец кухни, а потом лениво подплыла к остальным.
– Странно, – сказал Северус. – Еще печенья?
– Нет, спасибо.
– Очень разумно с вашей стороны. Не дадите ли интервью «Восточнокарминскому Меркурию»? Нашим читателям будет интересно узнать, какие вы забавные и самовлюбленные там, в центре Коллектива.
Я поблагодарил, объяснив, что сейчас очень занят, а чуть попозже, может, и выкрою время. Северус ответил, что это будет здорово, но все медлил прощаться.
– Чем еще могу служить?
– Простите, что забегаю вперед, мастер Эдвард, но в городе есть рынок билетов с открытой датой на предъявителя, и если…
– Я ничего не продаю. – Свой ответ я сопроводил улыбкой: мол, я тебя не выдам. – Мне нужен мой билет, чтобы вернуться домой.
– Конечно. Но я могу предложить… ммм… двести баллов. Наличными.
Для серого это было очень много – двести баллов в виде передаваемой суммы, а не записей в книге поведения. И это было очень много для меня. Можно выбраться в хорошее место с Констанс вечером… И не один раз. Но если я не вернусь в Нефрит, зачем мне эти баллы?
– Нет, мне без билета никак.
Северус извинился, сказал, что охотно поговорит со мной, когда я освобожусь, и удалился. Я пополнил сахарницу из наших с отцом запасов, потом пошел в рисовальную.
– Вот удивительно, – сказал я отцу, который сидел у окна и вел неравную борьбу с кроссвордом. – Мне только что предложили купить мой билет на предъявителя.
– Внешние пределы – не для всех, – заметил он, не поднимая головы. – Но ты ведь не продал?
– Нет, конечно.
– Ну и хорошо. И не давай билет префектам на сохранение – вдруг они сами его продадут.
Поблагодарив отца за совет, я спросил его, знает ли он, кто наш хозяин.
– Три по вертикали, – пробормотал он. – Ласковое обращение к детям и женщинам. Десять букв, начинается на А, кончается на К.
– Апокрифик.
– Апокрифик? А что, пойдет.
И он тут же, не задумываясь, вписал слово.
– Да нет, папа. Наш хозяин – апокрифик.
– Чтоб его… – Отец принялся стирать ответ, наверное, уже в шестой раз. – Апокрифик. Ты ведь не пригласил его на ужин?
– И вообще с ним не говорил, – ответил я, расставляя на столике молоко, сахар, чай и тоже усаживаясь у окна. – А раз его не существует, то его там нет, даже если он там.
– Их все время где-то нет, в том и суть. Ласковое обращение к детям и женщинам. Гм.
Тут в дверь позвонили.
– Открой, пожалуйста. – Отец отложил газету, подтянул галстук и с достоинством встал у камина. – Это, наверное, главный префект.
Серая и Салли Гуммигут
1.2.31.01.006: Каждый замеченный в недоплате или переплате за товары или услуги карается штрафом.
Я встал с колотящимся сердцем. Отполировал носки ботинок сзади о брюки и направился к двери. Но за ней оказался вовсе не главный префект.
– Ты! – воскликнул я при виде той самой загадочной грубиянки, что угрожала сломать мою челюсть в Гранате.
Я испытал сложную смесь восторга и смятения и со стороны, должно быть, выглядел остолбеневшим. Как и она, собственно. На секунду на лице ее отразилось сомнение, сменившееся непроницаемым выражением.
– Вы знаете друг друга? – раздался строгий голос женщины, которая стояла за моей прекрасной незнакомкой.
Видимо, то была Салли Гуммигут, желтая префектша. Как и Банти Горчичная, она была одета с ног до головы в яркую синтетически-желтую одежду – хорошо сшитые юбка и жакет. Более того: желтыми были серьги, головная повязка и ремешок часов. Мозг мой тут же среагировал на нестерпимо яркий цвет; наряд Салли Гуммигут приобрел гниловато-сладкий запах бананов. Правда, это был не запах, а лишь ощущение, что такой запах мог бы от нее исходить.
– Да! – заявил я без размышлений. – Она сказала, что сломает мне челюсть!
Очень серьезное обвинение. Я почти сразу же пожалел, что выдвинул его. Ведь в семействе Бурых нет доносчиков.
– Где это случилось? – спросила префектша.
– В Гранате, – тихо ответил я.
– Джейн, это правда? – строго обратилась она к девушке.
– Нет, мадам, – ответила та ровным голосом. Кто бы сказал, что тем утром она мне открыто угрожала? – Я никогда не встречала этого молодого человека. И в Гранате никогда не была.
– Что тут происходит? – спросил отец, который вышел в холл: ему надоело стоять в изящной позе, положив локоть на каминную полку.
– Салли Гуммигут. – Женщина протянула ему руку. – Желтый префект.
– Холден Бурый, – представился отец, – цветоподборщик в отпуске. – А это?..
– Джейн С-23, – объяснила Гуммигут. – Ваша служанка. Боюсь, у нее не слишком хорошие отзывы, но больше, увы, никого нет. Вы имеете право загружать ее работой один час в день, остальное – по личной договоренности. Заранее прошу прощения за возможные выходки. У Джейн с поведением… проблемы.
– Только один час? – удивился отец.
– Да. Вам придется самим раскладывать вымытую посуду и заправлять постель, уж извините, – пожала плечами госпожа Гуммигут. – Сверхзанятость просто свирепствует. Слишком много серых на пенсии, скажу я вам, и не приносят никакой пользы.
– Но ведь можно нанимать их за плату, – заметил отец.
Ответом был издевательский смешок – префектша и мысли не допускала, что отец может говорить всерьез. Правила выхода на пенсию были общими для всех цветов: после пятидесяти лет работы на Коллектив вы могли делать что душе угодно, а любая работа оплачивалась дополнительно. «Лучшие серые, – как-то поведал мне наш желтый префект, – это те, кто подхватывает плесень в день выхода на пенсию».
– Привет, Джейн. – Отец, видимо, больше не надеялся добиться ничего толкового от госпожи Гуммигут. Он скользнул взглядом по значкам «Вспыльчивая» и «Ненадежная» под ее серым кружком. – Не сделаете ли нам печенья? Скоро придут остальные префекты.
Та сделала книксен и собралась было покинуть нас, но Салли Гуммигут еще не закончила.
– Подожди, пока тебя не отпустят, – велела она и прибавила чуть приветливее: – Господин Бурый, ваш сын утверждает, что встречался с Джейн раньше и что она угрожала ему физическим насилием. Я хочу знать, как обстояло дело.
Отец посмотрел на меня, потом на Джейн, потом на префектшу. Когда желтый начинает расследование, никогда не знаешь, чем оно закончится. Недонесение о чем-либо иногда оказывается хуже самого правонарушения. Но хотя Джейн и угрожала сломать мне челюсть, я не желал ей неприятностей. А неприятность вырисовывалась немалая. Угроза нападения приравнивалась к нападению: правила почти не делали различия между намерением и его реализацией.
– Ну так что, Эдди? – обратился ко мне отец. – Ты ее видел?
– В Гранате, – промямлил я, размышляя, как бы не потерять баллов за разбазаривание времени префекта посредством ложного обвинения. – Этим утром, перед отходом поезда.
– Значит, вы ошиблись, – сказала префектша. На лице Джейн отобразилось видимое облегчение. – Вы ее видели в поезде?
– Нет.
– Гранат в пятидесяти милях отсюда. Кроме того, этим утром она занималась полезной работой по приготовлению завтрака. В день у нас проходит только один поезд и направляется на север. Может быть, вы ошиблись, мастер Бурый.
– Да, – выдохнул я, словно камень с души свалился. – Да, это явно был кто-то другой.
– Отлично. Иди, девочка, – приказала Гуммигут.
Джейн без единого слова направилась на кухню.
– Главный префект скоро посетит вас, – продолжила она, обращаясь теперь к отцу, – а пока что не могли бы вы посмотреть кое-кого из серых? Они жалуются на здоровье. Если вы подпишете акт о симуляции, я смогу снять баллы с этих серых лодырей и поучить их уму-разуму. Это займет от силы минут десять.
– Гм… Я сделаю все, что смогу.
Отца явно покоробило такое отношение к собственным работникам. Желтые занимались распределением рабочей силы, то есть серых. Некоторые делали это хорошо, другие плохо. Госпожа Гуммигут, очевидно, принадлежала ко вторым.
Наконец префектша ушла. Я медленно побрел по коридору на кухню, где с равнодушным видом возилась Джейн. Я встал в дверях, но она не повернулась в мою сторону. А вдруг я и вправду ошибся? Разве можно проделать за утро сто с лишним миль, если не ехать на поезде? Однако, взглянув на девушку, я понял, что это была она – по знакомому холодку в груди, и потом, разве найдется второй такой же нос?
– Как это вам удалось? – спросил я. – Смотаться за одно утро в Гранат и обратно?
– Смотаться?
– Я собираю устаревшие слова. «Смотаться» – значит «совершить поездку за сравнительно короткий срок».
– А знакомо тебе слово «мудак»?
– Нет, еще нет. А что оно значит?
– Я не знаю. Но думаю, оно к тебе вполне подходит. И я вовсе не «смоталась» в Гранат – вы меня с кем-то спутали. Вы ведь смотрели на мой нос только что?
– Нет, – солгал я.
– Нет, смотрели.
– Ладно, – я испытал внезапный прилив храбрости, – смотрел. И что с того? Он похож на…
– Мой долг – предупредить вас.
– О чем?
– О том, что случится, если в моем присутствии говорить слова «нос» и «симпатичный».
Я принял это за шутку и рассмеялся.
– Да ладно тебе, Джейн!
В ее глазах снова сверкнуло бешенство. Та же самая девушка, без всяких сомнений.
– Я разве говорила, что ты можешь обращаться ко мне по имени?
– Нет.
– Вот что, красный. Выслушай меня. Нам не о чем говорить. Мы никогда не встречались, между нами нет ничего общего. Ясно? Через месяц ты вернешься к своей жалкой серой жизни в Гайморите или где там еще. Главное, чтобы подальше от меня.
И она вновь принялась отмеривать муку. Я стоял безмолвно, не зная, что сказать или сделать. Никогда мне еще не попадались такие прямолинейные люди: все равно что разговаривать с префектом в обличье двадцатилетней серой девушки.
– Есть ли пожелания насчет жира? – спросила Джейн, держа в руках два горшочка. – Растительный дороже, но восстановленный животный может содержать следы какого-нибудь гражданина. Не знаю, насколько вы брезгливы там, в центре Коллектива.
– Не особенно. А кем был тот самозванец-серый в магазине красок?
Знай я эту девушку лучше, я бы промолчал. После краткой паузы она схватила первое, что попалось под руку, – большую кулинарную вилку – и метнула в мою сторону. Вилка, звеня, вонзилась в косяк. Я уставился на дрожащую рукоятку дюймах в пяти от своего лица, потом взглянул на Джейн: та пришла в такое бешенство, что кровь бросилась ей в лицо. Хорошенький носик был у этой девушки или нет, но темпераментом она обладала бурным.
– Хорошо, хорошо, – успокоил я ее. – Мы никогда не встречались.
В дверь позвонили. Вообще-то Джейн, как служанка, должна была открыть, но она не шелохнулась.
– Я открою.
Джейн ничего не сказала. Я вышел, но тут же вернулся, показал на вилку, все еще торчавшую в косяке, и спросил:
– Ты ведь не собираешься убить меня?
– Нет.
– Рад это слышать.
– Не здесь. Слишком много свидетелей.
Вероятно, на лице моем отобразился шок, и Джейн позволила себе сухо улыбнуться.
– Это шутка? – продолжал допытываться я.
– Да.
Но, как выяснилось позже, это была вовсе не шутка.
И опять, вопреки ожиданиям, гостем оказался не главный префект, а морщинистая старуха с розовыми щечками и радушной ухмылкой. Платье показалось мне сперва темно-винным, но выяснилось, это натуральный пурпур – просто я видел только его красную составляющую. Под ярким кружком синтетического пурпурного цвета виднелись значки заслуг и перевернутый значок главного префекта – женщина когда-то занимала этот пост. Я невольно выпрямился. В руках она держала кекс – простой, без начинки, но с неожиданно богатым украшением: ярко-красная замороженная вишня поверх снежно-белой сахарной глазури.
– Новый цветоподборщик? – недоверчиво спросила она. – Вы же только из песочницы выбрались.
– Это мой отец, – объяснил я. – Он осматривает симулянтов вместе с госпожой Гуммигут. Чем могу помочь?
– Надо привыкнуть к тому, что цветоподборщики теперь так молоды, – вздохнула она, словно не слышала моих слов. – Добро пожаловать в Восточный Кармин.
Я поблагодарил женщину, и она поведала мне, что ее зовут вдова де Мальва, что она очень хорошо видит пурпурный цвет и что она наша соседка – живет в следующем доме. Рассказав нудную, но, к счастью, более-менее короткую историю про жуткую промышленную аварию, после которой трем семействам пришлось с боем добывать уборщика, старушка наконец предложила мне кекс.
– Большое спасибо, – сказал я. – И еще с вишней! Не хотите ли войти?
– Честно говоря, нет. – Она сделала паузу и пододвинулась ко мне ближе. – Вы только что приехали, а потому надо вас предупредить насчет госпожи Ляпис-Лазурь.
– Вот как?
– Именно так. Сладкие речи, показная любезность… а на самом деле она прирожденная законченная лгунья, которую почему-то еще не пожрала гниль. Пустить бы ее на мыло – куда больше пользы для города.
– Она вам несимпатична?
– Что вы! – воскликнула де Мальва оскорбленным тоном. – Мы с ней близкие старинные друзья. И вместе ведем учет явлений призраков. Кстати, вам доводилось их видеть?
– В последнее время – нет, – ответил я, удивленный тем, что бывшая префектша предается такому ребячеству.
– А еще мы руководим Восточнокарминским обществом реконструкции. Не желаете вступить?
– И что же вы реконструируете?
Вопрос мой выглядел резонным: реконструировать оставалось разве что сцены из «Жизни» Манселла, но это было бы смертельно скучно, даже думать не хотелось.
– Мы реконструируем каждый вторник предыдущую пятницу, а в субботу по утрам – четверг следующей недели. Когда участвует весь город, это так весело! В конце года мы реконструируем самые примечательные события. А иногда занимаемся реконструкцией реконструкций. Мне кажется, вы кое-что забыли.
Я ничего не произнес в ответ, и она показала на кекс.
– Полбалла, пожалуйста.
Цена была запредельной даже для женщины, которая хорошо видит пурпурный цвет.
– Но если вы не захотите есть, я охотно выкуплю его с удержанием семидесятипятипроцентной таксы за передачу из рук в руки.
– Кекс?
– Вишню.
– А можно ли купить кекс без вишни? – спросил я после недолгого размышления.
– Это как же?! – обиделась старуха. – Кому нужен кекс без вишни?
– Что такое, мама? Проблемы?
Эти слова принадлежали человеку, который только что поднялся по крыльцу из трех ступенек. На нем были длинные одежды префекта – видимо, чистый пурпур. Главный префект, никакого сомнения. То был мужчина средних лет, высокий, атлетически сложенный, относительно приветливый на вид. Его сопровождали двое в ярких одеяниях, буквально лучившиеся властностью, – явно остальные префекты.
– Господин Бурый не желает платить за кекс, который я ему принесла.
Главный префект смерил меня взглядом.
– Вы слишком молоды для цветоподборщика.
– Извините, господин, но я не господин Бурый, я его сын.
– Тогда почему вы сказали, что вы и есть господин Бурый? – подозрительно спросила де Мальва.
– Я этого не говорил.
– А! – возмутилась старуха. – Так вы обвиняете меня во лжи?
– Но…
– Итак, вы отказываетесь платить? – спросил главный префект.
– Нет, господин префект.
Я отдал деньги старушке, которая хихикнула себе под нос и убралась прочь.
Главный префект де Мальва – как предполагал я, хотя он не представился, да и никогда не представился бы нижестоящему, – вошел в дом и оглядел меня так, словно я был куском говядины.
– Гм, – выдал он наконец. – На вид довольно здоровый. Вы яркий?
Слова эти отдавали двусмысленностью. «Яркий» могло значить «умный» или «обладающий высокой цветовой чувствительностью». В первом случае вопрос был допустимым, во втором – нет. Я решил ответить двусмысленностью на двусмысленность.
– Полагаю, что так оно и есть, господин префект. Располагайтесь в комнате, чувствуйте себя как дома.
Вместе с лиловым пришли также синий и красный префекты – Циан и Смородини. Циан выглядел вполне пристойно, но Смородини казался совершенно чокнутым. Я усадил их и поспешил на кухню.
– Префекты уже пришли, Дже… – Я запнулся и продолжил: – Послушай, если не называть тебя по имени, то как же тебя называть?
– Самое лучшее, если ты вообще не будешь со мной говорить. Но если бы в тебе была хоть капля самоуважения, ты бы назвал меня по имени.
То был открытый вызов. Я оглянулся – нет ли в пределах ее досягаемости острых предметов – и обнаружил лишь взбивалку для яиц.
– Ладно. Джейн, префекты уже…
Я никогда не думал, что от венчика может быть так больно. Впрочем, до того их в меня не метали. Металлическая штука попала мне в лоб. Уже одно это – не считая заносчивости, неуважения и плохих манер – могло стоить ей минимум пятидесяти баллов, если бы я сообщил властям. А мне досталась бы десятипроцентная премия от этой суммы – за то, что сообщил.
– Так ты никогда не получишь ни баллов, ни положительных отзывов, – сообщил я, потирая лоб. – Как ты собираешься дальше жить? – Она устало взглянула на меня. – А у тебя вообще есть баллы или положительные отзывы?
– Нет.
– И ты не считаешь, что это плохо?
Джейн обернулась и уставилась на меня умным, проницательным взглядом.
– То, что плохо, и то, что хорошо, определяется не только Книгой правил.
– Неправда. – Меня шокировала сама идея, что может существовать другой кодекс поведения, стоящий выше Книги. – Книга правил как раз и указывает нам, что правильно, а что неправильно. Предсказуемость правил и их безусловное соблюдение есть основа основ…
– Печенье еще не готово. Я принесу его позже. Возьми пока чай.
– Ты слышала, что я сказал?
– Я типа выключилась в этот момент.
Я взглянул на нее как только мог сурово, скорбно покачал головой, отчетливо произнес: «Эх, ты», взял поднос и вышел из комнаты, всем своим видом стараясь выражать неодобрение.
Префекты
1.1.06.01.223: Должность префекта могут занимать только граждане с цветовосприятием от 70 % и выше. Если таковых не находится, ее может временно занимать гражданин с более низким цветовосприятием, до тех пор, пока не найдется подходящая кандидатура.
Когда я вернулся в гостиную, префекты обсуждали Трэвиса Канарейо с его поджогом почты. Я не мог отделаться от мысли, что сжигать письма умерших – это не проступок, а благодеяние. Что еще более любопытно, я не мог не заметить, что члены Совета в мое отсутствие опустошили сахарницу. Я разливал чай со всей возможной вежливостью, но руки мои дрожали. Префекты всегда заставляли меня нервничать, в особенности если за мной числился недолжный поступок.
– Итак, мастер Бурый, – вопросил главный префект, – чего нам от вас ожидать?
– Я всемерно постараюсь быть достойным и полезным членом Коллектива в течение своего краткого пребывания здесь, – прибег я к стандартному ответу.
– Конечно, постараетесь. Восточный Кармин не место для лодырей, бездельников и дармоедов.
Несмотря на улыбку, префект ясно высказывал предупреждение. Я это так и воспринял.
– Путешествие – это немалая привилегия, – продолжил он, – но оно может привести к распространению дисгармонии, не говоря уже о плесени. Какова причина вашего путешествия, мастер Бурый?
– Я прибыл сюда для участия в переписи стульев, господин префект.
Префекты переглянулись.
– У вас есть на этот счет соответствующие распоряжения?
– Да, господин префект.
– Салли непременно захочет помочь, – пробормотал Смородини.
– Чтобы научиться смирению? – спросил де Мальва, глядя на мой значок.
– Да, господин префект.
– Надеюсь, это будет полезный опыт для вас, мастер Бурый. Вы обесчестите свой род, если промотаете весь красный цвет, который ваши праотцы добыли с таким трудом.
– Да, господин префект.
Скандал в семействе Бурых, увы, стал всеобщим достоянием. Три поколения назад один мой эксцентричный предок, Пирс Сангини, у которого было больше красного цвета, чем ума, решил жениться на серой. Он был префектом и отдаленным потомком первокрасного. Имя и цвет его сгинули в этом браке. Сын его обладал цветовосприятием всего в шестнадцать процентов – это был ужасающий упадок рода. С тех пор мы, Бурые, пытались вернуть себе прежнее положение. Женитьба выглядела немыслимо скандальной даже по сегодняшним меркам – но правил не нарушала. Никому не запрещалось жениться по любви, просто это не имело смысла. Как гласила пословица: «Хочешь, чтобы твои внуки тебя ненавидели? Женись на девушке из низкоцветных».
Я разливал чай, префекты болтали друг с другом, но внезапно воцарилось молчание: вошла Джейн с печеньем. Смородини и Циан, казалось, несколько забеспокоились и даже слегка отпрянули при ее приближении. Я понял, что ненависть Джейн не знала границ. Она ненавидела не только меня, а всех вышестоящих. Значит, в ее неприязни ко мне не было ничего личного. Передо мной забрезжил слабый проблеск обманчивой надежды – по крайней мере, теперь было от чего отталкиваться.
– Благодарю, Джейн, – сказал де Мальва, единственный, кого не смущало ее присутствие.
– Господин префект, – произнесла она, ставя дымящееся, сладко пахнущее печенье на столик.
Циан и Смородини внимательно наблюдали за ней.
– Ложка упакована, к походу готова? – спросил Смородини с неуместным вызовом.
Джейн презрительно посмотрела на него, сделала реверанс – скорее, по привычке, чем из вежливости, – и удалилась.
– Ну, об этой я жалеть не стану, – пробурчал Смородини. – Почти совсем неуправляемая.
– Но отлично работает, несмотря на свою антисоциальность, – заметил де Мальва. – И нос очень курносый.
– Очень, – согласился Циан.
После этого префекты прекратили беседу и жадно набросились на печенье.
Есть вместе с ними без приглашения считалось дурным тоном, а потому я тихо сел и приличествующим образом сложил руки на коленях. Мысли мои вновь перекинулись к Джейн. «Ложка упакована» – эти слова Смородини могли относиться только к перезагрузке. С собой брали очень немногое, но ложку – обязательно. Как и Трэвиса Канарейо, Джейн ожидал ночной поезд на Смарагд, где ее поучат хорошим манерам.
– А печенье у нее вышло хорошее, – сказал Смородини, беря еще одну штуку.
– Пожалуй, стоит балла, – отозвался Циан.
– Это ей не поможет, – заметил Смородини, и все засмеялись.
– Мастер Бурый, – обратился ко мне главный префект, обмакивая печенье в чай, – думаю, что я буду хранить ваш обратный билет у себя, ради безопасности. В городе есть элементы, желающие совершить незаконную поездку. Кстати, вас не просили его продать?
– Нет, господин префект, – не моргнув глазом ответил я.
Пусть тайное предложение Северуса останется тайной.
– Если вы доложите нам о таком случае, то получите десять баллов.
– Буду знать, господин префект, спасибо.
– Прекрасно. Тогда отдайте его мне.
– Я… э-э-э… хотел бы хранить его у себя, если вы не против.
– Еще как против, Бурый, – резко ответил де Мальва. – Или вы полагаете, что здесь, на границах, мы небрежно относимся к своим обязанностям? Если ваш билет с открытой датой на предъявителя украдут, ваши возможности расширить свой кругозор будут существенно урезаны.
И действительно: из-за несовершенства правил выходило так, что такой билет нельзя было оспорить или отобрать. Поэтому такой документ был бесценным для каждого, кто хотел совершить нелегальную поездку. Отсюда и двести баллов, которые предлагал Северус.
– Нет, господин префект, но…
– Никаких «но», – отрезал Смородини. – Делайте, как говорит главный префект, или мы поставим вопрос о штрафе за серьезную непочтительность.
Все трое уставились на меня. Неодобрительные взгляды префектов привели меня в расстройство. Я протянул свой билет де Мальве. Тот без единого слова сунул его в карман. В этот самый момент главная дверь открылась и показался мой отец – похоже, у них с госпожой Гуммигут вышел спор.
– Я заявляю, что это симуляция, – говорила та. – А тот, кто думает иначе, еще не в полной мере столкнулся со способностью серых изворачиваться и лгать.
– Вы ошибаетесь, – возразил отец ровным, как того требовала обстановка, голосом. – Я утверждаю, что это насморк, а следовательно, их отсутствие на работе законно, согласно Приложению III.
– Из-за несчастных случаев на производстве обострилась нехватка рабочей силы, – не сдавалась Гуммигут, в основном из-за де Мальвы, – а из молодых ахроматиков в ближайшее время никто не достигнет шестнадцати. Насморк может вызвать экономический крах города.
– И кое-что похуже, – уже тверже возразил отец. – Насморк способен перерождаться в П-пле-сень, и если не следить за этим, разразится катастрофа.
Он не преувеличивал. Много лет назад Южный Зеленый сектор остался совсем без граждан из-за плесени и только сейчас стал оправляться от потрясения. Предшествовал ли этому насморк или нет, неведомо, но эпидемии плесени начинались, как правило, самым банальным образом.
К счастью, обязанности хозяина дома отвлекли отца от спора.
– Простите за опоздание, – сказал он, подходя к собравшимся. – Старший инспектор Холден Бурый, цветоподборщик в отпуске.
– Джордж Стэнтон де Мальва, главный префект.
Затем лиловый представил других префектов. Отец, поклонившись, обменялся рукопожатиями с Цианом и Смородини, потом попросил меня принести свежего чаю себе и госпоже Гуммигут. Я перепоручил это дело Джейн, которая поставила чайник на плиту без единого слова.
– Вам попадались следы бандитов по дороге? – услышал я, снова входя в гостиную.
– Никаких. А здесь, далеко на западе, они есть?
– Предосторожности никогда еще не мешали. Два года назад пассажиры одного поезда были освистаны и стали свидетелями неприличных жестов – в двадцати милях отсюда. Высланный из Синегорода отряд нашел лагерь преступников, но, к счастью, гниль унесла их всех. Бандиты в этих местах особенно подвержены плесени. Думаю, из-за влажности.
– Если честно, – вставила Салли Гуммигут, – для них же лучше.
– В наших краях есть монохромы-фундаменталисты, – сказал отец, – они атакуют цветопроводы. Но уже давно про них ничего не слышно.
– Вот зануды, – пробормотал Смородини.
– Опасное занятие, – заметил отец. – Я об Охристом и его ошибке в самодиагнозе.
– Да, – мрачно согласился де Мальва. – Потеря цветоподборщика всегда прискорбна, а еще этот неправильный диагноз… трагическая потеря для нас. Но, может, оно было к лучшему.
Лица его коллег приняли обеспокоенный вид. Я нахмурился. Здесь творилось что-то странное.
– К лучшему? – переспросил отец. – Как это?
Ему ответил Циан, тщательно подбирая слова:
– У нас в городе наблюдались… нарушения в цветоподборе.
Он имел в виду множество лечебных цветов, хранящихся в колориуме. Большая хроматикологическая палитра могла насчитывать тысячи индивидуальных оттенков, во много раз больше, чем отцовская дорожная. Отец спросил, что за нарушения, но де Мальва сказал лишь, что после чая необходимо обсудить это в колориуме, добавив, что положение «крайне щекотливое».
– Вы видели нашу ловушку для молний? – спросила Гуммигут, явно желая сменить тему, в то время как де Мальва взял третье печенье.
– Ее невозможно не увидеть, – ответил отец. – Крайне впечатляюще.
– У нас тут молнии бьют постоянно, – продолжила та. – Поэтому мы регулярно проводим учебные тревоги. Инструкции висят на кухонной двери, с обратной стороны.
Последовала пауза.
– Я так понимаю, – сказал де Мальва, пристально глядя на отца, – что вы были свидетелем происшествия в Национальном магазине красок этим утром?
– Новости разлетаются быстро.
– Мы получили телеграмму от желтого префекта Граната.
Отец подтвердил, что он был там, и кратко рассказал о случившемся. Префекты напряженно слушали.
– Ясно, – заметил де Мальва, когда отец закончил свой рассказ. – Серый, преступно присвоивший цвет, кажется, умер от плесени вскоре после перенесения в тамошний колориум. Они интересовались, известно ли вам что-либо, могущее пролить свет на его личность.
Вернулась Джейн – со свежезаваренным чайником и еще парой чашек, делая все невероятно медленно, чтобы послушать беседу.
– Он был ЛД2, – подумав, сказал отец.
– В Национальный регистр занесено восемьдесят два ЛД2, – заметила Гуммигут, – и чтобы отследить всех, нужно немало времени. Из наших двенадцати ни один не подходит под описание, и по возрасту тоже. Пурпурных, разумеется, не проверяют, поэтому неизвестно, когда и откуда он прибыл.
– Тогда боюсь, что не смогу вам помочь.
– И никаких больше нитей? Ничего больше не хотите нам сказать? Вы или ваш сын?
– Нет.
Я посмотрел на Джейн, которая не отрывала от меня взгляда. Она знала, что мне известно о ее знакомстве с тем серым и что будь на ее месте другой, я бы рассказал об этом. «В семействе Бурых нет доносчиков», – сказал отец, но мне отчаянно были нужны баллы, если я хотел побороться за Констанс. Она любила шоколадки, а они, особенно с цветным центром, стоили дорого. Донести на Джейн значило получить минимум полсотни баллов.
– Нет, господин префект, – эхом откликнулся я.
Джейн закончила сервировать стол и незаметно выскользнула из комнаты.
– Ну что ж, я телеграфирую об этом в Гранат, – сказал де Мальва.
После этого пошла светская болтовня. Отец отказался от печенья, но выпил чаю. Они поговорили о мотополо и о том, что на прошлой ярмарке увеселений команда Восточного Кармина заняла второе место.
Снова вошла Джейн, держа в руках поднос с какой-то запиской.
– Простите меня, – сказала она необычайно вежливо. – Срочное послание для мастера Эдварда.
– Для меня? – удивленно спросил я, однако поблагодарил Джейн, взял письмо, прочел его и спрятал в верхний карман.
Сделав реверанс, Джейн молча удалилась.
– Не хотите ли печенья, мастер Бурый? – предложил де Мальва, когда префекты уже съели почти все. – Весьма хороши.
– Удивительно… пряные, – сказал Циан.
– Своеобычный вкус, – добавил Смородини.
– Вы очень любезны, – ответил я, – но не хочу, спасибо.
Вообще-то, я всегда любил печенье, но на этот раз пришлось отказаться. Записка, принесенная Джейн, гласила: «Не ешь печенья».
Затем мы заполнили городскую регистрационную книгу: имена, фамилии, родственники, почтовый код, отзывы, баллы, и сколько какого цвета мы способны видеть. «50,23 %», – указал отец, а я написал: «Теста не проходил». Я обратил внимание, что прямо перед нами был вписан Трэвис. У него был почтовый код, обычно принадлежавший очень влиятельным лицам, – ТО3 4РФ: значит, Трэвис происходил с родины желтых – Медового полуострова. Еще интереснее: 92 % отзывов – положительные. Образцовый гражданин… до того момента, как поджег почту.
– Извините, что могу показаться слишком недоверчивым, – сказал Смородини, когда мы все заполнили, – но если не возражаете… Таковы правила.
Мы расстегнули рубашки, и он сверил наши почтовые коды с записанными в балльных книжках. Потом – еще одна процедура, чуть более долгая: сравнение узора из черно-белых линий на ногтях левой руки и узора в книжке. Наконец префекты ознакомились с нашими отзывами и баллами – и, видимо, вынесли положительное впечатление, так как ничего не сказали. С отзывами у меня было все в порядке – семьдесят два процента, – а с баллами не очень. Кроме штрафа за рацпредложение по поводу очередей в столовой, ничего особенного, отсюда 1260 баллов. На двести больше тысячи, дававшей права полного гражданства. Я мог жениться (после прохождения теста Исихары), брать вторые блюда за обедом, носить жилет с рисунком и много чего еще. У отца баллов имелось намного больше ввиду его возраста, профессии и статуса старшего инспектора. А могло бы быть и еще больше – но за потерю лечебной карточки двумя годами ранее с него сняли много баллов. В последний раз, когда мы заговаривали об этом, у отца насчитывалось меньше восьми тысяч, и все они – сверх трех тысяч, определенных мне на выкуп за невесту, – должны были пойти на деревянную теплицу.
– Хмм, – промычал де Мальва, просмотрев данные отца. – Впечатляет.
– Это осталось от моей жены, – просто сказал отец.
– Вот как? – Де Мальва уже не был столь впечатлен. – Прекрасная, наверное, была женщина. Примите наши соболезнования.
– Она погибла от молнии? – спросила Гуммигут с надеждой в голосе.
Отец помолчал, надеясь, что его не станут расспрашивать дальше. Но эти префекты сильно отличались от наших. Старик Маджента мог быть каким угодно дураком и грубияном, но отлично знал, что есть личные вопросы, в которые не стоит совать свой нос.
– Нападение лебедей? – предположил Смородини.
– Плесень, – подчеркнуто ровно пояснил отец. – Наше горе – это наше частное дело.
– Извините, – сказал де Мальва, вернул нам книжки и встал. – Не имею сказать ничего больше.
Префекты прошествовали к главному входу и у двери торжественно обменялись рукопожатиями с отцом.
– Вам потребуется время, чтобы приноровиться к нашим обычаям, – заметил де Мальва, – но я вам помогу. Мы не строги в отношении одежды, называем друг друга по именам. Но полувиндзорские узлы у нас общеприняты, и опоздание к приемам пищи не допускается. Обязательные виды спорта для девочек – сквош и хоккей с мячом, для мальчиков – крикет и неосоккер. Факультативные – теннис, экстремальный бадминтон, крокет, трясование и гребля.
– У вас достаточно широкая река? – спросил отец, который дома частенько садился за весла.
– Ну, все это, скорее, в теории. А на случай дождя у нас есть пазл из девяноста тысяч элементов.
– Но кто-то потерял картинку, – пробурчал Смородини, – а там очень много неба.
– Постановка задач – вот как мы это называем, господин Смородини, – заметил де Мальва. – Молодой господин Бурый завтра получит указания относительно полезной работы от префекта Циана, и я велю красному младшему инспектору показать ему город. В этом году на День основания будет поставлена «Редсайдская история». Если вы желаете поучаствовать пением или игрой на чем-нибудь, моя дочь Виолетта проводит прослушивания. Есть ли еще вопросы?
– Да, – сказал отец. – Что такое трясование?
– Понятия не имеем. Но правила гласят, что дети обязаны заниматься этим.
Вежливое прощание, поклоны, рукопожатия, стандартное прощание – «Разъединенные, мы все же вместе», – и наконец дверь закрылась. Мы с отцом остались одни в холле.
– Эдди…
– Да, папа?
– Будь начеку. Я немало видел странных городов, но такого – ни разу. Кстати, что там такое с Джейн? Префекты как-то испуганно на нее поглядывали.
– Ей нечего терять. В понедельник она отправляется на перезагрузку.
– О! Жаль, что пропадет такой носик.
В дверь позвонили. Это оказался серый рассыльный с известием об очередном несчастье на линолеумной фабрике.
– Но ничего срочного, – нахально прибавил он, – если только вы не умеете приставлять головы обратно.
Отец дал ему на чай, взял походный чемоданчик и направился к выходу.
– Будь начеку, Эдди, – обернулся он. – Подозрительно тут все.
– Робин Охристый и его «нарушения»?
– В том числе. И еще кое-что.
– Да?
– Не клади так много сахара, когда префекты придут снова.
Я вернулся на кухню, где Джейн мыла посуду, и спросил ее, что она положила в печенье.
– Лучше тебе не знать. И если ты думаешь, что, не донеся на меня, ты преуспеешь понятно в чем, ты жестоко ошибаешься.
– Все не так, – возразил я, стараясь говорить так, будто даже и не задумывался известно о чем.
– Конечно, – язвительно парировала она, – в следующий раз ты скажешь, что бережешь себя для невесты.
– Это… вовсе не плохо, – медленно проговорил я.
Джейн расхохоталась. Не вместе со мной, а надо мной. Я почувствовал себя униженным и постарался перейти в наступление, задав неуклюжий вопрос:
– Как ты за одно утро скаталась в Гранат и обратно?
– Никуда я не каталась. Это невозможно. И мы никогда раньше не встречались, запомни.
– Я тебе несимпатичен?
– Это требует усилий. Проявлять равнодушие куда легче. Послушай, ты оказал мне услугу, я – тебе. Мы квиты.
– Ничего подобного. Я спас тебя от кучи неприятных вопросов, а ты всего лишь посоветовала мне не есть печенье.
– Если бы ты знал, что я туда положила, то думал бы иначе.
– Что?!
– Я закончила, – объявила она, вытирая руки полотенцем и собираясь уходить, – а самое главное, у нас с тобой все закончено. Еще раз попробуешь заговорить со мной – я сломаю тебе руку. Скажешь про мой прелестный вздернутый носик – я убью тебя. Я не придуриваюсь. Мне терять нечего.
– Но ты ведь служанка. Если мне вдруг понадобится получше накрахмалить воротник или еще что?
Зря я это сказал. Я-то хотел только сохранить общение между нами любой ценой – но фраза вышла дурной, грубой. Мои права оказались попраны. Стало абсолютно ясно, кто здесь главный. Она была сама властность. Но не та властность, что дается от рождения, а та, которую сообщают ясная цель и сила.
Она сделала шаг в мою сторону и уставилась на меня – вероятно, соображая, есть ли во мне скрытые глубины. Поняв, что нет, и удовлетворенная этим, Джейн направилась к двери.
– Если что нужно, можешь оставить мне записку.
И она ушла. Я чувствовал себя опустошенным и сбитым с толку. Внешние пределы представлялись мне бесхитростным патриархальным миром, но за то короткое время, что я пребывал в Восточном Кармине, все стало казаться непростым и запутанным – намного сложнее моей небогатой событиями жизни в Нефрите. В свой актив я, однако, мог записать два обстоятельства. Во-первых, от угроз сломать челюсть Джейн перешла к угрозам сломать руку: то был шаг в верном направлении. Во-вторых, что куда важнее, отец отдал мне ложку мнимого пурпурного. Как и любая личная ложка, она несла на себе полный почтовый код: ЛД2 5ТЗ. Сейчас я думаю, что лучше бы мне не предпринимать и не знать ничего, но все сложилось иначе. Хищные ветви дерева ятевео начали склоняться надо мной.
Томмо Киноварный
5.3.21.01.002: Однажды предоставленный почтовый код сохраняется за человеком пожизненно.
– Привет! – сказал парень, позвонивший в дверь получасом позже. – Это ты Бурый?
– Эдди.
– Я Томмо Киноварный. Де Мальва велел показать тебе наши примечательнейшие достопримечательности. Ты сгораешь от нетерпения?
– Уже несколько недель.
– Болото болотом, – заявил он, когда мы выбрались наружу. – Даже тараканы считают эту дыру туалетом. Друзья?
– Друзья.
Громоуловитель на зенитной башне был самым необычным из легко заметных объектов, о чем я и сообщил Томмо, пока мы шли по площади.
– А Желтая Погибель уже поведала, что это ее идея?
– Что-то такое говорила.
– Старая кошелка трезвонит об этом направо и налево. Эта штуковина стоила городу больше трехсот тысяч общественных баллов, хотя на памяти местных только шестеро человек скончались от молний. Причем пятеро – от шаровых, против которых громоуловитель бесполезен. Она устраивает тревоги каждую неделю и требует выставлять стражу, если в небе есть хоть одно облачко. Все это чушь в высшей степени, по-моему. Что скажешь?
Его необузданная прямота понравилась мне почти сразу. Томмо был коренастым и круглолицым, чуть пониже меня ростом, а его стремительные манеры вполне подошли бы и желтому. Под красным кружком у него красовался значок «Бесцеремонный» и еще два: «Мало баллов» и «Главный младший инспектор»; вместе они производили странное впечатление.
Киноварные были известным родом. Некогда они вели крупную торговлю малиновыми красителями – вплоть до ценового скандала, который повлек за собой массовое лишение баллов и изъятие средств. Но они продолжали упорно хранить свою подпорченную гордость и не стеснялись обходить правила, когда хотели. Несмотря на внушительную череду предков Томмо и престижный семейный код ФК6, несколько неудачных браков с низкоцветными – неуклюжие, суетные попытки евгенических экспериментов, как утверждали некоторые, – разбавили фамилию. Теперь Киноварные обладали в основном средним и низким цветоощущением, скатываясь к серым. Бурые шли в гору, Киноварные – под гору. Так и работала система.
– Зайдем на почту? – предложил я. – Мне надо отправить телеграмму.
Здание почты располагалось на углу, как почти везде. Снаружи на стене висела доска с нацарапанным мелом заголовком из «Спектра» – бандиты что-то где-то учинили в очередной раз. Почтовый ящик был мягкого натурального красного цвета – не то что у нас в Нефрите с их насыщенными красками. Я не сразу понял, что ящик натурального цвета и притом сильно поблекший. Оглянувшись вокруг, я заметил, что синтетических оттенков в городе вообще мало.
Я послал телеграмму в Нефрит своему лучшему другу Фентону, в которой просил его выяснить относительно ингредиентов для Северуса и сообщал, что я записал таксономический номер кролика. Но поскольку я не видел кролика, а тем более его штрихкод, пришлось изворачиваться. Первые двенадцать цифр для млекопитающих были такими же, как у нас, но вот дальше возникали проблемы. Я поставил «13» для обозначения отряда, поскольку между грызунами и ежами существовал пробел в коде, потом «2» для рода и «7» для вида. Оставшееся я заполнил произвольными цифрами, не забыв поставить в конце F – femina, то есть самка: даже Фентон знал, что кролик на самом деле был крольчихой. Я нервничал, так как писал откровенную ложь, – но кто об этом узнает? А деньги, которые они мне дали, я уже потратил. Телеграммы в стихах на адрес Констанс я посылать не стал, решив сочинить что-нибудь хоть отчасти приемлемое. Констанс привыкла получать поэтические послания и от меня, и от Роджера Каштана, и планка была задрана достаточно высоко: как я, так и Роджер, не будучи сильны в рифмовании, платили за стихи другим людям.
Когда мы покинули почту, Томмо стал расспрашивать меня о моем житье-бытье. Я рассказал о стычке с Берти Маджентой, о переписи стульев и о Нефрите.
– Есть у нас уклон в сторону зеленых, это правда, но в общем все неплохо: заплесневелые с нами почти не разговаривают.
– А к сети город подключен?
Я кивнул.
– Набор из трех цветов, давление двадцать шесть фунтов. Можно получать большинство оттенков в пределах гаммы. Шестидесятипроцентные насыщенность и яркость.
Томмо тихо присвистнул.
– Вот бы и нам так!
– Восточный Кармин выглядит совсем неплохо, – осмелился заметить я, когда мы снова пошли по площади с ее чисто вымытыми черепицами крыш, мимо центрального фонарного столба и статуи Нашего Манселла вдвое больше натуральной величины. Манселл покровительственно смотрел на нас, тяжелые брови были навсегда сдвинуты в попытке обдумать какую-то глубокую мысль. – По крайней мере, вы не полностью обесцвечены.
Мы остановились перед ратушей, окрашенной в спокойно-зеленый цвет. Истертые каменные ступени вели на террасу, где шесть каннелированных колонн поддерживали плоский треугольный фронтон высоко над площадью. В поле песчаникового фронтона был вырезан девиз Коллектива: «Разъединенные, мы все же вместе». По обеим сторонам от массивных, в два человеческих роста, дверей висели выцветшие деревянные доски ушедших с именами горожан, чем-либо прославившихся: «ТРЭЙСИ ПЕРСИК, ДОБРАЯ, ЗАБОТЛИВАЯ, УШЕДШАЯ ТАК РАНО – 23 ДЕКАБРЯ 00207», или «ОЛИВ ОЛИВО, УМЕВШАЯ ЖОНГЛИРОВАТЬ ШЕСТЬЮ ДЫНЯМИ, ЕДУЧИ НА ВЕЛОСИПЕДЕ, – 12 АВГУСТА 00450». Было здесь и имя Робина Охристого, выведенное свежей краской: «РОБИН ОХРИСТЫЙ, ПРЕКРАСНЫЙ ЦВЕТОПОДБОРЩИК, ДЕРЖАВШИЙ ПЛЕСЕНЬ НА РАССТОЯНИИ И ЗАЩИЩАВШИЙ ВСЕХ И КАЖДОГО, – 16 ИЮНЯ 00496». Имена располагались согласно ценности их обладателей – крайней, высокой, повышенной, умеренной, которая порой устанавливалась необычным способом: жителей просили подать записочки с характеристикой кандидата.
– Хорошо, что они покрасили ратушу, – заметил Томмо. – Этот идиотский громоуловитель высосал все деньги. Если бы не он, ратушей занялись бы уже давно. Ну а о подключении к сети можно забыть.
– Неужели? Я слышал, что во Внешних пределах еще можно найти много старых вещей.
– Ну да, – едко отозвался Томмо. – Улицы у нас вымощены золотыми кирпичами, сам видишь. Извини, но это полная фигня. Прежние жили в основном на юге. А здесь куча мест, где, по-моему, их нога даже не ступала. И потом, в наших краях все давно закончилось.
Это становилось проблемой почти везде. Синтетические краски распределялись под строгим контролем Национального цветового совета, и чтобы получить их, существовал лишь один способ: собрать цветной мусор для последующей переработки. Из тонны цветного хлама будто бы получали галлон общевидного пигмента: достаточно для яркой окраски трехсот роз в течение полугода или бледной – в течение года. Кое-где жители все светлое время суток посвящали сбору цветного хлама, даже в ущерб производству еды. Цвет – и проистекающие из него увеселения – был всем.
– Но линолеумная фабрика ведь должна приносить баллы? – спросил я.
– Линолеум сейчас продается за десятую часть той цены, что была двести лет назад. Городской совет просил Главную контору о разрешении либо уменьшить выпуск, либо использовать линолеум вместо черепицы. По правде говоря, он очень износостойкий, даже слишком.
– Да, я слышал.
Все это время мы продолжали глазеть на спокойно-оливковые стены ратуши.
– Думаешь, они вправду зеленые? – спросил Томмо.
– Понятия не имею, – ответил я.
Никто не мог объяснить, как получается, что мы видим общевидный, а не настоящий зеленый. В конце концов, цвет существует лишь в нашем сознании: это ощущение, как звуки хорового пения с закрытым ртом в «Мадам Баттерфляй» или запах жимолости. Я знал, как выглядит красный цвет, но вряд ли смог бы объяснить, что это такое.
Мы уже довольно долго разглядывали ратушу и решили наконец пойти прочь, чтобы не нарваться на префекта или инспектора.
– А твоя семья давно здесь живет? – поинтересовался я.
– Я переехал сюда только год назад. Мои родственники происходят из боковой ветви Киноварных. Мы торговцы. И неплохие. Наш магазинчик был самым прибыльным в Восточном Красном секторе.
– Так почему же ты переехал?
– Обдоз.
– Ты схватил обдоз? Как?
– Да нет же – ОБДОЗ. «Один берешь, другой отдаем задаром». Кажется, Совету не понравились мои слишком агрессивные маркетинговые приемы. И «бесплатный чайник каждое утро всю неделю» тоже не пошло, к сожалению.
– Надо было обозначить их как стандартную переменную. – Я старался показаться осведомленным, хотя о стандартных переменных только что узнал от Трэвиса.
– Теперь-то я знаю.
Я нахмурился.
– А в чем смысл отдавать другую задаром? Почему просто не предложить вещь за полцены?
– А ты бы что предпочел? За бесплатно или за полцены?
– Это одно и то же.
– Одно, да не одно, – с улыбкой ответил Томмо. – Продать товар – это целая наука. Совет постановил, что я проявил неуважение к правилам, используя тайное знание. Меня приговорили к штрафу в тридцать баллов и отправили сюда – изучать миграции жуков-флунов.
– Де Мальва забрал у тебя обратный билет?
– Нет. Я его потерял – наверняка на ярмарке увеселений, третьей по счету. Я пытался купить билет, но ничего не вышло. Баллов у меня намного меньше ноля.
Я нахмурился. В любом другом месте отрицательный баланс баллов считался делом постыдным. А Томмо, казалось, с гордостью воспринимал перспективу неизбежной перезагрузки.
– Перезагрузка тебя не тревожит?
– А должна?
– Конечно.
Он хлопнул меня по плечу.
– Слишком много ты беспокоишься, Эдди. До понедельника я что-нибудь придумаю.
В воскресенье его, как и Джейн, ждал тест Исихары. В Нефрите тест проходили на восемь недель позже. Но раз уж мы говорили так откровенно, я решил задать нескромный вопрос:
– А сколько у тебя отрицательных баллов?
– Думаю около сотни, – рассмеялся Томмо, – но де Мальва пообещал мне пять, если я проведу тебя по городу и не буду втягивать в свои проделки.
– Рад слышать.
– Да брось ты. Проделки у меня что надо. Не продашь ли свой билет?
– А на что ты его собираешься купить?
– Понимаешь, у меня только с книгой баллов проблема. Наличка – совсем другое дело.
Итак, он торговал на бежевом рынке. Но если его наличные баллы приобретены незаконно, это не поможет ему избежать перезагрузки. Он может быть богаче самого Джозайи Марены, но это не имеет значения. Отправляясь на перезагрузку, ты не мог брать с собой наличных, как и все остальное – кроме ложки. Обычно брали ложку получше, а иногда две. Говорили, что исправительные педагоги выменивали их на разные послабления.
– Я не мог бы, даже если бы хотел. Мой билет на хранении у де Мальвы.
– Плохо.
– Да?
– Само собой. Де Мальва дерет безбожно. Ему придется заплатить вдвое больше, чем тебе.
– Ты шутишь?
– Шучу, понятное дело, – сказал Томмо тоном человека, который, вполне вероятно, не шутит. – Пошли, покажу тебе наши живые цвета.
Мы направились к восточной стороне площади, где располагался сад, – ниже уровня мостовой. Размером с теннисный корт, он был окружен низенькой стеной – высотой со стул. Единственный в Восточном Кармине цветной сад выглядел жалко – темно-зеленая трава, цветы искаженных желтых и синих оттенков. Вероятно, его подкрашивали при помощи пигмента из больших емкостей, напоминавших тюбик с зубной пастой. Хуже того: использовалась устаревшая цветовая схема «красный – синий – желтый», что давало страшно скудный выбор тонов.
– Красный картридж вышел на той неделе, – объяснил Томмо. – Скоро и желтому конец. Улавливаешь, что это значит?
– Ага. – Я сразу просек суть проблемы. – Синяя трава. Совсем паршиво. Цветной сад должен быть везде.
– Ну, у нас есть еще сад госпожи Гуммигут, – ухмыльнулся он. – Туда уходят все ее баллы. Есть даже садовник на полную ставку, который подкрашивает все от руки.
– И это при нехватке рабочих рук?!
– Это не против правил. Как тебе эта дверь?
Мы проходили мимо чиновничьих особняков на солнечной стороне площади. Дверь, на которую показывал Томмо, была выкрашена в общевидный красный – каждый легко мог понять, что здесь живет красный префект. Из-за искусственного красителя дверь казалась бесстыдно-яркой – детали и текстура затмевались всепобеждающим цветом, который чуть ли не проникал в другие чувства. Я ощущал запах жженых волос, в ушах зазвенело, странные воспоминания нахлынули на меня: о матери, о нашей давно умершей зверушке, о походе на мюзикл «Юг Тихого океана».
– Довольно ярко, – заметил я, поняв, куда клонит Томмо: он хотел проверить мое восприятие красного.
– Хмм… но не сказать, что мучительно ярко? Звон в ушах, воспоминания? О том, как ходил на «Перекрась свой фургон»?
– Не совсем. А у тебя?
– Скорее, «Семь невест для семи братьев». И еще я сразу вспомнил о нашем барсуке по кличке Смешок.
Если Томмо говорил правду, он был приблизительно одной со мной чувствительности. Но я уже достаточно знал о Томмо, чтобы заподозрить его в накрутке своего цветовосприятия. А то, что переизбыток собственного цвета вызывает воспоминания о мюзиклах и домашних животных, – это знал каждый.
Мы отправились дальше – и буквально через десяток шагов оказались перед большим зданием с надписью «Библиотека» на фасаде.
– Библиотека? – спросил я.
– У тебя поразительные способности к дедукции.
– Я бы кое-что посмотрел там. – Сарказм Томмо я решил проигнорировать.
– Тогда без меня. Если уж смотреть на пустые полки, то я предпочитаю супермаркет. Пахнет лучше, и никто не достает.
Небиблиотека
Не следует поощрять воображение. Ничего хорошего от него не бывает. Так что даже не пытайтесь воображать.
Книга мудрости Манселла
Толкнув дверь, я вошел внутрь. Библиотека оказалась просторной, без внутренних перегородок, с круглым куполом, через который отвесно падал свет. Столы, стулья, зеркала на стендах, расположенные так, чтобы читатели могли направлять свет во время занятий. По крайней мере, все было бы так, будь здесь книги. Как и предупреждал Томмо, полки были почти пусты, а немногие книги были так зачитаны с начала и с конца, что в пристойном виде оставалась лишь середина. В наши дни читать книгу означало узнавать, что делает герой, но оставаться в неведении относительно начала и конца его приключений. Так было не всегда. Скачки назад опустошили полки с литературой по истории, географии, кулинарии, самоусовершенствованию, искусству, поэтическими сборниками и жизнеописаниями выдающихся людей. Сейчас шла очистка полок с художественной литературой – изымался жанр за жанром. Еще оставалась кое-какая беллетристика, помимо горячо рекомендованных крайне пикантных романов, но очень мало – обычно такие книги были у кого-то на руках, или еще не сданы, или сильно зачитаны. Но в этой библиотеке их не имелось вообще.
– Могу я вам помочь? – раздался хор приглушенных голосов.
Я чуть не подпрыгнул – семеро синих неслышно подобрались сзади и в изумлении глазели на меня. Правила гласили, что книги должны изыматься при каждом Великом скачке назад. Но директивы по поводу скачков составлялись халтурно, так что штаты библиотек оставались неизменными – видимо, навсегда. Главным библиотекарем оказалась высокая женщина, с властным взглядом, с головы до пят одетая в синтетически окрашенную синюю одежду. На шее у нее висело множество украшений, а на копне светлых волос ненадежно держалась диадема. Глаза женщины были подведены, и такая же карандашная линия шла через переносицу: традиционный признак библиотекарей, хотя никто не знал, откуда он происходит.
– Госпожа Ляпис-Лазурь. – Голос ее напоминал треск ржавого провода под напряжением. – А вы, должно быть, сын нового цветоподборщика? Приехали к нам считать стулья?
– В том числе.
– Гм. Я слышала, что вдова де Мальва уже успела надуть вас со своим кексом. Осторожнее с этой старой каргой. Поскорее бы ее унесла плесень. У вас есть имя?
– Эдвард, – ответил я, смущенный ее испытующим, недобрым взглядом. – Я хотел посмотреть справочную литературу.
– А романы? – с надеждой спросила она.
Я махнул рукой в сторону пустых полок.
– Извините, мадам, но мне кажется, что я опоздал лет на триста.
– Чепуха. Я организую вам персональную экскурсию. К нам так редко кто-то заходит. Библиотекарей в семь раз больше, чем книг, – если не считать справочной литературы, этих жутких пикантных романов и изречений Манселла.
Она повела меня к первому из пустых стеллажей. Ее помощники вплотную последовали за нами.
– Я – восточнокарминский библиотекарь в девятом поколении, – величественно объявила женщина. – Кое-какие сведения дошли до меня через годы, хотя книги не сохранились.
И она показала на полку. Я увидел, что там аккуратно разложены выцветшие штрихкоды, срезанные когда-то с переплетов. Библиотекарша хлопнула по полке.
– Здесь стоял «Маленький отважный паровозик Тилли».
Она сделала паузу. Мы с библиотекарями почтительно взирали на пустое место.
– О чем эта книга? – спросил один из молодых сотрудников.
Видимо, экскурсии удостаивались немногие.
– О паровозике, – сказала женщина. – Маленьком и отважном.
– А почему отважном?
– А вот здесь, – библиотекарша схватила меня за локоть и повела по коридору, – было полное собрание сочинений Беатрис Поттер. Можете проверить меня, если хотите.
Она отвернулась. По настоянию остальных я взял наугад один из штрихкодов.
– Прочтите его громко! – велела госпожа Ляпис-Лазурь, не поворачиваясь.
– Тонкая черта, опять тонкая, средняя, потоньше средней, – начал я, – толстая, широкая, небольшая, жирная, совсем тоненькая, еще одна совсем тоненькая, чуть заметная, тонкая, сред…
– «Теория котенка Тома», – радостно перебила меня она. – Правильно?
– Не знаю… – смутился я: ни на полке, ни на штрихкоде не содержалось никакой информации.
– Шестая слева?
– Да.
Она повернулась ко мне, сияя.
– Видите? Я знаю, где стояла каждая книга. – Она показала на противоположный стеллаж. – А вот здесь была «Уловка-22», популярная книга по рыболовству, одна из довольно длинной серии. – Госпожа Ляпис-Лазурь быстро переместилась к соседнему стеллажу, тоже пустому. – Это раздел детективов. «Загадочное сумасшествие в Стайлзе», «Убийца точно воскреснет», «Стеклянный клюв», «С милым ищу помехи», «Палки и корки»…
Я взглянул на ее помощников: те кивали, словно пытались все запомнить и тем обеспечить передачу знаний. Это показалось совершенно бесполезным, но – удивительное дело – благородным поступком.
– «Мычание щенят», – продолжала библиотекарша, наугад скользя пальцем по стеллажу, – «Утренний трактор», «Глубокий сом», «Четвертой овдоветь», «Приключения Шейлока и Гомеса». Ну как вам, мастер Эдвард?
– Потрясающе.
– Этому научил меня отец. А его научила моя бабушка и так далее. Поняли, как оно все было?
– Понял.
Госпожа Ляпис-Лазурь помолчала. Лицо ее стало задумчивым, даже мечтательным.
– Столько слов, – прошептала она, – так бережно собранных вместе и так бессмысленно изничтоженных.
Ею овладела грусть. Она помолчала еще и наконец повернулась ко мне с мрачной улыбкой.
– Так зачем вы сюда пришли?
Я стал припоминать.
– Мне нужна справочная литература.
– Ах да! Ханна сопроводит вас до того кресла, Джерард до лестницы, где эстафету перехватит Сайлас и отведет вас в отдел художественной литературы, а там уже вас встретит Нэнси и покажет, где хранятся справочники. Кэт займется оценкой рисков.
– А я что буду делать? – подала голос Терри, в то время как другие нетерпеливо побежали на свои места, чтобы помочь мне пройти тридцать шагов до справочного отдела.
– Ты поможешь молодому человеку выбрать нужную книгу.
Она широко открыла глаза и подпрыгнула от восторга. Остальные что-то завистливо пробурчали.
Госпожа Ляпис-Лазурь снова стала мерить шагами библиотеку, бормоча что-то под нос и показывая на полки. Меня самым профессиональным образом препроводили в справочный отдел. Я попросил справочник граждан, и Терри захлопотала возле меня. Прочие библиотекари смотрели на нас издали.
– Кого именно вы ищете?
– Мой старый приятель хочет узнать о своих родственниках, живущих здесь, – солгал я и стал открывать наудачу отдельные тома, чтобы скрыть свое истинное намерение. Вскоре я нашел то, что искал. ЛД2 5ТЗ – таков был почтовый код лжепурпурного. Согласно справочнику, он принадлежал четырехлетнему серому из Восточного Кармина. Невероятно! Ведь коды присваивались заново только после смерти их носителя.
– А записи за прошлые года у вас есть? – задал я вопрос.
Терри, пискнув от удовольствия, исчезла и быстро вернулась с еще одним томом, совсем уже потрепанным. И опять я отыскал нужные мне сведения. Закончив, я поблагодарил каждого из библиотекарей, сделал записи в их книгах отзывов и был препровожден к выходу все по той же системе.
– Ну, как ты поладил с нашим книжным червем? – спросил Томмо, который ждал меня на ступеньках.
– Не очень приятная дама.
– Больше лает, чем кусает. Хоть она и синий префект, но не прочь нарушить правила, когда дело доходит до рассказывания историй.
– То есть как это?
– Увидишь, когда твой код Морзе будет готов. – Он кивнул на библиотеку. – Нашел, что искал?
– В общем, нет.
Это было не совсем правдой или, скорее, совсем неправдой. Я нашел того, кому принадлежал код ЛД2 5ТЗ до четырехлетнего ребенка: житель Ржавого Холма, заброшенного городка на пути из Граната в Восточный Кармин. Сейчас этому человеку было бы шестьдесят восемь – лжепурпурный подходил просто идеально. Зейн С-49 – так звали его, и, согласно записи, он скончался четыре года назад во время эпидемии плесени. Два человека с одним и тем же кодом! Немыслимо. Конечное число почтовых кодов – вот что поддерживало численность населения Коллектива на приемлемом уровне. Один ушел, другой пришел – так все и работало. Но если бы на каждый код приходилось по двое хозяев, наступило бы перенаселение – положение, абсолютно неприемлемое с точки зрения правил. Но имя не приближало меня к разгадке того, что случилось в магазине красок и каким образом Джейн причастна к происшествию. Об этом я знал ровно столько же, сколько сегодня утром.
Некоторое время мы шагали в молчании, затем Томмо посмотрел на свои часы, потряс их и подвел, сообразуясь с циферблатом на ратушной башне.
– Все так, – загадочно сказал он. – Идем в Сортировочный павильон. Пора тебе познакомиться с Большим Бананом.
Кортленд Гуммигут
5.2.02.02.018: Желтым разрешено нарушать правила, преследуя нарушителей правил, но каждое такое нарушение должно быть предварительно зарегистрировано и одобрено желтым префектом.
Большим Бананом, как выяснилось, прозвали Кортленда Гуммигута, сынка желтого префекта. Я поинтересовался, почему это он хочет со мной познакомиться. Оказалось, что младший Гуммигут любит знакомиться со всеми. Два года назад он прошел тест Исихары, набрал восемьдесят баллов и теперь был уверен, что унаследует место матери после ее отставки.
– Не то чтобы это случится скоро, – добавил Томмо, – но Кортленду придется действовать так же безжалостно, как его мамочке.
– Все желтые безжалостны. Это их работа.
– У нас особый случай. Салли Гуммигут не дает выходных серым вот уже семнадцать лет и заставляет их работать шестьдесят восемь часов в неделю с незапамятных времен. Она обращается с ними, как с грязью, обвиняет их в каких-то выдуманных нарушениях. Даже я считаю, что она перегибает палку, хоть я до ужаса равнодушен к серым.
– А почему она так себя ведет?
– Гуммигутам нужна сцена попросторнее. Много желтого, жестокости больше, чем надо, – но безнадежно провинциальный код ЦВ37. И все просьбы о перемене игнорируются.
Знакомая история: официально почтовые коды использовались только для указания адреса, но на деле значили очень много. Запрещалось третировать человека, исходя из его кода, но это случалось сплошь и рядом. Я был страшно рад своему РГ6.
– Но ведь она обязана платить за переработки, – заметил я, все еще думая про серых. – Хоть так они получат свое.
– Если б они могли еще тратить свои баллы…
– Или делить, объединять, передавать по наследству. – Я перечислил самые несправедливые ограничения, касающиеся серых.
– Ага, чтоб они обжирались беконом. – Запала Томмо по поводу печальной участи серых, увы, хватило ненадолго. – «Разъединенные, мы все же вместе» и прочая фигня.
– Если Гуммигуты такие мерзкие, почему ты с ними водишься?
– Вот именно поэтому! Если в комнате тигр, лучше быть тем, кто причесывает ему усы. Потом, у Кортленда есть обратный билет: вдруг он продаст его мне? – Мы шли в сторону реки. – А вон там живут серые.
Томмо показал на скопление домов с террасами – на некотором отдалении от города. Здания располагались в два ряда, друг напротив друга, по обе стороны улицы. Позади домов виднелись садики: грядки с фасолью, фруктовые кусты, сарайчики. На ветру полоскалось белье. Всего построек было с сотню, если не больше. Я никогда не ходил по серому району один и не знал никого, кто делал бы это. Даже желтым стоило крепко подумать, прежде чем решиться на такое. Но они не признавались в этом – нервничали и говорили, что там грязно: наглая ложь. Просто серые не хотели видеть нас у себя, так же как и мы пускали их к себе только по делу. Разница – большая разница – заключалась в том, что хроматики имели право входить в серые районы, но предпочитали обходить их стороной.
– У нас есть серая служанка, Джейн, – начал я в надежде что-нибудь вытянуть из Томмо. – Она, кажется, немного… капризна.
– Мы зовем ее Чокнутой Джейн. Но никогда – при ней. Она переломала костей больше, чем кто-либо в городе.
– Такая хрупкая?
– Да не своих костей. Наших. Стоит только сказать что-нибудь про ее нос – тут же получишь. Один раз сломала руку Джим-Бобу: подумала, что тот как-то не так смотрит на нее.
– Он правда не так смотрел?
– В тот день он смотрел нормально. Но больше она не будет нас доставать. Неизвестно, сколько у нее минус-баллов, говорят, полтысячи или около того.
Я тихо присвистнул.
– Но все-таки она милашка.
– Нос у нее лучший в городе и уж точно самый вздернутый. Милашка? Змея! Попробуй поцеловать ее, и она укусит.
Хорошо утоптанная тропа посреди неровного поля привела нас к одному из многих сохранившихся старинных фонарей.
– Подкрашивают каждый год, – гордо объявил Томмо и помолчал, наслаждаясь видом чугунного столба. – Однажды смотрителю пришлось на «форде» отправиться в Гранат – достать краску, чтобы подновить полоски. Он взял Джейбса и меня. Там, на окраинах, – остатки города, которого больше нет. Но фонари все так же стоят рядами среди лугов, точно чахлые дубы.
– А можно ли за одно утро скататься в Гранат и обратно? – спросил я, думая о невероятном путешествии Джейн.
– На «форде» можно.
– Да, но насколько это реально?
– Нереально. Для начала, Карлос, наш смотритель, трясется над своим «Фордом-Т», как над незамужней дочкой. Каждую каплю протекшего масла он обязательно регистрирует. Можно взять велосипед с большим колесом, но придется толкать его шесть миль между Ржавым Холмом и Корольком – там нет колеи. Потом, как переплыть реку на пароме без проездного документа? Да будь хоть один способ, я бы первый его испробовал! У меня тысяча причин, чтобы добраться до Граната. Высокоприбыльная коммерция. – Он посмотрел на меня и склонил голову. – Хочешь пойти по телкам? Или обдумываешь план на случай, если тебе не вернут билет?
– Второе, – ответил я.
Томмо кивнул со знающим видом.
Сортировочный павильон напоминал ратушу в миниатюре – те же четыре колонны у главного входа, только пониже и потоньше. Он выглядел куда более древним, чем все виденные мной здания. Кирпичи крошились, зимние ливни давно смыли со стен штукатурку. Фронтон украшало мраморное изваяние склонившейся женщины. Верхняя часть скульптуры – от середины живота – уже стала бесформенной, но в нижней части можно было разглядеть каждый мускул, каждую жилку, мастерски изображенные скульптором. Черты лица стали почти неразличимы, но, видимо, женщина была красавицей – иначе зачем тратить на нее столько времени и сил?
Над стеклянной крышей возвышались целых три гелиостата. Позади павильона стояла небольшая тележка, чтобы отвозить отсортированные находки на станцию. Мы сели на дубовую скамью неподалеку от здания и скинули обувь. Я знал предписания насчет цветного хлама: хотя у нас в Нефрите такого павильона не было, находки сортировались в Виридиане – одна остановка по железной дороге.
– Был когда-нибудь внутри павильона? – спросил Томмо. Я отрицательно покачал головой. – Ну и кто из нас двоих деревенщина?
Он толкнул дверь. Сортировочный зал – длинный, высокий – оказался освещен так хорошо, что внутри было ярче, чем снаружи. Чтобы разглядеть как следует все оттенки, требовалось много света; я подозревал, что в пасмурную погоду работа прекращается. Томмо посмотрел – и я вслед за ним – на парня чуть постарше меня, с ног до головы одетого в желтую робу. Еще в зале были двое серых – они таскали мешки с рассортированными вещами в моечную; та помещалась под шелковым навесом, полным парящих предметов. И больше никого.
– Кортленд, – почтительно прошептал Томмо. – Я понимаю, что ты уедешь через месяц, но, ради всего цветного, не раздражай его, ладно?
– Томмо, мне совершенно незачем наживать врагов среди канареечных. А особенно таких, у кого мамаша заседает в Совете.
– Просто предупреждаю. Если Кортленд скажет «прыгай», сразу спроси, как высоко и в какую сторону.
Томмо помахал Кортленду. Тот ленивым поворотом головы пригласил нас войти в сортировочную зону, где сам он сидел за одним из трех столов. Я с любопытством огляделся. На столешницах были вытравлены три взаимопересекающихся круга: они представляли основные цвета, а участки пересечения – второстепенные. Сама сортировка была делом совсем несложным. Каждый сортировщик отвечал за один из трех цветов. Кортленд, например, брал из кучи желтые предметы и помещал их в желтую секцию своего стола, которая меняла оттенок сверху вниз – от ярко-желтого до очень бледного. Одновременно он вынимал все, хоть немного отливающее желтым, из красной кучи и клал в место пересечения красного и желтого кругов, после чего заключал, что предмет – оранжевый. Так же поступали и с остальными вещами: все, что соотносилось с желто-синим сектором стола, считалось зеленым, а с красно-синим – пурпурным. Таким образом, благодаря самородкам, высокочувствительным к красному, желтому и синему цветам, соответственно на столе присутствовал весь невидимый спектр цветов. После сортировки предметы складывали в мешок и отправляли на пигментный завод, где их перемалывали, выжимали и обогащали. Емкости с пигментом развозились затем по городам и поселкам.
Синий стол, как и кортлендовский, содержался в чистоте и порядке, красный – не очень: честно говоря, он был просто грязным. Я увидел красные штуковины в куче, предназначенной на выброс: по идее, их следовало отобрать для переработки.
– Кто у вас красный сортировщик? – спросил я.
– Дубина Смородини, – ответил Томмо, мельком глядя на предназначенные на выброс красные предметы. – Он только исполняющий обязанности префекта. Цветовосприятие не первоклассное. В чем дело?
– Да так, ни в чем.
– Привет, Корт, – подобострастно поздоровался Томмо. – Это Эдди Бурый. Эдди, это Кортленд Гуммигут, сын желтого префекта и сам будущий префект.
Высокий и стройный, Кортленд был хорошо одет. Квадратная челюсть, густые брови, странный немигающий взгляд – казалось, он все время пристально что-то разглядывает. На его лацкане виднелось множество значков за хорошую работу, а на щеке красовался свежий шрам.
– Сколько красного ты видишь? – спросил он меня.
– Достаточно.
– Придерживаешь карты? Правильно. А значок «Смирение» – это из-за чего?
Я рассказал о том, как заставил Берти Мадженту изобразить слона, и обо всем, что было дальше.
– Ему поручили провести перепись стульев, – с ухмылкой объяснил Томмо.
Кортленд хихикнул.
– С каждым разом все тупее и тупее. Ну, мастер Эдвард, может, тебе что-то нужно?
– Надо подумать.
– Имей в виду. Нам с Томмо приятно думать, что мы можем уладить здесь почти все. Если нужно срочно заработать баллов или ты сцепился с префектами… все это решаемо.
Последовала пауза.
– Тут надо сказать «вау», или «класс», или «круто», – объяснил Томмо.
– Класс, – сказал я.
– Ага, – согласился Кортленд. – Но это на основе взаимности. Мы делаем что-то для тебя, ты – для нас. И все в выигрыше. Правила не дают нам развернуться, да, но разве интересно жить как серые. Ладно, не будем углубляться. Ты должен сделать кое-что для нас. Просто чтобы доказать, чего ты стоишь. – Он наклонился и прошептал мне на ухо: – Нам нужен насыщенно-зеленый цвет, линкольн. Возьми из чемоданчика своего отца. Сделай это для нас, и мы – твои лучшие друзья.
Я нахмурился. Такого оборота я не ожидал. Преступные заправилы в большинстве своем оказывались людьми незатейливыми – хотели незаслуженного уважения к себе и наличных баллов. Кража карточек была совсем другим делом. Линкольн, или 125–66–53, успокаивал боль в десять раз эффективнее лаймового. Беглого взгляда хватало, чтобы утихомирить сердцебиение, а десятисекундное созерцание уводило в дебри галлюцинаций. В небольших дозах то было безобидное развлечение, большие же приводили к повреждению участков мозга, ответственных за зрение. Передоз линкольна грозил потерей всего цветового восприятия – и естественного, и общевидного. Торговать линкольном значило торговать бедой. Я посмотрел на Кортленда, затем на Томмо.
– Боюсь, что не смогу этого сделать.
Кортленд устремил на меня немигающий взгляд, потом положил руку мне на плечо – по-дружески, но крепко его сжав – и тихо сказал:
– Так как тебя зовут?
– Эдди.
– Запомни, Эдди: я здесь – самая важная шишка из всех желтых, которые могут стать твоими друзьями. Дружба, как ты понимаешь, – большая ценность для того, кто рискует провести остаток жизни в этом болоте.
– Я здесь только на месяц.
– Ты имел глупость отдать де Мальве свой обратный билет?
– Да.
– Тогда ты можешь задержаться у нас. Но главное вот что: кража линкольна может показаться нарушением правил здесь и сейчас, но, согласись, в долгосрочной перспективе это весьма выгодное вложение.
Он говорил серьезным, деловым тоном, в котором, однако, чувствовалась неприкрытая угроза. Я видел немало альфа-воспринимающих, поигрывавших мускулами, но чтобы так демонстративно – никогда. Я посмотрел в сторону Томмо: тот отошел к окну и следил, не заявится ли кто-нибудь из префектов.
– Думаю, это достаточно разумный ход, тебе не кажется? – продолжил Кортленд.
– Послушай, – сказал я, – я не собираюсь утаскивать линкольн у своего отца.
– О-о, – подал голос Томмо. – У нас принципы.
– Ну я пока что не прошу ничего утаскивать, – с улыбкой проговорил Кортленд. – Префекты встанут на уши. Нет, Томмо придумал кое-что получше.
– План такой, – подхватил тот. – Когда твой отец начнет приводить в порядок карточки, тебе надо пробраться в его кабинет и написать на бланке заказа цифру «два» напротив линкольна. Он не заметит, и де Мальва, скорее всего, тоже. А когда пришлют лишнюю карточку, ты ее, так сказать, изымешь. Все просто.
– А если отец вообще не закажет линкольна?
– Разве ты не слышал? Робин Охристый продал все карточки на бежевом рынке. Чуть ли не все – так сказал мне аудитор из Синегорода.
Вот, значит, о каких «нарушениях» говорил де Мальва. Робин нарушил клятву цветоподборщика во всех ее частях. Да, пожалуй, ошибка в самодиагнозе была для него лучшим выходом.
– Отличный план, – согласился я.
– Блестящий! И помни: если тебе нужно что-нибудь – что угодно, – только попроси. Мы можем устроить все, да, Томмо?
– Ага, – подтвердил Киноварный. – Кроме обратного билета и свидания с Чокнутой Джейн.
Кортленд громко расхохотался.
– А помнишь, как Джейбс пригласил ее на танцы?
– Угу, – промычал Томмо. – Никогда не думал, что можно вот так взять и оторвать бровь.
– Ну, значит, насчет линкольна мы договорились, – заключил Кортленд.
Он снова одарил меня улыбкой, хлопнул по плечу и вернулся к работе. Томмо взял меня за руку и решительно повел к двери.
– Кажется, все прошло неплохо, – сказал он, когда мы вышли на улицу. – Но надо быть с ним чуточку послушнее.
– Постараюсь усвоить на будущее.
– Парень что надо. Если поможешь нам, не пожалеешь. Для всех, кто готов войти в игру, двери открыты. А кстати, – Томмо щелкнул пальцами, – когда залезешь в отцовский чемоданчик, не достанешь ли мне 7–85–57?
Он имел в виду темно-вишневый. Интерспектральное слабительное мгновенного и сильнейшего действия. Мимолетный взгляд – и ты бежишь в сортир так, будто от этого зависит твоя жизнь.
– Если у тебя проблемы с этим, – сказал я, – лучше поговорить с моим отцом.
– Я не для себя, – усмехнулся Томмо. – А для де Мальвы. Подложить ему в «Гармонию», и когда он начнет нудить на общем собрании…
Меня как громом поразило. Нет, он издевается, такого быть не может. Такого еще никто не делал.
– Э-э… он сразу догадается, откуда взялся темно-вишневый.
– Мне все равно, что будет после прикола. – Томмо выразил свое мировоззрение в одной краткой фразе: – Главное – это сам прикол.
Мы пошли обратно к городку и по пути встретили с полдесятка девушек, которые возвращались с линолеумной фабрики, – все в комбинезонах и в полосатых хлопчатобумажных платках. Они преувеличенно громко смеялись и болтали.
– Добрый вечер, леди, – вежливо поздоровался Томмо.
– Добрый вечер, мастер Томас, – сказала самая высокая, весьма привлекательная с виду, снимая платок и встряхивая длинными косами. – Кто этот новенький?
– Мастер Эдвард Бурый из какой-то жуткой дыры у внутренней границы. Он имеет принципы, считает стулья и видел последнего кролика.
– А как он выглядит? – спросила самая молоденькая – коротышка с двумя хвостиками и родимым пятном на щеке.
– Ну-у-у, похож на… на кролика.
– А нарисовать сможете?
– Могу изобразить в виде тени на стене.
– Стулья, кролики и принципы? – проворковала высокая, подходя ко мне и шутливо беря за галстук. – Вполне съедобная смесь.
Она шла прямо-таки напролом. Девушки в Нефрите были сплошь сдержанными и вежливыми. Я почувствовал, что краснею.
– Томмо ошибается, – сказал я, стараясь придать своему голосу глубокомыслия.
– Значит, у тебя нет принципов? – спросила девушка – ее звали Мелани – и прикоснулась к моей щеке тыльной стороной ладони.
Остальные прыснули. Мне стало неловко, но и приятно – прикосновение Мелани было теплым, почти нежным. Констанс брала мою руку шесть с половиной раз, не считая танцев, но ни разу не касалась щеки – кроме разве что одного раза, когда я получил от нее пощечину за то, что назвал ее мать «помешанной на вежливости».
– Д-да, – пролепетал я, совсем сбитый с толку, – то есть…
– В общем, когда он разберется со своими принципами, свистни нам, Томмо, – сказала Мелани, довершая мое унижение и отступая от меня.
Девушки залились смехом.
Мне было безнадежно не по себе – но ничего лучше этого свободного, чистого девичьего смеха я в жизни не слышал. Однако девушки уже потеряли интерес ко мне и, болтая, побрели к серому району.
– Если хочешь встретиться с одной из этих прелестных леди наедине, могу уладить – за пять процентов от их вознаграждения, – сказал Томмо, глядя им вслед. – Хочешь знать неофициальные рейтинги удовлетворенности?
Я уставился на него, не зная, что делать или говорить. В Нефрите совершенно точно существовал нелегальный рынок понятно каких услуг, несмотря на всю бдительность старика Мадженты. Возможно даже, все выходили сухими из воды. Но я был не готов к тому, что парень вроде Томмо – а это непременно должен был быть парень вроде Томмо – не только устраивает все, но и делает это открыто, явно не боясь наказания. Вот откуда у него водились наличные.
– Но не с девушками взаимодополняющих цветов, – добавил он, на случай если бы я оказался извращенцем или кем-нибудь в этом роде. – Я могу посылать подальше правила, но даже у меня есть понятия о приличии. Ну а если ты не хочешь понятно чего, – продолжил Томмо, видя удивленно-неодобрительное выражение у меня на лице, – то можно просто провести с ними время, потанцевать, например. Но, – сказал он, поразмыслив, – с Джейн ничего не выйдет. И даже не думай об этой высокой, Мелани, – она уже помолвлена с Кортлендом.
– Я не столько удивляюсь тому, что Кортленд готов поступить так порядочно – взять в жены серую, – сколько другому: он ведь обручен с Банти Горчичной.
Томмо рассмеялся.
– До женитьбы не дойдет, дурачок. Кортленд говорит, что Мелани сделает для него все что угодно. Все что угодно! И это не будет стоить ему ни гроша. Ну а Банти никогда от него не отцепится. Так что он просто поразвлекается с Мел – пока Совет не решит, что нам нужно еще немного желтых.