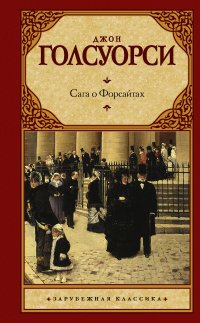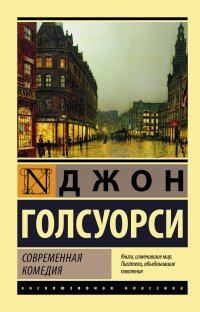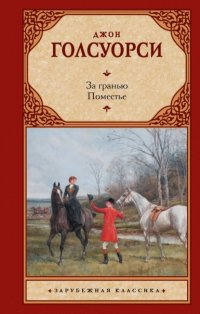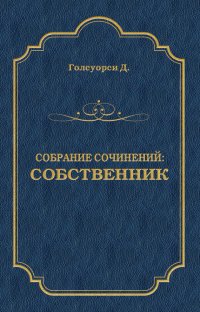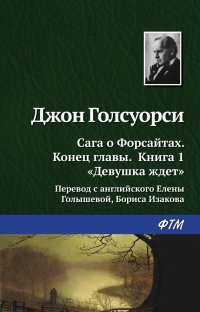Читать онлайн Рассказы (сборник) бесплатно
- Все книги автора: Джон Голсуорси
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010
© ООО «РИЦ Литература», состав, комментарии, 2010
* * *
Молчание
Перевод Е. Лидиной
I
Горный инженер, ехавший в вагоне неапольского экспресса, разбирал бумаги в своем портфеле. Яркий солнечный свет подчеркивал мелкие морщинки на загорелом лице и давно не стриженную бородку. Из его пальцев выскользнула газетная вырезка. Подняв ее, он подумал: «Как она здесь оказалась?» Это была заметка из колониальной газеты трехлетней давности; он долго смотрел на нее остановившимся взглядом, словно за этим ненужным клочком пожелтевшей бумаги вставали видения прошлого.
Вот что он прочитал: «Мы надеемся, что препятствующие прогрессу цивилизации упадок в торговле и задержка в развитии столь перспективного центра нашей колонии – явление временное и Лондон снова придет нам на помощь. Ведь не может быть, чтобы там, где так повезло одному, другие потерпели неудачу? Мы убеждены, что нужно только…»
И заключительные слова: «Ибо невыразимо грустно видеть, как лес все глубже укрывает своей тенью покинутые жилища, словно символизируя наше поражение, и встречать молчание там, где когда-то слышался веселый гул человеческих голосов…»
Как-то днем, тринадцать лет назад, будучи в Лондоне, инженер Скорриер зашел в одно из тех учреждений, где собираются горные инженеры, словно чайки на излюбленном ими утесе, перед тем как сняться и лететь дальше.
Клерк сказал ему:
– Мистер Скорриер, вас спрашивают внизу, там мистер Хеммингс из Новой угольной компании.
Скорриер снял телефонную трубку.
– Это вы, мистер Скорриер? Надеюсь, вы в добром здоровье? Говорит Хеммингс. Я сейчас поднимусь к вам.
Через две минуты секретарь Новой угольной компании Кристофер Хеммингс появился в дверях. В Сити{2} его за глаза называли Выскочка Хеммингс. Он крепко пожал Скорриеру руку, почтительно, но с достоинством. Все в его подчеркнуто эффектной, полной важности фигуре, даже форма бородки стального цвета, было безупречно. И острый, настойчивый взгляд как бы приглашал в этом убедиться.
Он стоял расставив ноги и подобрав фалды сюртука – настоящий столп Сити; казалось, на кончике его носа утвердился целый земной шар финансовых дел и забот. «Посмотрите на меня, – говорил весь его вид, – это нелегкий груз, но как свободно я несу его! Уж я-то не уроню его, сэр, можете на меня положиться!»
– Надеюсь, вы здоровы, мистер Скорриер, – начал он. – Я приехал по поводу нашей шахты. Речь идет о разработке нового месторождения, но, между нами, приступим мы к ней не раньше, чем в этом возникнет необходимость. Мне трудно убедить мое правление отнестись к этому с должным вниманием. Короче, вопрос вот в чем: согласны вы поехать туда от нашей компании и представить отчет о положении дел? Поездка будет оплачена должным образом. – Он прикрыл левый глаз. – Дела там обстоят очень… гм… неважно. Мы намерены сменить управляющего. Я договорился с маленьким Пиппином. Вы знаете маленького Пиппина?
Скорриер пробормотал с некоторым неудовольствием:
– Да, конечно. Только ведь он не работал на шахтах.
Хеммингс ответил:
– Мы полагаем, что он нам подойдет.
«Вот как, – подумал Скорриер. – Что ж, очень приятно».
В Скорриере все еще было живо преклонение перед Пиппином, Королем Пиппином, как его называли, когда они вместе учились в камборнской средней школе. Пиппин был тогда румяный и светловолосый мальчик, с неуловимым выражением умных светлых глаз, широкоплечий, слегка сутулый, имевший привычку как-то по-птичьи вертеть головой; этот мальчик всегда и во всем был первым и, казалось, высматривал, где еще можно применить свою энергию. Скорриер вспомнил, как однажды Король Пиппин сказал ему ласково: «Давай, Скорри, я решу за тебя задачку» – и на неуверенное: «А это ничего?» – ответил: «Конечно. Я не хочу, чтобы ты отставал от этой скотины Блейка, он ведь не корнуэлец»{3}. («Скотина Блейк» был ирландец, двенадцати лет от роду.) Он вспомнил также случай, когда Король Пиппин и два его товарища затеяли драку с шестью уличными мальчишками и получили хорошую трепку. Пиппин потом сидел добрых полчаса, весь в крови, сжав голову руками, раскачиваясь взад и вперед и плача от унижения. А на следующий день он убежал из класса и один напал на тех же мальчишек, и его снова зверски избили.
Вспомнив все это, Скорриер спросил только:
– Когда мне ехать?
В ответ Хеммингс воскликнул с неожиданной живостью:
– Молодчина! Я дам инструкции. Всего хорошего.
Бросив на Скорриера острый взгляд, он вышел. Скорриер остался сидеть с тяжелым ощущением какой-то смутной униженности и подавленности. В голове у него был туман, как после стакана крепкого портвейна.
Через неделю он и Пиппин были уже на борту пассажирского парохода.
Королю Пиппину, которого он помнил мальчиком, было теперь сорок четыре года. Он возбудил в Скорриере то неясное любопытство, с каким мы оглядываемся на наши школьные годы; и, прогуливаясь по палубам парохода, медленно кренившегося с боку на бок в такт плавной океанской волне, он украдкой посматривал на своего спутника, словно пытаясь разгадать, что же он представляет собой теперь. Волосы у Пиппина были по-прежнему мягкие и светлые, но в бородке уже резко выделялись белые нити; у него был тот же свежий цвет лица и тот же мягкий голос, а морщинки на его лице, казалось, говорили о добродушно-ироническом расположении к людям. Он сразу же и, очевидно, без предварительных переговоров занял место за капитанским столом. На другой день сюда пересадили и Скорриера, и он вынужден был, как он мрачно констатировал, «сидеть в обществе высоких особ».
За время этого путешествия в память Скорриера врезался только один встревоживший его эпизод. На баке, как всегда, устроилась кучка эмигрантов. Однажды вечером он наблюдал за ними, перегнувшись через перила, как вдруг кто-то коснулся его плеча. Он оглянулся и в неверном свете фонаря увидел лицо Пиппина. «Несчастные люди», – сказал он. Скорриеру внезапно пришло в голову, что он сейчас подобен натянутой струне чуткого инструмента. «Что, если эта струна вдруг оборвется?» – подумал он. Повинуясь потребности проверить свое ощущение, он воскликнул: «Ну и нервы у тебя! Как ты смотришь на этих бедняг!»
Пиппин отвел его от перил.
«Ну, ну, ты захватил меня врасплох, – пробормотал он с мягкой, лукавой улыбкой. – Это нечестно».
Скорриер не переставал удивляться тому, что Пиппин в его годы мог отказаться от спокойного лондонского существования среди друзей и знакомых, чтобы начать новую жизнь в новой стране с сомнительной перспективой успеха. «О нем говорят, что ему всегда во всем везет, – подумал он. – Вот он и надеется, что ему будет везти и впредь. Он истый корнуэлец».
Утро их прибытия на шахты было серым и безрадостным. Лес окутывало облако дыма, прибитое к земле моросящим дождем. Угрюмо глядели деревянные домишки, беспорядочно разбросанные вдоль грязного подобия улицы на фоне бесконечного, безмолвного леса. Во всем чувствовалась полная безнадежность; бездействующие краны торчали над пустыми вагонетками; длинная пристань сочилась черной грязью; под дождем с безучастными лицами стояли шахтеры. Собаки грызлись у самых их ног. По дороге в гостиницу Скорриер и Пиппин не встретили ни одного занятого делом человека, за исключением китайца, начищавшего крышку от судка.
Бывший управляющий, вконец запуганный человечек, выложил за завтраком угнетавшие его предчувствия. Оставшись вдвоем, приезжие опечаленно посмотрели друг на друга.
– О боже, – вздохнул Пиппин. – Мы здесь все должны изменить, Скорриер. Нельзя вернуться ни с чем. Побежденным я не вернусь. Тебе придется нести меня назад на щите. – И лукаво добавил: – Тяжеловато будет, а? Бедняга!
Затем он долго молчал, шевеля губами, словно что-то подсчитывая, и вдруг со вздохом схватил Скорриера за руку.
– Тебе со мной скучно, да? Как же ты поступишь? Напишешь обо мне в своем отчете: «Новый управляющий – унылый, скучный человек, слова от него не добьешься!» – И он опять погрузился в раздумье, видимо весь поглощенный новой задачей.
Последнее, что Скорриер услышал от него в этот вечер, было:
– Уж очень тихо здесь. Трудно себе представить, что можно остаться здесь навсегда. Но я чувствую, что останусь. Нельзя поддаваться малодушию. – И, проведя рукой по лбу, как бы сгоняя паутину невеселых мыслей, он торопливо вышел.
Скорриер остался курить на веранде. Дождь перестал, слабо светили редкие звезды. Даже в этом грязном, нищем поселке царил аромат леса, бесконечного леса вокруг. Скорриер вспомнил вдруг картинку из детской книжки волшебных сказок: на ней был изображен маленький бородатый человечек; поднявшись на цыпочки и откинув голову, он замахивался огромным мечом на замок великана. Это было похоже на Пиппина! И внезапно даже Скорриеру, вся жизнь которого была сплошным скитанием по новым местам, показалась невыносимо зловещей близость невидимого в темноте леса, его густой аромат и в гнетущей тишине – тихие звуки, похожие на писк игрушечных зверей; инстинкт самосохранения гнал его прочь от всего этого. Он вспомнил вечер в лоне семьи Выскочки Хеммингса, где он выслушивал последние наставления, – незыблемое благополучие этой загородной виллы, ее безукоризненный аристократизм; вспомнил высокомерную язвительность миссис Хеммингс, звучные имена крупных подрядчиков и глав различных фирм, даже имя какого-то пэра{4}, подозрительно часто упоминавшееся в разговоре. Вспомнил он и раздражающий деспотизм мистера Хеммингса, проявлявшийся, когда кто-то из домашних пытался ему противоречить. Все было так устойчиво и благополучно, словно покоилось на якоре, брошенном среди похожих на капустные кочаны роз на ковре в гостиной. Провожая Скорриера из своей резиденции, Хеммингс сказал ему доверительно:
– Маленький Пиппин не прогадает. Мы положим ему хорошее жалованье. Он станет большим человеком, настоящим королем. Ха-ха!
Скорриер выбил из трубки пепел.
«Жалованье! – подумал он, напряженно прислушиваясь к тишине. – Я не остался бы здесь даже за пять тысяч фунтов в год. И все же это прекрасное место. – И с ироническим пафосом повторил: – Чертовски хорошее место!»
Через десять дней, закончив доклад о новой шахте, он стоял на пристани в ожидании парохода, на котором должен был вернуться на родину.
– Желаю успеха, – сказал ему Пиппин. – Передай им, что они могут быть спокойны. И вспоминай иногда обо мне, когда будешь дома, хорошо?
Поднимаясь на палубу, Скорриер в смятении вспоминал его полные слез глаза и судорожное рукопожатие.
II
Только через восемь лет жизнь снова забросила Скорриера в этот безрадостный край, но на сей раз по делам другой угольной компании, чья шахта находилась в тридцати милях от того места, где он был в первый раз. Перед отъездом он все же зашел к Хеммингсу. В окружении своих ящиков с бумагами секретарь имел еще более импозантный вид, чем обычно. Он просто подавлял Скорриера своей светской любезностью. В кресле у камина сидел невысокий человек с седоватой бородкой. В его поднятых бровях словно таилось множество вопросов.
– Вы знакомы с мистером Букером, – сказал Хеммингс, – он ведь член нашего правления. А это мистер Скорриер, он ездил когда-то по делам нашей компании.
Он проговорил все это тоном, указывавшим на необычайную важность сообщаемого. Член правления поклонился. Скорриер ответил тем же, а Хеммингс откинулся в кресле, демонстрируя великолепие своего жилета.
– Итак, Скорриер, вы опять едете, и на этот раз по делам наших конкурентов? Сэр, я говорю мистеру Скорриеру, что ему придется действовать в интересах нашего противника. Постарайтесь отыскать им шахту похуже нашей.
Маленький член правления спросил отрывисто:
– Знаете, каков наш последний дивиденд? Двадцать процентов. Что вы на это скажете?
Хеммингс шевельнул пальцем, словно осуждая своего коллегу.
– Не скрою от вас, – сказал он, – что между нами и нашим противником существуют трения. Вы хорошо знаете наше положение, даже слишком хорошо, не так ли? Так что нет необходимости объяснять его вам.
В его холодных глазах, устремленных на Скорриера, было льстивое выражение; Скорриер провел рукой по лбу и сказал:
– Конечно.
– Пиппин не сумел найти правильный путь. Между нами говоря, он немножко зазнался. Знаете, как бывает, когда человек его уровня неожиданно получает повышение.
Скорриер поймал себя на том, что думает то же о Хеммингсе, и виновато поднял глаза. Секретарь продолжал:
– И должен сказать, мы получаем от него донесения не так часто, как нам бы хотелось.
Неожиданно для самого себя Скорриер вдруг пробормотал:
– Уж очень тихо там!..
Секретарь улыбнулся.
– Прекрасно сказано! Сэр, мистер Скорриер говорит, что там слишком тихо, ха-ха! Это мне нравится! – Но вдруг в его голосе почувствовалось накипавшее раздражение. Он воскликнул почти с яростью: – Он не должен поддаваться этому, как по-вашему?! Скажите сами, разве я не прав?
Скорриер ничего не ответил и вскоре откланялся. Его попросили дружески намекнуть Пиппину, что правлению желательно чаще получать от него сообщения. Ожидая в тени Королевской биржи, когда можно будет перейти улицу, он думал о Пиппине: «Итак, тебе шума не хватает? Здесь-то его более чем достаточно».
По приезде в колонию он телеграфировал Пиппину, спрашивая, можно ли заехать к нему на несколько дней по дороге в глубь страны, и получил ответ: «Приезжай непременно».
Он приехал через неделю (уже по новой железной дороге) и увидел Пиппина, ожидавшего его в фаэтоне. Все вокруг стало неузнаваемо, словно по мановению волшебной палочки. Вместо троп через лес пролегли прямые мощеные дороги, темнея под ярким солнцем. Деревянные дома были покрыты свежей краской. На сверкающей воде гавани меж зеленых островков стояли на якоре три парохода, вокруг них суетились многочисленные лодки. Тут и там белели паруса маленьких яхт, словно морские птицы, опустившиеся на воду. Пиппин погонял своих длиннохвостых лошадей. Его глаза лучились добротой, он был, видимо, очень рад увидеть Скорриера. В течение двух дней своего пребывания там Скорриер не переставал дивиться переменам. Повсюду сказывалось влияние Пиппина. Деревянные двери и стены его бунгало пропускали все звуки, и Скорриер мог слышать беседы между хозяином дома и людьми самого различного характера и положения. Сначала голоса пришедших звучали сердито, недовольно и решительно; затем бывали слышны стремительные, легкие шаги управляющего по комнате. Потом пауза, тяжелое дыхание, быстрые вопросы, снова голос пришедшего и снова шаги и мягкий, убеждающий голос Пиппина. Через некоторое время посетители выходили из дома. На лицах их было выражение, которое Скорриер скоро изучил: одновременно довольное, озадаченное и растерянное, как бы говорившее: «Меня обработали, это ясно, ну, да там видно будет».
Пиппин много и с грустью расспрашивал, как идет жизнь «дома». Ему хотелось говорить о музыке, о живописи, о театре, знать, как выглядит теперь Лондон, какие появились новые улицы и давно ли Скорриер был в Западных районах. Он говорил, что будущей зимой возьмет отпуск, спрашивал мнения Скорриера, «поладят ли с ним дома». Потом с тем возбуждением, которое когда-то так встревожило Скорриера, он сказал:
– Ах, не гожусь я теперь для жизни на родине! Здесь человек портится; здесь все так величественно и такая тишина! К чему мне возвращаться – не знаю.
Скорриер подумал о Хеммингсе.
– Там, конечно, нет такой свободы, – пробормотал он.
Пиппин продолжал, словно угадав его мысли:
– Вероятно, наш приятель Хеммингс назвал бы меня дураком. Он ведь выше этих маленьких причуд воображения! Да, здесь тишина. Иногда по вечерам я все готов отдать, чтобы было с кем поговорить, а Хеммингс, я думаю, никогда не пожертвовал бы ничем ради чего бы то ни было. И все-таки я не мог бы теперь встретиться ни с кем из них на родине. Испортился! – И он с усмешкой пробормотал: – Что бы сказали в правлении, если б слышали это?
Скорриер сказал вдруг:
– По правде говоря, они в претензии, что ты им редко пишешь.
Пиппин поднял руку, как бы отталкивая от себя что-то.
– Пусть бы они попробовали пожить здесь! – воскликнул он. – Это то же самое, что жить на действующем вулкане, – нелегко справляться с нашими «противниками» вон там по соседству, с рабочими, с американским соперничеством. Я все же наладил работу, но какой ценой, какой ценой!
– Ну а писать ты им будешь?
Пиппин ответил только:
– Попытаюсь… попытаюсь.
С недоумением и сочувствием Скорриер видел, что Пиппин говорит искренне. На другой день он отправился в инспекторский объезд и все время, пока находился в лагере «противника», слышал разговоры о Пиппине.
Управляющий, маленький человек с совиным лицом, у которого он остановился, сказал ему:
– Знаете, как прозвали Пиппина в нашей столице? Король! Неплохо, а?! Он задал тут встряску всем на побережье. Мне он нравится, он добрый малый, только ужасно нервный. А вот мои люди его совершенно не выносят. Он управляет всей колонией. Выглядит он тихоней, но всегда добивается своего. Вот это их и раздражает. Кроме того, и дела у него на шахте идут прекрасно. Не могу я этого понять. Может показаться, что человек с его нервами радовался бы спокойной жизни. Так нет, он не может жить в бездействии, он будет драться, если есть хоть один шанс победить. Я не скажу, чтобы ему это нравилось, но, ей-богу, его словно кто заставляет так поступать. Ну не странно ли? Скажу вам одно: я нисколько не удивлюсь, если он сорвется. И вот еще что, – добавил управляющий мрачно, – он очень рискует, заключая такие крупные контракты. На его месте я не стал бы так рисковать. Стоит рабочим забастовать или случись что, работы почему-либо приостановятся – и всему конец, помните мои слова, сэр! И все же… – заключил он доверительно, – я хотел бы иметь его влияние на рабочих. В нашей стране без этого нельзя! Это вам не Англия, где за любым поворотом вы найдете новых рабочих. Здесь пользуйся тем, что есть. Ни за какие деньги вы не наймете здесь нового рабочего, вам нужно везти его сюда за несколько сот миль. – И, нахмурившись, он указал рукой на безлюдное пространство, поросшее лесом.
III
Скорриер закончил свой инспекторский объезд и пошел в лес поохотиться. По возвращении его встретил хозяин дома.
– Вот, прочтите, – сказал он, протягивая телеграмму. – Как это ужасно, правда? – На лице его выражалось глубокое сочувствие, смешанное со стыдливым удовлетворением, какое испытывает человек при известии о несчастье, постигшем его соперника.
Телеграмма, посланная накануне, гласила: «Сегодня утром взрыв огромной силы на Новой угольной. Опасаются множества жертв». Скорриер подумал в смятении: «Надо немедленно ехать к Пиппину, я ему теперь буду нужен».
Он попрощался с хозяином, который крикнул ему вслед:
– Лучше подождали бы парохода! Дорога ужасная!
Скорриер отрицательно покачал головой. Всю ночь, трясясь по неровной лесной дороге, он думал о Пиппине. Все прочие несчастья, связанные с этой трагедией, сейчас его не трогали. Он едва ли помнил о засыпанных людях. Но борьба Пиппина, его борьба один на один со стоглавым чудовищем, глубоко его волновала. Он заснул, и ему приснилось, что Пиппина медленно душит змея. Искаженное мукой доброе лицо его, зажатое между двумя блестящими змеиными кольцами, было настолько ужасающе реально, что Скорриер проснулся. Близился рассвет. Сквозь угольно-черные ветви деревьев сквозило небо. При каждом толчке экипажа фантастический и резкий свет фонарей метался по папоротникам и стволам деревьев, врываясь в холодные глубины леса. С час или более того Скорриер старался уснуть, уйти от давящей угрюмой тишины бесконечной лесной чащи. Затем в ней возникли тихие шелестящие звуки, забрезжил свет – и медленно разлилось утро во всем своем великолепии. Но тепла оно не принесло, и Скорриер плотнее запахнул пальто, словно его уже коснулось дыхание старости.
К полудню он добрался до поселка, где ничто еще не говорило о происшедшем. Скорриер подъехал к шахте. Вращался барабан подъемника, жужжал приводной ремень на верху копра. Все было как всегда.
«Это какая-то ошибка», – подумал Скорриер.
Он остановился у шахтных построек, вышел из экипажа и поднялся к выходу из клети. Вместо привычного стука вагонеток и угля, падающего на грохот, стояла тишина. Тут он увидел Пиппина, перепачканного с головы до ног. Клеть, быстро и беззвучно поднявшись снизу, остановилась, с лязгом распахнулась дверца. Скорриер наклонился, чтобы лучше видеть. В клети лежал мертвец; на лице его застыла улыбка.
– Сколько? – спросил Скорриер шепотом.
– Подняли восемьдесят четыре, но внизу еще сорок семь, – ответил Пиппин и записал имя погибшего в блокнот. Следующим подняли человека постарше. Его лицо тоже было озарено улыбкой, – казалось, ему дано было вкусить неземную радость. Эти страшные улыбки потрясли Скорриера больше, чем мука и отчаяние, которые ему приходилось видеть на лицах других мертвецов. Он спросил старика шахтера, стоявшего рядом, сколько времени Пиппин не уходил домой.
– Тридцать часов. Вчера он был внизу. Мы его почти силой подняли наверх. Он хотел опять идти в шахту, но ребята отказываются его спускать. – Старик вздохнул. – А я жду, когда поднимут моего сынка.
Скорриер тоже ждал. Он не мог оторваться от этих мертвых улыбающихся лиц. Одного за другим поднимали из шахты людей, которые никогда уже не откроют глаз. Скорриера разморило на солнце. Из сонливого состояния его вывел старик шахтер.
– Этот рудничный газ как ром, – сказал он. – Посмотрите: все они помирают пьяными, надышавшись им.
Следующим подняли главного инженера. Скорриер хорошо его знал, это был один из тех шотландцев, которые не бывают ни детьми ни стариками, им всю жизнь сорок лет. Он один не улыбался, его лицо, казалось, выражало сожаление, что долг лишил его этой последней радости. Он умер, протестуя, глаза его были широко раскрыты и губы сжаты.
День клонился к вечеру, когда старый шахтер тронул Скорриера за руку, сказал: «Вот он, вот мой сынок!» – и пошел медленно прочь, толкая вагонетку с мертвым телом.
Когда солнце село, смена поднялась из шахты. Дальнейшие розыски были невозможны, пока там не очистится воздух. Скорриер слышал, как один из шахтеров сказал:
– До некоторых нам не добраться, уж очень глубоко их завалило.
Другой ответил:
– С меня и этих хватает!
Они прошли мимо, белки их глаз сверкали на черных от угля лицах.
Пиппин молча вез его домой, нахлестывая лошадей. Когда они свернули на главную улицу, путь им преградила молодая женщина, вынудив Пиппина остановиться. Во взгляде Пиппина, брошенном на Скорриера, читалось предчувствие ожидавшей его муки. Женщина спросила о своем муже. И несколько раз их таким образом останавливали женщины, спрашивая о своих мужьях или сыновьях.
– Вот через что я должен пройти!.. – прошептал Пиппин.
После ужина он сказал Скорриеру:
– Ты очень добр, что приехал поддержать меня. Они ко мне хорошо относятся. Но смогу ли я заставить людей снова работать внизу после такого потрясения? Я хотел бы быть одним из тех бедных ребят, что умерли улыбаясь.
Скорриер чувствовал, что ничем не сможет ему помочь. Пиппин один должен нести это бремя. Выдержит ли он или рухнет под его тяжестью? И он снова и снова убеждал его пойти отдохнуть, но Пиппин только непонятно улыбался ему в ответ.
– Ты не знаешь, как я вынослив! – сказал он.
IV
Скорриер спал тяжелым сном и, проснувшись на рассвете, спустился вниз. Пиппин все еще сидел за своим рабочим столом. Перо выпало из его пальцев: он спал. Чернила на бумаге еще не успели просохнуть. Взгляд Скорриера упал на первые слова письма: «Джентльмены, с тех пор как это случилось, я не сомкнул глаз…»
Он вышел на цыпочках, испытывая негодование при мысли, что нет никого, кто встал бы рядом с Пиппином в этой борьбе. Перед его глазами всплыла контора правления в Лондоне. Он представил себе напыщенную важность Хеммингса, его голос, лицо, манеры, как будто говорящие, что он один может спасти положение; увидел всех шестерых членов правления, людей здравомыслящих, ну и, конечно, гуманных, сидящих за своими чернильницами, похожими на орудийные башни; услышал озабоченность и раздражение в их тоне, когда они спросят, как это могло случиться; их реплики: «Ужасное происшествие!», «Полагаю, Пиппин делает все возможное!», «Телеграфируйте ему, что шахта ни в коем случае не должна простаивать!», «Бедняги!», «Деньги? Конечно, сколько нужно дать?» Он был твердо убежден, что катастрофа ничуть не нарушит их благоразумного спокойствия, с которым они вернутся домой и скушают свою баранью котлетку. Что ж, и в этом есть свой резон; чем меньше принимать все к сердцу, тем лучше! В Скорриере накипал гнев. Условия борьбы были явно несправедливы: Пиппин – сплошной комок нервов, и нет никого, кто бы пришел к нему на помощь. Но ведь он знал, на что идет. Он хотел один нести за все ответственность. Если он теперь сорвется, все пропало. Прежнее преклонение Скорриера перед Пиппином держалось на ниточке.
«Человек против природы! – подумал Скорриер. – И я на стороне человека!»
Борьба, в которой он не мог ничем помочь, стала частью его души, словно он сам вложил в нее все силы.
На следующий день они снова пришли к клети. Воздух в шахте почти очистился, но в некоторые места проникнуть было по-прежнему невозможно. К концу дня наверх были подняты все погибшие, кроме четырех. «Эти четверо выйдут отсюда в день Страшного суда», – сказал один из шахтеров. Мысль об оставшихся внизу четырех мертвецах преследовала Скорриера. Он находил надписи, в которых люди, обреченные на смерть от удушья, выражали свои чувства. В одной надписи был указан час и стояли слова: «Хочется спать» – и имя. В другой – «А. Ф. – все кончено». Когда Скорриер наконец вышел на поверхность, Пиппин все еще стоял в ожидании, держа в руке свой блокнот; и снова они помчались домой с бешеной скоростью.
Два дня спустя, придя к копру, Скорриер увидел, что вокруг пусто, ни живой души, лишь один китаец ворошит палкой мусор. Пиппин уехал на побережье искать нового инженера. Когда он вернулся, у Скорриера не хватило духу сообщить ему, что никто не вышел на работу. Пиппин избавил его от этой необходимости, сказав:
– Не бойся, говори, у тебя плохие новости? Шахтеры забастовали?
Скорриер вздохнул.
– Все до одного.
– Я так и думал. Посмотри! – Пиппин положил перед Скорриером телеграмму: «Во что бы то ни стало продолжайте работу, иначе крах. Как-нибудь уладьте. Хеммингс». Задыхаясь от волнения, он добавил: – Как будто я сам не знаю! «Уладьте»! Как это просто!
– Что теперь делать? – спросил Скорриер.
– Ты же видишь, я получил приказ, – ответил Пиппин с горечью. – И они совершенно правы. Нужно продолжать работу. У нас контракты! Если я теперь сдамся – не жди ни от кого пощады!
На другой день на окраине поселка собрались шахтеры. В свое время Пиппин очистил от леса участок земли, где рабочие проводили свой досуг. Это было гордостью компании. Теперь здесь должен был решиться вопрос о ее существовании.
На западе небо пересекала гряда облаков, похожая на полосу червонного золота. Тени деревьев, удлиняясь, подбирались к толпе. В вечернем воздухе стоял крепкий и сладкий аромат леса. Шахтеры собрались группами вокруг обгорелых пней, неподвижные и угрюмые. Казалось, они потеряли способность двигаться и разговаривать. Это молчание и неподвижность пугали Скорриера. Он наблюдал, как Пиппин говорит с ними со своего фаэтона. На него были устремлены все эти угрюмые, неспокойные взгляды. Выдержит ли он? Не оборвется ли струна? Это было похоже на поединок. В глазах Пиппина он увидел растерянность, словно Пиппин отчаялся пробить стену этого зловещего молчания. Рабочие больше не смотрели на него.
«Он утратил влияние на них, – подумал Скорриер. – Все пропало».
Стоявший рядом шахтер пробормотал:
– Что-то будет?
Пиппин наклонился вперед, голос его зазвучал громче, слова бичом хлестали по лицам толпы:
– Вы не можете предать меня! Вы думаете, я дам уничтожить все, что сделал для вас? Нет, мы будем самой большой силой в колонии! А вы, чуть что, показываете спину? Вы сборище трусов, ребята!
Каждый, на кого ни смотрел Скорриер, неспокойно двигал руками: один потирал ладони, другой сжимал кулаки, третий делал такое движение, словно ударял ножом в чью-то спину. Бородатый старик корнуэлец, из-под нависших бровей которого хмуро поблескивали глаза, пробормотал: «А мне наплевать!» Казалось, Пиппин добивался, чтобы его растерзали. Толпа двинулась вперед, словно готовясь к нападению. Внезапно голос Пиппина упал до шепота:
– Какой позор! Люди, неужто вы все против меня?
Старый шахтер рядом со Скорриером вдруг крикнул:
– Есть тут корнуэльцы, чтобы защитить нашего управляющего?
От толпы отделилась группа рабочих, и тогда, разговаривая и жестикулируя, шахтеры разошлись.
Вечером к Пиппину явилась депутация. Всю ночь не смолкали голоса рабочих и шаги управляющего. Рано утром Пиппин уехал на шахту. Перед ужином депутация появилась снова. И снова в продолжение нескольких часов Скорриер слышал голоса и шаги, пока не заснул. Перед утром его разбудил свет. У его постели стоял Пиппин.
– Завтра люди выходят на работу, – сказал он. – Ну что я тебе говорил? Доставишь меня домой на щите, а?
Через неделю работа на шахте шла полным ходом.
V
Прошло два года, и Скорриер снова услышал о Пиппине. Он получил от Хеммингса записку, в которой тот спрашивал, сможет ли он в следующий четверг приехать на заседание правления. Он пришел задолго до начала. Секретарь принял его и, отвечая на вопрос, сказал:
– Благодарю вас, наши дела идут хорошо. Между нами говоря, дела идут даже прекрасно.
– А как Пиппин?
Секретарь нахмурился.
– Ах, Пиппин! О нем-то мы и хотели с вами поговорить. Пиппин причиняет нам массу хлопот. Вот уже два года он нам ничего не пишет.
Он говорил таким сокрушенным тоном, что Скорриер проникся к нему сочувствием.
– Ни строчки, – сказал Хеммингс, – со дня того самого взрыва – я помню, вы тогда были там! Это ставит нас в затруднительное положение; я считаю это выпадом лично против меня.
– Но как… – начал было Скорриер.
– Мы получаем одни телеграммы. Он никому не пишет, даже семье. А почему? Скажите мне, почему? До нас доходят кое-какие сведения. Он там стал видным человеком. Ничто в колонии не делается без того, чтобы он не сунул туда свой нос. Он разогнал прежнее правительство, потому что оно не давало разрешения вести дальше нашу железную дорогу, – это показывает, что он не так уж глуп. А кроме того, взгляните на наш баланс!
Оказалось, что правление желает знать мнение Скорриера, стоит ли Хеммингсу самому ехать узнавать, чем объясняется поведение управляющего. В течение последующего разговора Скорриеру пришлось покорно выслушивать нападки на Пиппина за его молчание.
– Но знаете ли, этот взрыв… – проговорил он наконец. – Это было тяжелое испытание.
Мистер Букер набросился на него:
– Вот как – «тяжелое испытание»! И нам тоже было нелегко. Но это же не оправдание.
Скорриер должен был с ним согласиться.
– Дело есть дело, как вы полагаете?
Скорриер кивнул, оглядывая аккуратно прибранное помещение конторы. Глухой член правления, который не выступал уже несколько месяцев, сказал с неожиданной горячностью:
– Это позор!
Он, очевидно, дал выход давно сдерживаемому раздражению. А чрезвычайно чистенький и благодушный старичок в шляпе, за которым числился единственный грешок – он являлся на заседание со сверточком в коричневой бумаге, перевязанным бечевкой, – пробормотал себе под нос: «Мы должны быть снисходительны» – и начал рассказывать какой-то случай из своей юности. Секретарь мягко призвал его к порядку. Скорриера попросили высказать свое мнение. Он посмотрел на Хеммингса. «Здесь затронут мой авторитет», – было написано на лице секретаря. Движимый чувством солидарности с Пиппином, Скорриер сказал таким тоном, словно все было заранее решено:
– Что ж, Хеммингс, дайте мне знать, когда поедете, я хотел бы поехать тоже.
Когда он уходил, председатель, Джолион Форсайт Старший, отвел его в сторону и сказал, неодобрительно поглядывая на Хеммингса:
– Я рад слышать, что вы поедете тоже, мистер Скорриер. Мы должны быть осторожны: Пиппин такой славный малый и так легко ранимый, а наш друг немножко тяжеловат на руку, как вам кажется?
Скорриер действительно поехал с Хеммингсом. Секретарь страдал от морской болезни, и его страдания, полные достоинства, но достаточно шумные, запомнились Скорриеру навсегда. Да и то, как он позже об этом рассказывал, посвящая случайных собеседников в тайны своих переживаний, было поистине интересно.
Пиппин приехал в город, чтобы их сопровождать; он так заботился об их удобствах, словно они были членами королевской фамилии, и выделил специальный поезд, чтобы везти их на шахту.
Он немного пополнел, цвет его лица стал здоровее, но в бородке прибавилось седины, а в голосе чувствовалась, пожалуй, еще большая нервозность. К Хеммингсу он обращался с преувеличенной любезностью. А его лукаво-иронические взгляды были столь же неощутимы для брони секретаря, как струи фонтана для шкуры гиппопотама. Зато Скорриеру Пиппин всячески выражал свое расположение.
Вечером, когда Хеммингс ушел в отведенную ему комнату, Пиппин вскочил с места, как мальчишка, отпущенный с урока.
– Итак, мне собираются дать нагоняй, – сказал он. – Допускаю, что я заслужил его. Но если бы ты знал, если бы ты только знал! Они меня тут прозвали Королем, говорят, что я управляю колонией. А я не могу справиться с самим собой. – И он воскликнул с неожиданной страстностью, какой Скорриер никогда раньше в нем не замечал: – Зачем они прислали сюда этого человека?! Разве он способен понять, что мне пришлось пережить? – Через минуту он успокоился. – Ну, хватит! Все это ужасно глупо. Только расстраиваю тебя. – И, посмотрев на Скорриера долгим, ласковым взглядом, он отправил его спать.
Пиппин не давал больше воли своим чувствам, хотя под маской его иронической вежливости, казалось, тлел огонь. Предчувствие опасности, по-видимому, настораживало Хеммингса, потому что он ни словом не обмолвился о цели своего приезда. Временами здравый смысл склонял Скорриера на сторону Хеммингса – и это всегда случалось в отсутствие секретаря.
«В конце концов, – говорил он себе, – одно письмо в месяц – не такое уж чрезмерное требование. Первый раз слышу что-нибудь подобное. Просто удивительно, как они с этим мирятся. Это показывает, как они ценят Пиппина. Что с ним произошло? Что его так тревожит?»
Он отчасти разгадал причину – было это в такой момент, когда даже у Хеммингса, по его выражению, «душа ушла в пятки». Они возвращались в экипаже через лес из самых отдаленных опытных шахт компании. Им предстояло проехать лесом восемь миль. По обе стороны дороги стеной стояли деревья, черные от лесного пожара. Лошадьми правил Пиппин. С лица секретаря, сидевшего рядом, не сходило выражение скрытой тревоги, которую езда Пиппина вызывала почти в каждом. Небо странно потемнело, но меж деревьев, неизвестно откуда, пробивались бледные полосы света. Воздух был неподвижен. Колеса экипажа и копыта лошадей беззвучно погружались в заросли папоротников. Кругом, как иссохшие великаны, поднимались голые, обожженные, изуродованные стволы, меж ними сквозила чернота, черным было небо, черным было безмолвие. Все молчали, и только тяжелое дыхание Пиппина нарушало тишину. Что во всем этом внушало такой ужас? Скорриеру чудилось, что он заживо погребен и никто не придет ему на помощь. Он ощущал себя один на один с природой; ему казалось, что он навсегда лишился надежного удобства человеческого языка и общения. И – ничего не произошло. Они приехали домой и сели обедать.
Во время обеда Скорриеру снова вспомнилась сказка о человечке, замахнувшемся на замок своим мечом. Он вспомнил о ней, когда Пиппин, отвечая на какое-то замечание Хеммингса, взмахнул рукой с зажатым в ней столовым ножом. Его решительно поднятый вверх подбородок, неукротимая энергия, звучавшая в его негромком голосе, яснее чем когда-либо раскрыли Скорриеру натуру Пиппина. И эта новая страна, где человек может рассчитывать только на свои силы, – она-то и была тем сказочным замком! Нет ничего удивительного, что Пиппин не терпит контроля, что он своеволен, что он не хочет писать, – он вышел на бой! И внезапно Скорриер подумал: «Да и не может быть сомнения, что в конце концов природа возьмет верх!»
В тот самый вечер Хеммингс дал волю своему раздражению. Сначала он был необычайно молчалив; Скорриер даже подумал, что он захмелел, таким зловещим и упорным было его молчание. Но вдруг Хеммингс поднялся. Он сказал, что нельзя оставлять почти без всякой информации человека с его положением и его правление (он говорил о правлении так, словно это было его семейство с кучей маленьких детей). Он, мол, вынужден был даже призывать на помощь воображение, когда отвечал на вопросы пайщиков. Это трудно и унизительно: он никогда не слышал, чтобы секретарь компании основывал свои мнения на догадках. Более того, это оскорбительно! Он поседел на службе у компании! Мистер Скорриер может подтвердить, что таким положением, как у него, рисковать нельзя, имя Хеммингса в Сити значит немало; он никому не позволит втоптать его в грязь, это следует хорошенько запомнить. Члены правления считают, что Пиппин обходится с ними как с детьми. Как бы то ни было, глупо предполагать, что он, Хеммингс, позволит обращаться с собой как с мальчишкой!..
Секретарь замолчал; его взгляд, казалось, бросал вызов стенам.
– Если бы и не было лондонской конторы, – пробормотал Пиппин, – пайщики получали бы ту же самую прибыль.
Хеммингс задохнулся от негодования.
– Послушайте, – сказал он, – это же чудовищно, то, что вы говорите!
– Какую помощь я видел из Лондона, когда впервые приехал сюда? И какую помощь я получал в дальнейшем?
Хеммингс смешался, но тут же обрел прежний апломб и с натянутой усмешкой ответил, что если это так, то он вот уже много лет стоит на голове. Он не может поверить, что такое положение возможно в течение столь долгого времени. Он мог бы кое-что сказать от имени компании, но, пожалуй, не стоит. Его сарказм был сокрушителен. Может быть, мистер Пиппин надеется изменить существующие во всем мире законы относительно акционерных обществ? Он только просил бы не начинать с компании, секретарем которой он, Хеммингс, состоит. Вот мистер Скорриер пытался оправдать мистера Пиппина, но он, Хеммингс, при всем желании оправданий не находит. Он просто их не видит. Этот взрыв…
Пиппина так явно передернуло, что Хеммингс, кажется, испугался, не зашел ли он слишком далеко.
– Мы знаем, – сказал он, – что вам было трудно…
– «Трудно»! – воскликнул Пиппин.
– Никто не вправе утверждать, – успокоительно продолжал Хеммингс, – что мы были не либеральны. – Пиппин покачал головой. – Мы считаем, что у нас хороший управляющий; скажу больше – прекрасный управляющий. И я предлагаю: будем уважать друг друга. Я не требую ничего невозможного!
Он закончил свою тираду почти шутливым тоном; и, словно по сигналу, все трое разошлись по своим комнатам, не проронив больше ни слова.
На следующий день Пиппин сказал Скорриеру:
– Кажется, я вел себя не так, как надо. Я должен это исправить. – И с горькой иронией добавил: – Они так добры ко мне, считают меня хорошим управляющим. Значит, я должен очень стараться.
Скорриер возразил:
– Никто не сумел бы сделать для них то, что сделал ты. – И, подчиняясь потребности быть откровенным до конца, продолжал: – Но в самом деле, что тебе стоит писать им хоть изредка?
Пиппин быстро взглянул на него.
– И ты тоже? – сказал он. – Должно быть, я действительно дурной человек! – И он отвернулся.
Скорриер чувствовал себя так, словно совершил какое-то злодеяние. Ему было жаль Пиппина и досадно на себя. Ему было жаль себя и досадно на Пиппина. Он искренне желал, чтобы Хеммингс поскорее уехал. Через несколько дней Хеммингс удовлетворил это желание, отплыв на пароходе с высокопарными словами прощания и заверениями в своем расположении.
Пиппин ничем не выказал чувства облегчения, сохраняя учтивое молчание, и позже, в ответ на какое-то замечание Скорриера, сказал только:
– Ах, не искушай меня! Не будем говорить о нем за его спиной.
VI
Прошел месяц, а Скорриер все еще гостил у Пиппина. Каждый раз, когда приходила почта, он испытывал странное внутреннее беспокойство. В один из таких дней Пиппин удалился к себе в комнату; а когда Скорриер пришел звать его обедать, то увидел, что он сидит, подперев голову руками, среди целого хаоса изорванной бумаги. Он поднял глаза на Скорриера.
– Я не могу этого делать, – сказал он, – я чувствую себя лицемером; я не могу снова надеть хомут. Почему я должен спрашивать у компании, когда все уже сделал сам? Если бы это даже было дело первостепенной важности, они ничего не захотели бы знать, – они просто телеграфировали бы мне: «Как-нибудь уладьте».
Скорриер ничего не ответил, подумав про себя: «Что за безумие! Так нервничать из-за каких-то писем!» Приближение дня, когда привозили почту, стало для Пиппина кошмаром. Он жил в лихорадочном возбуждении, как под гипнозом. И когда почта уходила, он держал себя как приговоренный к смерти преступник, которому объявили, что казнь отложена. И так тянулось два года! С того самого взрыва. Есть от чего сойти с ума.
Однажды, спустя месяц после отъезда Хеммингса, Пиппин рано встал из-за стола; лицо его раскраснелось, за обедом он выпил вина.
– На этот раз я не отступлю, – сказал он, проходя мимо Скорриера.
Скорриер слышал, как он что-то писал в соседней комнате, и через некоторое время заглянул туда, чтобы сказать, что идет пройтись. Пиппин дружески кивнул ему.
Стоял прохладный тихий вечер. Гроздья бесчисленных звезд висели над лесом, сплетаясь в яркие иероглифы, и дождем сыпались за темной гаванью в море. Скорриер шел не спеша. Словно бремя спало с его души, так зачарован он был таинственной тишиной. Наконец-то Пиппин стряхнул с себя оцепенение! Послать это письмо означало конец наваждению, реабилитацию здравого смысла. Теперь, когда молчание должно было вот-вот прорваться, Скорриер почувствовал к Пиппину необычайную нежность, уже без прежнего преклонения, а со странным оттенком покровительства. В конце концов, Пиппин не был похож на других людей. Несмотря на его лихорадочную, неукротимую энергию, несмотря на иронический склад ума, в нем было что-то женственное. А его нежелание писать, его ненависть к контролю – что ж, все гении имеют свои причуды, а Пиппин был в своем роде гений!
Скорриер оглянулся на город. Весь в огнях, он производил впечатление благоустроенности – не верилось, что десять лет назад это место было таким, каким он его помнил. До его ушей долетал шум – там пели, играли в азартные игры, смеялись и танцевали. «Настоящий большой город», – подумал он. В этом странном состоянии приподнятости он медленно шел дальше по улице, забыв о том, что он всего лишь стареющий горный инженер и вид у него несвежий, какой бывает у людей, постоянно находящихся в разъездах, словно они никогда не высыпаются. Он думал о Пиппине, создателе всего этого великолепия.
Он вышел из города, вступил в лес. И сразу же почувствовал себя неуверенно. После веселого шума и запахов города аромат и безмолвие леса необъяснимо угнетали его. И все же он шел и шел вперед, говоря себе, что нужно дать Пиппину время написать письмо. Наконец решив, что Пиппин уже, наверно, кончил, он повернул к дому.
Пиппин действительно кончил. Он лежал головой на столе, свесив руки. Он был мертв! На лице его застыла улыбка, а рядом была пустая бутылочка из-под опия.
Письмо, написанное мелким, красивым почерком, лежало перед ним на столе. Это был безупречно составленный отчет, подробный, без помарок, ничего не утаено, ничего не забыто; полный обзор положения дел на шахте. Кончалось письмо словами: «Ваш покорный слуга Ричард Пиппин».
Скорриер взял письмо в руки. Он смутно понимал, что с этими последними словами оборвалась струна. Пиппин перешел рубеж, и в этот момент исчезло чувство устойчивости, которое одно делает жизнь возможной. Без сомнения, за секунду до смерти Пиппин мог бы обсуждать вопросы биметаллизма{5} или любую другую интеллектуальную проблему, все – только не тайну собственного сердца; это по каким-то неизвестным причинам было выше его сил. Его смерть была результатом последнего взрыва протеста, единого мига безумия в едином вопросе. На промокательной бумаге Скорриер прочитал слова, написанные поперек отпечатка подписи: «Больше не могу!» Очевидно, написать это письмо стоило Пиппину неимоверных усилий, непостижимых для Скорриера. Что это было? Капитуляция? Насилие над своей душой? Торжество несправедливости? Лучше не думать об этом. Пиппин один мог бы дать ответ, но он никогда уже ничего не скажет. Природа, у которой он один на один, без всякой помощи, столько отвоевал, отомстила за себя!
Ночью Скорриер прокрался вниз и, стыдясь своей сентиментальности, отрезал прядь мягких седых волос. «Его дочери будет приятно сохранить это», – подумал он.
Он дождался похорон Пиппина и с его письмом в кармане уехал в Англию.
Прибыл он в Ливерпуль в четверг утром и оттуда отправился в Лондон, прямо в контору компании. Шло заседание правления. Человек, назначенный на место Пиппина, давал объяснения. Скорриер столкнулся с ним в дверях. Это был мужчина средних лет, с рыжей бородой и плутоватым лицом, тоже корнуэлец. С тяжелым сердцем Скорриер пожелал ему успеха.
Как человеку чуждому сентиментальности, испытывающему настоящий ужас перед проявлениями чувств, ему было мучительно неприятно вспоминать свой разговор в конторе. Он не сдержался тогда, о чем искренне теперь сожалел. Председатель, Джолион Форсайт Старший, на этот раз отсутствовал, предвидя, вероятно, что члены правления слишком легко отнесутся к этой смерти. Маленький мистер Букер сидел на его месте. Все поднялись, пожали Скорриеру руку и выразили признательность за то, что он пришел. Скорриер положил письмо Пиппина на стол, и секретарь скорбным голосом прочитал правлению слова управляющего. Когда он кончил, один из присутствующих сказал:
– Это писал не сумасшедший.
Другой возразил:
– Конечно, сумасшедший; только сумасшедший мог покинуть такой пост.
Скорриер, не выдержав, убежал из комнаты. Он слышал за спиной голос Хеммингса:
– Вы нездоровы, мистер Скорриер? Вы нездоровы, сэр?
Он крикнул в ответ:
– Я совершенно в своем уме, благодарю вас…
Неапольский экспресс шел по городской окраине. Залитый солнцем Везувий не курился. Но в то время как Скорриер смотрел на него, ввысь поднялось легкое облачко дыма, словно последняя строка его воспоминаний.
Благополучие
Перевод М.Абкиной
Они занимали квартиру на шестом этаже. С одной стороны окна выходили в парк, с другой – сквозь ветви вяза виднелся ряд домов с такими же комфортабельными квартирами, как их собственная. Было очень приятно жить на такой высоте, куда не достигали ни шум, ни раздражающие запахи, где приходилось видеть только людей такого же сорта, как они сами. Ибо они – совершенно безотчетно – давно поняли, что самое лучшее – не видеть, не слышать и не обонять всего того, что им неприятно. В этом отношении они ничуть не отличались от многих других. Они приспособлялись к окружающей жизни так же естественно, как животные Арктики обрастают густой белой шерстью, а голуби рождаются с маленькими головами и настолько плотным грудным оперением, что охотникам остается только стрелять им в хвост. Супружеская чета, о которой я хочу рассказать, в некоторых отношениях была схожа с голубями – так же хорошо защищена и так же привлекательна на вид. Разница между ними и этими птицами заключалась только в том, что такие люди бескрылы и неспособны к взлетам… В общем же, это была приятная и дружная чета, очень здоровая, делавшая все то, что им полагалось, а дети у них – сын и две дочурки – были прелестные, лучших и желать нельзя. И если бы мир состоял целиком из таких людей и их потомства, – право, он был бы подобен дивной стране Утопии{7}.
Каждый день в восемь часов утра они, лежа в постели и попивая чай, читали полученные письма. Повинуясь необъяснимому инстинкту, заставляющему человека оставлять лучшее напоследок, они начинали с тех писем, которые даже внешним своим видом напоминали об изнанке жизни. Просмотрев их, муж и жена обменивались мнениями: такой-то, по-видимому, заслуживает благотворительной помощи, но такой-то, к сожалению, – безнадежный субъект. А присланный подписной лист опоздал, они только вчера внесли свою лепту. Подобные вести из внешнего мира были не очень многочисленны: обитателей отдельной квартиры не беспокоили всякими поборами и постоянными напоминаниями об их общественных обязанностях, вплоть до обучения чужих детей. Швейцар не пускал в лифт нищих и просителей, и к тому же муж и жена оба решительно отказывались вступать в различные общества, находя, что уж слишком много их развелось.
После писем неприятных они читали приятные. Из закрытой школы писали о том, как хорошо чувствует себя там их мальчик. Леди Баглосс приглашала на обед в такой-то день. Отдыхавшая на юге Франции Нетта сообщала, что там убийственная погода.
Наконец супруги покидали спальню: он шел в ванную, она – поглядеть, спят ли дети. Они снова встречались за завтраком и читали газету. Газета, которую они выписывали, пропагандировала искусство делать жизнь приятной и благополучной. Когда же она бывала вынуждена констатировать явления внешнего мира, чуждые кругу ее читателей, она это делала внушающим доверие способом, как бы говоря между строк: мы, орган свободной мысли и свободного слова, предлагаем вам, любезные читатели, рассматривать эти мелочи с точки зрения, освященной нашими традициями. Мы знаем, что эти явления были, есть и будут. В жизни не все совершенно, и ставить на одну доску несовершенное с совершенным было бы противно естественным законам природы. Поэтому если мы и пишем об этом, то пишем так, чтобы вы могли воспринять эти факты с нашей традиционной точки зрения, не преувеличивая их масштаба.
Пробежав глазами такого рода заметки, супруги переходили к сообщениям, имеющим более злободневный интерес: прочитывали речи одного представителя оппозиции в парламенте и приходили к заключению, что сей государственный деятель, вероятно, плут и уж, во всяком случае, дурак. Затем они изучали объявления (так как серьезно подумывали о покупке автомобиля) и отчет о событии международного значения – крикетном{8} матче между Австралией и Англией. Читали они также отзывы о книгах и спектаклях и старательно записывали названия тех, которые могли доставить им удовольствие, а также отмечали те, которые этого не обещали. «Пожалуй, можно будет сходить на этот спектакль. Пьеса, кажется, недурная», – говорила жена. «Что ж, сходим», – отзывался муж. «А этот роман ты в список не вноси, я вовсе не намерен его читать». Потом опять наступало молчание, они сидели, держа перед собой развернутые листы газеты, словно щит, заслоняющий их сердца. Случалось, газета рекомендовала книги, чтение которых омрачало настроение, ибо из книг этих было видно, что в мире не всем живется хорошо. Прочитав такую книгу, супруги не столько сердились на рекомендовавшую ее газету, сколько огорчались и час-другой бывали молчаливы, но потом решали, что нет никакого смысла принимать близко к сердцу темные стороны жизни. «Разумеется, очень печально, что они существуют, но ведь у всякого свои заботы. И если разобраться, то почти всегда оказывается, что люди сами виноваты в своих несчастьях». Впрочем, газета редко подводила их, и они не лишали ее своего доверия. Они ли сделали эту газету такой, какая она есть, или, наоборот, она сделала их такими? Это одному богу известно.
Они сидели за столом и, завтракая, часто поглядывали друг на друга с дружеской нежностью. «Ты – мое утешение, а я – твое», – говорили эти взгляды.
Лицо у женщины было свежее, с упругими и круглыми щеками, высокие скулы почти касались темных орбит ее серых глаз. Волосы блестели так, словно на них всегда падал солнечный луч, и мягко ложились на чисто вымытые розовые ушки. Подбородок только едва намечался на ее круглом лице. У мужа щеки были не так упруги и четко очерчены. На этих плоских щеках разлит был темный румянец, жесткие рыжеватые усы обрамляли плотно сжатые полные губы. Его профиль внушал смутное подозрение, что когда-нибудь аппетиты этого человека возьмут верх над тяготением к спокойной и уютной жизни.
После завтрака супруги расходились: он отправлялся по своим служебным делам, она – за покупками, а потом с визитами. Во всем, что они делали, была целеустремленность и простодушная уверенность в важности того, что делалось. Чутье, в своем роде гениальное, подсказывало им, чего следует избегать. Они всегда твердо знали, что им нужно, и умели этого добиваться.
За обедом они рассказывали друг другу обо всем, что произошло за этот полный событий день: он – какие рискованные операции пришлось проделать у Ллойда{9}, где он служил страховым агентом, она – какое заказала платье и как, побывав на выставке картин, увидела там одного из членов королевской фамилии. Он успел также зайти к Тэттерсэллу поговорить насчет пони для сыночка, который приедет из школы на каникулы, а она в конторе по найму опросила трех кухарок, но ни одна не оказалась подходящей. Приятно слышать этакую спокойную беседу за столом в уютной домашней обстановке, беседу, полную взаимного понимания и уверенности каждого из собеседников в искреннем сочувствии другого!
Иногда они возвращались домой расстроенные или возмущенные, когда им попадалась на глаза бездомная собака или свалившаяся на мостовой загнанная лошадь, которую доконали жара и непосильная работа. Обоих супругов как-то особенно трогали страдания животных. Закрывая руками розовые уши, жена восклицала: «Ах, Дик, как это ужасно!» А он говорил: «Ну-ну, не принимай всего так близко к сердцу, дорогая». Когда же им встречались несчастные, страдающие люди, они, вернувшись домой, редко говорили, а может, и не помнили о них, отчасти потому, что это было такое обычное явление, отчасти же потому, что они слушались своего инстинкта. А инстинкт твердил: «Если станешь обращать внимание на то, что творится у тебя перед глазами всякий день и час, то либо потеряешь покой и придется уделять несчастным время, сочувствие, деньги, причиняя этим вред, так как помощь лишает людей независимости, – либо станешь циником, а это отвратительно. Так лучше замкнись в своем саду и никогда не выглядывай наружу. Тогда ты не будешь видеть, что происходит вокруг, а чего не видишь, того словно бы и не существует!»
Несомненно, еще глубже и прочнее укоренилось в этих людях бессознательное убеждение, что они – достойнейшие представители общества. Не проверяя разумом своей смутной уверенности, они безотчетно понимали, что такими сделало их благополучие и мирное существование их отцов, их самих и их детей и, если они позволят чему-нибудь нарушить этот мирный уют, нервы их не выдержат – и прощай покой и довольство! Глубокий инстинкт, вложенный в них природой, подсказывал им: бесполезно уделять внимание тому, что не способствует сохранению их собственного благополучия и благополучия их потомства. Надо думать только о том, как упрочить это благополучие до той степени, когда нервы уже в должной мере невосприимчивы, а душа обрастает корой и буквально не способна ничего видеть. Это чувство, настолько неуловимое, что оставалось подсознательным, вселяло в них уверенность, что таков их долг перед природой, перед собой и обществом.
Они сидели вдвоем за обедом, более чем когда-либо напоминая мирную и благодушную пару голубей, которые клюют корм на лужайке и, вертя головками, то и дело поглядывают друг на друга. Иногда муж, не донеся до рта вилку с куском мяса, вдруг вперял свои круглые светлые глаза в стоящую перед ним вазу с цветами и произносил что-нибудь;
– А знаешь, я сегодня встретил Элен. Худа, как щепка! Эта новая работа ее в гроб вгонит.
Вот супруги пообедали, спустились вниз и, подозвав кэб, отправляются в театр. Дорогой молчат и, глядя в пространство, переваривают поглощенную еду. В свете уличных фонарей мокрые мостовые кажутся белесыми, и ветер с полнейшим беспристрастием овевает и безмятежные лица людей, подобных нашим супругам, и лица, изнуренные голодом. Не поворачиваясь к мужу жена говорит вполголоса:
– Не могу решить, мой друг, сейчас ли заказать девочкам летние платья или подождать до пасхи.
После ответной реплики мужа снова наступает молчание. Когда кэбмен круто сворачивает за угол, какая-то женщина в платке, с ребенком на руках, проскользнув под самой мордой лошади, обращает к сидящим в кэбе бледное, как смерть, лицо и бормочет проклятие. Не обратив на нее никакого внимания, муж бросает окурок сигары и говорит спокойно:
– Послушай, дорогая, если мы в этом году за границу не едем, то, пожалуй, пора мне поискать местечко в Скай{10}, где можно развлечься рыбной ловлей.
Затем они сворачивают снова на главную улицу и останавливаются у театрального подъезда.
К театру у них необъяснимое влечение. В стенах его они испытывают блаженное успокоение – так чувствовал себя, наверное, в далекие времена какой-нибудь воин, когда, сняв доспехи, грелся по вечерам у огня. Это чувство отдохновения супруги испытывают, вероятно, по двум причинам. Им, должно быть, смутно кажется, что они весь день проходили в латах и только здесь им не грозит столкновение с мрачной и обнаженной правдой жизни. Здесь ничто не может смутить их душевный покой, ибо успех пьесы, а следовательно, и доходы от нее зависят от того, понравится ли она им. И потому все в ней изображается в духе «традиционном», приемлемом для людей их круга. Но радует их не только это. Сидя рядышком и внимательно глядя на сцену, они упиваются сознанием, что «видят жизнь». И, увидев эту «жизнь» (столь далекую от подлинной), они как бы обретают священное право не замечать никаких иных ее явлений.
Они выходили из театра окрыленные, укрепившись в своем мировоззрении. И опять-таки один бог знает, пьеса ли делала этих людей тем, чем они были, или они были виной тому, что писались и ставились такие пьесы. Из театра они возвращались домой полные воодушевления, и оно не оставляло их, пока они добирались до своего шестого этажа.
Однако случалось (к счастью, редко), что отзыв газеты вводил их в заблуждение и они бывали вынуждены смотреть пьесу, грубо нарушавшую их душевное равновесие. Тогда на их лицах внимательное выражение сменялось сначала недоумевающим, затем оскорбленным и, наконец, негодующим. Они повертывались друг к другу, безмолвно делясь своим возмущением, и словно пытались этим смягчить нанесенную им обиду. Потом жена громким шепотом произносила: «Премерзкая пьеса!» А муж отзывался: «И притом какая скука – вот чего я не могу простить!»
После такого спектакля они на обратном пути уже не молчали в кэбе, но говорили о чем угодно, только не о пьесе, как бы изгнав ее из своих мыслей. Но по временам между ними воцарялось какое-то неловкое молчание. Его нарушал обычно муж; щелкнув языком, он выпаливал: «Черт бы побрал эту гнусную пьесу!» И жена, скрестив руки на груди, вздыхала с облегчением, чувствуя, что к ней возвращается привычное чувство спокойного довольства. Оба дружно возмущались этой пьесой и отзывом в газете, коварно заставившим их весь вечер смотреть ее.
В такие вечера они, прежде чем уйти в спальню, прокрадывались в детскую – мать первая, отец позади, словно стыдясь своих чувств. И здесь, стоя рука об руку, они долго смотрели на спящих дочек. Слабый свет ночника падал на кроватки и спокойно раскинувшиеся в них детские тельца. Освещал он и любовавшихся ими родителей, легкую улыбку на губах матери, полускрытых пушистым воротником пальто, и лицо отца над белоснежной манишкой, красное, лоснящееся, его смущенную ухмылку, словно говорившую: «Они и в самом деле очень милы. И как это я ухитрился породить таких славных ребятишек?»
Частенько, должно быть, стаивали так эти два голубя, любуясь своими кругленькими, пухлыми серо-белыми птенцами. Подталкивая друг друга, они указывали то на закинутую на подушку ручонку, то на раскрытый во сне ротик. Потом на цыпочках выходили из детской.
А в спальне, постояв минуту у окна и подышав свежим ночным воздухом, они чувствовали, как снова оживает в них блаженное чувство мирного благополучия.
За окном лунный свет серебрил лохматые ветви вяза, темный ряд домов для богатых людей… Что еще освещала луна в этом большом городе, супруги, к их счастью, не могли видеть.
Бродяги
Перевод А.Ильф
Было тихо. Солнце заходило, в теплом сонном воздухе не чувствовалось даже легкого ветерка.
Неяркий свет падал на беленые дома, беспорядочно разбросанные вдоль улицы, округляя углы и бросая на стены, крыши, пороги тусклый розоватый отблеск. На пустыре перед церковью Утоления Печалей и у магазинов и домов виднелись люди – они стояли в ленивых позах и молчали или вяло судачили, мягко, по-девонширски растягивая слова.
Перед кабачком развалился щенок-спаниель; головастый и неуклюжий, он играл собственными ушами и беспомощно глазел на детей, которые выбегали из переулков, лениво гонялись друг за другом и исчезали. У стены старик в бумазейном костюме, с густой бородой торчком, грузно опираясь на палку, сонно переговаривался с кем-то внутри. Издалека доносилось воронье карканье, пахло свиной грудинкой и прелым сеном, горящими дровами, жимолостью.
Потом над дремлющей деревней возник звук колес и с ним какое-то движение и шорох.
Шум колес становился громче, потом затих; напротив церкви остановился цыганский фургон, похожий на пещеру – черный, заляпанный грязью, с корзинками, связками лука, сковородками, вьющейся струйкой синего дыма, запахом поношенной одежды.
Лошадь стояла там, где ее остановили, не шевелясь, устало понурив голову; рядом потягивалась девушка-цыганка, стоя на одной ноге и заложив руки за голову; обманчивая игра света превращала в бронзовые ее иссиня-черные волосы.
Гибкая, как змея, она сверкала во все стороны темными глазами, одергивая юбку и поправляя на груди истрепанную шаль. В ее угловатых чертах заметно было кошачье хитроватое выражение, присущее людям ее племени.
Широкоплечий старик, с проседью и медно-красным лицом, наклонился над оглоблей и заговорил с кем-то в фургоне.
Движение и шорох возобновились. Из домов, переулков, отовсюду выбежали дети – мальчики и девочки. В белых платьях и цветных, с чистыми рожицами и с неумытыми; они сначала суетились и подталкивали друг друга, потом притихли.
Они держались за руки, рты их были широко открыты. Стояли полукругом, пестрой примолкшей толпой в двух-трех ярдах от фургона, взрывая ногами пыль, шепчась. Порой немного расступались, будто хотели убежать, потом сдвигались еще теснее. Из фургона вылезла с малышом на руках старуха с густыми волосами и крючковатым носом. За ней, цепляясь за ее подол, пряталась маленькая девчушка. В кругу детей непрерывно слышались тихие, взволнованные восклицания, точно гул телеграфных проводов.
Старуха положила малыша на руки старому цыгану, посадила девчушку на козлы и отошла от фургона, торопливо и негромко разговаривая с девушкой. Обе скрылись среди домов, и круг детей придвинулся ближе к фургону; кулачки начали разжиматься, пальцы – указывать; мальчишки уже носились взад и вперед.
Свет постепенно утратил розовый оттенок, контуры предметов стали резче; послышалось слабое жужжание комаров; и внезапно тишину раскололи спорящие голоса.
Старик у стены кабачка сплюнул сквозь веник своей бороды, разогнулся, раздраженно буркнул что-то и заковылял прочь, опираясь на палку; щенок-спаниель смущенно ретировался в кабачок, отрывисто тявкая и оглядываясь на бегу; люди выходили из домов, глазели на фургон и, повернувшись на каблуках, тут же исчезали. То новое, что принесли чужаки в деревню, было так же трудно уловить, как игру света.
Старый цыган облокотился на оглоблю, посвистывая и набивая трубку; над ним, на краю козел, сидели малыш и девочка с льняными волосами и загорелыми лицами; они были немы, как куклы, и глядели на все как-то по-кукольному, будто их выставили напоказ.
Так, видно, и думали дети, которые подталкивали друг друга и шушукались; две-три девочки постарше тянулись к малышу, но тотчас отдергивали руки, испуганно хихикая.
Мальчики затеяли игру. Интерес новизны, который вызвали в них цыгане, уже сменялся пренебрежением, но девочки стояли как зачарованные, вертя светлыми головами, указывая пальцами на детей или маня их к себе.
Свет снова смягчился, став более серым и таинственным; предметы теряли определенность, отступая и растворяясь в сумраке; мерцавший в окне огонек лампы разгорелся ровным пламенем.
Раздался голос старого цыгана, отчетливый и убедительный, – он что-то говорил детям. Концертино{12} на улице заиграло «Правь, Британия»{13} в ритме польки; уже слышался шум танцев и драки; во дворе кабачка кричали два голоса.
Чья-то тележка, дребезжа, двигалась между темными домами. Залаяла собака; крики играющих мальчишек стали пронзительнее; сквозь них прорывались плач ребенка и протяжные звуки концертино, то усиливавшиеся, то затихавшие. Из дома вышла женщина и, бранясь, увела двух девочек:
– На что вам сдались эти цыгане? Дуры!
Кучка мужчин столпилась у входа, оживленно разговаривая, смеясь; лица их были не видны в темноте, горящие трубки рассыпали брызги искр. Из окон сквозь синеватую тьму пробивались веерообразные огни ламп. В свете одной из них обрисовывались голова старого цыгана и головки обоих детей, казавшиеся золотыми на фоне мрачной дыры фургона.
Затем, будто из-под земли, снова возникли фигуры двух цыганок; старый цыган снял руки с оглобли, послышалось несвязное бормотание, быстрое движение, беспокойный смех девушки; старая лошадь дернулась вперед, и фургон двинулся. Впереди, держась за поводья, бесшумно ускользала в ночь темная, изогнутая фигура девушки-цыганки; с тяжелым громыханием черный фургон исчез вдали.
На улице раздался звук, похожий на вздох, топот ног. Кто-то зевнул с растяжкой, другой сказал:
– Так не забудь об этом, ладно?
О дерево с резким стуком выколотили трубку.
– Ну, может, и твоя правда. Видно, погода продержится.
– Покойной ночи, Веллем.
– Покойной ночи.
– Так возьмешь эту старую клячу?
– Там видно будет… Ну, прощай!
Голоса и замирающие шаги сменились безмолвием, мягким и глубоким, как чернота августовской ночи. Сонный воздух был напоен запахом остывающей земли; над деревней затрепетал слабый ветерок – словно дух пролетел.
Кто-то темный неподвижно стоял на улице, прислушиваясь к концертино, тянувшему последние ноты песни «Родина, милая родина»{14}. Мерцая, исчезали со стен веерообразные блики света – место их заняла тьма.
Паломники
Перевод Е. Лидиной
Проезжая по Хаммерсмиту, я увидел их с империала омнибуса{16}. Они сидели на белом нарядном крыльце дома против памятника принцу Альберту{17}. День был солнечный, очень жаркий. Мимо двигался поток кэбов и собственных экипажей, на залитой солнцем улице было много гуляющих. А три маленьких паломника все сидели на крыльце.
Старший из них, мальчик лет шести, с трудом удерживал на коленях большеголового ребенка, кажется больного корью. Кулачок малыша, словно вылепленный из теста, подпирал щечку, глаза были полузакрыты, а ножки беспомощно висели из-под тряпья, в которое он был завернут.
Девочка была моложе мальчика. Она крепко спала, привалившись к дверному косяку. Ее миловидное грязное личико выражало терпение, под глазами были темные круги; вылинявшее голубое платьице не доходило до голых коленок. Голова ее была не покрыта. Мальчик смотрел прямо перед собой большими карими глазами. Волосы у него были темные, уши торчали. Одет он был неплохо, но весь покрыт пылью с головы до ног. В этих детских глазах таилось утомление, как у людей, которые трудно провели день. Я заговорил с ним.
– Это твоя сестра?
– Нет.
– Кто же она?
– Моя подружка.
– А это кто?
– Мой брат.
– Где вы живете?
– У Риджент-парка{18}.
– Как же это вы так далеко забрели?
– Пришли посмотреть на памятник Альберту.
– Ты, наверно, очень устал?
Он не ответил.
– Вот тебе шиллинг{19}; теперь вы сможете вернуться домой на омнибусе.
Ни слова, ни улыбки в ответ. Только протянул за шиллингом грязную ручонку.
– Ты знаешь, сколько это?
На его лице промелькнуло презрение. Он тихонько покачал на руках братишку.
– Конечно, двенадцать пенсов.
Уходя, я оглянулся: крепко придерживая брата, он носком башмака толкал свою подругу, чтобы показать ей монету.
Bel colore
Перевод Е. Лидиной
По одну сторону дороги – оливковая роща. По другую – утопающая в розах светло-желтая вилла с выгоревшими на солнце ставнями и стертым именем владельца на воротах. Перед ней, средь густого кустарника, наклонно растет неподрезанная высокая пальма; рядом висит на веревке чье-то темно-красное платье. Откровенность постоянной сиесты!{21}
Небо над головой сапфировое, окрашенное золотом на закате; ветерок шуршит в пальмовых листьях; позвякивает колокольчик пасущейся вблизи козы; тянет дымком, и квакают лягушки.
В потускневшей клетке на окне второго этажа желтоголовый попугай тянет гнусаво: «Никули, ни-ко-ля!»
Трое детей, проходящих мимо, поднимают головы. Солнце бьет им в глаза. «Попка-царапка! Попка!» – кричат они. Старший из них, светлоголовый мальчик-англичанин, не торопится уходить, и, пока он медлит, на крыльце появляется девочка в красном коротком платье. Щеки у нее алеют, как мак, глаза черные, блестящие, волосы пышные, темно-русые. Мальчик порывисто снимает шляпу, краснеет и все не двигается с места. Но девочка уходит, помахивая связкой учебников; на одну секунду обернувшись, она бросает быстрый взгляд на мальчика и звонким голосом кричит, повторяя слышанное, как ее попугай в окошке:
– И-ди спать не-мед-лен-но, непослушный мальчишка!
Прокричав это, она насмешливо хохочет.
Мальчик опускает голову, стискивает в руке шляпу и убегает. А девочка идет дальше походкой взрослой женщины, полной скромного достоинства. Солнце бьет ей в лицо. Прищурив глаза, она смотрит перед собой на дорогу. И постепенно ее фигурка – воплощение южной томности, жестокости и любви – становится алым пятнышком на пыльной дороге.
Казнь
Перевод М. Абкиной
Я не мог бы описать улицу, на которой очутился в тот вечер, она была не похожа ни на одну из виденных мною в жизни, – длинная и узкая, как будто самая обыкновенная и в то же время такая нереальная, что по временам казалось: если двинуться прямо на серые дома, стоявшие по обе ее стороны, то можно пройти сквозь них. Я шел уже, должно быть, очень долго, но не встретил ни одной живой души. Наконец, когда стало смеркаться, откуда-то бесшумно появился юноша – он, вероятно, вышел из какого-нибудь дома, а между тем я не видел, чтобы открылась хоть одна дверь. Ни наружности, ни одежды его я не берусь описать. Он, как и эта улица и дома, казался нереальным, был похож на тень. Я подумал: «Вот человек, которого доконал голод». Выражение его мрачного лица взволновало меня: такое выражение бывает на лице умирающего с голоду человека, перед которым поставили еду и тотчас унесли ее.
Теперь изо всех домов на этой улице таким же таинственным образом стали появляться молодые люди с тем же голодным выражением неясно видных в темноте лиц. Мне показалось, что, когда я проходил мимо, они всматривались в меня так пристально, словно искали кого-то. И наконец, обратившись к одному из них, я спросил:
– Чего вам надо? Кого ищете?
Он не ответил. Было уже так темно, что я не мог видеть его лица да и лиц остальных, – и все же я чувствовал, что за мной наблюдают с жадным вниманием. А я все шел и шел, не встречая ни единого поворота, и, казалось, обречен был вечно идти по этой бесконечной улице. Наконец в отчаянии я вдвое ускорил шаг и повернул обратно. Должно быть, следом за мной прошел фонарщик: теперь все фонари на улице были зажжены и разливали слабо мерцающий зеленоватый свет, как будто здесь висели в темноте куски какого-то фосфоресцирующего минерала. Похожие на призраки юноши с голодными глазами все исчезли, и я уже спрашивал себя, куда они могли деваться, как вдруг увидел впереди колыхавшееся во всю ширину улицы серое облако, освещенное дрожащим, как болотный огонек, светом фонаря. Оттуда доносился глухой шум, похожий на шарканье ног по опавшим сухим листьям, тихие вздохи, в которых слышалось глубокое удовлетворение. Я осторожно подошел поближе – и вблизи это облако оказалось толпой людей, которые медленно и неустанно двигались вокруг фонаря, словно в каком-то танце. Вдруг я в ужасе застыл на месте. Все эти танцующие были скелеты, и между каждыми двумя скелетами плясала молодая девушка в белом, так что весь круг состоял из скелетов и серо-белых девушек. На меня никто не обратил внимания, и я подкрался совсем близко. Да, эти скелеты были те самые молодые люди, которых я видел, проходя по улице, но теперь жуткое голодное выражение на их лицах сменилось подобием улыбки. Девушки, плясавшие среди них, трогали сердце бледной своей красотой, глаза их не отрывались от скелетов, державших их руки в своих, и словно молили этих мертвецов вернуться к жизни. Все были так увлечены своей мистической пляской, что не замечали меня. И вот я увидел, вокруг чего они пляшут. Над их головами, под зеленым огнем фонаря, болтался какой-то темный предмет. Он качался взад и вперед, как мясо, которое поджаривают над костром. Это был труп пожилого, хорошо одетого человека. Свет фонаря скользил по седым волосам и падал на распухшее лицо, когда оно оказывалось прямо под ним. Повешенный медленно качался слева направо, а танцующие так же медленно кружились справа налево, чтобы все время видеть его лицо, – должно быть, это зрелище их тешило.
Что это могло означать? Что делали здесь эти печальные тени, скользя вокруг отвратительного предмета, качавшегося в воздухе? Что за странный и жуткий ритуал довелось мне увидеть в призрачном зеленом свете уличного фонаря? Я не мог оторвать глаз от скелетов с голодными лицами и бледных девушек, но еще больше приковывало к себе мой взгляд страшное лицо там, наверху, еще не утратившее надменного выражения. Как оно и притягивало и пугало, это лицо с мертвыми, остекленевшими глазами и дряблыми щеками! Оно все вращалось и вращалось, словно на невидимом вертеле, под шарканье ног по сухим листьям и глухое бормотание, похожее на вздохи. За что мстили эти тени повешенному, от всей фигуры которого и сейчас еще веяло холодом жестокой силы и власти? Кого они поймали и вздернули здесь, чтобы он, как мертвая ворона, качался на ветру? Какое страшное преступление против мертвых юношей и бледных девушек искупал здесь этот пожилой человек?
Я содрогнулся, вспомнив, как всматривались в меня эти молодые люди, когда я проходил мимо них. И меня вдруг осенило: да ведь здесь казнили мое поколение. Вот оно висит, вздернутое юношами, которых послало на смерть, и девушками, которых сгубило, лишив счастья.
И, охваченный ужасом, я бросился бежать сквозь эту толпу, созданную моим воображением, а она колыхалась и шумела слева и справа от меня.
Простая повесть
Перевод М. Абкиной
Однажды утром, когда зашел разговор об антисемитизме, Ферран сказал мне по-французски:
– Да, месье, множество наших современников считают себя христианами. Но я только раз в жизни встретил истинного христианина – и он считал себя евреем. Это престранная история, сейчас я вам ее расскажу.
Дело было в Лондоне, осенью. Так как сезон прошел, я, конечно, сидел на мели и вынужден был избрать своей резиденцией один «дворец» в районе Вестминстера{24}, где платил четыре пенса за ночь. Соседнюю койку занимал тогда почтенный старец, такой худой, словно он был создан не из плоти, а из воздуха. Был ли он англичанин, шотландец или, может, ирландец или валлиец – не могу сказать с уверенностью: я, должно быть, никогда не научусь подмечать незначительные различия между этими представителями вашей нации. Думаю, впрочем, что мой сосед был англичанин. Этот очень дряхлый и слабый старик, с длинной седой бородой и бескровными, белыми, как бумага, запавшими щеками, говорил со всеми обитателями ночлежки мягко и ласково, как с женщиной. Для меня было полнейшей неожиданностью встретить такого вежливого и благожелательного человека в нашем «дворце». Свою койку и тарелку супа он отрабатывал, убирая грязные конуры за всякого сорта людишками, приходившими сюда ночевать. Днем он всегда находился здесь, но каждый вечер, в половине одиннадцатого, куда-то уходил и возвращался около двенадцати. Досуга у меня было достаточно, и я охотно беседовал с ним. Он, правда, был немного «тронут», – Ферран постучал себя по лбу, – но меня пленяло в этом беспомощном старике то, что он никогда не заботился о самом себе, хлопоча целый день, как муха, которая с утра до вечера носится под потолком. Что бы ни понадобилось субъектам, ночевавшим во «дворце», – пришить ли пуговицу, выколотить трубку, поискать у них вшей или постеречь вещи, чтобы их не стащили, – старик все это делал со своей неизменной улыбкой, такой ясной и кроткой, и даже всегда готов был уступить другому свое место у камина. А в свободные часы наш старик читал Библию! Он вызывал во мне чувство живейшей симпатии – ведь не часто можно встретить таких добрых и отзывчивых старых людей, хотя бы и «тронутых». Несколько раз мне случалось видеть, как он мыл ноги кому-нибудь из этих пьянчуг или делал примочки тем, которые, как водится у таких субъектов, приходили с подбитым глазом. Да, вот чем занимался этот поистине замечательный человек тонкой души и в одежде столь же тонкой, до того уж истонченной, что сквозь нее видно было тело. Говорил он мало, но слушал каждого с ангельским терпением и никогда ни о ком не злословил. Зная, что сил у него не больше, чем у воробья, я недоумевал, зачем он выходит каждый вечер во всякую погоду и так долго бродит где-то. Но когда я задавал ему этот вопрос, он только улыбался рассеянно, как человек не от мира сего, и, казалось, не совсем понимал, о чем я говорю. Любопытство мое было сильно возбуждено, и как-то раз я сказал себе: «Если не ошибаюсь, тут кроется что-то интересное! Ну, милейший старик, не сегодня-завтра я отправлюсь вслед за тобой. Да, да, буду тебя сопровождать, как ангел-хранитель, во время этих твоих ночных вылазок». Вы же знаете, месье, как меня интересует все необычное. Разумеется, когда целыми днями шагаешь по улицам с досками реклам на спине и груди, изображая собой нечто вроде сандвича, то, сами понимаете, нет особого желания еще и вечером фланировать по городу. Тем не менее однажды вечером в конце октября я наконец вышел вслед за стариком. Следить за ним не составляло труда: ведь он был бесхитростен, как дитя. Сначала, идя за ним, двигавшимся как тень, я очутился в Сент-Джеймс-парке{25}, где гуляют солдаты, выпятив грудь и стараясь прельстить молодых нянек. Старик мой шел очень медленно, опираясь на трость, похожую на посох, – я таких ни у кого никогда не видал: она была высотой футов шесть и загнута на верхнем конце, как палка пастуха или рукоять меча. Уличных мальчишек, вероятно, немало смешил вид этого старца, с его посохом, и даже я не удержался от улыбки, хотя я не охотник смеяться над старостью и нищетой.
Ясно помню этот вечер – очень уж он был хорош. Темное небо казалось прозрачным, звезды сияли так ярко, как они редко сияют в больших городах, центрах «высокой цивилизации», а от листьев платанов на тротуары ложилась тень цвета темного вина – жалко было наступать на нее. В такие вечера на душе легко и даже полисмены смотрят на всех благодушно и немного мечтательно. Ну-с, как я уже говорил, мой старик брел медленно, не оглядываясь, походкой лунатика. Дойдя до большой церкви, которая, как все подобные сооружения, имеет вид холодный, отчужденный и, кажется, ничуть не благодарна бедным смертным, построившим ее, он прошел в Итон-сквер{26}, где, должно быть, живут очень богатые люди. Здесь мой старик, перейдя улицу, остановился у ограды парка, сложив руки на своем посохе и немного наклонясь, так что его длинная седая борода касалась их. Он стоял очень спокойно, ожидая чего-то. Но чего? Этого я никак понять не мог. Был тот час, когда богатые буржуа возвращаются домой из театра в собственных экипажах, с кучерами, которые, как манекены, сидят на козлах над разжиревшими лошадьми, а в окошко можно увидеть какую-нибудь сладко задремавшую леди, у которой на лице написано, что она слишком много ест и слишком мало любит. Мимо проходили джентльмены, вышедшие подышать свежим воздухом, весьма comme il faut[2], в сдвинутых назад цилиндрах и с пустыми глазами. Мой старик, за которым я издали наблюдал, все стоял не двигаясь и смотрел на прохожих, пока к дому напротив не подкатил экипаж. Тут старик сразу торопливо зашагал через улицу, таща за собой свою палку. Я видел, как кучер дернул колокольчик у входа и затем открыл дверцы экипажа. Из него вышли трое – пожилой мужчина, дама и юноша. Это были явно представители хорошего общества – какой-нибудь судья, мэр или даже баронет: кто его знает? – с женой и сыном.
В то время как они уже стояли у двери, мой старик дошел до нижней ступени крыльца и, низко поклонясь, как проситель, заговорил с ними. Те трое сразу повернули к нему удивленные лица. Мне не слышно было, что говорит старик, но, как я ни был заинтересован, подойти ближе я боялся – ведь старик, увидев меня, понял бы, что я шпионю за ним. Я слышал только его голос, кроткий, как всегда, и видел, как он утирал лоб, как будто прошел долгий путь с тяжелой ношей. Дама что-то шепнула мужу и вошла в дом; юноша, закуривая на ходу сигарету, последовал за ней. На крыльце оставался только почтенный отец семейства, мужчина с седыми бакенбардами и ястребиным носом. Судя по выражению его лица, он вообразил, что старик смеется над ним. Торопливо отмахнувшись от него, он тоже спасся бегством, и дверь захлопнулась. Кучер тотчас вернулся на козлы, экипаж умчался, и, казалось, здесь ничего не произошло – только старик все еще стоял не двигаясь. Но скоро и он поплелся обратно, с видимым трудом волоча за собой свою палку. Я укрылся в подворотне, чтобы остаться незамеченным, и видел его лицо, когда он проходил мимо. Оно выражало такую тяжкую усталость и печаль, что у меня сердце сжалось. Должен вам признаться, месье, я был несколько возмущен тем, что этот почтенный старец явно просил милостыню. Вот уж до чего я ни разу в жизни не унизился, даже когда бывал в крайней нужде! Не в пример вашим «джентльменам», я всегда что-то делал за те деньги, которые получал, – ну хотя бы провожал домой какого-нибудь пьяницу.
В тот вечер, возвращаясь в ночлежку, я усиленно ломал голову над этой загадкой, которая казалась мне неразрешимой. Зная, когда обычно возвращается старик, я поспешил улечься раньше, чем он придет. Он вошел, как всегда, на цыпочках, чтобы никого не разбудить, и лицо его показалось мне снова ясным и немного «отрешенным». Как вы уже, вероятно, заметили, я не из тех, кто пропускает всякие вещи мимо своего носа, не пытаясь рассмотреть, что в них скрыто. Для меня первейшее удовольствие – так сказать, заглянуть жизни под юбки, узнать, что таится под внешней видимостью явлений – ведь они далеко не всегда таковы, какими нам кажутся{27}. Так сказал ваш славный поэт, а поэты – они и философы тоже и, кроме того, труженики, не в пример всем тем господам, что воображают, будто это они, и только они, трудятся сидя в председательском кресле или целый день крича в телефон – таким путем они набивают себе карманы. Я же коплю только одно – наблюдения, которые помогают узнать человеческое сердце. Этого золота никто не может у меня отнять.
И вот в ту ночь мне не спалось: я не мог удовлетвориться тем, что увидел, не мог понять, зачем этот старик, самоотверженный и добрый до святости, всегда думающий только о других, каждый вечер ходит побираться, тогда как ему всегда обеспечена койка в нашем «дворце» и то немногое, что ему требуется, чтобы душа держалась в теле. Конечно, все мы грешны, и даже самые уважаемые господа потихоньку делают то, что вызвало бы у них многозначительное покашливание, если бы на их глазах это сделал другой. Однако поведение старика совсем не вязалось с его натурой альтруиста (ибо, по моим наблюдениям, нищие не меньшие эгоисты, чем миллионеры). Эта загадка не давала мне покоя, и я решил опять последить за стариком.
Второй вечер совсем не походил на первый. Дул сильный ветер, и белые облака бежали по освещенному луной небу. Старик сначала шел мимо здания парламента, по направлению к Темзе. Мне очень нравится эта ваша большая река. Она течет так величаво. Она безмолвна, но знает многое и не выдает тайн, доверенных ей.
Так вот, старик направился к длинному ряду тех весьма респектабельных домов, что выходят окнами на набережную неподалеку от Челси. Жаль было смотреть, как бедняга сгибается чуть не вдвое, борясь с сильным западным ветром. Экипажей здесь встречаешь не так уж много, а прохожих и того меньше. Пустынная улица освещается высокими фонарями; в этот вечер предметы не отбрасывали теней: так ярко светила луна. Как и в прошлую ночь, старик остановился в конце улицы и стал высматривать какого-нибудь «льва», который возвращается в свое логово. Скоро я увидел такого «льва» в компании трех «львиц» выше его ростом. Бородат, в очках – сразу видно было, что ученый муж. Даже шагал он с важностью человека, который знает жизнь и людей. «Должно быть, какой-то профессор со своим гаремом», – подумал я. Они подошли к дому шагах в пятидесяти от старика. И пока ученый муж отпирал дверь, его три дамы, задрав головы, любовались луной. Немного эстетики, немного науки – известный рецепт для людей этого типа! Вдруг я заметил, что мой старик переходит улицу, шатаясь под ветром, как серый стебель чертополоха. Лицо у него было такое страдальческое, словно на него легло бремя всех скорбей мира. Увидев его, три дамы мигом перестали созерцать небо и, словно спасаясь от чумы, убежали в дом, крича: «Генри!» Бородатый и очкастый Генри снова вышел на крыльцо. Я рад был бы подслушать предстоящий разговор, но этот Генри уже меня приметил, и я не двинулся с места, чтобы он не заподозрил, будто я заодно со стариком. Мне удалось только расслышать слова: «Нельзя, никак нельзя! Для этого есть дома призрения, ступайте туда». И, сказав это, бородач запер дверь. Старик, оставшись один, все еще стоял, держа свой посох на плече и сгорбившись, словно этот посох был из свинца. Потом зашагал в обратный путь, съежившись и весь дрожа, похожий скорее на тень, чем на живого человека. Ничего не видя, он прошел мимо меня, словно мимо пустого места.
В этот вечер я тоже поспел в ночлежку раньше и улегся до того, как он вошел. Сколько я ни раздумывал, я теперь еще меньше способен был объяснить себе поведение старика и решил еще раз пойти за ним. «Но теперь уж я во что бы то ни стало подойду так близко, чтобы все услышать», – твердил я себе. Видите ли, месье, на свете есть два сорта людей. Одни не успокаиваются до тех пор, пока не завладеют всеми игрушками, которые обеспечивают роскошную жизнь, а какова природа этих вещей, им неинтересно. А есть другие – им была бы только корка хлеба, табачок да возможность во всем разбираться – и тогда душа у них покойна. Признаюсь, я именно такой человек. Не угомонюсь, пока не докопаюсь до сути всего, что вижу в жизни. Для меня загадки жизни – соль ее, и мне обязательно надо вволю наесться этой соли.
И вот я в третий раз пошел за стариком. В тот вечер он избрал грязные улочки вашего великого Вестминстера, где все перемешано, как в хорошем пудинге, где можно увидеть лордов и всяких бедняг, которых покупают по грошу дюжина, котов и полисменов, керосиновые фонари и монастыри, и все вокруг пропахло жареной рыбой. Ох, эти глухие улицы вашего Лондона, как они ужасны! Здесь меня, как нигде, охватывает чувство безнадежности. И любопытно, что они так близко от здания парламента, великого Дома, который служит для всего мира примером разумного управления государством. В этой близости такая жестокая ирония, что в каждом стуке колес, в каждом выкрике торговца, продающего всякую дрянь, чудится насмешливый хохот доброго бога вашей буржуазии, а в коптящем свете каждого фонаря, в огоньках свечей, горящих в соборе, видится его усмешка – он ухмыляется, словно говоря: «А хорошо я создал этот мир. Ну разве мало в нем разнообразия? Чего-чего в этой каше не найдешь!»
На сей раз я шел за стариком неотступно, как тень, и так близко, что слышал его вздохи, – казалось, и ему была нестерпима атмосфера этих улиц. Но вдруг, неожиданно для меня, он завернул за угол, и мы очутились на самой тихой и самой красивой из всех знакомых мне улиц Лондона. Два ровных ряда небольших домов словно склонялись перед серевшей в лунном свете большой церковью в конце улицы, а она стояла над ними, как мать над детьми. На улице не было ни души; я не знал, где укрыться – здесь все было как на ладони. Но я рассчитывал, что старик меня не заметит, даже если я стану рядом, – в прошлые вечера я убедился, что он во время своего паломничества ничего не замечает вокруг. Право, когда он стоял здесь, опираясь на свой посох, он напоминал старую птицу пустыни, которая отдыхает, стоя на одной ноге у пересохшего источника, и сгорает от жажды. А я глядел на него с тем чувством, с каким наблюдаешь редкие явления жизни, – я думаю, это самое чувство побуждает художников творить.
Простояли мы так с ним недолго, и я увидел двоих людей, шедших сюда с конца улицы. Увидел и подумал: «Вот счастливые молодожены возвращаются в свое гнездышко». Этой веселой, цветущей на вид парочке, должно быть, не терпелось очутиться у себя дома. Из-под пальто у молодой женщины белела открытая шея, у ее мужа – ослепительная крахмальная сорочка. Знаю я их хорошо, эти молодые пары в больших городах, – они беззаботно и бездумно принимают все, что происходит в окружающем мире, – очень влюблены друг в друга, детей у них еще нет. Им, веселым и безобидным, еще только предстоит узнать жизнь, а это, поверьте, довольно печальная перспектива для девяти из десятка таких кроликов.
Молодые супруги подошли к дому соседнему с тем, у которого стоял я. И, так как старец мой уже спешил к ним обратиться, я немедленно сделал вид, будто звоню у входной двери. На этот раз мне повезло – я все слышал. Я видел к тому же лица всех троих – у меня выработалась привычка наблюдать людей так внимательно, словно у меня глаза и на затылке. Голубки очень спешили попасть в свое гнездо, и старик успел выговорить им вслед только одну фразу: «Сэр, позвольте мне отдохнуть под вашим кровом». Ох, месье, до этой минуты никогда я не видел такого выражения безнадежности и в то же время кроткого достоинства, как на истомленном усталостью лице старика, когда он произносил эти слова. В его лице светилось что-то такое, что не дано понять нам, людям «нормальным» и циничным, какими жизнь неизбежно делает всех, кто обитает в этом земном раю. Старик все еще держал палку на плече, и мне вдруг почудилось, что эта ноша сейчас раздавит, вгонит в землю его почти бесплотное тело. Не знаю, почему в моем мозгу возникло мрачное видение – проклятый посох вдруг показался мне тяжелым крестом, возложенным на плечи старца. Я с трудом удержался от желания повернуться и проверить, так ли это. В эту минуту молодой человек сказал громко: «Вот вам шиллинг, голубчик», но старик не двинулся с места и все повторял: «Сэр, позвольте мне отдохнуть под вашим кровом». Вы легко можете себе представить, что все мы онемели от удивления. Я продолжал дергать колокольчик у двери, но он не звонил, так как я принял для этого нужные меры. А молодые супруги таращили на старика круглые от удивления глаза с порога своей голубятни (очень мило убранной, как я успел заметить). Я угадывал, что они переживают душевную борьбу: в их возрасте люди еще впечатлительны. Жена стала что-то шептать мужу, но тот сказал вслух только три слова, обычную фразу ваших молодых джентльменов: «Очень сожалею, но…», затем протянул старику уже не шиллинг, а другую монету, размером с блюдечко. Но старец опять сказал: «Сэр, позвольте мне отдохнуть под вашим кровом». И тогда молодой человек, словно устыдившись, поспешно отдернул руку с подаянием и, буркнув «извините», захлопнул дверь.
Много вздохов я слышал на своем веку, они – хороший аккомпанемент к той песне, что мы, бедняки, поем всю жизнь. Но вздох, который вырвался у моего старца, – как это вам объяснить? – казалось, исходил от Нее, нашей верной спутницы, которая шагает рядом, крепко держа за руки мужчин и женщин, чтобы они ни на миг не совершили страшной ошибки – не вообразили себя Господом Богом. Да, месье, этот вздох, казалось, испустила сама Скорбь Человеческая, ночная птица, – не зная устали, летает она по всему миру, а люди вечно толкуют, что ей надо подрезать крылья.
Этот вздох придал мне решимости. Я тихонько подошел сзади к старику и сказал:
– Что вы тут делаете, дружище? Не могу ли я чем-нибудь быть вам полезен?
Но он не глядя на меня заговорил словно сам с собой:
– Нет, никогда я не найду человека, который пустит меня отдохнуть под его кровом. За мой грех я обречен скитаться вечно.
И в этот миг, месье, меня вдруг осенило! Я даже удивился, как это раньше не пришло мне в голову. Да он воображает себя Вечным Жидом!{28} Догадка казалась мне верной. Конечно, такова мания этого выжившего из ума бедного старика!
– Друг мой, знаете, что я вам скажу? Делая то, что вы делаете для людей, вы уже уподобились Христу в этом мире, полном тех, кто гонит его от своего порога!
Но он как будто не слышал моих слов. И, как только мы вернулись в наш «дворец», он стал опять тем кротким, самоотверженным стариком, который никогда не думал о себе.
За дымом сигареты я видел, как улыбка растянула красные губы Феррана под его длинным носом.
– Согласитесь, месье, что я прав. Если существует тот, кого прозвали Вечным Жидом, то, скитаясь столько веков, обивая пороги людей, гнавших его, он, несомненно, уже уподобился Христу. Да, да, видя, как рушится добродетель в мире, он, конечно, проникся самым глубоким милосердием, какое когда-либо знал этот мир. А все те господа, у кого он каждую ночь просит приюта, объясняют, куда ему идти и как жить, даже предлагают деньги, как это было на моих глазах. Но оказать ему доверие, пустить к себе в дом, как друга и брата, чужого человека, скитальца, жаждущего отдыха, – нет, этого они ни за что не сделают, так никогда не поступают добрые граждане христианских стран. И повторяю: мой старец – хоть голова у него и не в порядке, – вообразивший себя тем, кто некогда отказал в приюте Иисусу Христу и был проклят навеки, стал более подобен Христу, чем все, кого я встречал в этом мире, – почти все они сами поступают ничуть не лучше, чем когда-то поступил Вечный Странник, о котором рассказывает легенда. – Выпустив струйку дыма, Ферран добавил: – Не знаю, продолжает ли бедный старик, одержимый своей навязчивой идеей, обивать чужие пороги. Я на другое утро уехал и больше никогда не видел его.
Стоик
Перевод Г. Злобина и А. Ильф
Глава I
1
Гораций
- Aequam memento rebus in arduis
- Servare mentem[3]
Январским днем 1905 года в Ливерпуле комната правления Британской судовладельческой компании словно отдыхала после дневных трудов. На длинном столе в беспорядке стояли чернильницы, лежали перья, промокательная бумага, документы, оставленные шестью джентльменами, – покинутое поле сражения умов. А в председательском кресле во главе стола, закрыв глаза, неподвижный и внушительный как идол, сидел старый Сильванес Хейторп. Одна пухлая, слабая рука с дрожащими пальцами покоилась на подлокотнике кресла, седые волосы на большой голове серебрились в свете лампы под зеленым абажуром. Хейторп не спал: румяные щеки его то и дело надувались, и с толстых губ, прикрытых седыми усами, над кустиком седых волосков на раздвоенном подбородке, срывался не то вздох, не то ворчание. Квадратное, грузное туловище в коротком сюртуке, обшитом черной тесьмой, утопало в кресле, и оттого казалось, что у него нет шеи.
Войдя в затихшую комнату, молодой Гилберт Фарни, секретарь судовладельческой компании, быстро подошел к столу, собрал кое-какие бумаги и остановился, глядя на председателя. Фарни было лет тридцать пять, не больше, и волосы, борода, глаза, даже щеки были у него светлых, жизнерадостных тонов, но у носа и рта пролегли иронические складки. Ибо, по глубокому убеждению секретаря, он был компанией, а правление существовало только затем, чтобы умалять его роль. Пять дней в неделю по семь часов в день он думал, писал, плел нити дела, а эти приходили сюда раз в неделю на два-три часа и воображали, будто могут научить кого-нибудь чему-нибудь. Секретарь пристально смотрел на дремлющего в кресле седого розовощекого старика, но в усмешке его было меньше презрения, чем можно было ожидать. Что ни говори, а председатель – удивительный старикан! Энергичный и разумный человек не может не уважать его. Восемьдесят, подумать только! Почти разбитый параличом, по уши в долгах, он с молодости – по крайней мере так утверждали! – умел жить и вести дела, пока история с шахтой в Эквадоре не подкосила его, – Фарни тогда еще здесь не служил, но, разумеется, слышал о том случае. Старик приобрел шахту на риск (De l’audace, toujours de l’audace[4] – любил он говорить), половину суммы выложил наличными, на другую половину выдал векселя, но предприятие не окупилось и на руках у него осталось на 20 тысяч фунтов стерлингов обесцененных акций. Но он стойко перенес неудачу и не объявил себя банкротом. Неукротимый старикан и не хнычет, как остальные! Хотя молодой Фарни был секретарем, он не потерял еще способности привязываться к людям: в глазах у него читалось участие. Сегодня заседание правления было долгим и бурным: окончательно улаживали ту покупку у Пиллина. Удивительно, как председатель уломал их! И секретарь удовлетворенно подумал: «А ведь он не сумел бы этого сделать, если бы я не понял, что это действительно выгодная сделка!» Расширять дела компании – значит расширять собственное влияние. И все-таки идея купить четыре грузовых судна как раз в тот момент, когда сокращаются перевозки, может кое-кого испугать, и на общем собрании следует, разумеется, ожидать возражений. Ничего, обойдется! Они с председателем как-нибудь протолкнут это дело, непременно протолкнут.
Тут секретарь вдруг заметил, что старик смотрит на него. Только по выражению глаз, этих густо-синих родничков, словно сквозь круглые, весело поблескивающие оконца, можно было заметить, что в немощном теле председателя еще бурлили жизненные силы.
Откуда-то из глубины, через пласты плоти, донесся вздох, и старик спросил едва слышно:
– Они уже здесь, мистер Фарни?
– Да, сэр. Я просил их подождать в комнате, где оформляются сделки. Сказал, что вы сейчас выйдете к ним. Но я не намеревался будить вас.
– А я не спал. Помогите мне встать.
Дрожащими руками ухватившись за край стола, старик подтянулся и с помощью секретаря, который поддерживал его сзади, поднялся с кресла. Ростом он был пять футов десять дюймов{30}, а весил добрых девяносто килограмм – одна большая круглая голова его была тяжелее, чем иной младенец, – но он не выглядел тучным, был лишь очень плотно сбит. Закрыв глаза, он, казалось, пытался выдержать собственную тяжесть, а затем медленно, переваливаясь по-утиному, направился к двери. Секретарь смотрел на него и думал: «Ну и старик! Просто чудо, как он еще передвигается без посторонней помощи. И уйти в отставку не может: только на свое жалованье, говорят, живет!»
Председатель раскрыл дверь, обитую зеленым сукном, черепашьей походочкой пересек канцелярию – молоденькие клерки, оторвавшись от бумаг, перемигивались за его спиной – и вошел в комнату, где сидели восемь джентльменов. Семеро из них поднялись с места, один остался сидеть. Вместо приветствия старый Хейторп приподнял руку до уровня груди и, подойдя к креслу, тяжело опустился в него.
– Я вас слушаю, джентльмены.
Один из них встал снова.
– Мистер Хейторп, мы поручили мистеру Браунби изложить наше мнение. Мистер Браунби, прошу вас! – И сел на место.
Поднялся мистер Браунби, полный мужчина лет семидесяти, с небольшими седыми бакенбардами и спокойным, решительным лицом, какие можно встретить только в Англии, – в них отражается передаваемый из поколения в поколение, от отца к сыну дух деловитости. Когда смотришь на такие лица, кажется невероятным, что существуют сильные страсти и свободный полет мысли. Лица эти вызывают доверие и вместе с тем будят желание встать и выйти из комнаты.
Мистер Браунби поднялся и начал учтивым тоном:
– Мистер Хейторп, мы, собравшиеся здесь, представляем около четырнадцати тысяч фунтов стерлингов. Как вы, вероятно, припоминаете, когда мы имели удовольствие видеть вас в июле прошлого года, вы предсказывали более приемлемое состояние наших дел к Рождеству. Теперь у нас январь, время идет, и, смею вас заверить, никто из нас не становится моложе.
Возникшее где-то в глубинах тела старого Хейторпа ворчание докатилось до поверхности и облеклось в слова:
– Не знаю, как вы, а я чувствую себя юношей.
Восемь джентльменов не сводили с председателя глаз. Неужели он снова хочет отделаться от них шуткой? Мистер Браунби невозмутимо продолжал:
– Мы, безусловно, рады слышать это. Однако вернемся к сути дела. Мы полагаем, мистер Хейторп, что наилучшее для вас решение – и я убежден, что вы не сочтете его неразумным, – объявить себя банкротом. Мы ждали довольно долго и теперь хотим точно знать, на что можем рассчитывать. Ибо, говоря по совести, мы не видим никакой возможности улучшить положение. Скорее, даже опасаемся обратного.
– Думаете, что я скоро отправлюсь к праотцам?
Прямота, с какой он высказал затаенные их мысли, вызвала у мистера Браунби и его коллег нечто вроде химической реакции. Они закашляли, зашаркали ногами, опустили глаза, и лишь один из них, тот, который не встал при появлении председателя, стряпчий, по имени Вентнор, отрезал:
– Ну что ж, считайте, что так, если угодно.
В маленьких, глубоко посаженных глазках старого Хейторпа засветился огонек.
– Мой дед прожил до ста, отец – до девяноста шести, а ведь оба были порядочные распутники. Мне же пока только восемьдесят, джентльмены, я человек безупречного поведения, если сравнивать меня с ними.
– Мы тоже надеемся, что вы еще долго проживете, – отозвался мистер Браунби.
– Во всяком случае, дольше здесь, чем там.
Все молчали, пока старый Хейторп не заговорил снова:
– Вам отчисляют тысячу фунтов ежегодно из моего жалованья. Глупо резать курицу, которая несет золотые яйца. Я согласен выплачивать тысячу двести. Если же вы принудите меня к отставке и, значит, к банкротству, то не получите ни гроша. Вы это знаете.
Мистер Браунби откашлялся.
– Мы полагаем, что вы должны увеличить эту сумму по крайней мере до тысячи пятисот. Тогда мы могли бы, вероятно, подумать…
Хейторп покачал головой.
– Вряд ли можно согласиться с вашим утверждением, будто мы ничего не получим в случае банкротства. Мы предполагаем, что вы сильно преуменьшаете возможности. Тысяча пятьсот в год – это самое меньшее, на что мы можем пойти.
– Никогда не соглашусь, черт вас побери!
Снова пауза. Затем Вентнор, стряпчий, буркнул сердито:
– В таком случае мы знаем, что нам делать…
Мистер Браунби с нервной поспешностью перебил его:
– Значит, тысяча двести фунтов в год – это ваше… ваше последнее слово?
Старый Хейторп кивнул.
– Зайдите через месяц. Я посмотрю, что можно для вас сделать. Он закрыл глаза.
Шесть джентльменов окружили мистера Браунби, переговариваясь тихими голосами. Мистер Вентнор поглаживал ногу и сердито косился на старика, который не открывал глаз. Наконец мистер Браунби подошел к мистеру Вентнору, посовещался с ним, потом, прочистив горло, объявил:
– Сэр, мы обсудили ваше предложение и решили принять его в качестве временной меры. Мы явимся через месяц, как вы желаете. Надеемся, что к тому времени вы придете к более основательному решению, дабы избежать того, о чем мы все будем сожалеть, но что может оказаться печальной необходимостью.
Старый Хейторп кивнул. Восемь джентльменов взяли шляпы и один за другим вышли из комнаты; мистер Браунби галантно замыкал шествие.
Старик, задумавшись, сидел в кресле: он не мог встать без посторонней помощи. Итак, он обвел их вокруг пальца и получил месяц сроку, а через месяц снова проведет их. К тому времени будет улажено и дело Пиллина, и все то, что с ним связано. Трусливый тип этот Джо Пиллин! Старый Хейторп захихикал. Прошел ровно месяц с того вечера, как он приходил сюда. Слуга объявил: «Мистер Пиллин, сэр!» – и он проскользнул в дверь, точно тень.
Аккуратный, худой, как щепка, и желтый, как пергамент, руки словно птичьи когти, шея, закутанная в кашне, дрожащий голос:
– Здравствуй, Сильванес. Боюсь, что ты…
– Чувствую себя превосходно. Садись. Выпей портвейна.
– Что ты! Я не пью портвейн. Это яд для меня.
– Напрасно, он был бы тебе полезен.
– Знаю, ты это всегда говоришь. Но у тебя железный организм. А если бы я пил портвейн, курил сигары и сидел до часу ночи, то завтра был бы уже в могиле. Я уже не тот, каким был. Послушай, я пришел, чтобы узнать, не можешь ли ты помочь мне. Я становлюсь стар, нервничаю…
– Ты всегда был мокрой курицей, Джо.
– Ну что ж, у меня не твой характер. Так вот, я хочу продать свои суда и уйти на покой. Мне нужно отдохнуть. Фрахт{31} сильно снизился. Я вынужден думать о семье.
– Выкинь штуку: объяви себя банкротом. Это встряхнет тебя как нельзя лучше.
– Я говорю серьезно, Сильванес!
– Ты всегда серьезен, Джо.
Джо покашлял, затем неуверенно произнес:
– Одним словом… не купит ли ваша компания мои суда?
Пауза, огонек в глазах, клуб сигарного дыма.
– Стоит ли их покупать?
Он сказал это в шутку, но тут мелькнула неожиданная мысль: Розамунда и малыши! Вот она, возможность оградить их от нужды, когда он отойдет к праотцам! Но вслух он сказал:
– Очень нам нужны твои дрянные суденышки!
Протестующе взметнулась лапка с коготками.
– Это очень хорошие суда… И дают приличный доход. Если бы не мое подорванное здоровье… Будь я покрепче, и не подумал бы их продавать.
– Сколько ты хочешь за них?
Господи! Задаешь простой вопрос, а он так и подпрыгнул на месте. Нервен, как цесарка!
– Вот цифры за последние четыре года. Ты сам видишь, что я не могу взять за них меньше семидесяти тысяч.
Джо Пиллин облизывал пересохшие губы и посасывал таблетку, а окутанный сигарным дымом старый Хейторп медленно рассматривал цифры. Затем он сказал:
– Шестьдесят тысяч. И если я протолкну дело, ты сверх того выплачиваешь мне десять процентов. Решай.
– Дорогой Сильванес, но это почти… цинизм.
– Цена хорошая, без меня столько не получишь.
– Но… комиссионное вознаграждение! Если это выплывет наружу?
– Это уже моя забота. Подумай. Фрахт будет еще снижаться. Выпей портвейна.
– Нет, нет, благодарю тебя! Ни в коем случае. Так ты думаешь, что стоимость перевозок снизится?
– Убежден.
– Ну, мне пора идти. Право, не знаю, что делать. Это… это… Я должен подумать.
– Подумай хорошенько.
– Подумаю. До свидания. Понять не могу, как ты, в твои годы, сосешь эти отвратительные сигары и тянешь портвейн.
– Встретимся в могиле, Джо, – поговорим.
Какая жалкая улыбка у него! Нет чтобы засмеяться как следует! И, оставшись снова один, Хейторп задумался над осенившей его идеей.
Сильванес Хейторп, для того чтобы находиться в центре судоходства, двадцать лет прожил в Ливерпуле, но он был из восточного графства, из столь древнего рода, что предки его, по фамильным преданиям, сражались еще с норманнами. Каждое поколение этого рода жило почти вдвое дольше, чем менее цепкие люди. Ведя свое происхождение от древних датчан, мужчины в этой семье обладали, как правило, светло-каштановыми волосами, красными щеками, у них были круглые головы, крепкие зубы и слабые понятия о нравственности. Они делали все от них зависящее, чтобы увеличить население любого графства, где они селились, и их отпрыски обитали повсюду. Родившись в начале двадцатых годов девятнадцатого века, Сильванес Хейторп после нескольких лет учения, то и дело прерываемого разными эскападами в школе и колледже, обосновался наконец в простодушном Лондоне конца сороковых годов, где в ту пору задавали тон любители кларета и оперы, люди, получавшие восемь процентов годовых. Когда ему не было и тридцати, его сделали партнером в фирме, где он служил, и он беспечно, на всех парусах плыл по течению: танцовщицы, кларет, шампанское, карты, экипаж с ливрейным лакеем, путешествия. Словом, он обладал восхитительной, поистине викторианской способностью не думать ни о чем, кроме развлечений. Годы текли так приятно и насыщенно, ему стукнуло уже сорок, когда он пережил свое первое и сколько-нибудь серьезное любовное увлечение, – он тщательно скрывал эту щекотливую, ставившую его в неловкое положение связь с дочерью его собственного клерка. Через три года она умерла, оставив ему незаконнорожденного сына, и ее смерть причинила ему самое сильное, пожалуй, единственное горе в жизни. Пять лет спустя он женился. Зачем? Одному богу известно, – как он любил говорить. Его жена была холодная, черствая светская дама с большими связями; она подарила ему двух законных детей, мальчика и девочку, и с каждым годом становилась все более черствой и суетной, все менее красивой. После переезда в Ливерпуль, который они предприняли, когда ему было шестьдесят, а жене – сорок два, она чуть не умерла от огорчения, но еще тянула лет двенадцать, находя утешение в бридже и в своем презрении к Ливерпулю. А потом Хейторп без особых сожалений проводил ее к месту вечного успокоения. Он никогда не любил ее, да и не питал никаких нежных чувств к детям от нее: они были, по его мнению, бесцветными и надоедливыми существами, и многое в них его удивляло. Сына, Эрнста, служившего в морском министерстве, он считал трусом и тупицей. Его дочь, Адела, из которой получилась отличная домоправительница, обожала умные разговоры и общество «прирученных» мужчин и не упускала случая поставить на вид отцу, что он неисправимый язычник. Они виделись редко – только когда это было необходимо. Адела была обеспечена: пятнадцать лет назад, задолго до кризиса в делах – не совсем неожиданного – он переписал на ее мать часть имущества. Совсем иначе относился он к своему внебрачному сыну. Мальчика, который носил фамилию матери – Ларн, после ее смерти отправили на воспитание к родственникам в Ирландию. В Дублине, когда настал срок, он получил право адвокатской практики, женился совсем молодым на девушке, в жилах которой текла смесь ирландской и корнуэльской крови, и вскорости, обойдясь старику Хейторпу в кругленькую сумму, умер в нужде, оставив на руках тридцатилетней красавицы Розамунды девочку восьми лет и пятилетнего мальчугана. Через полгода вдова приехала из Дублина – добиться, чтобы старик взял их под свою опеку. Эта удивительно хорошенькая, как распустившаяся роза, женщина с зелено-карими глазами появилась в одно прекрасное утро в конторе компании – свекор не сообщал ей своего домашнего адреса, – ведя за руки своих детей. С тех пор Хейторп был вынужден так или иначе содержать их. Он навещал их в небольшом домике на окраине Ливерпуля, где они поселились, но не приглашал к себе, в Сефтон-парк: дом этот фактически принадлежал его дочери, и ни она, ни его друзья не знали о существовании этой второй семьи.
Розамунда Ларн была из тех неунывающих дам, которые перебиваются случайными заработками, пописывая рассказы, страдающие длиннотами и многословием. При самых мрачных обстоятельствах она умела сохранять жизнерадостность, граничащую с неприличием, и это забавляло старого циника Хейторпа. Что до Филлис и Джока, он сильно привязался к своим резвым, как жеребята, внучатам. Возможность одним ловким ходом обеспечить их суммой в шесть тысяч фунтов стерлингов казалась ему просто манной небесной. Обстоятельства складывались так, что если он отдаст концы – а это могло, разумеется, случиться в любой момент, – то они не получат ни гроша. А ведь после него останется в худшем случае тысяч пятнадцать. Сейчас он выдавал им триста фунтов в год из своего жалованья, но мертвые директора, увы, не получают жалованья. Шесть тысяч фунтов стерлингов, помещенные так, чтобы мамаша не могла растранжирить их, при четырех с половиной процентах годовых будут приносить им двести пятьдесят фунтов в год – это лучше, чем ничего. Чем дольше он думал, тем больше нравилось ему это дельце. Только бы тот слабонервный тип Джо Пиллин не струсил в последний миг, когда он уже так настроился.
Через четыре дня «слабонервный тип» снова появился вечером в доме в Сефтон-парк.
– Сильванес, я подумал. Мне не подходят твои условия.
– Еще бы! И все-таки ты согласишься.
– Почему я должен жертвовать собой? Пятьдесят четыре тысячи за четыре судна – это, знаешь, серьезно уменьшит мои доходы.
– Зато гарантирует их, дорогой.
– Так-то оно так, но, понимаешь, я не могу участвовать в незаконной сделке. Если это выплывет наружу, что будет с моим именем и вообще…
– Это не выплывет.
– Ты вот уверяешь, а…
– Единственное, что от тебя требуется, – сделать дарственную запись на третьих лиц, которых я тебе назову. Сам я не возьму ни пенса. Пусть твой стряпчий подготовит бумаги, сделай его доверенным лицом. А ты подпишешь документы, когда сделка будет заключена. Я доверяю тебе, Джо. Какие из твоих акций дают четыре с половиной процента?
– Мидлэнд…
– Отлично. Не продавай их.
– Хорошо, но кто эти люди?
– Женщина и ее дети. Я хочу оказать им услугу. («Как вытянулось лицо у этого типа!») Боишься связываться с женщиной, Джо?
– Тебе смешно… А я в самом деле боюсь связываться с чужими женщинами. Нет, не нравится мне все это дело, решительно не нравится, Я человек иных правил и прожил жизнь не так, как ты.
– Тебе повезло, иначе ты давно бы сошел в могилу. Скажи своему стряпчему, что это твоя старая пассия, хитрец!
– Ну вот! А что, если меня начнут шантажировать?
– Пусть он держит язык за зубами и переводит деньги на них каждые три месяца. Они решат, что благодетель – я, а ведь так оно и есть на самом деле.
– Нет, Сильванес, не нравится мне это, не нравится.
– Тогда забудь о нашем разговоре, и дело с концом. Возьми сигару!
– Ты же знаешь, я не курю… А нет какого-нибудь иного способа?
– Есть. Продай в Лондоне акции, вырученную сумму помести в банк, а после принеси мне банкнотами шесть тысяч. Они будут у меня до общего собрания. Если дело не выгорит, я верну их тебе.
– Ну нет, это мне еще меньше по душе.
– Не доверяешь?
– Ну что ты, Сильванес! Просто все это – обход закона.
– Нет такого закона, который запрещал бы человеку распоряжаться собственными деньгами. Мои дела тебя не касаются. И запомни: я действую совершенно бескорыстно, мне не перепадет ни полпенни. Ты просто помогаешь вдове и сиротам – как раз в твоем духе!
– Удивительный ты человек, Сильванес. Ты, кажется, вообще не способен принимать что-либо всерьез.
– Принимать все всерьез – рано в могилу лечь!
Оставшись один после второго разговора, Хейторп подумал: «Он клюнет на эту удочку».
Джо и в самом деле клюнул. Дарственная запись была оформлена и ожидала подписи. Сегодня правление решило произвести покупку, оставалось добиться одобрения общего собрания акционеров. Только бы ему разделаться с этим и обеспечить внуков, и плевать он тогда хотел на лицемерных сутяг, мистера Браунби и компанию! «Мы… надеемся, что вы еще долго проживете»! Как будто их интересует что-либо, кроме его денег, точнее, их денег. Он встрепенулся, поняв, как долго просидел в задумчивости, ухватился за подлокотники кресла и, пытаясь встать, нагнулся вперед; лицо и шея у него побагровели. А доктор запретил ему делать это во избежание удара – как и сотни других вещей! Чепуха! Где Фарни или кто-нибудь из тех молодчиков, почему никто не поможет ему? Позвать – значит уронить свое достоинство. Но неужели сидеть тут всю ночь? Трижды он пытался встать и после каждой попытки подолгу сидел неподвижно, красный и выбившийся из сил. В четвертый раз ему удалось подняться, и он медленно направился к канцелярии. Проходя комнату, он остановился и сказал едва слышно:
– Молодые люди, вы забыли обо мне.
– Вы просили, чтобы вас не беспокоили, сэр, – так нам сказал мистер Фарни.
– Очень любезно с его стороны. Подайте мне пальто и шляпу.
– Слушаюсь, сэр.
– Благодарю вас. Который час?
– Ровно шесть, сэр.
– Попросите мистера Фарни прийти ко мне завтра в полдень насчет моей речи на общем собрании.
– Непременно, сэр.
– Доброй ночи.
– Доброй ночи, сэр.
Своей черепашьей походочкой старик прошел между стульями к двери, неслышно открыл ее и исчез.
Клерк, закрывший за ним дверь, произнес:
– Совсем немощным стал наш председатель! Еле ноги волочит.
Другой отозвался:
– Чепуха! Этот старик из крепких. Он и умирая будет драться.
2
Выйдя на улицу, Сильванес Хейторп направился к перекрестку, где всегда садился на трамвай, идущий в Сефтон-парк. На переполненной улице царило деловое оживление, характерное для города, где встречаются Лондон, Нью-Йорк и Дублин, где люди ловят и упускают свои возможности. Старому Хейторпу нужно было перейти на противоположную сторону улицы, и он бесстрашно тронулся вперед, не обращая внимания на уличное движение. Он тащился медленно, как улитка, и всем своим невозмутимо-величественным видом будто говорил: «Попробуйте сшибить, я все равно не стану торопиться, будьте вы неладны». Раз десять на дню какой-нибудь истинный англичанин, соединяющий в себе флегматичность со склонностью брать людей под свою защиту, спасал ему жизнь. Трамвайные кондукторы на этой линии давно привыкли к нему и всякий раз, когда он дрожащими руками цеплялся за поручни и ремни, подхватывали его под мышки и, точно мешок с углем, втаскивали в вагон.
– Все в порядке, сэр?
– Да, благодарю вас.
Он проходил в вагон, и там ему неизменно уступали место – из любезности или из опасения, что он свалится прямо на колени к кому-нибудь. Он сидел неподвижно, плотно закрыв глаза. Видя его румяное лицо, кустик седых волос на квадратном, гладко выбритом раздвоенном подбородке, огромный котелок с высокой тульей, который казался слишком тесным для такой головы с шапкой густых волос, его можно было принять за идола, выкопанного откуда-то и выставленного напоказ в слишком узком одеянии.
Один из тех особенных голосов, какими говорят молодые люди из закрытых школ или служащие на бирже, где беспрерывно что-то покупается и продается, сказал у него над ухом:
– Добрый вечер, мистер Хейторп!
Старый Хейторп открыл глаза. А, это тот прилизанный молокосос, чадо Джо Пиллина! Только поглядите на этого круглоглазого и круглолицего щенка: маленькие усики, меховое пальто, гетры, бриллиантовая булавка в галстуке.
– Как отец? – спросил он.
– Спасибо, неважно себя чувствует. Все беспокоится насчет судов, А у вас, наверно, нет еще для него новостей?
Старый Хейторп кивнул. Молодой человек всегда вызывал в нем чувство отвращения, ибо воплощал в его глазах самодовольную посредственность нового поколения. Он был из тех скроенных на один манер чистюль, которые трижды примеряются, прежде чем взяться за что-нибудь, ничтожеств, не обладающих ни умом, ни энергией, ни даже пороками, и Хейторпу не хотелось удовлетворять любопытство этого молокососа.
– Зайдем ко мне, – сказал он. – Я напишу ему записку.
– Спасибо. Очень хотелось бы подбодрить старика.
«Старика»! Нахальный ублюдок! Закрыв глаза, старый Хейторп сидел неподвижно, пока трамвай, петляя, тащился в гору. Он размышлял.
Чего только он не переделал, когда ему было столько же, как этому щенку, – лет двадцать восемь, наверное, или около того! Взбирался на Везувий, правил четверкой лошадей, проигрался до нитки на скачках в Дерби и вернул все до последнего пенни в Оуксе{32}; знал всех знаменитых тогда танцовщиц и оперных певиц; в Дьеппе дрался на дуэли с одним янки, который на редкость противным, гнусавым голосом заявил, что старушка Англия больше ни на что не способна, и ранил его в руку; был уже членом правления судовладельческой компании; мог перепить полдюжины завзятых выпивох в Лондоне; чуть не свернул себе шею на скачках с препятствиями; прострелил грабителю ногу; едва не утонул, прыгнув в воду на пари; стрелял бекасов в Челси; вызывался в суд за свои грехи, мог смутить самого Чифта; путешествовал с испанкой. Этот же щенок успел, быть может, только в таких путешествиях и тем не менее воображает себя светским львом…
Кондуктор дотронулся до его рукава:
– Вам выходить, сэр.
– Благодарю.
Он сошел с подножки и двинулся в синеющих сумерках к воротам дома своей дочери. Боб Пиллин шагал рядом и думал: «Бедный старикан, еле ноги волочит». А вслух сказал:
– Мне кажется, вам лучше брать извозчика, сэр. Мой старик сразу свалился бы, прогуляйся он в такой вечер!
Сквозь туман прозвучал ответ:
– Твой отец всегда был дохлятиной.
Боб Пиллин рассмеялся тем сальным смешком, который нередко слышишь от определенного типа людей, и старый Хейторп подумал: «Смеется над отцом, попугай!»
Они подошли к подъезду. Стройная, темноволосая женщина с тонким, правильным лицом расставляла в холле цветы. Она обернулась и сказала:
– Вам, право же, не следовало бы задерживаться так поздно, папа. Это вредно в такое время года. Кто это? А-а, мистер Пиллин! Здравствуйте. Вы уже пили чай? Может быть, пройдете в гостиную или хотите поговорить с папой?
– Благодарю! Ваш отец…
Хейторп перешел холл, не обращая ни малейшего внимания на дочь. Боб Пиллин подумал: «Клянусь, старик и в самом деле чудит»; потом сказал на ходу: «Премного благодарен! Мистер Хейторп хочет кое-что передать моему отцу» – и последовал за стариком. Мисс Хейторп была совсем не в его вкусе, он даже побаивался этой худощавой женщины, у которой был такой вид, словно она никому никогда не позволит расстегнуть свой корсаж. Говорили, что она очень набожная и все такое.
Оказавшись в своем святилище, старый Хейторп направился к письменному столу, спеша, по-видимому, сесть и отдохнуть.
– Вам помочь, сэр?
Тот покачал головой, и Боб Пиллин, остановившись у камина, стал наблюдать за Хейторпом. Старикан, видно, не любит зависеть от других. И как только он садится в такое кресло! Когда доходишь до такого состояния, лучше уж загнуться сразу и уступить место молодым. И как это в его компании терпят этакое ископаемое в качестве председателя – чудеса! Тут ископаемое заворчало и проговорило почти неслышным голосом:
– Наверное, ждешь не дождешься возможности прибрать к рукам отцовские дела.
У Боба Пиллина отвисла челюсть.
Старик продолжал:
– Куча монет и никакой ответственности! Посоветуй ему от моего имени пить портвейн. Лет на пять дольше протянет.
Боб Пиллин ответил только смешком на этот неожиданный выпад, так как в кабинет вошел слуга.
– Миссис Ларн, сэр! Вы примете ее?
Молодому человеку показалось, что, услышав это имя, старик попытался встать. Но он только кивнул и протянул ему записку. Боб Пиллин взял записку – при этом ему почудилось, что старик пробормотал что-то вроде: «Ну, теперь держись!» – и пошел к двери. Мимо него, словно согревая воздух вокруг, проскользнула стройная женская фигура в меховом пальто. Лишь в холле он спохватился, что забыл в кабинете шляпу.
У камина на медвежьей шкуре стояла молоденькая, хорошенькая девушка и смотрела на него круглыми, наивными глазами. «Ну и хорошо! – мелькнуло у него в голове. – Я уж не стану беспокоить их из-за шляпы». Потом, приблизившись к камину, он сказал:
– Сегодня здорово холодно, правда?
Девушка улыбнулась.
– Да, очень.
Он заметил, что у нее пышные русые волосы, короткий прямой нос, большие серо-синие глаза, веселый, открытый взгляд; на груди был приколот букет фиалок.
– Мм… – начал он, – я оставил там свою шляпу.
– Забавно!
При звуке ее негромкого чистого смеха что-то шевельнулось вдруг в Бобе Пиллине.
– Вы хорошо знаете этот дом?
Она покачала головой.
– Чудесный дом, правда?
Боб Пиллин, который этого не находил, ответил неопределенно:
– Вполне о’кей.
Девушка откинула голову и снова рассмеялась.
– «О’кей»? Что это такое?
Боб Пиллин увидел ее белую округлую шею и подумал: «Какая она прелесть!» Потом, набравшись смелости, сказал:
– Моя фамилия Пиллин. А ваша – Ларн, не так ли? Вы родственница мистеру Хейторпу?
– Он наш опекун. Славный старик, правда?
Боб Пиллин вспомнил, как старик едва слышно пробормотал что-то вроде: «Ну, теперь держись!» – и уклончиво ответил:
– Ну, вы-то его лучше знаете.
– Разве вы не внук ему и не родственник?
Боб Пиллин не пришел в ужас от этого предположения.
– Да нет, мой отец и он – старые знакомые. Вот и все.
– А ваш папа такой же, как он?
– Н-не совсем…
– Жалко! Если бы они были вроде двойников – вот было бы забавно!
Боб Пиллин подумал: «Ого, у нее острый язычок! Как ее зовут?» Потом спросил:
– Как ваши крестные нарекли вас?..
Девушка снова рассмеялась, – казалось, все вызывало у нее смех.
– Филлис!
Может быть, сказать: «Вот имя, которое я люблю»? Нет, лучше не надо! А может, все-таки стоит? Если упустить момент, то никогда уж не встретить ее! Он сказал:
– Я живу в доме на краю парка, в красном таком, знаете? А вы где?
– Я далеко, Миллисент Виллас, двадцать три. Я ненавижу наш убогий домишко. Но мы там очень весело живем.
– Кто это «мы»?
– Ну, мама, я и Джок. Ужасный мальчишка! Вы даже представить себе не можете. И волосы у него почти рыжие. Когда состарится, он, наверное, будет таким же, как дедушка Хейторп. Нет, Джок просто невозможен!
Боб Пиллин пробормотал:
– Интересно было бы познакомиться с ним.
– Правда? Я спрошу у мамы, не разрешит ли она. Но вы сами не обрадуетесь. Он вечно вспыхивает, как фейерверк.
Она откинула голову, и у Боба Пиллина снова поплыло все перед глазами. Взяв себя в руки, он спросил, растягивая слова:
– Разве вы не пойдете повидаться со своим опекуном?
– Нет, у мамы к нему секретный разговор. Мы здесь в первый раз. Чудак он, правда?
– Чу-дак?
– Ну да! Но он очень хорошо ко мне относится. Джок называет его последним стоиком.
Из кабинета старого Хейторпа крикнули:
– Филлис, поди сюда!
Этот голос принадлежал, несомненно, женщине с красивым ртом, у которой нижняя губа чуть-чуть прикрывала верхнюю; в нем была и теплота, и живость, ласкающая слух, и что-то неискреннее.
Девушка бросила Пиллину через плечо смеющийся взгляд и скрылась в комнате.
Боб Пиллин прислонился спиной к камину, уставив круглые щенячьи глаза на то место, где только что стояла девушка. С ним происходило что-то непонятное. Поездки с дамой сердца, возможность которых допускал старый Хейторп, утоляли лишь чувственность этого молодого человека; они прекратились в Брайтоне и Скарборо и были лишены малейшего намека на любовь. Рассчитанная до мелочей карьера и «гигиеничный» образ жизни избавляли от беспокойства и его самого и его отца. А сейчас у него застучало в висках и что-то большее, нежели просто восхищение, стеснило ему горло как раз над высоким стоячим воротничком – то были первые признаки рыцарской влюбленности! Но светский человек нелегко поддается нахлынувшим чувствам, и кто знает, окажись под рукой шляпа, не поспешил ли бы он вон из этого дома, бормоча себе под нос: «Ну нет, дорогой, Миллисент Виллас вряд ли подойдет тебе, если у тебя серьезные намерения». А то кругленькое, смеющееся личико, блестящая прядка на лбу и широко раскрытые серые глаза как-то не вызывали намерений иного рода: невинная юность неотразимо действует на самых трезвых молодых людей. Охваченный каким-то смятением, Пиллин думал: «Удобно ли, осмелюсь ли предложить проводить их до трамвая? А может, лучше сбегать нанять автомобиль и отправить их домой? Нет, они могут уйти тем временем! Надо ждать здесь! Боже, как она смеется! Не личико, а заглядение: цветом точно клубника со сливками, волосы словно сено и все такое! Миллисент Виллас…» И он торопливо записал адрес на манжете.
Дверь растворилась, и он услышал тот теплый переливчатый голос: «Пойдем, Филлис!» – потом девичий голосок: «Хорошо, иду!» – и ее звонкий, веселый смех. Он быстро пошел к входной двери, в первый раз в жизни испытывая подлинный трепет. Он проводит их до трамвая без шляпы – это еще более по-рыцарски! Но тут же он услышал:
– Молодой человек, у меня ваша шляпа!
А затем раздался голос ее матери, живой, притворно возмущенный:
– Филлис, как тебе не стыдно! Вы когда-нибудь видели такую скверную девчонку, мистер…
– Пиллин, мама.
Потом – он сам не знал, как это произошло, – он шагал между ними к трамваю, защищенный от январского холода смехом и ароматом мехов и фиалок. Это было похоже на сказку из «Тысячи и одной ночи» или что-нибудь в этом роде, какое-то опьянение, когда уверяешь, что тебе по пути, хотя потом всю дорогу назад придется снова трястись на этом дурацком трамвае. Никогда в жизни он не чувствовал такого воодушевления, как сейчас, когда восседал на скамье между ними, забыв и о записке в кармане и о своем желании подбодрить отца. На конечной остановке они вышли. Мурлыкающее приглашение зайти как-нибудь, отчетливое: «Джок будет рад познакомиться с вами!» – низкий грудной смех – «Ах ты, скверная девчонка!» И вдруг хитрая мысль молнией осенила его, когда он снимал шляпу.
– Большущее спасибо, зайду непременно! – Он снова вскочил на подножку трамвая, деликатно намекая этим, как безмерно он был галантен.
– Вы же сказали, что вам по пути! Ну зачем вы так?..
Слова ее были точно музыка, а раскрытые от удивления глаза казались самыми прекрасными на земле. Миссис Ларн снова засмеялась низким, теплым, но и каким-то рассеянным смехом, а девушка помахала ему рукой на прощание. Он глубоко вздохнул и пришел в себя только в клубе, за бутылкой шампанского. Пойти домой? Ну нет! Ему хотелось пить и мечтать. Ничего, старик узнает новости завтра.
3
Эти слова – «Сэр, вас хочет видеть миссис Ларн!» – могли бы смутить человека с более слабыми нервами. Что привело ее? Она же знает, что ей не следует приходить сюда. Старый Хейторп с циничным любопытством наблюдал, как вошла его сноха. Каким взглядом она окинула этого щенка, когда проходила мимо! Он отдавал должное вдове своего сына и спрятал улыбку между усами. Она взяла его руку, поцеловала, прижала к своей великолепной груди и проговорила:
– Вот видите, наконец-то я здесь! Вы не удивлены?
Старый Хейторп покачал головой.
– Мне, право, очень нужно было повидать вас. Вы не заходили к нам целую вечность. Да еще эта ненастная погода! Как вы себя чувствуете, дорогой опекун?
– Как нельзя лучше. – И, посмотрев ей прямо в серо-зеленые глаза, добавил: – У меня нет для вас ни пенса.
Она и глазом не моргнула, только беспечно рассмеялась.
– Неужели вы думаете, что я пришла за этим? Хотя я в самом деле сильно на мели, дедушка!
– Как всегда.
– Я вам все расскажу, дорогой, мне станет легче. Если бы вы знали, как туго мне сейчас приходится! – Стараясь принять печальный вид, она опустилась в низкое кресло, распространяя сильный аромат фиалок. – Мы в ужаснейшем положении. В любую минуту имущество наше может пойти с молотка, а мы – оказаться на улице. У меня не хватает духу открыться детям – они так счастливы, бедняжки. Джока придется взять из школы, а Филлис прекратит уроки музыки и танцев. Полнейший кризис. И все из-за синдиката «Мидлэнд». Я рассчитывала получить по крайней мере двести фунтов за новый рассказ, а они его не взяли. – Крошечным платочком она смахнула слезинку с глаза. – Это очень обидно, дедушка. Я просто мозги иссушила, работая над рассказом.
Старый Хейторп проворчал что-то похожее на «вздор!».
Испустив глубокий вздох, свидетельствующий лишь о большом объеме ее легких, миссис Ларн продолжала:
– Не могли бы вы дать мне хотя бы сто фунтов?
– Ни шиллинга.
Она снова вздохнула, глаза ее скользнули по комнате, и она проговорила тихим голосом:
– Вы же отец моего дорогого Филипа. Я никогда на это не намекала, но вы же отец, поймите. Он был так похож на вас, и Джок тоже.
Ни один мускул не дрогнул на лице старого Хейторпа. Легче было добиться ответа от языческого идола, которому приносят цветы, песни, жертвы: «Мой дорогой Филип»! Провалиться мне на этом месте, если она сама не заездила его! И какого дьявола она ворошит старое?» Взгляд миссис Ларн все еще блуждал по комнате.
– Какой чудесный дом! Все-таки вы должны помочь мне, дедушка. Представьте, а если ваших внуков выкинут на улицу!
Старик усмехнулся. Он вовсе не собирался отречься от родства – это она так думает, а не он. Но он и не допустит, чтобы на него наседали.
– А это может случиться. Неужели вы останетесь равнодушным? Ну пожалуйста, спасите меня еще раз. Ведь вы, наверное, можете что-нибудь для них сделать.
Он шумно вздохнул.
– Надо подождать. Сейчас не могу дать ни пенса. Я сам беден как церковная крыса.
– Не может быть, дедушка!
– Да-да, так оно есть.
Миссис Ларн снова испустила энергичный вздох. Она, разумеется, не верила ему.
– Ну что ж! – проговорила она. – Вас будет мучить совесть, когда мы все вместе придем как-нибудь вечером и станем петь под вашими окнами, вымаливая милостыню. Да, кстати, вы не хотите повидать Филлис? Она в холле. Такая хорошенькая растет. Ну хотя бы пятьдесят фунтов, дедушка, милый!
– У меня ничего нет.
Миссис Ларн в отчаянии воздела руки. – Вы в этом раскаетесь. Я вишу на волоске. – Она глубоко вздохнула, и от нее снова повеяло фиалками. Потом, поднявшись, она подошла к двери и позвала:
– Филлис!
Когда девушка вошла, у старого Хейторпа впервые за много лет дрогнуло сердце. Ее появление было точно весенний день в январе – какая противоположность этой надушенной кукле, ее матери! Как приятно ощущать прикосновение ее губ к своему лбу, слышать ее звонкий голос, видеть грациозные движения и знать, что этой девочкой он может гордиться! Она хорошей породы, как и тот бездельник, ее братец Джок (не в пример тем внукам, которые родятся у этой святоши, его законной дочери, если найдется идиот, который женится на ней, или у тупицы Эрнеста).
После их ухода он с особым удовольствием думал о шести тысячах фунтов, которые перепадут им от сделки с Джо Пиллином. На общем собрании ему придется расписать выгоду этой покупки. Следует ожидать серьезных возражений: ведь грузооборот падает. Нерешительный народ пошел, все какие-то вялые, осторожные. А эти типы в правлении – как они пытались отвертеться от ответственности! Пришлось уговаривать их поодиночке. Чертовски трудно протолкнуть это дело! А оно стоящее: если умело взяться, суда будут приносить доход, и немалый.
Старик спал, когда пришел камердинер, чтобы одеть его к обеду. Слуга восхищался им, насколько можно восхищаться человеком, который не способен без посторонней помощи надеть штаны. Он не раз говорил горничной Молли: «Хозяин-то был, видать, большой любитель женского пола, такого нужно было поискать. Он и сейчас заглядывается на тебя, это уж точно!» А горничная, хорошенькая ирландка, отвечала: «Ну и пусть себе на здоровье, если ему это доставляет удовольствие. Лучше пусть так на меня смотрят, чем сверлят глазами, как наша хозяйка».
За обедом старый Хейторп всегда сидел на одном конце большого стола розового дерева, а его дочь – на другом. Это было самое важное событие дня. Заткнув салфетку за верхний вырез жилета, старик со страстью принимался за еду. Он нисколько не утратил вкуса к пище, и желудок его работал отлично. Он и сейчас мог есть за двоих и пить больше, чем выпивает обычно один человек. Во время обеда он избегал разговора и наслаждался каждым куском и глотком. Святоша не могла сказать ничего такого, что заинтересовало бы его, и он тоже – ничего, что было бы интересно ей. Она испытывала ужас перед «застольными радостями», как она выражалась, перед вожделениями здоровой плоти. Он знал, что она незаметно старается ограничить его рацион. Черта с два он допустит это! Какие еще удовольствия остались в его возрасте? Посмотрим, какова она будет, когда ей стукнет восемьдесят. Впрочем, она не доживет: слишком тощая и добродетельная! Однако сегодня, когда подали куропатку, Адела заговорила:
– Кто это к вам приходил, папа?
Уже разнюхала? Уставив на нее маленькие синие глаза, он пробурчал с набитым ртом:
– Дамы!
– Это я видела. Но кто они?
Он испытывал сильное искушение сказать: «Члены одной из моих внебрачных семей». В действительности то были самые лучшие члены его единственной внебрачной семьи, но желание преувеличить брало верх. Он, однако, сдержался и продолжал есть, и лишь побагровевшие щеки выдавали его скрытое раздражение. Он смотрел в ее серые, ясные и холодные глаза и знал, что она думает: «Он слишком много ест».
– Мне жаль, папа, что вы не считаете нужным посвящать меня в свои дела, – сказала она. – И вам не следует пить рейнвейн.
Старый Хейторп взял высокий зеленый бокал, осушил его до дна и, сдерживая гнев, продолжал разделываться с куропаткой.
Адела поджала губы, выпила глоток воды и продолжала:
– Я знаю, что их фамилия – Ларн, но это ничего не говорит мне. И, может быть, это к лучшему?
Сдерживая гнев, старик сказал с усмешкой:
– Они – моя сноха и внучка.
– Как, разве Эрнест женат? Нет, ты шутишь!
Старик рассмеялся и покачал головой.
– Уж не хотите ли вы сказать, папа, что вы были женаты до того, как женились на моей маме!
– Нет.
Какую рожу она скорчила!
– Значит, это был не брак… – сказала дочь с презрением. – И они сидят у вас на шее. Не удивительно, что вы вечно без денег. И много у вас этой родни?
Усилием воли старик снова сдержал гнев, но на лбу и шее угрожающе вздулись вены. Если бы он сейчас заговорил, то наверняка бы задохнулся. Он перестал есть, положил руки на стол и попытался встать. Ему не удалось это, и, осев в кресло, он уставился на неподвижную, чопорную фигуру дочери.
– Не делай глупостей, папа, и не устраивай сцен в присутствии Меллера. Доедай обед.
Он молчал. Он не останется здесь, раз его оскорбляют и пытаются им командовать! Никогда еще не ощущал он так остро свою беспомощность. Это открытие поразило его. Колода, которой приходится терпеть что угодно! Колода! И, решив подождать, пока вернется слуга, он взял в руку вилку.
Снова раздался ханжеский голос дочери:
– Вы, папа, вероятно, не догадываетесь, какой это удар для меня. Не знаю, что подумает Эрнест…
– Эрнест может проваливать ко всем чертям!
– Только без ругани, папа, прошу вас.
Гнев старого Хейторпа прорвался. Он зарычал. Как он мог все эти годы жить в одном доме с этой женщиной и есть с ней за одним столом!
Вернулся слуга, и старый Хейторп, отложив вилку, приказал:
– Помогите мне встать!
Тот медлил как громом пораженный, держа поднос со сладким. Встать из-за стола не закончив обед – это неслыханно!
– Помогите мне встать!
– Меллер, мистеру Хейторпу нехорошо. Поддержите его с другой стороны.
Старик стряхнул руку дочери.
– Я вполне здоров. Помогите мне встать. Впредь буду обедать у себя в комнате.
Слуга помог ему встать на ноги, и он медленно вышел, но, оказавшись в своем святилище, не сел, подавленный острым сознанием собственной беспомощности. Он стоял, ухватившись за стол, немного покачиваясь, ожидая, пока слуга закончит подавать обед и принесет портвейн.
– Вы хотите сесть, сэр?
Проклятие, это он и сам как-нибудь способен сделать! Надо немедленно подумать, как укрепить свои позиции против этой женщины.
– Пошлите мне Молли!
– Хорошо, сэр.
Слуга поставил бутылку на стол и вышел.
Старый Хейторп наполнил бокал, выпил, снова наполнил. Потом взял из ящика сигару и раскурил ее. Вошла горничная, сероглазая, темноволосая девица, и остановилась перед ним, сложив руки, наклонив голову немного набок и чуть-чуть приоткрыв рот. Старик спросил:
– Вы – человек?
– Полагаю, что так, сэр.
– Так вот, я хочу попросить вас кое о чем именно как человека, а не как служанку, понимаете?
– Нет, сэр, но я буду рада сделать все, что нужно.
– Тогда заглядывайте сюда иногда – посмотреть, не нужно ли мне чего-нибудь. Меллер часто уходит. Не надо ни о чем спрашивать – просто загляните, и все.
– Хорошо, сэр, непременно. Мне будет только приятно.
Он кивнул и, когда девушка вышла, умиротворенно опустился в кресло. Недурна! Приятно видеть хорошенькую мордашку – не то что бледную, строгую физиономию, как у Аделы. В нем опять поднялась волна раздражения. Значит, она делает ставку на его беспомощность, уже сделала эту ставку? Но он покажет ей, что у старого коня есть еще силы! И эта жертва – нетронутое суфле, и грибы, и мятная конфета, которой он обычно заключал обед, – словно бы освятила его решимость. Они все думают, что он старая развалина без гроша в кармане! Вот сегодня днем он видел, как двое из правления переглядывались и пожимали плечами, как бы говоря: «Только посмотрите на него!» Молодой Фарни жалеет его. Жалеет, ишь ты! А неотесанный грубиян стряпчий – как он кривил рот на собрании кредиторов, словно хотел сказать: «Что с него взять – одной ногой в могиле!» Сколько раз он замечал, как клерки прячут ухмылки, а тот щенок Боб Пиллин, в тесном, как собачий ошейник, воротничке, надменно щурится. Надушенная кукла Розамунда боится, как бы он не загнулся, прежде чем она успеет обобрать его до нитки. Камердинер все время как-то странно посматривает на него. А уж эта святоша!.. Ну нет, погодите! Не очень-то скоро дождетесь своего! И в четвертый раз наполнив бокал, он маленькими глотками тянул темно-красную жидкость, которую обожал, а потом, глубоко затянувшись сигарой, закрыл глаза.
Глава 2
1
Комната в отеле, где обычно происходили общие собрания акционеров Британской судовладельческой компании, была уже почти переполнена, когда секретарь вошел туда через дверь, отделявшую акционеров от директоров. Осмотрев приготовленные для директоров кресла, чернила, бумагу и кивнув кое-кому из акционеров, секретарь, держа в руках часы, стоял, наблюдая за присутствующими. Ни разу не собиралось так много народу! Это вызвано, конечно, снизившимися дивидендами и предполагаемой покупкой судов у Пиллина. Секретарь усмехнулся. Он презирал правление, за исключением председателя, но вдвойне презирал акционеров. Если вдуматься, забавное это зрелище – общее собрание! Единственное в своем роде! Восемьдесят или сто мужчин и пять женщин пришли сюда только потому, что поклоняются деньгам. Что еще на свете делается с таким единодушием? Церковь не идет ни в какое сравнение: слишком много мотивов помимо поклонения Всевышнему переплетается в душе у человека. Иронические мысленные комментарии доставляли удовольствие этому высокообразованному молодому человеку, почитателю Анатоля Франса и других писателей. Неужели эти люди думают, что их приход что-нибудь изменит? Половина третьего! Секретарь спрятал часы в карман и пошел в комнату правления.
Возбужденные завтраком и предварительным обменом мнениями, директора, очевидно, чувствовали себя весьма уютно, несмотря на февральскую погоду. Четверо из них еще оживленно беседовали у камина, пятый расчесывал бороду. Председатель сидел с закрытыми глазами и, мерно двигая губами, сосал леденец; в руках он держал листки бумаги с заготовленной речью. Секретарь бодро произнес:
– Пора, сэр!
Старый Хейторп проглотил конфету, поднялся, опираясь на руку секретаря, и проследовал к своему креслу в центре стола. Пять директоров направились за ним. Стоя справа от председателя, секретарь, четко, тщательно выговаривая слова, прочел повестку заседания. Потом он помог председателю подняться и, окинув взглядом ряды, подумал: «Не надо было показывать, что он не может сам встать. А он должен был бы разрешить мне прочитать его речь – все равно я ее написал».