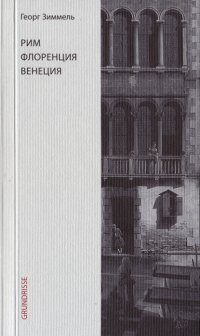Читать онлайн Избранное. Философия культуры бесплатно
- Все книги автора: Георг Зиммель
Серия основана в 1997 г.
В подготовке серии принимали участие ведущие специалисты Центра гуманитарных научно-информационных исследований Института научной информации по общественным наукам, Института всеобщей истории, Института философии Российской академии наук.
Главный редактор и автор проекта «Книга света» С. Я. Левит
Редакционная коллегия серии:
Л. В. Скворцов (председатель), Е. Н. Балашова, В. В. Бычков, П. П. Гайденко, И. Л. Галинская, В. Д. Губин, П. С. Гуревич, А. Л. Доброхотов, Г С. Померанц Г. И. Зверева, И. А. Осиновская, Ю. С. Пивоваров, М. М. Скибицкий, А. К. Сорокин, П. В. Соснов
Составитель тома: С.Я. Левит
Переводчики: М.И. Левина, С.Л. Франк, Н. Южин
Кант. Шестнадцать лекций, прочитанных в Берлинском университете
Предисловие
Эта книга задумана не как историко-философская, а как чисто философская по своему характеру Речь в ней идет только о том, чтобы ввести те основные идеи, посредством которых Кант создал новый образ мира, во вневременной инвентарь философской мысли, – ведь хотя бы приближенно он будет доступен и обусловленным во времени существам – независимо от всех применений и дополнений, которые, правда, связаны с этими основными положениями внутри кантовской системы, но не с внутренних и решающих для мировоззрения точек зрения. Подобно тому как в истории искусства объясняется возникновение отдельного произведения искусства, а эстетика анализирует его объективное, не связанное с генезисом, значение и его непосредственное воздействие и этим показывает, почему такие исторические исследования вообще имеют смысл, так здесь учение Канта будет посредством анализа и критики сопоставлено с надисторическими жизненными вопросами философии, чтобы само изложение этого учения могло считаться проверкой его права быть изложенным. Поэтому я не могу притязать на полноту воспроизведения кантовского учения; все, что не придает, по моему мнению, особый нюанс или особое освещение отношению Канта к основным философским проблемам, опущено.
Характер изложения определялся желанием, чтобы данная книга служила введением в философское рассмотрение жизни, для которого каждое даже поверхностное ее проявление коренится в последнем смысле и глубине целого, превращает ее саму в философский объект: оно выявляет значение научных и часто очень специальных теорий Канта для смысла жизни; оно прослеживает проходящие по ту сторону отдельных исследований линии, которые связывают эти исследования в картину мира; оно стремится представить специальные фактические положения Канта в их подлинной философской ценности, как ответ души, исключительной по своей широте и глубине, на общее впечатление от бытия; оно хочет – по формуле Канта – интерпретировать «школьное понятие» его философии посредством ее «понятия мира».
В основу этой публикации положен курс лекций о Канте, прочитанный зимой 1902/1903 года студентам всех факультетов Берлинского университета. В него, однако, внесено много добавлений и дополнений. Я не считал также необходимым держаться случайных границ, определяемых одинаковой продолжительностью лекций и не соответствующих требованиям различных тем, вследствие чего отдельная лекция данной книги оказывается то длиннее, то короче ее академического прототипа.
Лекция 1
То обстоятельство, что силе и положению человека не дано создавать во внешнем мире нечто подлинно новое, а он лишь преобразует, разделяя и соединяя его энергии, находит свое отражение и в глубинной истории его духа. Ибо при общем рассмотрении она представляется полностью подчиненной стремлению развить из минимального числа основополагающих проблем и мотивов максимальное число комбинаций и формирований. Так же как неизмеримость языка и искусства складывается из поразительно ничтожного числа букв, звуков, основных красок, как все лирические и драматические произведения используют очень узкую область бессмертных мотивов, так и вся глубина и широта философии проистекает из очень узкого круга постоянных проблем. Сложное многообразие истории философии становится доступным и полным смысла, как только в ней находят эти немногие основные проблемы бытия в качестве ее постоянно повторяющейся темы. И число вопросов не многим превышает число ответов, являющих собой нечто большее, чем простое связывание готовых фрагментов решения. Поэтому ранг философа может быть определен только одним: ограничивается ли он комбинированием или создает некую первичную категорию понимания мира. Поскольку мы не располагаем для толкования мира ничем иным, кроме самого этого мира, творческое деяние философа состоит в следующем: из множества элементов действительности, которые в опыте всегда остаются фрагментами, ощутить один с такой силой, в такой непосредственной связи с корнями жизни, чтобы его можно было считать основой и смыслом целого; им может быть дух или материя, бытие или становление, Бог или Я, единство или множество, активность или пассивность, абсолютность или относительность. В качестве толкований проблемы мира они – понятийные кристаллизации формулирования того, как великие душевные типы человечества реагируют на совокупность бытия. При каких исторических обстоятельствах гениальный индивид осуществил одну из этих возможностей, для внутреннего значения философем безразлично, они столь же вневременны, как математические положения, которые значимы не в тех или иных случаях, а вообще, поскольку они выражают постоянные отношения пространственных образований. Правда, вневременная значимость философских учений заключена не в истине, которую они провозглашают о вещах, а в правильности и глубине, с которыми их столь часто ошибочные утверждения выражают внутреннее отношение души к бытию, не действительность объектов, а, минуя их, действительность субъектов. Конечно, для каждой эпохи и каждого индивида особую притягательность имеет какая-либо одна из основных философских настроенностей: требования времени заставляют энергичнее обратиться к созданию или принятию какой-либо одной из них. Однако содержательное значение каждой философской системы, ценность ее особой тональности, в которой она выражает жизнь, остаются совершенно незатронутыми случайными обстоятельствами ее осуществления. Более того, от тех трудностей, которые ведут нас к философии, нас освобождают именно только мысли вневременного характера, хотя они и сами возникли именно в это время. То в нас, что ищет философию, не определено временем в таком же смысле, как политический или экономический интерес. Оно удовлетворяется лишь обращением к тем идеям, которые образуют как бы наследие человечества – хотя отдельные части этого наследия могут быть реализованы в историческом развитии лишь постепенно, случайно, несовершенно. Мне представляется, что я наилучшим образом покажу значение Канта для современности тем, что подчеркну в прошлом и настоящем, определяющем его и его воздействие, те вневременные элементы, те вопросы и ответы, осознание которых в некий исторический момент подобно случайно вспыхнувшему свету, озарившему сложившиеся черты и тип человечества. Поэтому для наших целей необходимо полностью разбить форму собственного изложения Канта, тот как бы стилизованный его временем и его личностью сосуд, содержание которого интересует нас лишь вне того и другого.
По той же причине мы не будем касаться внешних событий его жизни. Конечно, для понимания, привлекательности и плодотворности философского мировоззрения чрезвычайно важно, чтобы ее части не лежали друг подле друга, как страны внутри части света, а сами действовали как органическое единство посредством стоящей за ними единой творческой личности. Но эта личность есть не реальный исторический человек, а идеальный образ, который живет только в самом деянии в качестве выражения или символа фактических внутренних связей его частей. Черты портрета образуют, несмотря на их пространственную рядоположность, единство посредством души, выражением которой они служат; но является ли эта душа, для представления о которой мы в конечном итоге располагаем лишь данными чертами, душой действительной модели или эта модель обладает совсем иной, не соответствующей ее чертам душой, для художественного произведения и наслаждения им совершенно безразлично. Достаточно, если черты, предложенные созерцанию, позволяют нам вчувствоваться в душу, которая способствует созданию их единства. Так и душа философа, которая нужна нам для единения его высказываний, – лишь функция самих этих высказываний, лишь символ их связи и пребывает в совсем иной сфере, чем историко-психологическая действительность философствующего человека.
При переоценке внешней стороны жизни возникновение философии смешивается с самой философией. Что Кант создал именно это, а не какое-либо иное учение, мы бы психологически поняли, если бы генезис его душевной жизни был нам полностью известен, – его к тому же часто смешивают, к сожалению, с жизненными «обстоятельствами», т. е. с тем, что только окружает жизнь, не совпадая с ее внутренними движениями и с фатумом ее характера; но объективная связь и значение этого учения требуют совершенно иного типа и иной направленности понимания, – подобно тому как оценка пригодности и красоты какой-либо утвари совершенно не зависит от знания технических приемов, посредством которых она была изготовлена. Творение Канта и есть «личность» Канта, ибо только в нем он единственный и несравнимый, а отнюдь не в его так называемых личных условиях жизни, которые он разделяет с бесчисленным множеством людей и которые, следовательно, являются именно тем, что не составляет личность в человеке.
Опуская, следовательно, эти обстоятельства, поскольку они ничего не привносят в фактическое или всемирно-историческое значение его учения, которое нас здесь только и интересует, я все-таки начинаю изложение как бы с личного, но отнюдь не биографического момента, составляющего общую черту учения Канта.
В обычном понимании кантовская философия характеризуется как исследование душевных сил человека, в результате которого деятельность и значение интеллекта ограничиваются с трех сторон. Во-первых, оно лишает интеллект наивно утверждаемого им права познавать вещи вне чувственного мира: существование Бога, бессмертие души, нравственную свободу, смысл и цель мира как целостности, пребывающие за его механизмом. Мост к внеэмпирическому прокладывает лишь моральная воля человека; ибо для того чтобы наша мораль не осталась фрагментарным подступом, не связанным с бытием вообще, ей необходимы такие дополнения и удовлетворения, которые эмпирически, т. е. посредством рассудка, не могут быть найдены. Во-вторых, лишение интеллекта права в пользу воли совершает ценность жизни. Из функций интеллекта, направленных только на познание данного, наше бытие не может обрести ценность; обрести ее оно может лишь посредством тех энергий, с помощью которых мы господствуем над материалом вещей. Наша жизнь может иметь только ту ценность, которую мы сами ей даем; а дать ее мы можем только в практическом волении, а не посредством познания, содержания которого и способность к которому даны нам независимо от нас. И наконец, предметом познания для интеллекта служит исключительно чувственное явление вещей, только их образ в нас, а не их внутреннее, существующее для них самих бытие. Лишь в одном пункте оно нам доступно – в нашей деятельности, которая является не воспринимающей, а творческой, т. е. свободной. Следовательно, лишь когда мы действуем, мы действительно есть мы сами; когда же мы хотим познать себя, мы схватываем лишь образ нашего бытия. Тем самым решающая духовная направленность кантовской системы, ее центральный интерес обращены как будто не на мышление, а на воление. Таким образом, в кантовское учение ввели более или менее радикально такую, саму по себе весьма интересную, основную тенденцию: мысленное исследование бытия не ради мыслей, а потому, что практическая деятельность, понимаемая Кантом как главная объективная проблема жизни, представляет для него и субъективный интерес, господствующий в качестве последней инстанции над его мышлением.
Мне это представляется совершенно неправильным. Кант и его система совершенно интеллектуалистичны, его интерес, проявляющийся в содержании его учения, заключается в следующем: показать, что значимые для мышления нормы значимы во всех областях жизни. Его философия полностью окрашена тем, что в ее основе не лежат страсти или чувства, я бы сказал, не лежат инстинкты, присутствующие у Платона и Эпикура, у Плотина и Бруно, при внимательном вглядывании даже у Спинозы и Гегеля, не говоря уже о Фихте и Шопенгауэре.
Это – философия, вышедшая из рассудка, правда, из рассудка совершенного, а не ограниченного рассудка прежнего рационализма. Мощь логического мышления проявляется здесь тем более суверенно, что она не повторяет несостоятельную рационалистическую попытку с самого начала вытеснить остальные душевные энергии. Самостоятельность чувства, власть воли, господствующая над жизнью, признаются. И только после этого выступают соответствующие разуму нормы логики и определяют их бытие и ценность. Самый великий и рафинированный триумф понятийно-логической духовности состоит в том, что она предоставляет только нравственной воле выносить решение о ценности человека, а затем определяет нравственность воления только логической нормой. Я считаю необходимым уделить еще некоторое внимание этой общей характеристике, хотя она еще не доказана и служит только схемой. Ее назначение в том, чтобы дать общие рамки настроенности, в которых сразу же найдут свое правильное внутреннее место содержания, предназначенные постепенно наполнять и подтверждать их.
Неодолимая строгость морали Канта связана с его логическим фанатизмом, стремящимся придать всей жизни математически точную форму. Великие учители морали, у которых источником учения служила исключительно оценка нравственного, отнюдь не отличались подобным ригоризмом – ни Будда, ни Иисус, ни Марк Аврелий, ни святой Франциск. Позже мы исследуем вопрос, оправдана ли у Канта эта нетерпимость нравственных требований: здесь достаточно подчеркнуть, что ее характер определялся основанным не на практическом, а на логически-понятийном духовном чувстве жизни.
С этим связано, что Кант, для которого этический интерес значительно превышает интерес теоретический, ставит перед собой проблемы только самых повседневных и как бы грубых событий нравственной жизни. Все то, что в нравственных данных доступно общим понятиям, он рассматривает с небывалыми величием и остротой. Однако все более глубокие и тонкие вопросы этики, обострение конфликтов, сложность чувств, темные силы в нас, в нравственной оценке которых мы часто столь беспомощны, – все это ему как будто неведомо, – ему, проникавшему в самые глубокие, тонкие и рафинированные функции мыслительной деятельности человека. Отсутствие фантазии и примитивность в постановке нравственных проблем, с одной стороны, утонченность и размах полета в теоретических – с другой, доказывают, что в свое философское мышление он вводит только то, что допускает проникновение логическим мышлением.
Если в наши дни часто пытаются оспаривать, что кантовская философия полностью вышла из интеллектуального центра, то это связано с возникшей теперь реакцией против интеллектуализма, господствующего в течение 300 лет в жизни Европы. Он нашел свое выражение, с одной стороны, в современном значении науки, причем не столько в ее подлинном развитии, сколько в вере в нее, в совершенную жизнь, которую принесет господство совершенной науки, – вера, которая равномерно растет при существующих противоположностях между либерализмом и социализмом. С другой стороны, в практической жизни, пронизывающее общество денежное хозяйство свидетельствует о господстве интеллектуального принципа: беспощадная последовательность, устранение всех субъективных чувств, принципиальная доступность для каждого, – таковы характерные черты денежного хозяйства Нового времени и его интеллектуальности. Именно этот интеллектуализм достиг своей вершины в философии Канта, сколько бы ни отрицать это под влиянием растущего пресыщения им. Можно сказать, что особая личностная черта кантовской философии заключается в ее несравненной безличностности. Аналогично беспристрастности логики, стоящей над всеми односторонними содержаниями представления, его философия возвышается с недоступной холодностью судьи, для которого существуют лишь закон и логика, над всеми философскими учениями, в которых находят свое выражение односторонние человеческие влечения. Правда, беспристрастность также, если угодно, есть одностороннее влечение, подобно интеллектуальности, которая в своем уравновешенном спокойствии возвышается над всеми другими энергиями души, хотя в конечном счете является лишь одной из них. Я покажу это, сопоставив историко-объективное положение кантовской философии с другими основными направлениями в философии.
Два направления, которым решительно противостоит кантовское учение, определяются как рационализм и сенсуализм. Им обоим свойственно помещать в центр оценку одной из наших способностей познания и устанавливать, исходя из этого, устройство объективного мира. Этим они отличаются, хотя и с разными градациями, от безусловно метафизических систем, которые действуют в обратном направлении: мир таков, поэтому лишь такое средство познания, которое постигает именно подобное устройство мира, может быть единственно значимым.
Сущность рационализма заключается в признании исключительной ценности логически-понятийного мышления и в отрицании опыта, полученного посредством чувственных впечатлений. Такая абсолютизация одной из наших основных познавательных способностей ведет к трем определяющим мировоззрение последствиям. Во-первых, познание нами вещей зависит не от нашего отношения к ним, а происходит посредством мыслительных актов внутри нашего духа. Из понятий вещей, созданных мышлением, оно само затем развивает всю истину о вещах – суверенность духа, ценой которой оказывается то, что чувственно данные элементы познания либо рассматриваются как чисто мысленные порождения, либо исключаются как обманчивые и не имеющие ценности. Во-вторых, если наше познание истинно, даже не будучи произведено или подтверждено чувственным опытом, оно может распространяться и на предметы, в принципе недоступные чувственному восприятию, на такие, как Бог, бессмертие, структура мироздания и метафизическая сущность вещей. И не только предметы познания, но и степень уверенности в нем может выходить за пределы данного в опыте: если каждое или во всяком случае обладающее ценностью познание основано на логическом мышлении, оно должно обладать безусловной прочностью и необходимостью логических норм, тогда как опыт всегда дает лишь относительную и требующую коррекции истину. В-третьих, для того чтобы эта ценность чистого мышления была значимой, объективная действительность должна иметь соответствующую ему структуру. А это означает, что метафизические объекты, о существовании которых заключает предоставленное самому себе мышление, действительно существуют: Бог, душа, свобода или, в зависимости от направления мышления, несвобода человека, сверхчувственная связь вещей и т. д. К этому присоединяется следующее. Ведь разум вещей означает не только, что они логически правильно структурированы, но что они имеют смысл, который мы одобряем, цель, которая нас удовлетворяет. Разум, который есть принцип мира, потому что он – принцип познания мира в нас, означает, что мир в таком же смысле обладает разумом, ценностью, целью, как жизнь «разумного» человека.
Совершенно противоположными предстают субъект и объект познания для того, чья духовная сущность вращается вокруг чувственности как своей оси. Чувство жизни, лежащее в основе каждого сенсуализма, есть зависимость субъекта от данного мира, определяемость его элементами, в которые он введен. В основах сенсуализма заключена резиньяция, которой наслаждение и поглощение вещей на практике, как он иногда учит, не только не противоречит, но являет собой дополнение и ведет к душевному равновесию. Сенсуализм полагает, что схватывает непосредственность бытия вещей в реакции, которой чувства отвечают на бытие. Тем самым прежде всего отвергается познание посредством мышления и логического развития понятий, а опыт провозглашается единственным средством познания. Это налагает на познание два ограничения: во-первых, отказ от всего метафизического; нет ни познания Бога, ни познания скрытой сущности вещей, ни познания смысла и цели мироздания. А познание других вещей не обладает безусловной уверенностью и необходимостью, ибо оно исходит из отдельных данных действительности и никогда не может, выйдя за их пределы, достигнуть понятий и законов, которые установили бы и последующий опыт. Поскольку мы вынуждены ждать его, нет никакой гарантии, что завтрашний опыт не окажется совершенно непохожим на сегодняшний; все общие и закономерные связи значимы лишь с оговоркой и с возможностью их изменения. Из такого состояния духа для объектов следует, что сенсуализм склонен отрицать существование всего трансцендентного. Абсолютно непостижимое для нас то же, что ничто. Противоречия между метафизическими и религиозными утверждениями служат сенсуализму убедительным доказательством того, что существование их предметов внутренне противоречиво и что существуют только предметы опыта. Тем самым отпадают также разумные смысл и ценность, которыми с точки зрения рационализма обладают вещи помимо того, что познается в них в опыте.
Если, что очевидно, в основе того и другого философского убеждения лежит душевное своеобразие индивида, то кантовский принцип стремится с самого начала выйти за пределы всех тех учений, в которых находят свое выражение субъективные черты характера. От обоих этих направлений его отличают безличностность и беспристрастность, посредством которых он защищает каждое из них от нападок другого. Однако в этом уже заключено, что при всем отличии от них во многом проявляется согласие с ними. Рассмотрение этого двойственного отношения сразу же ведет к последним мотивам кантовского мышления.
Лекция 2
Общее с сенсуализмом и рационализмом у Канта то, что он также ставит всю картину мира в зависимость от ценности и значения средств познания, посредством которых она нам дана. Однако если названные два направления исходят в своем толковании и сопоставлении этих средств познания из иррациональных субъективных тенденций (ибо признание или отклонение рационализма также в конечном счете происходит из душевных импульсов, которые сами не являются рациональными), то Кант сразу же становится на объективную почву: он отправляется от факта определенных познаний, который служит ему прочной опорой, и задает прежде всего следующий вопрос: какими средствами познания должны мы обладать, каким образом и в каком сочетании они должны действовать, чтобы эти познания, а именно математика, общий практически проверенный опыт, закон причинности и ряд других аксиом исследования природы, могли иметь несомненную значимость? Следовательно, Кант не относится к числу революционно-радикальных умов, которые ставят под вопрос научную истину как таковую, подобно представителям религиозных мировоззрений и Декарту, или отказываются признать все предлежащее знание, пока оно не подчинилось метафизическим требованиям, как это делает Гегель. Несмотря на то, что Кант решительно отклоняет метафизические науки с их грезами о Боге, мире и душе, он тем не менее принимает более реальные научные содержания как несомненные факты: так он в своей этике полностью признает, не ставя его под сомнение и не преобразуя, действительное нравственное сознание человека. Данные математики и опытного знания для него как бы аксиомы; заключая от них к создающим эти знания духовным энергиям, он легитимирует их, и они становятся носителями и критериями мировоззрения. Учение Канта, которое, правда, так же, как сенсуализм и рационализм, вращается вокруг сопоставления душевных сил, является своего рода субъективизмом; однако в отличие от них оно определяется не предпочтением, свойственным субъекту, а следствием из объективных познаний. Таким образом вопрос, как возможна математика и как возможно опытное знание, одновременно является как бы надличностным разрешением конфликта между сенсуализмом и рационализмом. В краткой формулировке это разрешение гласит: рационалисты правы; существуют познания столь общего и необходимого рода, что они не могут происходить из опыта; они суть не опыт, а средства опыта: они – формы и функции, данные сущностью нашего духа, посредством которых мы обретаем опыт, и, следовательно, должны быть значимы применительно к каждому предмету опыта без исключения и без предварительной его проверки; ибо они ведь служат условиями, при которых данный объект вообще может стать для нас предметом опыта: таковы положения математики, таков закон причинности. Но правы и сторонники эмпиризма: только опыт дает нам действительное, достаточное знание предмета; однако этот опыт состоит не только из чувственных впечатлений, которые вещи вписывают в пустую, пассивно воспринимающую плоскость нашего сознания, как думали до Канта, этот опыт сам уже есть продукт чувств и рассудка. Чувства дают необработанный материал, изолированное, лишенное смысла, преходящее впечатление, которое формируется способностями рассудка в значимый, объективный опыт. Следовательно, подступая к вещам, чтобы получить от них эмпирическое знание, мы уже что-то в этот процесс привносим: формы и функции самого духа, формирующие способности, которые преобразуют простые чувственные аффекты в достоверное знание, в понятный порядок вещей. В вечном потоке, не ведающем остановки, проходят перед нами впечатления чувств; но они лишь моменты, как бы точки, и только деятельность нашего собственного сознания создает между ними связь – придает отдельным оптическим впечатлениям пространственный порядок, превращает случайное следование образов в прочные правила, меняющиеся представления в определенным образом характеризованное Я. Законы, устанавливающие эти связи, как говорит Кант, априорны, т. е. не возникают из опыта, а создают его в качестве форм интеллекта, в которые он заключает чувственный материал.
Однако в понимании рационализма в область прав разума входят не только всеобщность и необходимость положений, которые можно толковать как формы опыта, но и утверждения, полностью выходящие за пределы опыта, поскольку они касаются либо абсолютного целого, либо абсолютного характера бытия, – тогда как опыт дает нам лишь несовершенное и относительное, – или вообще выходят за границу явления вещей. Кант показывает, что эти мнимые познания разума, как он называет их психологического носителя в отличие от образующего опыт рассудка, ввиду их невозможности наполниться чувственным содержанием, просто видимость; тем не менее и они вводятся в организм духа, продукт которого есть реальный для нас мир. Они, правда, ничего не говорят о вещах, но служат указующими точками направления к цели, к которой движется наше исследование лежащих за пределом опыта вещей, не будучи способным когда-либо достигнуть их. Так, например, цель природы мы не можем познать ни в отдельном случае, ни в целом; однако для понимания организмов наше исследование должно носить такой характер, будто цель их построения – совершенная жизнь; для понимания бытия вообще – будто моральная сущность разума составляет конечную цель природы; для понимания истории – будто мировое государство, обладающее совершенной культурой и свободой всех индивидов, служит намерением Провидения.
Этой мыслью, согласно которой сверхэмпирические понятия в качестве познания реальности беспредметны и обманчивы, но в качестве указывающих путь нашему познанию осуществляют незаменимую функцию, – этой несказанно плодотворной мыслью Кант превратил проклятие метафизики в благословение. Приведу еще один пример. Философская спекуляция всегда полагала, что открыла основную субстанцию или основную способность, в которой все многообразие вещей находит свое единство, все различные понятия находят свое высшее, объединяющее понятие. Конечно, для наших способностей познания абсолютное единство бытия неуловимо; однако при всей иллюзорности его открытия оно совершенно необходимо как идеал и регулятивная сила нашего опыта; опыт не должен удовлетворяться предлежащими дискрепантностью и чуждостью явлений, но для каждого из них искать высшее единство, будто он действительно достигнет абсолютной основы вещей, которая в сущности закрыта для него. Наше познание, которое состоит в объединении внеположных явлений во все большие закономерности, остановилось бы, если бы оно не следовало воображаемой цели единства всего сущего. Однако согласно мышлению, которое, как бы с другой стороны, доводит фрагментарно данную действительность до абсолютно законченной картины, и различие вещей бесконечно. Не существует двух явлений, даже двух фрагментов, принадлежащих двум явлениям, равных друг другу, каждая точка бытия абсолютно индивидуальна и непохожа на любую другую, – как ни много мнимых тождеств среди вещей усматривает недостаточная острота нашего познания. Но и это утверждение мы не вправе применять к объективному бытию, ибо внутри него, насколько нам позволяет судить опыт, т. е. насколько это нам вообще доступно, различие повсюду наталкивается на границы и уступает место тождеству. Так же очевидно, однако, что этот принцип обладает полной значимостью в качестве руководящей нити нашего познания. Ибо так же как нам не следует останавливаться на различиях при первом ви́дении вещей, а надлежит искать их глубже лежащие равенство и единство, – нам следует не удовлетворяться и этим, а искать за открытым равенством все более глубокую индивидуализацию, никогда не считать это равенство решающим, но видеть в нем предварительную ступень к еще более тонким, доступным острому взору особенностям. Следовательно, то, что в качестве метафизических утверждений было нереализуемо и взаимно снимало друг друга – абсолютное единство вещей и их абсолютная индивидуализация – оказалось вполне совместимым друг с другом и господствует в действительности в процессе человеческого познания повсюду, где признается не законом вещей, а законом нашего исследования. Следовательно, подобно тому как сенсуализм прав, утверждая, что не может быть познания без чувственных впечатлений, – хотя и в неожиданном для него значении, согласно которому чувственные впечатления суть необходимый, но сам по себе еще не образующий познание материал опыта, – так и рационализм прав в новом смысле. Ибо хотя понятия, извлекшие свой характер и меру не из опыта, значимы, но и они сами по себе суть не познание, а только формы для упорядочения и регулирования чувственных впечатлений и отдельных данных опыта, в результате чего создается действительное познание, которое есть опыт.
Из этого установления отношения между сенсуализмом и рационализмом возник основной принцип величайшего значения: истинная картина мира складывается посредством общей деятельности всех духовных энергий. Таким образом, преодолена односторонность всех учений, которые объявляют одно учение носителем истины за счет других; тогда как оценка духовной энергии вообще как источника мира, о котором можно говорить, сохраняется. Если объективность состоит в том, чтобы уравновешивать субъективные притязания и переводить их в более высокое единство по ту сторону их односторонности, то объективность отправной точки Канта отражена в объективности этой завершающей и решающей мысли. Мы последуем за ней в ее различных формах, чтобы в отдельных случаях увидеть, как Кант устраняет беспомощность познания, для чего прежде обращались к помощи одностороннего господства душевных импульсов.
Основная проблема такова: мы не можем отказаться от безусловной верности и общезначимости известных знаний; математика, закон причинности, подведение явлений под категории субстанции и качества, временность бытия несомненно обладают непререкаемой достоверностью во всех наших высказываниях о вещах. Но как же это возможно, ибо мы ведь знаем о вещах лишь то, что они нам показывают, и располагаем поэтому только уже данным и индуктивным заключением из него? Ведь такая достоверность возможна только в логическом мышлении, протекающем чисто формально в своих границах; действительность же дана нам только в опыте, который всегда остается открытым для корригирования и не дает абсолютной необходимости такого рода законов. Достижение Канта здесь в том, что он открыл третий, действующий в нашем познании элемент: законы, посредством которых из чувственных впечатлений возникает опыт; эти законы всеобщи и необходимы, но таковы они именно для предметов опыта. Несмотря на то, что они получены не из опыта, или именно потому, они господствуют над ним. Конечно, мы знаем о вещах лишь поскольку они отдают себя нам в чувствах; но не только таким образом, а лишь когда чувственные впечатления упорядочиваются в формах, которые не находятся в них самих и значимость которых поэтому для всех предметов опыта без исключения с самого начала установлена, ибо только посредством этих законов они становятся предметами опыта. Возникал вопрос: что такое закон причинности и причинная связь вещей? Этот закон не есть логическая необходимость; мы можем мыслить мир, в котором он не действует; из чувственных впечатлений он также не может происходить, ибо они демонстрируют всегда только чередование, а не внеположность, причинная связь есть нечто недоступное созерцанию, лежащее за чувственными образами вещей. Кант доказывает: сама эта последовательность чувственных впечатлений, называемая нами опытом, была бы невозможна, если этому не предпослан закон причинности. Так, чувственные впечатления вещей проходят при всех обстоятельствах через наше сознание друг за другом. Представления о таких вещах, которые длительно одновременно существуют рядом, следуют как чувственные впечатления друг за другом, так же, как представления о том, что и фактически происходит друг за другом. Сенсуалист, относящий познание только к восприятиям, не мог бы, например, определить, следовали ли в самом деле друг за другом воспринятый солнечный свет и воспринятое затем тепло, или они действительно существуют одновременно, как деревья в лесу, которые я совершенно так же воспринимаю лишь друг за другом. Тогда то, что мы называем опытом, вообще бы не состоялось, возник бы лишь практически недостоверный фантом, блуждающая случайность представления, жертвой которой мы, правда, достаточно часто оказываемся, но которую в принципе отличаем от доступного нам эмпирического познания. Для того чтобы эти одинаковые по форме чувственные образы стали различными по форме опытными данными, какими они для нас действительно существуют, мы должны быть уверены, что в одном случае последовательность восприятий необходимо определена, в другом же может быть обратной или происходить хаотически. Вопрос, на основании чего устанавливается это убеждение о необходимом порядке или связи определенных восприятий, дело особого исследования. Причинность же только название этой необходимости, уверенности в том, что мы постоянно встречаем в опыте эту последовательность. Если бы мы не исходили из того, что за каждым событием, повторяющимся как тождественное, неминуемо последует другое, также всегда тождественное, – независимо от того, что наши чувства, отклоняясь, воспринимают после этого первого совсем другое, – мы, правда, имели бы чувственные впечатления, но они не дали бы нам опыта. Таким образом, единичные чувственно данные факты нуждаются для тех целей, от которых не может отказаться и сенсуалист, в общей сверхчувственной предпосылке; она необходима, т. е. восприятия должны всегда иметь возможность верифицировать ее и в тех случаях, когда фактический ход восприятий в отдельном случае полностью от этого отклоняется. Этим создан один из глубочайших синтезов мировоззрения: необходимо-всеобщее, как будто просто мысленное построение по отношению к эмпирическим фактам оказывается условием именно этих фактов. Однако такое значение присуще этому необходимому лишь поскольку оно есть форма, в которой упорядочивается опыт; оно не необходимо по мысли, его невозможно доказать, исходя из чистой логики, – и все-таки оно необходимо, необходимо для опыта. Такова новая категория, открытая Кантом: необходимые понятия и положения, имеющие общее значение, не потому, что они отворачиваются от воспринимаемого бытия, а потому, что они к нему поворачиваются, независимые от опыта, но лишь потому, что опыт зависит от них, – об этой связи Кант был вправе с гордостью сказать, что его предшественникам она «никогда не приходила в голову».
Этот же характер значимости Кант применяет для геометрических положений. Восприятие цвета, данное чувством, еще не есть пространственный предмет, которым мы занимаемся в опыте. Чтобы стать таковым, этот сырой материал должен получить с помощью душевной энергии особую форму. Эта форма – пространственность. В дальнейшем мы подробно остановимся на ее значении в качестве исходной точки кантовского мышления. Здесь мы предвосхитили дальнейшее исследование, чтобы пояснить характер геометрических положений. Что геометрические аксиомы описывают сущность нашего пространства, означает только, что в них формулируются правила, по которым наш дух при формировании наших чувственных впечатлений обращается к пространственным образованиям нашего опыта. Пространство, которое может быть воспринято только в чувственных явлениях, руководствуется аксиомами, так как только посредством их действия в нашем духе создаются эти явления. Геометрические аксиомы, так же как и закон причинности, не обладают логической необходимостью, можно мыслить пространства, а следовательно, и геометрии, в которых действуют совершенно иные аксиомы, как показала неевклидова геометрия в век после Канта. Но они совершенно необходимы для нашего опыта, так как только они и создают его. Поэтому несомненной ошибкой Гельмгольца было рассматривать возможность лишенного противоречия представления о пространствах, в которых не господствуют аксиомы Евклида, как опровержение утверждаемых Кантом всеобщности и необходимости этих аксиом. Ибо кантовская априорность означает всеобщность и необходимость только для познаваемого мира, не логическую, абсолютную значимость, а значимость лишь для сферы воспринимаемых объектов. Наша геометрия относится к открытому Кантом типу познаний, обладающих всеобщностью не как продукты чистого мышления, а как условия опыта; они не черпаются из опыта, как полагает сенсуализм, но могут осуществлять свою функцию, образование опыта, только в применении к чувственности. Поэтому неевклидовы геометрии лишь в том случае опровергли бы наши аксиомы, если бы кто-нибудь обрел свой опыт в псевдосферическом пространстве или соединил бы свои ощущения в пространственное образование, в котором не имела бы значимости аксиома параллельных линий.
Нет необходимости в дальнейших примерах, чтобы показать сущность этих априорных положений, которые освободили размышление о человеческом познании от мучительной и неудовлетворяющей альтернативы между чувственностью и свободным от чувств разумом; эти положения послужили основой нового синтеза, в котором Кант объединяет всеобщность разума и единичность чувственных впечатлений в новом понятии опыта, определяемого им как продукт чувственности и рассудка. Реальное познание вещей может быть ограничено опытом, не принижая этим высшие познавательные способности человека с всеобщностью и необходимостью их высказываний, поскольку они поняты как законы, придающие форму опыту Именно если признавать только опыт, необходимо признать, что условия опыта, создающие каждый его случай, значимы с полной достоверностью для всей сферы возможного познания.
Лекция 3
Рассмотренное в конце предыдущей лекции открытое Кантом понятие опыта сталкивается с рядом трудностей, которые, быть может, являются следствием совсем не его внутреннего значения, а еще не установленной связи, еще не уясненного отношения к прежним, также с полным правом сохраняемым понятиям и мысленным требованиям. С такой оговоркой упомяну три трудности, связанные с учением априорности, разрешение которых представляется мне возможным лишь постепенно, но очень важным для понимания внутренней сущности критики разума.
Мысль, что свойства познающего субъекта сами суть условия познания, что, следовательно, применительно к каждому познаваемому предмету можно сразу, не исследуя его, назвать те определения, которые приданы ему познавательными способностями субъекта, т. е. самый процесс познания, – эта мысль, настолько простая, что ее позднее открытие, собственно говоря, кажется чудом, непосредственно понятна; однако безусловная значимость какого-либо с определенностью формулированного положения не следует из него столь непосредственно, как полагает Кант. Априорность, фактически образующая в нас опыт, есть объективная способность, действующая в нас действительность, которая может быть выражена в понятиях и формулах лишь после ее действия. Никто не станет утверждать, что закон причинности действовал в нас как осознанный принцип, когда мы толковали в соответствии с ним наши восприятия. Дело здесь обстоит так же, как в тех случаях, когда мы, пользуясь законом гравитации, переводим на меняющийся и неуверенный язык наших понятий действительность, которая, так сказать, ничего не знает об этом законе и в качестве таковой совершенно недоступна нам. Формула, в которой мы сознаем закон причинности, есть, аналогично каждому закону природы, лишь рефлектирующее толкование душевной действительности в нас, реально осуществляющей функцию образования опыта. Следовательно, эта последняя и есть действительно априорность, а не понятийный и известный нам закон причинности, который представляет собой лишь сломленное нашим сознанием отражение априорности, лишь ошибочное ее восприятие. Следовательно, мы совершенно точно знаем, что должна быть общезначимая априорность, для того чтобы существовало знание; однако это – чисто абстрактное и остающееся абстрактным знание, собственно, только постулат; ибо каковы отдельные содержания этой априорности, мы с такой же уверенностью знать не можем, напротив, мы наталкиваемся здесь на те же неопределенность и корригируемость, от которых априорность казалась освобожденной. Я не вижу удовлетворительного решения этой трудности; Кант ее, правда, обходит, полагая, что обладает критерием правильности и полноты форм познания в систематическом округлении. Он обнаруживает на путях, во многих случаях странных и непонятных, в немногих – убедительных, что нормы, образующие опыт, соответствуют формам логического суждения, и конструирует аналогично им 12 априорных понятий, которым, в свою очередь, соответствуют основоположения рассудка. Эти 12 категорий делятся на 4 класса с 3 категориями в каждом. Нас здесь интересуют не эти детали, а только принцип, согласно которому, если для симметричной, замкнутой в себе схемы найдены достаточные наполнения, тем самым дано доказательство правильности и достаточности этих наполнений. Слабость этого метода в настоящее время очевидна. Оставляя полностью в стороне всю вымученность и неверность в деталях, мы знаем, что округленность комплекса мыслей по нашим идеям симметрии и архитектоники ни в коем случае не является гарантией действительной истины или полноты этих мыслей, – при этом безразлично, является ли действительность, которую должна охватить и обрисовать система, внешней, или действительностью души. Но важнее, чем это весьма очевидное опровержение, мне представляется необходимость понять глубокое значение и тенденцию этой странной систематики.
В решении о ходе развития и окончательно удовлетворяющей форме нашего познания действуют два взаимоисключающих мотива, проходящих в борьбе, вытеснениях и компромиссах через историю духа; выбор между ними исходит, как и во всех последних интеллектуальных решениях, из инстинктов личности в целом, лежащих вне интеллектуальности. Их можно определить как систематическое и как прогрессивное влечение. Одно дозволяет нам удовлетвориться нашим образом мира и верить в его истину лишь постольку, поскольку все его единичные элементы образуют сплошную связь, построенную по единым принципам. Лишь в том случае, если, как это происходит в организме, каждая часть указывает на другую и таким образом из этих частей может возникнуть пребывающее во внутреннем равновесии целое, познание может считаться завершенным, ибо только в этом случае оно воспроизводит гармоническое единство и архитектоническую структуру мира. Конечно, это недостижимый идеал, который может быть лишь приближенно достигнут в самых общих чертах и в отдельных областях знания; решающим, однако, является, что это – идеал, который в качестве дефинитивной формы познания, обретает ли оно свое наполнение или нет, имеет значение систематической готовой округлости. Если здесь образ совершенного познания имеет форму круга, то другая тенденция отождествляет его с уходящей в бесконечность линией. Завершение образа при этой тенденции невозможно не только действительно, из-за человеческой слабости, но и в принципе. То ли потому, что сами явления бесконечно образуют новые комбинации и освобождают неизвестные дотоле силы, то ли потому, что отношение нашего духа к действительности адекватно выражает себя только в бесконечности увеличений и исправлений своих представлений, – во всяком случае внутренняя сущность познания состоит в том, что оно никогда и нигде не завершается, а симметричное завершение его построения является внутренним противоречием. Совершенно понятно, что первая точка зрения приемлема прежде всего для рационализма, вторая – для сенсуализма. Представление Канта о формируемом априорными понятиями опыте приводит и эти две потребности к поразительному синтезу. Мир, предстающий нам в чувственном опыте, правда, не система, он необозрим, и его познание уходит в бесконечность. Но дух, внутренняя структура которого предстает как обозримая, есть завершенное, систематическое единство. Мир обретает единение и прочный смысл благодаря тому, что самые общие принципы, с помощью которых наш рассудок формирует впечатления от мира, создавая опыт, законы, которые он миру предписывает, образуют внутренне сбалансированную архитектоническую систему, систему нашего духа. Познание же действительности похоже на удлиняемую до бесконечности линию, так как она происходит не только из единой глубины духа, но есть продукт ее и бесконечно меняющихся, и увеличивающихся впечатлений от действительности. А продукт, созданный константным фактором и изменяющимся фактором, должен быть и сам меняющимся. Тем самым природа и опыт сохраняют всю свою безграничность, действительность в ее совокупности свободна от всякой ограничивающей ее систематики. И тем не менее носителем целого служит система способностей познания, структура которой охватывает всю неизмеримость отдельных явлений, ибо она образует опытные данные о них. Влечение к системе, которое обретало в объективной действительности обманчивое удовлетворение, отступило в дух и предоставило действительность влечению к продвижению.
Гениальность этого решения свидетельствует о всем величии духовно-исторической позиции Канта: его точка опоры – объективно предлежащее познание; он его расчленяет; пока не находит для конституирующих его элементов то равное оправдание, посредством которого он устраняет односторонность созданных чисто субъективными влечениями образов мира. И все-таки теперь мы не примем это решение. Замкнутость системы даже в ограничении духом для нас чрезмерна: мы полагаем, что и дух следует ввести в поток развития. Пусть в каждый данный момент априорные нормы и господствуют над опытом, – почему бы и этим нормам, которые, образуя наше познание природы, и сами, если рассматривать их с другой стороны, суть действительность природы, не оказаться в развитии, постоянное течение которого ни на одно мгновение не может достигнуть завершения в виде системы? И если познание развития как постоянной судьбы вещей образует логический круг, если само познание все время развивается, то это один из тех неизбежных фундаментальных кругов, в которых открывается относительный характер нашего духовного существования.
С отпадением системной связи, в которой каждая часть доказывает свою истинность тем, что дополняет другие части в создании единого целого, отпадает одновременно и единственное доказательство того, что априорные способности вошли в научное сознание с несомненностью и полнотой, свойственными их реальному действию. Оказывается, что Кант с недостаточным основанием перенес всеобщность и необходимость, которыми структура нашего духа обусловливает наш опыт, на научные принципы; на этих принципах мы впоследствии, безусловно часто неполно и ошибочно, формулируем эти условия, значимости которых данные принципы могут соответствовать лишь приближенно в бесконечности. Невзирая на это фундаментальное отклонение современного мышления от учения Канта, его открытие, согласно которому наши опытные данные обусловлены сверхчувственными, как бы привнесенными нашим духом предпосылками, еще отнюдь не исчерпало свою плодотворность. Кант сам применял его только в области естествознания; ибо, с одной стороны, его оригинальное мышление было направлено на природу, с другой – душевная жизнь как таковая и все историческое интересовало его лишь с точки зрения нравственной ценности и само по себе не составляло для него предмет собственного исследования. А между тем весь психологический и исторический мир в такой же степени нуждался в проверке с точки зрения его априорных предпосылок. Тогда бы мы узнали, что именуемое нами историческими фактами столь же не отражает непосредственное переживание, как естественно-научный факт не содержит чистое чувственное впечатление, что сообщение свидетеля, так же как воспроизведенное в изложении событие, представляет собой формирование данного материала по эмоциональным, интеллектуальным, политическим, психологическим и этическим категориям. И это – не требующий устранения недостаток, не искажение, а необходимое условие, при котором сырой материал исторического бытия только и может обрести понятный и осмысленный образ в нашем духе. Также обстоит дело и в области права, в понимании искусства, в психологии, в религии. Опытное знание во всех этих сферах отнюдь не есть то, чем оно может казаться, если не помнить о Канте, – не есть принятие данного, верное отражение того, что действительность предлагает нашему сознанию; напротив, то, что должно стать познанием, должно быть формировано нами в таковое, то, что должно стать предметом опыта, зависит от форм опыта, с которыми наш дух подступает как со своим изначальным владением к действительности. Или точнее: наш дух не имеет эти формы, он есть они.
В трактовке Канта это понятие связано с дальнейшей серьезной трудностью. Положения геометрии суть абстрактные формулы для тех энергий, которые превращают наши чувственные впечатления в пространственные образы. Однако неуверенность, изменения, иллюзии присутствуют и здесь, например, у детей или при необычных внешних или физиологических обстоятельствах. В другой априорной форме, в причинности, совершенно однозначны случаи, когда причинность не действует, когда мы не по доброй воле (а иногда и по доброй воле) совершенно не мыслим по закону причинности. Как же это сочетается со всеобщностью и необходимостью форм нашего мышления и с тем, что наш дух априорно содержит их в себе и поэтому неизбежно придает их своим отдельным содержаниям? Кант ответил бы на это очень просто: априорность ведь есть лишь априорность познания, там, где мы ее не применяем, мы не познаем, а совершаем лишь какие-либо душевные процессы, которые не суть опыт. То, что названные формы суть энергии, имманентные нашему духу, не означает, что они должны беспрерывно функционировать; они, подобно всем потенциям бытия, выступают в чистой и беспрепятственной деятельности лишь при совершенно определенных условиях, а при других отклоняются и искажаются. Априорность также не утрачивает своей закономерной значимости вследствие ее недостаточного применения, как и вследствие действия законов неевклидовой геометрии, ибо она – только закон опыта, а не любого душевного образования.
Это совершенно правильно, но ведет, как мне кажется, к порочному кругу. Упомянутые нормы действуют лишь в значимом опыте.
Но откуда нам знать, что такое значимый опыт, если не в результате того, что мы обнаруживаем в нем значимость этих норм? Если бы мы располагали каким-нибудь другим средством для установления истинности наших представлений, это послужило бы выходом; тогда мы могли бы доказать, что их определенные свойства доступны нам лишь посредством применения названных принципов, и были бы вправе провозгласить их условием познания. Для обыденного мнения существует, правда, такая двойственность путей к истине: размышление и чувственная видимость; действуя независимо друг от друга, они взаимно подтверждают друг друга и именно вследствие этого определяют каждую точку, в которой они встречаются, как значимую истину. Но этот дуализм, вполне законный для практики и отдельных процессов познания, Кант ведь и устранил в принципе и для всего познания в его совокупности. Он ведь показал, что познание достигается только посредством совместного действия рассудка и чувственности, что наше рассудочное мышление только потому может создать в себе истину о вещах, что категории нашего рассудка участвовали в создании для нас объективного мира и поэтому изначально содержатся в нем, что, с другой стороны, эти категории имеют значение лишь как формы чувственных содержаний. Такое объединение наших познавательных способностей лишает нас, однако, критерия истины, содержавшегося в их независимой двойственности. Теперь мы знаем только следующее: априорные нормы в одних случаях применяются, в других не применяются; судить о том, что первые обладают особой ценностью, значением истинности, которое возвышает их над чисто психологическими случаями, мы можем только исходя из того, что для них значимы эти нормы. Они выступают, следовательно, так сказать, судьями в собственном деле, и понятие истины движется по кругу.
Для того чтобы избежать этого, Кант делает еще одну попытку. Единство представлений есть, как он указывает, то, что взаимно и в их совокупности гарантирует им истину; в той мере, в какой многообразные представления совместно ведут к единому предмету, положению, образу мира, они – объективное познание. Однако я спрашиваю: на основании чего мы приходом к решению, что в данном случае существует единство, т. е. совместимость, взаимо-соответствие представлений? Ведь только на основании того, что они следуют аксиомам пространства, закону причинности, отношению между прочной субстанцией и ее меняющимися определениями и т. п., короче говоря, на основании именно тех формирующих категорий, подтверждения которых мы искали. Единство элементов представления непосредственно не обнаруживается. Того, что они логически не противоречат друг другу, недостаточно; ведь многие логически совместимые мысли в сущности не могут быть соединены. Если мы внимательно присмотримся к тому, что мы понимаем под единством предмета, души, круга мыслей, то в нем всегда окажется связь между отдельными элементами созерцания или мышления, которая опосредствуется господствующими принципами. Идут ли явления вместе во времени, в душевных переживаниях, в пространстве, составляют ли они единство, определяется природной закономерностью, вчувствованием в характер, знанием возможностей пространственных условий. В этой связи и существует единство, оно не есть нечто, пребывающее вне ее, которое обнаруживается только благодаря ей. То, что априорные нормы создают единство познания, отнюдь не доказывает рост их значения или подтверждение их значимости, ибо единство – не что иное, как название связей, которые устанавливает действие этих норм между элементами представления.
Последнее основание этих трудностей найти легитимацию априорных условий познания, которая не черпалась бы из них самих, состоит в полной несомненности, с которой Кант принимает существующее математическое и эмпирическое познание как основу каждого исследования о сущности познания. Анализ познания полностью и несомненно решил для него свою задачу, если он достаточно продемонстрировал условия предлежащей науки. Конечно, для каждого исследования где-то должен быть последний пункт, за пределами которого уже вопросы не задаются и неоспоримая прочность которого несет на себе все построение; задача основополагающих наук заключается в том, чтобы все дальше отодвигать этот пункт, заменять каждую догматическую уверенность момента уверенностью более глубокой. Следовательно, для того чтобы обосновать первые принципы сферы познания, надо было выйти за пределы самой этой сферы и перейти, может быть, в практическую, может быть, в биологическую, может быть, в религиозную сферу. Если исключить это и искать все основы познания в самом познании, то доказательства неизбежно будут в конечном итоге вращаться по кругу, так как у них нет опоры вне их собственного круга. Кантовский круг: наше познание истинно, так как и поскольку оно определено априорными нормами, а эти нормы значимы, так как определенная этими нормами наука безусловно значима, – этот круг является непосредственным выражением абсолютно теоретического характера кантовской философии, который я уже подчеркивал. Современная тенденция включить само знание в другие господствующие силы жизни или подчинить знание этим силам ему совершенно чужда – мы еще увидим, как мало значит в этом отношении знаменитое превосходство практического разума. Взор Канта настолько прикован к научному познанию, что значимость одного его элемента он способен вывести только из другого.
И наконец, новое понятие опыта создает третью трудность, которая, однако, представляется мне вполне разрешимой, причем на пути своего разрешения она еще раз озарит это понятие ярким светом. Из чувственных впечатлений складывается опыт по мере того как они упорядочиваются в соответствии с формами и законами, комплекс которых, рассматривая их как действующие душевные энергии, мы называем нашим рассудком. Формирование на этом пути чувственного материала Кант выражает двояко: чувственное обретает, с одной стороны, общезначимость, с другой – объективность. Если выразить чисто и непосредственно чувственное в форме положения, то оно будет, например, таким: я вижу солнечный свет, вслед за тем я ощущаю, что камень согрелся. Это не что иное, как сознание процессов, происходящих в органах чувств субъекта, которые завершаются их однократной и личностной данностью. Этим совершенно ничего не сказано ни о сознании других субъектов, ни о вещи вне субъектов, – следовательно, это еще не то, что мы называем опытом. Таковым оно станет лишь посредством метаморфозы в следующее положение: солнечный свет греет камень; этим дано двоякое: 1) следованию моих впечатлений соответствует отношение вещей, я не только воспринимаю, но в этом восприятии открывается бытие; 2) если это объективное действительно, то и параллельное ему восприятие не ограничено субъектом и мгновением; напротив, я уверен, что это восприятие необходимо или при таких же обстоятельствах будет у меня всегда, что не только мое, но и восприятие всех субъектов будет таким же. Следовательно, процесс, образующий опыт, можно выразить таким образом: он создает из субъективных восприятий высказывание об объективном состоянии вещей. Что обе стадии познавательного процесса совершенно различны по своему смыслу, является твердой предпосылкой Канта, с помощью которой он отвергает всякий сенсуализм; ибо для сенсуализма опыт или познание не что иное, как констатация непосредственных впечатлений, в лучшем случае, суммирование их в привычные впечатления; по своему значению все познание остается импрессионистическим, ограниченным восприятием органов чувств. Кант признает, что материал нашего познания мы получаем только из чувственного восприятия и что категории рассудка лишь придают ему особую форму, – в чем же тогда состоит огромный переворот, превращающий субъективное чувственное впечатление в свидетельство об объекте? Предвосхищая сразу то, что мне представляется единственным непротиворечивым решением этой сложной проблемы кантовского учения, скажу: по отношению к единичному событию это новое состоит исключительно в гарантии того, что именно это чувственно воспринятое событие всегда будет при одинаковых условиях повторяться для меня и для любого другого. Положение: «солнце согревает камень» добавляет, правда, категорию причинности к субъективному восприятию: я вижу солнечный свет – я ощущаю после этого нагретый камень. Однако для практики познания это дает лишь уверенность в том, что всегда я и каждый человек воспримем то же. Посредством причинности восприятие как бы только переводится в новое, более прочное агрегатное состояние. Как ни резко Кант проводит различие между положением «А есть причина В» и положением «В следует во времени за А», я все-таки не понимаю, чем эта объективная причинная последовательность отличается от определения, что во всяком вообще происходящем случае В будет во временном восприятии следовать за А.
По отношению к сенсуалистам решающее здесь то, что ставшее совершенным суждение опыта выходит за пределы каждой относительной суммы отдельных последовательностей восприятий, сколь бы велика эта сумма ни была; однако эквивалентным большей, чем абсолютной их сумме, это суждение быть не может; сверхъединичная значимость суждений означает только, что они однозначно определяют каждый отдельный случай, который вообще может произойти. Поэтому объективность и необходимость суждений опыта суть взаимозаменяемые понятия: то, что они значимы для объекта, – наименование своеобразной прочности и консолидации условий чувственных восприятий, гарантирующих их однородное повторение при одинаковых обстоятельствах.
Лекция 4
Функция объективности, которая устанавливает только субъективное как надежно равномерное, необходимо наступающее, – вследствие чего, с одной стороны, преодолеваются двойственность и случайность в сенсуализме, с другой – познание сохраняет связь с данным – эта функция казалась бы вполне удовлетворяющей, если бы не возникала новая трудность. Кант настойчиво подчеркивает: все суждения опыта, отнюдь не только формулировки чувственных впечатлений, но и подлинные, возникшие под действием категорий рассудка суждения, имеют лишь относительную значимость: то, чему научил опыт, опыт может в любой момент опровергнуть. Как сочетать это с только что характеризованными надежностью и необходимостью суждений опыта, с которыми они образуются в чисто чувственных суждениях и выходят за их пределы?
Очевидно, что это не просто специальный вопрос кантовской филологии; речь идет о том, чтобы в образе мира, который должен постепенно сложиться для нас в кантовском мышлении, спасти двойную ценность суждения опыта, подлинного носителя всего познания: с одной стороны, надежность и значимость вне простого восприятия чувств, с другой – гибкость и способность всегда вносить коррекцию, которая отнюдь не свидетельствует просто о недостатке, а с несомненностью выражает отношение духа к действительности как уходящее в бесконечность развитие. Для соединения этих двух противоречивых требований я вижу лишь тот путь, который ведет к повторному рассмотрению априорных положений. После того как Кант (я это уже показал) построил на них все познание, он с мнимой парадоксальностью продолжает: ни положение причинности, ни геометрия, ни выходящие за пределы всего единичного опыта значимые отношения чисел и все, что еще может быть в априорной сфере, не есть само по себе уже познание. Все это – пустые схемы, абстрактные формулы, которые получают значение лишь при наполнении их материалом восприятия. Они, правда, суть в опыте то, посредством чего он становится познанием, но сами по себе, изолированные, они – не познание, а только бескровная тень такового, правда, точно изображающая его очертания. Исходя из такой предпосылки, можно прийти к выводу, что все доступное нам познание пребывает между двумя границами. Внизу находится суждение восприятия, которое ничего не сообщает об объекте и не имеет значимости, выходящей за пределы отдельного случая, а лишь констатирует ощущения субъекта в их последовательности. Наверху находятся априорные, составляющие наш рассудок положения, общие и поэтому значимые для всех объектов, но представляющие собой лишь пустую форму познания действительности. Очевидно, что суждение опыта – промежуточная ступень, стадия развития между этими двумя пограничными случаями: если исходить из последовательности кантовских предпосылок, должны существовать бесчисленные ступени суждений, начиная от суждения восприятия, которое еще не есть опыт, до априорного положения, которое уже не есть таковой. Какая из категорий рассудка должна действовать, прежде всего, какую степень достоверности должно иметь отдельное суждение на этой шкале, – решают каждый раз характер, частота, интенсивность чувственных впечатлений; их определенные качества и количества вызывают как бы функционирование определенных категорий рассудка и таким образом образуют суждение опыта. Чем чище и богаче дан материал чувств, тем недвусмысленнее и увереннее выступает априорная форма рассудка, тем ближе, следовательно, суждение значимой ценности априорного положения, которой оно, впрочем, из-за неизбежного участия чувственного материала никогда полностью достигнуть не может. Априорные положения похожи на тип идеалов, с достижением которых развитие полностью изменило бы характер, полученный им в своем направлении к этим идеалам. Примирение обоих притязаний, предъявляемых суждению опыта, что оно, с одной стороны, корригируемо, с другой – необходимо, с одной стороны, чувственно субъективно, с другой – объективно всеобще, происходит таким образом, что отдельное суждение опыта (или совокупность этих суждений) находится на пути от одной крайности к другой, что в своем единстве оно принимает относительное участие в каждой из этих сторон. Уже самое поверхностное суждение восприятия могло бы на первых подступах участвовать в формах опыта, и самое прочное эмпирическое суждение, в бесконечности приближающееся к математическому, никогда абсолютно не гарантировано от преобразований, вызванных новыми восприятиями. Суждение опыта, обладающее абсолютной завершенностью его объективной значимости, уже не было бы таковым, а представляло бы собой лишь абстрактную пустую форму, совершенно так же, как сведение его к другой крайности, к последовательности восприятий, уничтожило бы его значение.
Духовно-историческая ситуация, в которой в 70-х годах XIX в. произошло возрождение кантовского учения, привела к тому, что в нем ощущали прежде всего оппозицию обычному эмпиризму, не уделяя должного внимания тому, что с точки зрения практики познания она была не столь уж далека от него. Кант, конечно, самым решительным образом отвергает все попытки эмпирически доказать математические и другие такого же рода положения; однако столь же решительно – хотя и не столь часто – он подчеркивает, что эти положения «сами по себе – не познания»! Лишь по своему чистому понятию, т. е. в своем никогда не достигаемом завершении, суждение опыта обладает теми объективностью и необходимостью, которые Кант ему приписывает в отличие от суждения восприятия. Содержание действительно предлежащего суждения опыта покрывает всегда лишь часть сверхэмпирической категории, которой оно обязано своей более чем субъективной значимостью в данный момент. Кант однажды сказал по поводу метафизического значения морали: смысл мира можно найти только в человеке, подчиняющемся моральным законам, но не в человеке, действующем по моральным законам. Это означает, что конечной целью творения, если таковую мыслить, является не нравственно совершенный человек, а человек, действующий по нравственным нормам и требованиям, хотя он реализует их всегда в очень различной степени и никогда не реализует полностью. Именно такова внутренняя форма процесса познания:
его ценность отнюдь не зависит от того, достигнет ли оно действительно всеобщности и необходимости, из которых оно как из своих нормы и цели извлекает всю ценность своих отдельных стадий. Вся беспомощность современной интеллектуальности, даже современного существования, его никогда не лишенного цели, но всегда далекого от цели стремления, не могла бы быть выражена более сильно, даже – в той мере, в какой Кант допускает такое выражение, – более страстно, чем в том, как Кант, всем сердцем привязанный к совершенным истинам математики и к априорным положениям, все-таки отрицает их самостоятельную ценность для духовного постижения всей полноты действительности; он передает эту ценность соединению априорных положений с субъективно-случайным чувственным образом, соединению, право которого следует как бы «худшей стороне» и наследует вместо совершенства возможность развития. В этом утверждении о сущности познания предвосхищается современная идея развития, самой глубокой и всеохватывающей форме познания уже придан тот характер, содержания которого лишь через столетие достигли зрелости.
Еще одному типу духовно-исторического синтеза соответствует это решение проблемы познания. Именно то, что дает познанию содержание и значение, восприятие, препятствовало тому, чтобы познание поднялось до безусловной значимости и объективности; с другой стороны, именно тот элемент познания, который придает всем восприятиям объективность и более чем мгновенную значимость, – категории и основоположения рассудка, – был сам по себе пустой формулой, допускающей познание лишь тогда, когда оно нисходит со своей высоты и заполняется случайностью содержания ощущения. И именно это относится к тому великому типу, который описан Платоном в следующих изречениях: никто из богов не должен заниматься наукой, ибо они уже обладают знанием; но и никто из совершенно незнающих, ибо они не стремятся к знанию; следовательно, если философы являются не вполне незнающими и не вполне знающими, то они должны быть, очевидно, теми, кто служит посредниками между теми и другими. Самые глубокие проблемы жизни обретают для нас эту типическую форму. Душевные, судьбоносные, ценные явления предстают нам как единства, с которыми как таковыми наше сознание не знает, что делать; чтобы вчувствоваться в них, воссоздать в нас их смысл, мы извлекаем из каждого такого единства двойственность элементов; представленные в односторонней абсолютности, они создают посредством взаимных модификаций конкретное явление, которое предстает как смешение или среднее этих крайностей. Так, развитие мира трактуется как борьба между Богом и дьяволом, между Ормуздом и Ариманом; так, существование общества толкуют как равнодействующую между самим по себе только индивидуалистическим и самим по себе только социальным влечением; так, мы приближаем к себе единые образования искусства, формирования жизни, речи лишь настолько, чтобы сопоставить интерес к их чистой форме с интересом к их чистому содержанию и только в синтезе их постигаем значение целого. Пусть это – круг и фикция, которые, фантазируя, сначала выводят из единого и ограниченного двойное абсолютное, чтобы затем посредством его двустороннего ограничения вновь получить это единое; однако это ведь повторяет основной факт высшей органической жизни, который состоит в том, что только из смешения двух противоположных потенций возникает новое жизненное единство; и это является во всяком случае неизбежной формулой нашей разновидности духа, позволяющей нам интеллектуально ассимилировать единство вещей, к которому мы не имеем непосредственного доступа. Таким образом, Кант впервые подчинил интеллектуальность ее собственному закону. Он придал процессу познания самое прочное, доступное интеллекту единство, определив оба элемента, попеременно притязавшие на этот процесс как сами по себе недействительные крайности, сочетание и противодействие которых только и создает единственно легитимное познание.
Тем самым у Канта более чем у любого другого философа интеллект стал господином в собственном доме; во всех односторонне сенсуалистических, как и в односторонне рационалистических теориях познания проявляются практические, коренящиеся вне интеллекта импульсы чувства и воления. В суверенном же интеллектуализме Канта обнаруживаются глубина и жизненность, которые другие мировоззрения обретали только посредством отказа от интеллектуалистического принципа. Мы видели: законы, господствующие над познанием как над процессом в субъекте, должны быть значимы для всех предметов познания. Но в этой основной мысли, которая определила констатируемые свойства объектов, можно подчеркнуть, что характер познания есть деятельность. Названные законы значимы для духа как живой, функционирующей, действующей сущности; его содержания, подчиненные априорным законам предметы опыта, не суть поэтому нечто вне функций духа, они – его деяния. В них не остается ничего застывшего, неживого, недуховного, ибо они полностью растворены в процессе опыта. Кант обосновывает эту решающую мысль, посредством которой теория познания переходит в мировоззрение, чрезвычайно простыми положениями. «Мы не можем мыслить линию, не проводя ее мысленно, не можем мыслить круг, не описав его, совершенно неспособны представить себе три измерения пространства, не поставив вертикально друг на друга три линии, выведенные из одной точки; не можем представить себе даже время без того, чтобы при проведении прямой линии (которая должна служить внешним образным представлением времени) не обращать внимание только на действие синтеза многообразного. Следовательно, рассудок не преднаходит связь многообразного, а создает ее».
Отправной пункт здесь следующий: все предметы, которые мы себе представляем, так или иначе обладают формой, и каждая форма есть соединение простых элементов; это соединение, которое мы себе представляем, не может прийти к нам – подобно чувственным впечатлениям – от объектов; напротив, соединение «может быть совершено только субъектом, поскольку оно есть акт его собственной деятельности». Следовательно, когда мы созерцаем пространственный предмет, в нем дано то, что мы должны пассивно взять от действительности, сумма самих по себе не связанных точек чувственных воздействий, окраска и осязаемость предмета. Пространственным он становится по мере того, как эти, так сказать, нелокализованные атомы впечатления соединяются внутри нашего сознания. Для того чтобы они образовали обладающий определенной формой предмет, сознание должно скользить от каждого из них к другому, выходить из каждого, не позволяя ему исчезнуть, следовательно, устанавливать между ними связь, извлечь которую ни из одного из них самого по себе невозможно; пространственность вещей и есть этот синтез, который дух образует между отдельными элементами ощущения, или – отношение между ними, которое еще не следует из их для себя бытия, а создается лишь благодаря тому, что дух в своем единстве приводит их к взаимному соприкосновению. Также обстоит дело и с пребыванием во времени воспринятых событий. То, что они происходят последовательно, есть следствие их формирования, которое отсутствует в содержаниях восприятия. Для того чтобы высказать их следование друг за другом, уже исчезнувший в сознании элемент должен быть удержан и сопоставлен с присутствующим; они должны быть соотнесены друг с другом вне воспринимаемого в них. К впечатлениям, событиям, судьбам мы можем относиться пассивно, просто воспринимая их; но то, что они происходят одновременно или друг за другом, уже своего рода сравнение, которое совершает дух, расположение их на существующей не в них, а в нем линии, – в этом нет ничего свободного или произвольного, что он мог бы образовать или преобразовать посредством воли, это его закономерная деятельность, но поэтому она не становится в меньшей степени деятельностью. Таким образом, не только причинность, образование фразы, построение системы мыслей совершаются посредством активного использования духовных элементов, но уже восприятие отдельного объекта, пространственной субстанции, происходящего во времени требует сводящей воедино энергии. Формообразующая деятельность нашего духа открывается как условие самых элементарных представлений, как созидающая то, что мы обычно принимаем просто в виде данного материала нашего познания. Очерченная здесь мысль, что каждая форма вещей, в которой они суть действительные предметы нашего опыта, – есть действие познающего духа, составляет подлинное ядро кантовского «идеализма»; теперь нам надлежит рассмотреть по отдельности, как под влиянием духа формируются различные слои образа мира.
Толкование, которое дает этому Кант, основано на двух понятиях: материале и форме. Мир представлений делится в его понимании на данные материалы, которым придают форму внутренние энергии. Что это может происходить без остатка, совсем не само собой разумеется. Бытие дает себя нам непосредственно как простая действительность, которая сама по себе не заставляет производить разделение на материал и формирование; мы же расщепляем непостигаемое для нас в своем единстве бытие на эти категории, в которых мы можем приблизить его к нам. В своем практическом применении они сразу же предстают как вторая противоположность: множество и единство. При каждом формировании множество элементов объединяется в единство. Формы пространства, мысленных образований, переживания, услышанного и ощущаемого означают, что взаимоотношение отдельных элементов схватывается как единство. Простая сумма подобных – лишенных связи – элементов есть просто материал; он получает форму как их связь благодаря тому, что из совокупности всех элементов одна их часть выделяется и противопоставляется всем другим как образующее единство. Каждое формирование есть отделение: линия, посредством которой мы вводим форму в плоскость, отдаляет одну ее часть от другой; и оно есть также объединение, ибо одна часть противопоставляется теперь другой как единство. Когда мы составляем предложение, мы постигаем слова, ни одно из которых не несет в себе смысла, как относящиеся друг к другу, и в этом единстве простой материал слов получает без какого-либо количественного изменения форму предложения и т. д. Короче говоря, то, что мы называем формой, есть с точки зрения осуществляемой ею функции объединение материала; она – преодоление изолированного для себя бытия его частей, целостность которого как единство из частей и над частями противопоставляется теперь другому, не получившему формы или получившему иную форму материалу.
Такова фактическая – Кантом не подчеркнутая – связь, исходя из которой, он, разлагая мир представления на материал и форму, может в конечном счете видеть в единствах, образующихся из множества данного, центр вращения всего понимания мира. Данное многообразие чувственности, фантазии, мышления становится познанием лишь благодаря тому, что оно формируется, т. е. приводится в единство, срастается в единый смысл. Только это объединение создает из данного материала объективное образование. Когда я ощущаю солнечный свет и затем тепло, то это – факты, которые только существуют рядом в моем сознании и еще не дают познания. Но если возникает положение: солнечный свет – причина тепла, то в нем оба понятия перешли из простой последовательности в единство, их объединяет единый процесс – и тем самым они объективированы, случайность моих ощущений сменило объективное отношение элементов, независимое от всего субъективного. Объективный предмет возникает, когда отдельные чувственные впечатления кристаллизуются в связывающее их единство; посредством этого они становятся тем, что называют свойствами вещи. Когда ощущения – сладкое, твердое, белое и т. д. – обретают непосредственное единство, они становятся объектом «сахар», в единство которого эти ощущения входят как его качества. Так же возникает объективное суждение – субъект и предикат, вместо того чтобы посредством простой психологической ассоциации отталкиваться друг от друга, объединяются словом «есть». Ибо это означает, с одной стороны, единое пребывание обоих понятий друг в друге, внутренний их сплав в одном смысле, для которого во внешнем мире нет аналогии; и с другой стороны, реальность связи, которая может повторяться или не повторяться субъектами, без того чтобы ее объективная значимость каким-нибудь образом зависела от этого. Таким образом, единство предмета и объективность его познания – одно и то же, процесс, который ведет к одному, создает именно этим и другое; «Мы говорим, что познаем предмет, когда достигаем единства в многообразии его созерцания», – утверждает Кант. Это – основополагающая мысль удивительной глубины: мы познаем предмет, создавая его. Мы избавляем содержания нашего представления от текучей случайности осознания в данный момент и превращаем их в мир вещей – именно этим мы их познали, т. е. мы проникаем в них как в объекты, находим в них осуществленными наши требования логической гармонии и понятийной связи, поскольку именно посредством применения этих норм они стали объектами. Предыдущее рассмотрение априорности показало, что дух заключает каждое возможное содержание его опыта в присущие ему, составляющие его формы, и таким образом все, что мы узнаем, должно свидетельствовать об этих формах, поскольку оно только посредством их применения становится опытным знанием. В этом положении кроется более глубокий пласт: единение многообразного оказалось всеобщей функцией, которая, ведя из субъекта, вообще создает объект как таковой, а вводя в субъект, означает познание объекта, – это один и тот же акт, который может быть рассмотрен с этих двух сторон. Объективация означает фиксацию и сохранность, предоставляемые диффузными чувственными материалами друг другу посредством их объединения, успех же этого объединения одновременно удовлетворяет притязания, которые предъявляет наше влечение к познанию.
Лекция 5
Значение, которое единство наших представлений получило для их объективности, можно рассматривать просто как факт, подлинную движущую силу которого еще следует найти. То, что из бесконечных и бесконечно многообразных отдельных элементов душевного или космического характера составляются единства, предметы из чувственных впечатлений, суждения из понятий, объясняется по основополагающему убеждению Канта тем, что наша душа образует Я. Вся внутренняя жизнь соотносится для чувства каждого с глубочайшей точкой в нем, которая ни из чего другого не может быть выведена, из которой, напротив, возникает вся сознательная личная жизнь. Мы называем эту точку Я и определяем этим то, что в качестве единственно длящегося и тождественного сопровождает никогда не длящиеся и движущиеся в необозримых противоположностях содержания жизни. Таким образом, у нас, с одной стороны, только форма, с другой – только чувство, и именно они вследствие своей бедности и отсутствия смысла способны указать однозначно единую точку, с которой соотносятся все отдельные элементы сознания; ибо все мои представления должно сопровождать некое «я мыслю», так как в противном случае они не были бы моими. Следовательно, Я есть единство, в котором сходятся все мои представления, более того, оно единственное абсолютное единство внутри нашего существа, противостоящее экстенсивности и разносторонности материи нашей душевной жизни и в качестве таковой единственно способное осуществить в себе и посредством себя то объединение элементов, в котором возникает объект и его познаваемость. Единство нашего самосознания предписывает форму, или она есть действующая сила, посредством которой как бы нелокализованные отдельные представления собираются в единство, т. е. в предметы и суждения. Единство объекта есть отражение единства субъекта. Бесконечное распространение атомизированных, рядоположных элементов бытия находит свою организацию в душе, в которой все эти многообразные лучи пересекаются, как в фокусе, а тем самым и в объекте, в котором, вернее, для которого, в не меньшее единство срастается многообразие его определений. Разумеется, Я дает для этого генезиса картины мира, составляющего бесконечный процесс, лишь свою общую форму, делает только возможным, чтобы бытие существовало для нас вообще как объект и как содержание объективного познания; Я не может предотвратить того, чтобы единение не охватывало бесконечное число раз содержания, которые должны затем выйти из него, и столь же часто проходит мимо тех, без единения с которыми связь целого, собственного говоря, не может существовать, – так же как с субъективной стороны формальное единство нашего самосознания не защищает от того, чтобы не образующие связь настроения, противоречия и разорванности не оказались под его эгидой.
Современная психология могла бы с разных сторон интерпретировать этот основной мотив; укажу лишь на один пример. Посредником между единением и объективным становлением бытия служит то отношение, которое можно обозначить только с помощью пространственного подобия – дистанции между нами и вещами. То, что есть для нас объект, противостоит нам на известном расстоянии, а это означает, что он самостоятелен, что его качества и закономерности не зависят от случайностей нашей субъективности и нашей воли. Когда мы говорим об объективном существовании вещи или об объективной значимости связи, мы имеем в виду для себя сущее бытие, которое, правда, ежеминутно может всегда быть одинаковым образом дано нам в представлении, но именно самой этой постоянной возможностью доказывает, что его истина не зависит от того, представляем ли мы его себе или нет; в данный момент еще не ставится вопрос, не включает ли в себя Я в более широком смысле также и эти самостоятельность и дистанцию, в которых мы видим все объективное как таковое. Чувство этой дистанции и представление о ней дает нам объект посредством его концентрации, посредством того, что все части его объема соотносятся с внутренним центром и держатся им в связи. В той мере, в какой элементы целостного представления сближаются друг с другом и соединяются в одном смысле, в одной субстанции, в одной закономерности, оно отдаляется от нас, становится существованием для себя; это доходит до той крайности, когда его замкнутость и самодостаточность вообще закрывают нам доступ к нему и оно противостоит нам как одна сила другой, как в себе завершенное и недопускающее разрыва целое, как сама наша душа. Отчетливее всего эта связь обнаруживается в произведении искусства. То, что оно есть мир в себе, сплошная безмятежная область внутри общего бытия, находящаяся по ту сторону всей непосредственной жизни, – это выражение его внутреннего единства, результат того, что каждое слово стихотворения, каждый штрих картины обращены лишь к смыслу этого целого и отвергают всякое отношение к интересам или фактам вне его[1].
Если в художественном произведении отсутствует это единство, если его единичные стороны не тяготеют необходимым образом к мысли, чувству, созерцанию или как бы ни называть его центральный смысл, – оно сразу же теряет свое для себя бытие, не предстает больше как самодостаточное существование, освобождающее нас этим от нас самих и фактической повседневности жизни. Если совершенное художественное произведение противостоит нам как блаженный остров, неприкасаемо, как построение из других, отличных от наших, и тем не менее глубоко родственных нашей душе измерений, высказывая в своем значении загадку нашего существования, – то это как будто несовместимое является результатом того единства, в котором пребывает художественное произведение, ибо это единение придает ему форму души. Такова последняя причина того, что в художественном произведении все случайное, одностороннее, просто субъективное в жизни и судьбе возвышается до строгой объективности, – будто в нем действует только закон его деяния, чистая, сверхчувственная форма вещей; вместе с тем произведение искусства есть и самое глубоко человечное из всех образований, самое безусловное господство души над всей данностью бытия. Поскольку оно являет собой вершину всей человеческой деятельности, в нем наиболее полно и явно выражена великая мысль Канта: объективность вещей по отношению к нашей душе заключена в том их единстве, которое сама наша душа придает им и в котором они повторяют ее собственную форму.
В этой мысли все деяние Канта достигло, быть может, своей наибольшей глубины. Сначала он доводит различие между субъективностью и объективностью до абсолютной противоположности. Всякое определяемое ассоциациями или вообще психологически определяемое представление, следовательно, просто говоря, представление в его эмпирической реальности, чисто субъективно. Объективность, в которой состоит вся познавательная ценность этого представления, есть идеал, к которому оно стремится, бесконечно развиваясь, и которому в качестве прочного владения принадлежат лишь априорные формы – собственно говоря, пустые схемы, никогда полностью не выполняемые обещания. Понимание Кантом объективности, т. е. права, необходимо значимого для всех субъектов без исключения соединять известные качества в предмет, известные представления – в суждения, столь строго, что, желая сохранить его чистым, он не позволяет ему достигнуть всего познания данного мира, а ограничивает его опытом, который не может быть свободен от чувственной и поэтому всегда корригируемой субъективности. После того как субъективность и объективность стали для Канта полюсами познаваемого мира, он вновь сближает их, толкуя одну в ее завершенности как подобие источника другой; ибо без сознания Я не было бы и субъективной жизни, как мы ее знаем. Именно самый глубокий внутренний пласт Я есть мотив и сила, посредством которых вещи становятся объектами, представления – истинами вне Я: категории, действие которых превращает материал чувств в познание, суть отдельные способы, с помощью которых центральное единство нашего самосознания решает задачу преобразования субъективно данного в объективный мир, каналы, по которым вся широта явлений стремится к концентрации в единства и в единство. Вследствие того, что именно сокровенная глубина души, последняя инстанция в ней, предоставляет свою форму, чтобы образовать самое объективное, по своему смыслу самое от нее независимое, – вследствие этого образ мира обретает несравненную законченность, и она достигнута не ценой сужения задачи, напротив, весь ее смысл заключается в широте напряжения, которое она полагает между самосознанием и миром объективной истины. Здесь осуществились все предчувствия и указания, которые, то смутно ощущая, то мистически глубокомысленно, стремятся выразить, что человек достигает чистейшей истины вещей, погружаясь в самого себя: ибо, с одной стороны, они доведены до своего самого радикального смысла, они охватывают всеобъемлющую форму всего внутреннего и всего внешнего; с другой – избегают заблуждения и ограниченности предполагаемой возможности познать мир, не воспринимая его. Опыт сохраняет все отдельные черты своей действительности, и ему теперь только в качестве целого гарантирована неразрывная связь: точка, из которой опыт исходит и которой он завершается, абсолютность субъекта и абсолютность объекта вросли друг в друга. Единство его формы охватывает все ступени бытия, которые приближаются к нему в виде идеала и своим происхождением из единого Я служат залогом того, что при этом развитии не может быть по крайней мере принципиальных ошибок.
В этом пункте необходимо внести исправление в обычное понимание Канта. Что мир есть наше представление – воспринимается обычно как основополагающее открытие Канта и из этого, в сущности, исходило его культурное воздействие; распространенность этого воздействия основана на том, что постигнутая таким образом структура мира есть полное выражение настроенности самых противоположных натур. Мир есть мое представление, следовательно, мое представление есть мир, я его господин, во мне – пространство для него, вне меня нет ничего. Мир есть мое представление – его действительность, открытая истина вещей для меня вечно недостижимы, я замкнут в узости моей способности представлять, от духа, стремящегося к бытию, она отступает, как плоды от руки Тантала. Экспансивные и энергичные, так и склонные к резиньяции и пессимизму натуры могли строить на этом учении свою картину мира – и это является несомненно одной из причин его привлекательности. И все-таки это основано на заблуждении. Подобное понимание кантовского идеализма придает ему такое значение для субъективной жизни личности и ее отношения к бытию вообще, которое совершенно не соответствует намерениям Канта. Я, соединяющее мир воедино и создающее этим его как объективное бытие, – это Я, как мы еще увидим, отнюдь не личностно, отнюдь не «душа», для которой доступность или недоступность мира вне ее – вопрос жизненной ценности. И соответственно то, в чем нам вследствие характера мира как представления отказано, отнюдь не есть предмет, стремление к которому имело бы смысл, но, как сказал однажды Кант, «просто каприз», вернее, создание нашей фантазии и произвола в значительно большей степени, чем эмпирически представляемое бытие, которое в этом обвиняют. Несомненно, учение Канта утверждает суверенность духа по отношению к миру, но оно коренится в другом: в господстве, которое Я как формирующая центральная сила мира сознания осуществляет над материалом чувственных впечатлений. Дух означает: сведение воедино многообразного, внедрение друг в друга элементов бытия, по отношению к которому простая рядоположность и последовательность чувственных впечатлений не могут служить ни подобием, ни сближением. По мере того как эта решающая энергия нашей духовности направляет данное содержание объективной картины мира, чтобы оно в конце концов вошло в ее форму как в свое осуществление, смысл духа становится одновременно смыслом вещей; господство, посредством которого последняя инстанция нашего мышления формирует всю совокупность наших чувственных восприятий, бесконечно более глубоко и ценно, чем то, что может нам дать в сущности стерильная истина, состоящая в том, что представляемый нами мир есть наше представление.
И все-таки этой мысли как будто присуща еще последняя узость. При соединении субъекта и объекта в единстве самосознания можно было бы считать пространство, в которое они входят, как бы слишком ограниченным, будто субъект в силу его интеллектуального эгоизма заставляет вещи говорить его субъективным и всегда односторонним языком. Лишь дальнейшее развитие этих основных понятий Канта расширяет их настолько, что величина объекта скорее охватывает субъект, чем страдает от производимого им ограничения.
Для Канта материал его проблем – мир, данный нам как эмпирическое познание. Так же как представление, которое его только и интересует, из мира выходит, оно должно вновь возвращаться в мир. Для Канта было бы неприемлемо объяснение, которое делало бы это единственно действительное бытие зависимым от пребывающей вне его пределов инстанции. Как ни превосходит принципиальная значимость априорных понятий и норм каждое мгновенное состояние опыта, свое действенное существование они имеют лишь внутри каждой эмпирической картины мира. Так же обстоит дело и с Я, посредством которого мы имеем объективный мир и которое живет и выражает себя только в названных категориях. Элементы бытия ведь никогда не бывают связаны в опыте (разве что в метафизической или религиозной спекуляции) только совершенно общим единством; они либо принадлежат в качестве различных свойств одной субстанции и образуют таким образом одну вещь, либо два элемента связываются, будучи извлечены из пестроты следующих во времени друг за другом событий, в один причинный ряд, либо субъект и предикат образуют одно суждение, либо множество происшествий составляют судьбу одного существа и т. д. Я – как бы первичная энергия, выражающаяся во всех этих формах, – Кант называет его «средой категорий» – момент единства этих различных объединений, который также не обладает обособленным от них существованием, как душа в широком смысле не существует вне чувств, мыслей, стремлений человека. То, что мы называем Я, не что иное, как единство, в котором встречаются отдельные содержания представляемого мира; не существует единства без элементов, которые им или в него формируются, во всяком случае не существует в границах познаваемого мира. Субстанциальная «простота» субстанции души в качестве метафизического носителя представляемой жизни так же не имеет ничего общего с единством внутри этой жизни, как характер оболочки с характером ее содержания. Я самосознания живет только в мире, принимающем его форму, подобно тому как Бог пантеизма живет в мире, в котором он изливает себя как его смысл и подлинное бытие и вне которого он также не есть что-либо, как мир вне его. Я, схваченное обособленно, вне его функции, осуществляемой на материале чувственного мира, оказывается просто общим чувством существования, как представление – схемой, из которой, правда, нечто другое может извлечь свое определение, но которое само есть лишь нечто совсем неопределенное и пустое. Одним словом, Я, отражением и продуктом которого оказалось единство, характер объектов, познаваемость вещей, – это Я – не что иное, как функция для создания всего этого. У функции, которая несет на себе наш познаваемый мир, нет своего носителя, Я растворяется в своем действии, оно не более чем деятельность; оно и мир, в котором оно живет, так же, как мир в нем, не имеет бытия в смысле стабильной субстанции, а есть лишь становление, беспрерывное образование, преобразование, развитие. Как мир нашего познания открылся нам в качестве процесса, в котором чувственная данность входит в форму как объект, как связь, как суждение, так Я, предоставляющее ей эту форму, растворяется в ней; Я – не сторона по отношению к этой данности, а лишь ее формирование; вне ее оно может иметь лишь идеальную значимость чистого, абсолютного, полностью гармоничного единства, к которому мир, развиваясь, стремится в нашем познании.
В этом обнаруживается достойная упоминания эволюция основных философских мотивов. С пояснения, что факт мыслящего Я есть единственно совершенно несомненный, началась философия Нового времени; в несколько более свободном определении: самосознание явило собой единственно непосредственную и безусловно значимую реальность. Вводя объективный мир в самосознание – ибо он объективен лишь постольку, поскольку самосознание дает ему его форму, – Кант предоставил объективному миру величайшую действительность, которой располагает в определенный момент мышление. Однако то, что Я растворяется в содержаниях мира, что оно есть просто форма и функция, благодаря которой эти содержания связываются в познаваемый, единственно реальный космос, – означает, что леса снимают, когда строение закончено. Решающая мысль, что объективность существует в единстве, которое представления получают от структуры их арены, Я, – устраняет сомнение Декарта в объективно-действительном; но вследствие этого Я теряет свое особое положение, свою выходящую за пределы мира единичных познаваемостей значимость; оно – в гносеологическом понимании – теперь не выше мира. Таким образом, в этом духовно-историческом развитии мир должен был сначала утратить всю свою реальность, передав ее Я, чтобы оно принесло себя ему в жертву и тем самым вернуло ему его реальность на более высокой ступени.
Тем самым вновь становится ясной нелепость или непонимание утверждения, будто Кант субъективировал мир. Значительно правильнее было бы обратное: что Кант объективировал Я, полностью растворив его в мире, который в качестве познаваемого есть его деяние. Если же, следуя обыденному восприятию, понимать субъект как душевную сущность, обладающую существованием и значением для себя по эту сторону ее функции применительно к материалу бытия, а объект как действительность по ту сторону познаваемости и ее форм, в которые действительность лишь впоследствии вводится, – то Кант вообще стоит над всей этой противоположностью. Для него, поскольку речь идет о познании, существует только один мир, а не его посюсторонность и потусторонность. Для метафизики, которая кристаллизует внутренние движения мира опыта в особые существа в качестве носителей и оснований этих движений, единство мира находится, с одной стороны, в абсолютном Я, с другой – в абсолютном бытии, которое само по себе не входит в множественность и особенность мира опыта. Но смысл метафизики в потребностях, находящихся вне познания. Для познания же, для которого закрыто абсолютное – не как следствие недостатка и резиньяции, а как абсолютное выражение его сущности, – единство может означать только взаимодействие частей существования, динамическое отношение, посредством которого элементы мира становятся суждениями, предметами, причинами и действиями, осмысленными связями. Так, мир есть система взаимно несущих факторов, Я – деятельность, которая приводит чувственные элементы к этим противоположным действиям, т. е. к их единству, но не выходит из них; Я есть жизненность мирового процесса, который состоит в связи этих элементов, – понятной, образующей объекты, формирующей хаос чувственности.
Если это сближение субъекта и объекта правильно толкует ядро кантовского идеализма, то оно представляет собой один из величайших синтезов двух расходящихся по обе стороны путей духовного развития Нового времени. Ибо сколь ни отличается это развитие от древности и средних веков, в одном пункте оно совпадает с тем и другим: в разработке понятия объекта и понятия субъекта, которые в последние четыре века достигли в своей взаимной противоположности друг другу неведомой до того остроты и самостоятельности. Объективный мир как механизм сплошных закономерностей, доступ к которым закрыт субъективным силам – цели, высшим духам, свободе; ему противостоит человеческая личность, душевность которой противостоит природе, создавая своим полаганием ценностей совершенно особый мир, и духовное для себя бытие которой не ведает аналогий, – то и другое лишь в Новое время настолько разошлось, что со всеми мифологиями и телеологиями с их смутным смешением обоих принципов было покончено. Однако одновременно неизбежно возникла потребность восстановить утраченное единство, достигнуть примирения на более высокой и осознанной ступени того, что на наивной стадии должно было распасться. В той мере, в какой эта проблема рассматривается только в сфере интеллекта, решение Канта обладает несравненными величием и широтой. Оно показывает, что область возможного опыта обладает всей прочностью, независимостью от всех случайностей субъективных интересов, замкнутостью закономерных связей, которые мы и определяем как объективность; но что она есть деяние глубочайшей точки нашей субъективности, лежащей настолько глубоко, что вся субъективность в обыденном понимании, вся особенность личностей, весь произвол чувств – короче говоря, различия между людьми и внутренние различия человека – ее больше не касаются. Глубокое удовлетворение этим решением заключается в том, что именно тот мир, который мы действительно имеем в нашем познании, оказывается вне этой противоположности как таковой, ибо он вырос из синтеза ее элементов, пребывает в этом синтезе.
Лекция 6
Принцип, рассмотренный последним, притязает на то, что он приводит к единству всю совокупность мира представлений. Необходим по крайней мере один пример, чтобы показать, какой образ принимают под его господством сущностные единичности картины мира, – прежде всего проблема пространства. Что же такое этот бесконечный сосуд вокруг нас, в котором мы плаваем как потерянные точки и который мы тем не менее представляем себе со всем его содержанием, который, следовательно, так же есть в нас, как мы в нем? И если качества вещей, их цвета и их твердость, их вкус и их температура возникают только в нашей душе и таким образом создают образы вещей, – как же мы полагаем, что ощущаем их все-таки не в нас, а вне нас, что мы перемещаем их из нашей души в пространство вне нас? Кантовское решение этой проблемы стало, как известно, самой популярной главой его теории познания, – по моему мнению, по той причине, что оно составляет первую главу его главного произведения и может быть легко сформулировано. Что пространство есть только представление и не существует вне представляющего существа, – тезис, который либо сводится к само собой разумеющемуся, к тому, что мои представления суть мои представления и в качестве таковых не что иное, или требует интерпретации, проникающей во все глубины кантовской системы.
Я исхожу из основной мысли Канта: чувственное ощущение еще не есть познание. Вернее: элементы ощущений становятся созерцаниями по мере того, как они в нашем сознании принимают ту форму, которую мы называем их пространственностью. В области зримости и осязаемости созерцание и созерцание в пространстве одно и то же. Пространственность вещей, с точки зрения Канта, есть формальное отношение ощущений – составляющих качественное содержание вещей – друг к другу; эту пространственность мы называем – в качестве действия субъекта – созерцанием. Причину того, что наши ощущения упорядочиваются именно в пространственной форме, Кант отказывается исследовать: это приходится принять как последний факт, вывести который из предшествующего невозможно. Выражение «созерцание пространства», как ни применимо оно в эмпирии, является здесь, где речь идет об основах эмпирии вообще, тавтологией. Мы созерцаем не пространство вещей как объект, созерцанием называется привнесение нами ощущений в своеобразный, недоступный ни описанию, ни переживанию порядок, который мы называем пространственностью. Только при таком толковании можно понять темный смысл положения: созерцание вещей есть пространство; пространство есть не что иное, как обозначенная определенным и как бы субстанциальным понятием функция, которая в применении к ощущениям называется созерцанием. Если Кант всегда определяет пространство как «чистое созерцание», то это следует понимать в том смысле, в котором говорят о чистом предлоге, о чистом обороте речи, т. е. имея в виду просто предлог, просто оборот речи и более ничего; пространство – просто процесс созерцания. А то, что оно есть сверхэмпирическое созерцание, означает только, что этот процесс как таковой не содержит ощущений, так как они ведь составляют лишь материал, к которому он применяется. Поэтому Кант прямо говорит: эмпирические явления содержат «помимо созерцания еще реальность ощущения». В другом месте он определяет пространство как «отношение» чувственных ощущений друг к другу. Но очевидно, что в соответствии со сказанным раньше это отношение должно быть сначала создано, ибо каждое ощущение само по себе есть как бы точечное состояние. Создание этой связи является активность субъекта, действие его созерцания, которое, собственно говоря, не создает пространства, напротив, пространством является; хотя, с другой стороны, «отношение» не может существовать без элементов, относящихся друг к другу, следовательно, пространство может действительно быть лишь в чувственных объектах.
Больше всего затемняет это учение и мешает его правильному пониманию двойное значение слова «пространство» у Канта. Кант обозначает им, во-первых, то, что мы имеем в виду, а именно, пространственность вещей, форму конкретных ощущений, которая превращает их в предметы опыта. Но вместе с тем также, следуя обычному словоупотреблению, тот огромный пустой сосуд, который существует независимо от всех единичных вещей и в котором эти вещи пребывают. Но это бесконечное, пустое пространство не более чем абстракция! Созерцать можно не его, а только отдельные, конечные вещи, ибо процесс созерцания может происходить только применительно к материалу ощущений, следовательно, к конечному. Пустое пространство, т. е. пространство, которое не более чем пространство, не имеющее чувственного материала, для Канта лишь порождение мысли. Если геометрические фигуры суть только пространственные созерцания без какого-либо содержания ощущений, то для Канта это означает следующее: отдельная фигура, с помощью которой доказывается геометрическое положение, есть чувственно ощущаемая отдельная вещь; но при геометрическом высказывании о ней обращают внимание не на чувственно-материальное в ней, а только на действие конструкции, которая, однако, без него не может иметь места; при этом от чувственно-материального абстрагируются, высказывание относится только к конструктивному процессу, посредством которого ощущения становятся пространственными образами. Следовательно, если для Канта пространственные образы существуют только в вещах, то совершенно неправильно видеть в пространстве кантовского учения принципиально независимое от эмпирических вещей бытие; бесконечный сосуд, в который помещены вещи, наподобие мебели в комнате. Его бесконечность означает не что иное, как «безграничность в ходе созерцания», т. е. совершенно неограниченную возможность все дальше продолжать процесс образующего пространство созерцания. Конечно, для нашего созерцания нет границы пространства, потому что везде, где мы созерцаем, мы созерцаем пространство, т. е. то, что мы называем созерцанием, есть не что иное, как пространственность ощущений.