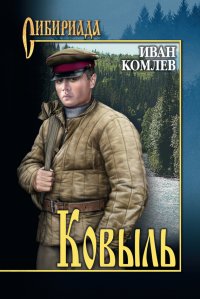
Читать онлайн Ковыль (сборник) бесплатно
- Все книги автора: Иван Комлев
© Комлев И., 2016
© ООО «Издательство «Вече», 2016
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016
Сайт издательства www.veche.ru
Ковыль
Глава 1
К ноябрю сорок третьего, когда поставили под разгрузку последнюю баржу, от Серёжки остались одни глаза. Глаза его смотрели из-под большого помятого козырька фуражки с терпеливой тоской заезженной старой лошади, которая давно уже не боится ни окрика, ни кнута и тянет свой воз лишь по привычке.
На тонкую шею Серёжки Узлова наделось просторное потное ярмо работы, чтобы он вместе с народом удерживал тыл и помогал фронту, который трещал и надсаживался под тяжким гнётом войны.
Безумие охватило землю. Германия, одурманенная фашизмом, уверовала в своё право распоряжаться судьбами всех народов, порушила мир, стала силой подчинять себе другие страны. А чтобы наверняка победило их злое дело, нацисты велели своему народу и тем, кто им поклонился и принял их фашистскую веру, изгнать из сердца всякую жалость – как признак слабости и неполноценности; череп и кости нарисовали главные преступники на мундирах самых отпетых губителей жизни – долой сантименты! – на службу взяли Бога: на христианский босый крест надели кованые башмаки – превратили его в свастику, и пошла она давить железной ногой – «с нами Бог!» – города, посёлки, деревни и хутора и всех, кто мирно жил там. И молодых, и старых, и детей…
Серёжку уже не радовало, что заканчивался срок его работы и, как только последнее обледенелое бревно окажется на берегу, лейтенант Вахрамеев подпишет справку и отпустит домой к матери, к Нюрке с Мишуком.
Как они там? Всего лишь одно письмо получил он из родной деревни за три месяца. Мать спрашивала о здоровье, как его кормят тут и просила не надрываться, беречь себя, как будто бы есть на баржах специальные лёгкие брёвна для Серёжки – потоньше и покороче.
О своей и деревенской жизни она писала скупо: «У нас пока все живые, а кто по деревне помер, потом сам увидишь».
Ждановка – небольшая деревня, всех знает Сережка, но от того, что кто-то там умер и – по невнятному намёку-умолчанию матери – человек ему близкий, похоже не один, в душе у Серёжки ничего не дрогнуло, не шевельнулось и тоски не прибавилось, будто изработался он и был заполнен усталостью до краёв, так, что ни для каких других чувств места в нем не осталось.
И то, что по-прежнему живут в голоде мать, сестра и братишка – тоже было ясно ему из скупости письма, но и это его почти не трогало: весь мир был голодным и пуще всех он сам, Серёжка. Котловое довольствие – тощие щи, в которых почиталось за счастье выловить картофелину, серый, словно вывалянный в дорожной пыли, хрустящий на зубах хлеб, прошлогодняя квашеная капуста, изредка каша; пища не восстанавливала затраченных сил, и к исходу третьего месяца самые крепкие и жизнерадостные девки в команде скисли и приуныли, исчерпав весь свой резерв, работали на износ; что уж говорить о худосочном Серёжке.
В четырнадцать лет самое время расти и крепнуть, а для этого нужны еда и сон, но ни того ни другого в достатке за два года войны ему не перепадало, зато работать приходилось вдоволь и даже много больше. Серёжка рос, и ещё скорее рос и креп в нём внутри зверь, имя которому – голод. Голод ел Сережку и не давал окрепнуть. Ему казалось уже, что никогда и не было иначе, а довоенное сытое детство его – это из коротких полубредовых снов, отпущенных ему в промежутках между вечерней и утренней зорями.
Лишь однажды сон, приснившийся здесь, в городе, был цельным и ясным и вспоминался и хранился в Серёжкиной душе как праздник.
…Трактор легко катил по полю, оставляя за собой широкую полосу скошенной травы. В кабине со снятыми дверками рядом с отцом сидел Серёжка и всеми порами впитывал впечатления первого в том году сенокосного дня: неохватный простор степи, густую зелень трав, небо с редкими белесоватыми, тающими на солнце облаками и жаворонка в вышине – трепещущего, замирающего от счастья. Восторженная песня его заглушена рокотом двигателя, но Сережке кажется, что он слышит её.
Полдень. Отец повернул к колку, небольшому берёзовому лесу у дороги, остановил и заглушил трактор за полсотни шагов от него.
– Обедать, однако, пора, а?
Они прошли к нераспаханной полосе у леса, устроились среди полевых цветов и серебристых метёлок ковыля. Это было любимое место отца. Отец сполоснул водой из бидончика лицо и руки, вытерся мягкой тряпицей, которую приготовила Серёжкина мать им в поле, лёг на спину, заложив руки под голову, смотрел в небо, пока Серёжка готовил стол.
– О, окрошка! – обрадовался отец, будто всё, что было у них на обед, ему в диковинку.
Неторопливо опростал миску, попросил добавки:
– Плесни ещё, сынок.
Серёжка быстро исполнил просьбу, лёг на траву, подперев голову ладонями, смотрел, как ест отец; дождался, когда он управился с добавкой, подмигнул и сказал, отдуваясь:
– Уф-ф! Хорошо: пузо дерёт, а хмель не берёт!
И они засмеялись, как заговорщики.
Потом наступила самая желанная минута – Серёжка сидел, прислонясь к отцу, держал двумя руками его тяжёлую ладонь, положив её к себе на колени, задавал свои бесконечные вопросы: отчего Земля круглая, почему жук майский, за сколько лет можно дойти до Луны пешком… Отец отвечал, если знал ответ, а когда не знал, то, по обыкновению, придумывал на ходу какую-нибудь весёлую байку. И только напоследок не пошутил. Серёжка спросил:
– Пап, а почему это ковыль шелковистый такой и ласковый, а колючий? Вот, – выдернул пёрышко, – вишь какое острое шильце, как маленькое копье!
– Не знаю, – задумчиво сказал отец и посмотрел на дорогу. Из деревни в их сторону мчался всадник. Отец перевёл взгляд на светловолосую Серёжкину голову, вздохнул: – Полегли, может быть, наши деды-прадеды от вражьих стрел или копий на этом месте или… в других краях, а в память о них растёт ковыль.
В ту минуту они ещё не знали, что уже началась война.
Сон этот – и не сон вовсе, а воспоминание того последнего часа, проведённого вместе с отцом, – привиделся Серёжке в одну из первых городских ночей, как тревога за отца, от которого давно не было писем, и как надежда на светлый праздник…
Сон был вещий: отец тоже бредил в ту ночь своим полем – сидел на ковыльной поляне с сыном и обмирал от ужаса и бессилия: средь дыма и пыли наползали на них грохочущие чудовища, а они словно приросли к земле – ни убежать, ни спрятаться…
Они действительно были почти рядом: останавливался в ту ночь на вокзале поезд с ранеными, где в вагоне с тяжёлыми лежал Серёжкин отец.
Матери Серёжка так и не ответил: ни времени, ни сил на письмо у него не оставалось. Единственную весточку о себе он отправил домой давно, в первый день, когда лейтенант Вахрамеев привёл их в дощатый сарай, превращённый с помощью двухэтажных нар в жилой барак, указал каждому место и сообщил адрес, по которому им будут приносить письма. Лейтенант и позаботился о том, чтобы Серёжка отправил письмо: дал бумагу и карандаш, распорядился:
– Напиши немедленно.
По возрасту Вахрамеев годился Серёжке в отцы, он знал, какая предстояла каторга – будет не до писем, и пожалел Серёжкину мать – она изведётся, если не получит весточки от сына. И много ещё чего знал уже не годный из-за ранения для боёв лейтенант; на обожжённой левой половине лица его немо и виновато смотрел на людей изувеченный глаз, вторая половина лица была, как в мирное время, круглой, живой и участливой, словно носил он перед собой не руку, пробитую снарядным осколком и оттого не разгибавшуюся в локте, а баюкал ляльку, доверенную ему на минутку счастливой мамашей несмышлёныша.
Баржа была последней. Лёд вот-вот должен был сковать поверхность реки, а где-то там, в нижнем течении, откуда доставляли лес, мороз уже накрыл её пока ещё податливым хрустким льдом.
Брёвна, сбрасываемые с баржи в воду, быстро обволакивались ледяной плёнкой, ускользали от багров, норовили сбросить с себя петли верёвок. Бабы с руганью заарканивали их, под команду и натужный стон вытаскивали на берег бревно за бревном, откатывали дальше, громоздили в штабеля.
Мужиков в команде было мало, все они работали на барже; ворочать лес в трюме – рискованно, нужны уверенность, и сила, и особая сноровка; но и на барже преобладало бабье войско.
Серёжка был единственным подростком в этой команде. Из Ждановки на лесозаготовки отправили по разнарядке пять человек: вдовую и бездетную Валентину Савинову, двух незамужних девок – Наталью и Аришку, деда Задорожного – конюха и Серёжку. Серёжку с бабами увезли в город на грузовике, дед Задорожный притрусил верхом, ведя в поводу вторую лошадь. В городе Серёжку отделили от своих. Ведавший распределением «рабсилы» пожилой задёрганный мужчина, увидев перед собой Серёжку, чертыхнулся:
– Кого шлют, пся крев! – повернулся к изуродованному лейтенанту, к Вахрамееву: – Возьмёшь? Мужик.
Что означало, наверное: «У тебя всё же полегче, чем в лесу». Вахрамеев обречённо вздохнул – очень уж хилым был этот боец трудового фронта: четырнадцати лет Серёжке на вид дать было нельзя, тянул он от силы на двенадцать. Но отказать Вахрамеев не мог: вопрос, обращённый к нему, – это вовсе не вопрос, а распоряжение, которое он, человек военный, выполнять обязан.
Остальных деревенских из степной Ждановки, знакомых с тайгой только понаслышке, отправили дальше – в низовья реки, валить лес вместе с такими же девками, бабами и стариками и грузить его на баржи.
Работа выматывала людей до изнеможения. Каждая последующая баржа казалась им вместительнее предыдущей и изрыгала из своего чрева всё более толстые – совершенно неподъёмные брёвна. Они тяжело плюхались в реку, разбрызгивая жгуче-холодную воду, неохотно подчинялись слабым человеческим потугам: двигались медленно, упирались тупыми безучастными мордами в заледенелую кромку берега.
Забереги на реке, там, где течение ещё сопротивлялось морозу, были небольшими, но здесь, в затоне, тихая вода покорилась наступившим холодам, лёд с каждым днём становился всё толще и прочнее, срастался с песчаным берегом в единый бетонно-гудящий по утрам панцирь. За ночь ледок затягивал всю поверхность воды в затоне, брёвна его ломали, и ледяное крошево, обильно сдобренное древесной корой, ядовито шурша, всё неохотнее расставалось со своей добычей.
С наступлением холодов чувство голода у Серёжки притупилось. Барак не отапливался, спасал лишь от ветра, тепло от дыхания людей удерживалось плохо; в обшарпанном тюфяке под Серёжкой давно уже была не солома, а труха, вытертое суконное одеяло не создавало даже намёка на уют, и, если бы рядом не было, вплотную, таких же уставших тел, Серёжка околел бы, наверное, в первую морозную ночь. Он мёрз и потому вовсе не высыпался, утренний подъём казался ему пыткой, и он готов был пропустить завтрак, чтобы поспать ещё полчаса. Но приходилось вставать вместе со всеми, надевать свой изодранный ватник, брать в руки тяжеленный багор, который казался тяжелее вчерашнего. Бегать по берегу или стоять на шатком и скользком трапе, направляя бревна, ему становилось с каждым днём непосильнее.
Ныло и стонало от перенапряжения всё тело, но больше всего доставалось рукам. Руки страдали не только от работы; на тыльной стороне их от воды и ветра поселились цыпки – грязно-красная кожа воспалилась и потрескалась, от малейшего прикосновения – жгучая боль; из-за цыпок Серёжка в последние дни уже не умывался.
В этот, последний, день он несколько раз ронял своё орудие в воду, к счастью, недалеко от берега, непривычная лёгкость – будто с него сваливалось бревно – выводила его из полузабытья, он вылавливал багор из ледяной каши за плавающий конец древка – некоторое время после окунания рук в воду нестерпимая боль удерживала его сознание ясным, потом он снова впадал в полудрёму, двигался и работал, как лунатик.
Мыслей не было, о том, чтобы немного расслабиться и передохнуть, он не мечтал. Все люди вокруг трудились неустанно для победы, не жалели ни сил своих, ни здоровья. Неистощимое терпение и беспредельное упорство народа распространилось и на детей. Будто в плотном строю шагал Серёжка, не мог он остановиться или замедлить своё движение, вместе со всеми делал то, что требовала война, пока был в нём способен жить и действовать хотя бы один мускул.
Но как бы туго ни было, Серёжка сознавал себя мужиком, хотя о том, что за три месяца жизни в городе он вытянулся и выглядел бы парнем, когда бы не его неимоверная худоба, он сам не догадывался. Женщинам было хуже. Их не освобождали от работы, когда подступала бабья хвороба; летом хоть прилечь могли на берегу на минутку, когда становилось невмоготу, осенью – не ляжешь. Летом отходили, по необходимости, за крохотный глинистый мысок берега, наскоро плескались там и возвращались к работе, не обращая внимания на то, что речная волна выдавала их – выносила вслед красные пятна. Осенью же и обмыться было негде.
Когда в очередной раз, ступая по обледеневшему трапу, Серёжка сходил на берег и упустил багор, а сам соскользнул в другую сторону, он не очнулся, не ощутил холода ледяной воды, не почувствовал чуть позже, как его ухватил за шкирку своей здоровой рукой лейтенант Вахрамеев и вынес на сушу.
Перед тем лейтенант помогал женщинам вытаскивать брёвна. Он обматывал конец верёвки вокруг ладони, по-бурлацки, через плечо, впрягался и тянул, надрывая жилы, – желал забрать всю работу на себя и этим хоть немного облегчить тяжёлую бабью долю.
С Серёжки текло. Худые руки его с недетски большими, натруженными работой кистями далеко высунулись из рукавов куцей телогрейки и мотались у самой земли, мокрые ботинки чертили по песку, оставляя за собой две тёмные неровные борозды – тощий, похож он был на утопшего курчонка. Вахрамеев опустил его на свою шинель, которую он сбросил раньше, согревшись от работы.
– Уханькали мальца! – ахнула Параскева, высокая сухопарая женщина, которая орудовала багром у другого трапа. Она подошла, стащила с себя телогрейку, укрыла Сережку. – Эх ты, командир, в душу мать, сердца у тебя нет! Свово бы так не допустил.
Для связки предложений Параскева обычно вставляла крепкие мужицкие слова. На здоровой половине лица лейтенанта не было в тот момент добродушного выражения, на Сережку он смотрел с жалостью, после слов Параскевы на лице его появилась гримаса боли.
– Своего… – прохрипел он и осёкся. Живы ли его дети, Вахрамеев не знал и никому о своей семье, что уже два года была под немцем, не рассказывал, чтобы нечаянным словом сомнения не опрокинулась его зыбкая надежда на благополучный исход. – Отнесите его в затишок.
Лейтенант вновь смотрел по-доброму.
– На кухню надо, – подошла другая женщина, – чтобы обсушился в тепле. Давай помогу.
Параскева молча отстранила её, взяла жилистыми руками Серёжку в охапку, вместе со своей телогрейкой, потащила к неказистому деревянному домику, возле которого стояли два больших закопчённых котла, прошла во двор, в котором не было ворот, ногой распахнула дверь в сени; дверь в избу перед ней открыла хозяйка.
– Ульяна Тимофевна, прими работника.
Глава 2
Серёжка не слышал, как его раздели донага и уложили на топчан к тёплым камням печи, укрыли одеялом, а поверх одеяла набросили шубу; проспал он мертвецким сном и обед, и ужин и не видел, как уже в сумерках бабы всей толпой выволокли на берег последнее бревно, как убрали трапы и небольшой дымный катерок утащил облегчённую баржу в дальний угол затона, на зимнюю стоянку.
При свете коптилки Ульяна Тимофеевна поставила на стол большую глиняную миску с горячим казённым борщом, пригласила Серёжку:
– Иди-ко, родимый, похлебай, согрей нутро, а потом картошек ещё поедим. Ваши-то хлеба принесли вона сколь. И сахарин.
Хлеба было явно больше, чем причиталось Серёжке за два раза, за обед и ужин; он сглотнул слюну, предложил старухе:
– Берите.
– Спасибо, – не стала отказываться она. – Мне редко приходится хлеб видать. Кабы не огород, давно бы на погост угодила.
Но второй кусок не взяла и Серёжке доесть хлеб не дала:
– Не всё враз. Кухня-то ваша закрылась. Завтра суховьём получишь – говорили, на два дня – и ступай домой. Вот, – протянула небольшой серый квадратик бумаги, – твоя провизия.
После ужина Серёжка снова крепко уснул, как провалился в трюм бездонной баржи.
Назавтра в небольшом продскладе, с которого выдавали на кухню продукты для команды Вахрамеева, угрюмый кладовщик, глядя припухшими глазами куда-то мимо Серёжкиного плеча, сказал скучным голосом:
– Где болтался вчера? Все пайки выданы. У меня отдельных запасов для тебя нет.
Серёжка растерялся. Все, с кем он работал, разъехались или разошлись по домам, а как он будет добираться домой – неизвестно, навигация закончилась – до Ждановки по реке, говорили, больше сотни километров, да ещё в сторону два десятка наберётся, а Серёжка дальше соседней деревни, да и то с отцом, сроду и не бывал нигде. Нет, по реке и думать нечего, надо идти дорогой; ему представилось широкое заснеженное поле, и путник, голодный и одинокий, уходит, уменьшается и наконец пропадает в просторе… Есть нечего: оставленный с вечера хлеб и сахарин он уничтожил утром.
– Что делать? – в тихом отчаянии прошептал Серёжка.
На одутловатом лице ничего не дрогнуло, словно бы кладовщик не услышал Серёжку и даже забыл о нём. Серёжке стало так неуютно, так плохо, что он сгорбился, съёжился и провалился бы сквозь землю, когда бы мог, или умер – тут же на месте.
– Сухари возьмешь? – вяло смилостивился кладовщик, будто бы заметил наконец просителя, разглядел, какой невзрачный человечишко перед ним и как мало надо, чтобы избавиться от него.
Серёжка кивнул, протянул кладовщику карточку. Тот долго пыхтел, отвернувшись к весам, стучал по ним маленькими гирьками, потом постелил на столешницу лоскуток помятой рыжей бумаги, опрокинул на неё жестяную тарелку с весов.
– Мыло, спички и сахарин возьмешь утром, если привезут, – крупу, что значилась в карточке, двести грамм, кладовщик почему-то не упомянул. – Да не проспи, завтра последний день, закрывают. Талоны оставь у меня, будет надёжнее: не потеряешь.
Голова у Серёжки, хоть он и проспал почти сутки, тяжёлая, мутная, соображала плохо. Кладовщик с настороженным взглядом ускользающих глаз чем-то ему не нравился и доверия не вызывал, но возразить ему Серёжка не посмел, проследил только, как тот упрятал талоны в правый карман гимнастёрки; взял бережно бумагу с сухарями, прижал к груди, чтобы не рассыпать крошки, медленно пошел к выходу.
Четыре больших сухаря, довесок и крошки. Сухари Серёжка рассовал по карманам, довесок взял в руку, крошки аккуратно ссыпал в ладонь и отправил в рот.
Крошки слегка горчили. Посасывая их, в смятении от неопределённости своего положения добрёл до сарая, в котором провёл он ночи трёх пока что самых трудных в своей жизни месяцев, заглянул. По голым нарам гулял сквозняк – небольшое оконце с противоположной стороны, вделанное в стенку по случаю превращения сарая в барак, ощерилось разбитым почему-то стеклом, ветром в него забрасывало редкие снежинки, падавшие с неба. Тоскливо и жутко стало Серёжке от пустоты и одиночества – будто все люди умерли, холод проник до самого сердца. Скрипнула дверь на ветру, словно каркнул нехотя ворон, Серёжка вздрогнул, попятился, повернулся и побежал прочь.
Ноги привычной тропой привели его на берег. И здесь холодно, пусто и одиноко; только возле дальнего штабеля возчики нагружали лес на подводы, чтобы везти его к железной дороге, а за ними, выше по берегу, натруженно вжухала пилорама. Ветер дул с реки, вороны в поисках пищи косым лётом чертили по однотонному серому небу. Место, где Серёжка проработал столько дней, стало незнакомым и чужим. Казалось даже, что кто-то враждебный таился за штабелями и, злорадно ухмыляясь, готовил ему новую кознь.
Поминутно оглядываясь, хоть он и понимал, что за брёвнами никого не должно быть, старался вспомнить что-то важное, что он оставил на этом берегу, но так и не вспомнил.
Идти было некуда. Попроситься до утра к Ульяне Тимофеевне? А утром что?
Довесок кончился, рука тянулась взять другой, но с беспокойством и тревогой помнилась дорога: сухари даны ему не для того, чтобы он съел их в городе. Голодному путь не осилить, особенно теперь, когда с каждым часом становится холоднее. Хорошие бы рукавички ему, а то рукава у ватника стали совсем короткие. Ватник мать сшила три года назад, тогда, в новом, Серёжка чувствовал себя счастливым богачом, обладателем самой прекрасной одежды, удобной и для игры, и для работы, которую он не променял бы даже на царскую шубу. Теперь короткий, узкий и рваный ватник не спасал даже от слабого ветра, а случись ночевать в поле – в нём околеешь.
Серёжку неумолимо влекло к старухиному дому – озябшее тело просилось в тепло – он приблизился к нему, но войти не посмел, стоял и смотрел на то место, где совсем недавно была их кухня. Столы сорваны и исчезли, котлы увезены; снег уже начал укрывать чёрные пятна кострищ; люди оставили Серёжку одного, а природа старалась спрятать следы их пребывания.
– Чего мёрзнешь? – Ульяна Тимофеевна вышла на крылечко. – Иди, тебя лейтенат ждёт.
Вахрамеев сидел у стола в шинели и в фуражке, шапки для зимнего времени у него ещё не было. Он осмотрел своим здоровым глазом переступившего порог Серёжку, рванье, в которое тот был одет, разбитые ботинки; огорчённо двинул локтем изувеченной руки, будто ударил кого-то, кто нападал на него сзади, вздохнул:
– Как ты?
Лейтенант спрашивал с сочувствием, но Серёжке казалось, что они уже разделены, как невидимой стенкой, неумолимой необходимостью уйти из этого дома и друг от друга, чтобы, может быть, не увидеться больше никогда. Язык у Серёжки вдруг отяжелел, и он ничего не ответил, только пожал плечами. Что, мол, спрашивать? Не утонул, коли вытащили, и даже не заболел. Вахрамеев склонил голову, словно раздумывая, что спросить ещё, но не спросил, сказал только:
– Возьми справку, – запустил руку под отворот шинели, достал из нагрудного кармана гимнастёрки две бумажки, пальцами разделил их, протянул одну, – да не потеряй, а то не отчитаешься. Без документа нельзя: заберут, как беспризорника, а если повезёт и не попадёшься милиционеру, то в сельсовете без справки о том, что честно отработал своё, примут за дезертира. Доказывай после…
Серёжка повертел в руках небольшой свёрнутый вдвое листок, не зная, куда его спрятать, потом стащил с головы картуз, засунул документ под надорванную подкладку, но обратно свой убор не надел и так стоял, не подозревая, что вид у него таков, будто он ждёт подаяния.
– Продукты получил? – привычно строго спросил лейтенант.
– Получил… – Серёжка помедлил, решил, что командиру надо отвечать точнее, – сухари.
– И всё?!
Серёжка виновато промолчал. Желваки на скулах Вахрамеева сдвинулись и вздулись.
– Что говорит?
– Ничего. Завтра, может, привезут.
Лейтенант некоторое время смотрел в пол.
– Ну вот что, – сказал он после размышления, – где наш магазин – помнишь?
Серёжка кивнул. Однажды он ходил туда, получал лейтенантов паёк. От сладкого воспоминания у него заныло в желудке: лейтенант отдал тогда ему из пайка маленький плоский пакетик в красивой бумажной обёртке и в блестящей хрусткой фольге, как оказалось, шоколадку. Серёжка понятия о шоколаде не имел, в деревне у них не было магазина, в небольшой лавке водились лишь соль, спички, мыло и керосин. Отец привозил иногда из соседней деревни конфеты подушечками и пряники, но что бывает на свете такая немыслимая вкуснота, представить даже было невозможно.
Вахрамеев поднялся, протянул Серёжке и вторую бумажку, которая всё ещё была у него в руке, свою продовольственную карточку, уже изрядно покромсанную ножницами.
– Пусть Настасья выдаст остатки. Так. Возьмёшь себе.
Серёжка широко раскрытыми глазами смотрел на лейтенанта Вахрамеева и – не брал.
– Держи! Да не говори, что получаешь себе. Ты понял?
Серёжка кивнул утвердительно, но ничего не понял. А как же лейтенант?
– Всё! – голос Вахрамеева едва заметно дрогнул. – Простимся. Дай обниму.
Он шагнул к Серёжке, прижал его голову к своей груди, коснулся жёстким подбородком светлой вихрастой макушки; от шинели пахло табаком, потом и ещё какими-то особыми, присущими только военным, запахами.
– Не поминай лихом, – негромко, совсем не по-командирски сказал лейтенант, словно прощения попросил, отстранился и быстро вышел в дверь.
Глазами, полными слёз, посмотрел Серёжка на старуху. Лицо Ульяны Тимофеевны было сурово, взгляд далёкий, будто не было возле неё ни тощего заморенного Серёжки, ни – только что – лейтенанта.
Серёжка тихо повернулся и, с картузом в руке, вышел на улицу.
– Мальчик, тебе чего надо здесь? – Настасья, заметив в магазине оборванца, готова была немедленно выставить его за дверь, чтобы не спёр чего-нибудь.
– Вот, – пересохшими губами сказал Серёжка, – от лейтенанта.
– А! – вспомнила его Настасья. – Ты от Николая Ивановича! Что же он не заходит? Ты скажи ему, – она убавила голос, – что Настя ждёт.
Серёжкины уши словно обдало жаром от этих слов: понятно, для чего ждёт продавщица лейтенанта. В деревне ребятишкам не сочиняют баек о том, что их нашли в капусте, и любовные игры старших братьев и сестёр для них не тайна. Вечерние посиделки перед войной – зимой в чьём-нибудь доме, летом на лугу за деревней – с песнями под гармошку, с танцами, с таинственными перешёптываниями и поцелуями – всё проходило на глазах ребятни, и Серёжка, постепенно постигая смысл этих игр, терпеливо дожидался, когда придёт его пора. Взрослым полагалось любить – в том состояла жизнь. Так было до войны, но разве можно об этом думать сейчас?!
«Сама напрашивается», – подумал неприязненно Серёжка; в деревне парни были всегда зачинщиками любовных утех и никогда – девушки. Лицо у Настасьи круглое, голос сочный и чуточку нараспев. «Краля! – мысленно обругал её Серёжка. – Разве такую надо лейтенанту Вахрамееву?!»
Он почему-то был уверен, что на этот раз продуктов от неё не получит, и не удивился, когда она сказала:
– Какая жалость – почти ничего нет!
И всё-таки в душе у Серёжки маленькая надежда таилась на самом донышке, и потому на отказ сердце у него нехорошо ёкнуло – всё стало ему безразлично, как в последние, безмерно трудные голодные и холодные дни. Лучше бы его не вытаскивали из реки!
Настасья сновала зачем-то туда-сюда на небольшом пятачке и продолжала что-то наговаривать своим мягким певучим голосом; Серёжка повернулся и пошёл вон; медленно и осторожно пошёл, стараясь не зацепить чего-нибудь: проход до самой двери был заставлен пустыми деревянными бочонками и грубо сколоченными ящиками. Он почувствовал вдруг, что в нём вместе с обидой и непрошеными слезами вскипело какое-то новое, неведомое ему ранее чувство – тёмное, злое, страшное, готовое от малейшего прикосновения взорваться яростью невиданной силы, как бомба, и разнести и самого Серёжку, и всё, что было вокруг.
– Погоди ты! – дошло до него, когда он уже был в дверях. – Вот чумной!
Она догнала его, повернула к себе – бесцеремонно и одновременно ласково, словно мать – взрыва не произошло. Настасья подтолкнула его к прилавку, и он увидел на нём плоскую жестяную банку, блестящую, размером с блюдце, на ней несколько кусочков пилёного сахара, а рядом – совсем небольшой кулёк с квадратиками печенья.
– Оголодал? – она сунула ему прямо в зубы один такой квадратик. – Похрусти. «Второй фронт».
Оказалось – галета.
– Пусть товарищ лейтенант завтра забежит, – Настасья заглянула Серёжке в лицо, и он увидел в её больших серо-зелёных глазах глубокую, как омут, тоску. Такие глаза, случалось, бывали у матери, когда она думала, что дети её спят. – Карточка пусть у меня будет, я заранее отоварю или обменяю. Сумочки у тебя никакой нет?
Серёжкино сердце перевернулось. Ему стало жаль Настасью, он подумал, что Вахрамеева, может быть, уже нет в городе, и чуть не ляпнул: «Лейтенант уезжает».
Но что-то случилось с ним – галета распухла в горле и помешала, или полной уверенности в том, что лейтенанту назначено куда-то ехать, не было – он промолчал. И стыдно ему было своей вспышки; тогда, в миг озверения, сознание ему распорола мысль: самому добыть продуктов! Где и как он их возьмёт, Серёжка в ту минуту не представлял, но что возьмёт – знал совершенно точно.
Низко склонив голову, Серёжка достал из-за пазухи холщовую тряпицу, в которую когда-то мать завернула ему в дорогу припас: горбушку хлеба, луковицу, соль и ломтик сбережённого от глаз Нюрки и Мишука сала. Теперь он сам завернул в тряпицу банку, на которой было написано, что это сельдь маринованная тихоокеанская – неслыханная роскошь! – сахар и кулёк с галетами. Он решил, как бы туго ему ни пришлось, продукты принести домой, в подарок матери: от самого начала войны ничего подобного в деревне даже не видели; мать как-то говорила, что селёдка ей во сне снится.
Спрятал своё богатство под рубахой, поверх ватника подпоясался ремнём; кожаный брючный ремень – единственная добротная вещь, которая не износилась у Серёжки, – оставил ему отец, уходя на фронт.
Всё. Делать в городе Серёжке было больше нечего, он рассчитался с городом, а город, чем мог, отплатил ему.
Глава 3
Дорогу домой Серёжка знал приблизительно. Главное – выбраться на другой конец города, а дальше – по тракту, которым их привезли, пока не увидишь в стороне большую деревню Семёновку – от неё до Ждановки недалеко, восемь километров.
Когда Серёжка, путаясь в незнакомых улицах и переулках, миновал наконец железнодорожный вокзал, пересёк пути, вышел на окраину и нашёл тракт, он засомневался: день клонился к вечеру, стало ещё холоднее, уходить от жилья было страшно.
Вспомнились разговоры о дезертирах, которые иногда объявляются в тылу – днями прячутся по лесам и балкам, а ночью выходят к жилью, чтобы раздобыть себе пищу и одежду; горе тому, кто окажется у них на пути!
Но хуже дезертиров – волки. Дезертиров мало, да и ловят их, а волков расплодилось много, и никто за ними не охотится. «Гитлеровские пособники», – сказал о волках Назар Евсеич, председатель, когда ранней весной нашли колхозницы в поле, на том месте, где брали солому, два подшитых валенка со страшно торчащими из них обглоданными костями. Валенки признала старуха Бокова, она посылала их своей сестре, которая намеревалась уехать подальше от фронта, но так и не появилась в деревне и на письма перестала отвечать; уезжала от войны, а война, оказалось, всюду рыщет, только в другом обличье.
После того случая деревенские много думали, как им избавиться от напасти, но ничего не придумали. Степь велика, за волками не угонишься. Кабы не было других забот, то извели бы серых, а то как война началась, работы стало невпроворот и всякие беды навалились. И хворь, и вши, и скотина болеет… Дед Задорожный ходил однажды в Пустой лог, отыскал там среди зарослей боярышника, шиповника и прочей дурной травы волчье логово, сумел добыть из него три серых сердитых комочка, запихнул в мешок. Волчица его не тронула, он её и не видел, только потом целую неделю немногим уцелевшим в деревне собакам по ночам покоя не было.
А «пособников» не убыло, разбойничали они всё нахальнее: задрали колхозную корову прямо на глазах у пастуха. Ружьё бы на них хорошее или лучше автомат. Но автоматы, конечно, против фашистов нужны.
…Серёжка уже хотел было попроситься к кому-нибудь ночевать, остановился, осмотрелся. Дома стояли редко по улице, как в деревне, с такими же огородами, обнесёнными жердяными изгородями, чтобы не заходила скотина, и с широкими по-деревенски дворами. Но ворота перед домами были непривычно высокими и прочными, закрытыми наглухо – людей не видно, будто они вымерли или попрятались от нежданных гостей. Серёжке даже почудилось, что из-за плотного забора следит за ним настороженный припухший глаз.
Раздражённо заурчал в животе голодный зверь. Надо идти, продуктов у него мало, и если двигаться только пешим ходом, как сегодня, то не миновать ему просить милостыню. Случалось Серёжке видеть нищенок, которые в поисках пропитания забредали в деревню за подаянием. Смотреть на них было почему-то стыдно; мать их, оказывается, знала по именам, суетливо-поспешно совала им в руки варёную или сырую картошку – какая оказывалась под рукой, делилась и хлебом, если он был на столе.
Просить Серёжка не умел. Да и не повернётся язык, когда за пазухой целая банка селедки… «Ладно, – решил он, – может, машина какая подвезёт или подвода». Пошёл в поле быстро, чуть не бегом, стремясь скорее избавиться от возможности повернуть назад.
Милиция его в городе не останавливала, и на выходе поста не оказалось – проверять Серёжкин документ было некому.
Один сухарь Серёжка сгрыз ещё днём, когда плутал по городу, ходьба требовала подкрепления сил – в одном месте видел трамвай, но сесть на него не решился – он начал невольно доставать из кармана другой сухарь, но перебарывал себя, прятал, а через некоторое время вновь обнаруживал его возле губ.
Ветерок дул в спину, снег почти перестал идти – зима впереди долгая, куда торопиться? – небо потихоньку яснело. Справа и слева от дороги медленно подавались назад редкие берёзовые колки; дорога прямиком уходила вдаль и терялась там. Припорошённая снегом земля скользила под ногами, выкручивала их, идти было трудно.
Никто по дороге не ездил, лишь когда на землю опустились сумерки, беспредельно уставшему Серёжке попала навстречу полуразбитая полуторка, изрыгавшая дым и вонь. Как раз при встрече шофёр включил единственную фару, которая почти ничего не осветила своим тусклым огнём.
Водитель недоумённо повернул голову в сторону Серёжки, и ему стало совсем тоскливо, захотелось вернуться в город, но машина уже протарахтела мимо. Он прибавил шаг, насколько мог, и шёл ещё с час, пока совсем не стемнело, но никаких признаков жилья не было – ни огней, ни собачьего лая.
Небо очистилось полностью, на нём засияли звезды, но луна куда-то запропастилась. Всё же снежок отражал слабый звёздный свет, и можно было различить дорогу, поле, тёмные контуры колков по сторонам и вдруг – силуэт дома на фоне бледного горизонта – в той стороне, где закатилось солнце.
Сердце у Серёжки брыкнуло, он рванулся вперёд, оскользаясь и падая… Ночь обманула: дом оказался стогом пшеничной соломы. Серёжка добрался до него, привалился спиной, сполз вниз и горестно всхлипнул от обиды; дальше идти сил у него не осталось.
Воздух был холоден и чист, как колодезная вода, и в нём постепенно и незаметно притупилось Серёжкино горе; в груди, вскоре после того, как он вышел из города, поселилась негромкая пугливая радость, которая помаленьку крепла, ширилась и росла и уводила всё дальше и дальше: дышалось, как дома! Не было здесь ни чада заводских труб, ни автомобильного смрада, ни вони канализационного ручья, стекавшего в затон неподалёку от места выгрузки барж.
Была река, неторопливо катившая свои желтоватые воды в рыжих берегах, отец, босой, поощрительно улыбавшийся Серёжке, впервые в своей жизни увидевшему вольную воду, и ласковая волна, пугавшая и манившая в глубину. Серёжка забредал по колено в тёплую воду, наклонялся, стараясь разглядеть дно, разбрызгивал воду руками, поворачивался к отцу и счастливо смеялся навстречу его радостным глазам…
Вода вдруг стала холоднее, Серёжка попытался выйти на берег, но ноги его погрузились в песок и завязли в нём, волна поднялась большая и захлестывала всё выше и выше и, наконец, захватила Серёжку и поволокла. Онемев от холода и испуга, он пытался было кричать, но захлебнулся. И… пробудился.
Его колотило неудержимой мелкой дрожью, ноги и руки одеревенели, чтобы подняться, ему пришлось стать вначале на четвереньки. Ноги пронзала боль, только теперь Серёжка понял, что плохой из него будет ходок: ступни сбиты в кровь. Приваливаясь к стогу, Серёжка кое-как обошёл его, перебрался на подветренную сторону, начал рыть в стогу нору.
С цыпками на руках это была пытка. Солома уже спрессовалась, выдёргивалась с трудом и крохотными клочками. Негнущиеся пальцы от соприкосновения с настывшей соломой зашлись от холода и боли и совсем утратили силу. Серёжка скулил от отчаяния, колотил ладонями по коленям, по бокам, дул на руки, бережно прятал их под мышками и, откидываясь спиной на стог, замирал.
И снова наплывал на него морок. Сквозь пелену Серёжка чувствовал на себе чей-то испытующий взгляд. Кто-то недобрый насмехался: слабо умереть? Слабо! Толкал в спину, подвигая во тьму, – сдохни, и без тебя жрать нечего! Но исчезал, расплывался, когда Серёжка пытался разглядеть его, того, кому принадлежали глаза.
Зато не умолкал голос. Голос был негромкий, ласковый, он вкрадчиво убеждал Серёжку, что лучше не мучить себя, а лечь на солому, свернуться клубком, согреться и уснуть надолго – до тех пор, пока не минуют все напасти: голод, холод, непосильная работа, война, наконец. И Серёжка начинал погружаться в этот сладостный мир небытия, ему виделся дом, тёплая печь… И – вдруг – тревожные глаза матери: «Серёжа! Сынок, не спи!»
– Мама! – Серёжка вздрагивал.
Мать, наверное, молится за него. Он спохватывался, уже безучастный к себе, обморочно замиравший от остудной боли, добиравшейся от рук до самого сердца, не мог не подчиниться этому зову, вновь начинал рвать неподатливую солому. Мать следила за ним, умоляла, требовала вернуться домой. «Мама, милая мамочка, зачем ты меня родила?!»
От движений он наконец согрелся, лихорадка отпустила, и он почувствовал бы себя почти счастливым, если бы руки не страдали по-прежнему.
Стог смётан был на совесть: ни капли влаги внутри; была бы солома мокрой – запрела бы, было бы тепло, а так – и в глубине стынь, будто тут, в поле, зима утвердилась давным-давно и проморозила всё насквозь.
Постепенно нора стала большой настолько, что Серёжка мог укрыться в ней. Он уже стал сознавать, что был на краю гибели. И смерть, недавно близкая, казавшаяся приятным и желанным сном, немного отодвинулась и обрела своё жуткое обличье. В этот миг ему показалось, что кто-то бесшумно подкрался сзади, – Серёжка резко оглянулся, трепыхнулся в испуге, загнанным зверьком застучало сердце в груди. Но нет, никого. Только изломанная Серёжкина тень на стогу – это лунный серп объявился над дорогой, вышел из-за колка или из-за дальнего облака вылупился.
Серёжка влез в своё убежище вперёд ногами, охапкой надёрганной соломы закрыл за собой вход. От прикосновения холодной соломы его снова стала бить дрожь. Напуганный собственной тенью, вновь вспомнил о волках, подумал, что стоило потрудиться больше, зато сделать дыру выше, куда зверям не дотянуться. А так они быстро распотрошат его соломенную затычку. «Я им банкой по зубам», – подбодрил себя Серёжка, но это не успокаивало, он напряженно прислушивался к тишине: тихо, даже мышей не слышно, только собственное дыхание да стук сердца.
Беда, как ночь, от края и до края накрыла землю. Столько горя принесли людям фрицы, а зачем, какая им от этого польза? Разве их не убивают тоже? Что они думают? Неужели их детям может казаться не горьким хлеб, отнятый у других детей? Что они делают в своей Германии, Серёжкины сверстники? Живут в довольстве или тоже работают изо всех сил, чтобы помочь отцам окончательно растоптать нашу землю?
Замурованному в соломе голодному и замерзающему Серёжке временами мерещились голоса, отдалённое пение. Он замирал, вслушивался, напрягаясь, может быть, деревня недалеко и слышен репродуктор? Но голоса сразу же пропадали, а через некоторое время возникали те же слова: «Пусть ярость благородная…»
Ярости в своём сердце Серёжка не чувствовал. Может быть, потому, что врага представлял плохо: то волки возникали в его воображении, то карикатура на Гитлера. А были в его сердце великая тоска и тягучее чувство усталости от ненормальной жизни, от недетских забот о матери, сестрёнке и братишке, от постоянного глубоко запрятанного страха ожидания плохой вести с фронта. В танке воевал отец, но война железом и огнём сжигает всё подряд. Это здесь, в тылу, ничего лишнего не сгорает, кроме людей, отдающих всё фронту, а себя – работе.
Каждый раз после разгрузки очередной баржи Серёжке хотелось умереть от изнеможения, потихоньку, чтобы этого никто не заметил. Но, видно, не для того родила его мать, чтобы он сгинул до времени, закон, заложенный в тайниках Серёжкиного тела, повелевал жить, и покушаться на него он не имел права. И не было у него права дезертировать – своей смертью – с трудового фронта, чтобы не ослабела наша сила, чтобы не добавлять своим горя, а врагам радости. Чтобы не угасла песня.
В день, когда стало известно, что немецкое наступление танками провалилось, а наши в ответ взяли города Орёл и Белгород, все работали на разгрузке неистово, а потом, когда наступила ночь, обессиленно лежали на тёплом августовском песке, бабы запели. Запели новую песню про то, как «врага ненавистного крепко бьёт паренёк». И пели эту и другие щемящие душу песни потом не один раз.
От дыхания в закутке у Серёжки стало чуть теплее, он расслабился наконец и провалился в сон. Уснул крепко, беспамятно, как после купания в ледяной воде.
Проснулся внезапно, как от толчка, и мгновенно вспомнил, где он, словно бы и не спал. Мороз в поле усилился или ветер переменился – в норе у Серёжки похолодало. Прислушался тревожно: нет ли поблизости зверя или недобрых людей?
Тихо. С бьющимся сердцем проделал небольшую дыру наружу, но ничего не увидел. Ночь ещё не кончилась, серая мгла только предвещала рассвет. За время, что Серёжка спал, стал он ещё более одиноким. Казалось, что никого не осталось живых в мире и придётся ему в одиночестве ходить по земле в вечном холоде и во тьме. И стало Серёжке жалко себя, жалко и обидно, что довелось ему появиться на свет в неурочный час, а ведь он никому не сделал зла – за что же досталась ему такая горькая доля?
Холодно. Жутко. Уже не потому, что кто-то недобрый мог появиться вдруг, а потому, что никого нет.
Серёжка заткнул дыру, попытался уснуть, но сон не шёл, знобило и нестерпимо хотелось есть. Он стал думать о доме, о матери, и тогда мир и пропавшие люди возвратились на свои места. Всем трудно, надо терпеть.
Выплатила ли мать налог, пока он отбывал трудовую повинность? А поставки? Сколько осталось сдать мяса, молока, яиц? С яйцами, должно быть, беда. Как раз перед тем, как Серёжку отправили в город, с курицами у них случилось несчастье. Сперва нестись они стали где попало, а не в гнёздах, потом мать заметила, что куры ведут себя странно: на дворе поздний вечер, а они на насест не садятся, ходят по сараю, переговариваются, беспокойно вытягивают шеи, будто высматривают кого. Если бы хорёк завёлся, было бы ясно: куры бы стали исчезать, да и от норы хорьковой они стремились бы забраться повыше. Что за напасть? Нюрка разгадала. Днём, когда Серёжка с матерью были на ферме, поймала петуха, стала смотреть у него в перьях и обнаружила клещей на коже, маленьких и серых клещиков – голодных, и сытых – больших, багровых от крови. Куры уж и нестись почти перестали. Выбирали клещей руками, посыпали кур извёсткой, какую-то вонючую мазь приносила мать – всё попусту, оберут кур с вечера, а за ночь на них нападут новые полчища кровопийцев.
– Пропащее дело, – горевала мать, – придётся зарубить. И цыпушечки не выросли, ни мяса не будет, ни яичка…
Щемящее чувство любви и жалости к матери, к сестрёнке и братцу пронзает коченеющего Серёжку. Мишутка перед сном всегда хлебца просит, а хлеба нет. В прошлом году зерна на трудодни не выдавали. Дали по полпуда на работающего, и – всё. По щепотке добавляла мать муки в траву-лебеду сушёную, с картофельным крахмалом перемешанную… Из чего только не выдумывала лепёшки, а муку лишь для запаха добавляла, для обмана желудка…
Серёжка лежал на боку, свернувшись клубком, так тепло, казалось, сохранялось лучше, ноги, однако, совсем онемели, пробовал шевелить пальцами – от сырых ботинок озноб по всему телу. Мать отдала ему свои ботинки для работы на лесозаготовках, сама осталась босиком. Тогда, в начале августа, было тепло, а по осенней слякоти она, наверное, ходила в галошах.
Рыдания душат Серёжку, он не сдерживает их. Никто не услышит, не узнает… Он много дней терпел и боль, и голод, и непосильный труд не потому только, что на людях стыдно плакать, не давал себе воли, как мужчина. Но при воспоминаниях о доме сердце у него стеснилось от нежности и любви – брат и сестра уже видят в нём взрослого, кормильца и заступника, а для матери он всё равно ребёнок.
Он не хотел забирать у неё ботинки, ему казалось тогда, что прокалённая летним солнцем земля останется такой долго. Он любил ходить босиком по тёплой пыльной улице, по прохладной, влажной от утренней росы траве и даже по скошенному полю, по стерне. Задубелые подошвы его ног выдерживали и комковатую от засохшей земли дорогу, и будылья полыни, и острые колючки засохшего осота, а то и шиповника. Лишь против битого стекла подошвам было не устоять, но в деревне стёкол где попало не бросали, и за всю свою мальчишечью жизнь Серёжка порезался один раз, да и то весной, когда после зимы кожа на ногах ещё не затвердела. Ступни у Серёжки были большими, растоптанными – росли впрок, материна обувка пришлась ему впору. Ботинки давно не новые, и Серёжка берег их на осень; сколько мог, работал босиком – до самых холодов. Кожа на ногах у него стала под конец тёмной и шершавой, не только речная вода, но и баня не могла с ними ничего сделать. В баню их водили строем, три раза за всё время. Пока они мылись, сперва мужики, потом бабы, в специальном отделении бани над каменкой прожаривали их одежду – от вшей.
Когда наступили холода, кожа на ногах воспалилась, на икрах, как и на руках, появились цыпки, и при ходьбе шаркающая штанина обжигала огнём.
Вольная слеза омыла душу, Серёжка успокоился. Он чувствовал тощим животом драгоценную банку с рыбой и ощущал, как самого себя, как пальцы рук и ног, оба сухаря в карманах, галеты в кульке и сахар. Пожевал сладковатую соломинку, желудок, соблазняемый близостью пищи, завопил от Серёжкиной скупости, требовал хлеба. Серёжка достал галету, откусил крошку и медленно-медленно начал сосать, растягивая удовольствие и намереваясь таким образом обмануть голод и насытиться малым.
Утро родилось в муках, словно никаких надежд в мире уже не осталось; медленно, нехотя, рассеялась мгла, красное, как воспалённый глаз, небо, в том месте, где должно было показаться солнце, не сулило перемен к лучшему в наступающем дне. Мороз дожимал своё.
Серёжка задубел, сознание чуть брезжило; надо было выползать из норы и двигаться домой, но мысль эта, вялая и отстранённая, будто не имела отношения к нему, не задевала и не беспокоила. Укрыться бы одеялом и спать, спать… Банка мешает и холодит. А мать хочет селёдки…
Серёжка медленно-медленно разогнулся, вытолкнул затычку, кое-как вывалился следом. Стоя на коленях, непослушными руками, как культями, попытался собрать солому и восстановить нарушенный стог, но сумел лишь сгрести её в кучку. Долго елозил по земле, пока встал на ноги, ноги были чужие. Отупело переставляя непослушные свои подпорки, заковылял к дороге.
На дорогу он выбрался вместе с солнцем. Оглянулся. Золотым шатром стояло его соломенное убежище; неласково встретило, но спасло.
От движения в Серёжкином теле возрождалась жизнь, а вместе с жизнью возвращались и все её муки. Застывшая и скользкая земля готова была в любую минуту сбить Серёжку с ног, каждый неловкий шаг пронзал болью, высекал из глаз слезу. Пробудился задремавший было зверь-голод и свирепел с каждой минутой. И солнце было недовольное – озябшее, багровое. Тоже трудно ему зимой: с дровами плохо, отовсюду дует, керосину нет…
Налепила мать кизяков или придётся топить соломой? Соломы не напасёшься, пых – и сгорела. Когда её замесят с навозом, слепят лепёхи, высушат на солнце – это топливо. Почти как дрова. Возле каждого дома в Ждановке стоят пирамиды из караваев кизяка; дрова – редкость, кругом степь, а в том берёзовом колке, что между Ждановкой и Семёновкой, не уворуешь: везти не на чем, а лесник строгий, все деревья в своём участке знает, увидит спиленное – по следам найдёт. Найдёт, и попадешь тогда на лесозаготовки не на три месяца…
Но сильнее страха наказания было у людей чувство, суеверное, может быть, что рубить лес нельзя, грешно, потому как есть, наверное, – должна быть – незримая связь между тем, что свершается дома, и тем, что происходит на войне. Загубить дерево – испытать судьбу, поставить под удар любимого человека. Это вернее, чем закон: если признать, что стало невмоготу здесь, то разве можно надеяться, что выдюжат там, под огнём, где стократ труднее?
Солнце поднялось выше, перестало хмуриться, заулыбалось; снег от его улыбки помягчел, поплыл под ногами; грязь, налипая на ботинки, сделала их тяжёлыми, как гири. Серёжка с трудом тащил эти пудовки. Он часто останавливался, оглядывался и шарил глазами по дороге в надежде, что кто-нибудь догонит и подвезёт его. Но тщетно.
Был не сезон, на попутчиков рассчитывать не приходилось: для телеги пора прошла, для саней не настала.
С осенними работами в деревнях управились, и понапрасну добрый хозяин коня не погонит. На машину и вовсе надежды нет: мало исправных в колхозах, а если у кого и есть, то по такой дороге не поедет – тут попадёшь в канаву и уж без посторонней помощи не выберешься. Земля чернозёмная рыхлая, податливая, пробьёшь подмёрзшую корку колёсами, быстро продавишь влажную землю до глины, та схватит намертво.
Солнце поднялось над дорогой, покатилось на запад, а Серёжка всё шёл и шёл. Миновал две деревни – видел крыши домов в стороне от тракта, один раз слева, другой раз справа. В одном месте наткнулся на свежий тележный след, проехал кто-то по дороге километра два и свернул в сторону. Один раз за весь день видел людей на поле. Двое, неразличимо кто, скорее бабы, нагружали солому на подводу, запряженную парой быков.
Ни присесть, ни передохнуть. Серёжка боялся сойти с дороги, чтобы не пропустить попутку. Колени подгибались, и, наконец, Серёжка остановился. Глаза закрывались. Он постоял так, собрался с силами, выдрал из грязи, как из клея, одну ногу, тряхнул, но слабо, грязь не отвалилась. Кое-как добрел до канавы, сел на обочину; даже заплакать сил не осталось. Он бы и лег, но знал, что тогда уже не поднимется. Представление о пройденном пути он давно утратил и почти не чувствовал уже ни избитых ног своих, ни сырой земли, на которой сидел. Достал сухарь, есть ему не хотелось, но он сознавал, что надо подкрепиться, отгрыз уголок, начал медленно жевать.
И вдруг голод вспыхнул с такой неистовой силой, что Серёжка, дрожа и раздирая губы в кровь, смолотил сухарь и, не помня себя, вытащил из-за пазухи свёрток. Развернул, сунул кусочек сахара в рот и… опамятовался. А как же Мишутка? Что он скажет сестре? Как посмотрит в глаза матери?
Давясь сладкой слюной, завернул надёжно свой провиант в тряпицу, спрятал на груди, наново перепоясался ремнем, поднялся.
Пошёл по канаве, в канаве не было грязи, она заросла травой, поначалу казалось, что идти здесь легче. Но снегу нерастаявшего здесь было больше, и без того сырые ботинки стали мокрыми, Серёжка понял, что скоро окажется босиком, и выбрался на дорогу.
И в этот момент – неужели?! – послышался отдалённый терпеливый вой мотора, а потом и знакомое громыхание. По тракту вслед за ним ползла полуторка, та самая, что вечером попала ему навстречу. Серёжка повернулся и во все глаза смотрел на водителя.
Машина остановилась.
Глава 4
Серёжка влез в кабину, сел на порванное сиденье, из которого вместе с ватой торчала пружина, сказал:
– Довезите, дяденька, мне в Ждановку.
– Дяденька? – хохотнул сиплым голосом шофёр и тут же ругнулся: – Паскуда! Пока едешь – работает, остановишься – глохнет.
Водитель неуклюже вылез из машины, достал из-под сиденья железную рукоять, начал заводить – полуторка дёргалась, чихала, но тут же глохла вновь.
– А ну, парень, нажми стартер – вот здесь – и отпусти, – он кинул шапку на сиденье – упарился, и… Серёжка увидел толстую косу, выбившуюся из-под телогрейки.
Девушка оказалась молодой, моложе, наверное, Натальи и Арины, с которыми Серёжку отправляли на лесозаготовки, только лицо у неё кажется грубым из-за того, что чумазое. Шапка, мужские суконные штаны и, главное, хриплый голос обманули Серёжку. А водитель ему с самого начала показался странным – невысоким, ниже его, кургузым и широкозадым.
– Чего вытаращился? – засмеялась она, когда мотор наконец ожил и она заняла своё место. Передразнила: – Дяденька! Не видел таких замазух?
Серёжке было неловко оттого, что обознался, он опустил взгляд, увидел её колено, туго обтянутое серой штаниной, нахмурился и стал смотреть вперед, стараясь незаметно ладонью прикрывать рвань на своих тощих и грязных ногах.
Девушка бросила рукоять под ноги, закусив губу, выжала сцепление и включила скорость – машина слегка дёрнулась и, подвывая и соскальзывая в рытвины, поползла вперед. Лицо у неё стало серьёзным и сосредоточенным: разогнать машину на скользкой избитой дороге и не съюзить в канаву было непросто.
– Откуда чапаешь? – спросила она, когда дело наладилось.
– Лес разгружал. В городе.
Она мельком взглянула на него, качнула головой, вздохнула:
– Да-а. Ждановка твоя где? Я такой не знаю.
– А мы – в стороне, за Семёновкой.
– Ага. Удрал?
– Нет. Закончили.
– Почему один?
Серёжка коротко рассказал, как из Ждановки его одного оставили на разгрузке барж, а остальных отправили в лес.
– А я вот, дура, ездила запчасти для эмтээс получать, – она крякнула по-мужицки, будто ругнулась. – Всего два коленвала дали да ящик с болтами. Тьфу! – помолчала, подумала немного. – Могли и вовсе ничего не дать.
От мотора в кабину шло тепло, Серёжка согрелся, глаза у него стали слипаться, его мотало из стороны в сторону, несколько раз он сильно ткнулся лбом в стекло.
– Разобьёшь! – и тут же пожалела: – Умаялся, бедненький. Голодный, поди?
Могла и не спрашивать. Она видела Серёжкино лицо, когда он влезал в кабину: от боли и усталости голубые глаза его поблёкли и стали заволакиваться белесой мутью – верный признак того предела человеческого терпения, за которым наступает смерть или ожидает безумие.
Серёжка уловил в её голосе заботливые бабьи ноты. Промолчал. Она некоторое время сосредоточенно смотрела вперёд, потом, когда миновал трудный участок дороги, расстегнула левой рукой верхние пуговицы на ватнике, а там и на кофте, достала небольшую горбушку хлеба, переломила пополам, уперев в колено:
– На, пожуй, – откусила от своей половины и проделала всё в обратном порядке: спрятала хлеб, застегнула пуговицы.
Серёжка не смог отказаться. Хлеб, согретый её грудью, оказался тёплым, словно не успел остыть после печи, и был необыкновенно вкусным. Серёжка съел его и осоловел окончательно; не противясь руке, которая потянула его к себе, привалился лицом к пахнущему бензином и солидолом девичьему боку и, согретый теплом и урчанием машины и заботой своей спасительницы, уснул крепко и спокойно.
Самые счастливые два часа своей жизни Серёжка проспал; они потому и были счастливыми, что можно было спать в то время, когда дом приближался. Почти угасшая жизнь опять возвращалась в Серёжкино тело.
– Вставай, а? – сиплый голос был негромким, но настойчивым. – Проснись! Приехали!
Одной рукой она обняла его за плечи, удерживая в сидячем положении, другой легонько ворошила спутанные Серёжкины волосы и дула ему в лицо.
А он, глубоко убаюканный качкой, теплом и чувством безопасности, всё никак не мог расстаться с безмятежным видением: лежит он на возу с пахучим сеном под голубым небом, с которого льётся на него благодатный солнечный свет, обдувает его приятный ветерок и мельтесят над ним синие мотыльки, норовя сесть на лицо. Ему щекотно, он улыбается лету, солнцу, всей той жизни, что не знала войны. Невидимая с воза лошадь облегчённо вздыхает, втащив телегу во двор, телега останавливается, и мать говорит Серёжке почему-то хриплым, как у отца, голосом:
– Приехали!
Он соскальзывает с воза на землю, мать подхватывает его, чтобы не упал, а он обнимает её и целует в шею. Пахнет от неё почему-то, как от отца…
– Э-э! – смех, и Серёжка чувствует, как его отстраняет от себя – уже не мать.
Он очнулся, очумело хлопая ресницами, смотрел в незнакомое чумазое лицо, усталое, но улыбчивое. Всё вспомнил.
Машина стояла посреди дороги, мотор исправно работал на холостом ходу, за кабиной – первосумерки, слева от дороги – поле и справа – поле.
– Тебя как звать? – спросила она, надевая на него фуражку.
– Серёжка.
Она вздохнула:
– Вон Семёновка, Серёжа, – он увидел в той стороне, куда она показала, крыши домов. – Доехали.
Он отодвинулся. Медленно – расставаться с уютной кабиной, чтобы снова брести по пыточной дороге, не хотелось, – нерешительно открыл дверку и замешкался: надо было что-то сказать ей и не знал – что. Может быть, сказать, что всегда будет помнить её и пусть она заезжает в Ждановку, они все – мать, и Нюра, и Мишук – будут рады. Если не сможет теперь, пусть после войны приезжает, отец тоже обрадуется…
Но язык для таких слов был непривычен. Серёжка ничего не сказал, сунул руку за пазуху, нащупал в холстине кулёк с галетами, после недолгих колебаний достал его, положил, потупясь, на сиденье и спрыгнул на землю.
– Стой! – сказала она, но это только подхлестнуло его. Откуда силы взялись? Серёжка рванул через канаву, выскочил на колею проселочной дороги, отбежал шагов десять и оглянулся. Она стояла впереди машины, положив руку на радиатор, смотрела, наклонив голову, ему вслед.
– Дурачок, – сказала негромко неожиданно очистившимся от хрипоты приятным девичьим голосом, – глупенький.
– Спа-си-бо! – Сережка некоторое время шёл спиной вперёд, потом повернулся и, прихрамывая на обе ноги, деловито зашагал к деревне.
Глава 5
Галеты оставил. Жалко? Серёжка не мог ответить на этот вопрос. Оттого, что не пожадничал, будто посветлело на душе, а перед Нюркой и Мишуком – виноват, вот и разберись.
Ну, ничего, сейчас хлеб дома должен быть. Дали на трудодни, наверное, хоть сколь-нибудь. Всю прошлую зиму навоз с фермы на поля возили, дожди были летом – урожай ожидался хороший. Перед войной отец полную подводу, с верхом, зерна домой привозил, а прошлогодний хлебушко мать на себе, не тужась, принесла.
Серёжка достал из кармана последний сухарь: теперь он уже не сомневался, что доберётся домой.
Если бы дали по полкилограмма на трудодень… Жирно будет, хотя бы грамм по двести, и то хорошо: с картошкой, огурцами, свёклой, морковкой да капустой – жить можно было бы! Только успела ли мать управиться на своем огороде? Ну, разве оставит она его? Лишь бы не захворала; выкопала, конечно, и картошку, и репу. Да и Нюрка там… уже не маленькая.
Мысль о сестре, вильнув змейкой, вернула его на дорогу, к девушке-шофёру. Смелая. Серёжка оглянулся. Полуторка была бы ещё видна, но сумерки уже надвинулись и поодаль сравняли всё – небо, землю, машину. Мелькнули две крохотные звёздочки низко над полем и пропали. Может быть, это свет задних огней или они у неё не горят?
Не спросил, как зовут. Оробел вдруг. Наверное, Дашей. Даша – хорошее имя. Серёжке нравится. Добрая – угостила его тёплым хлебом. Не мог он остаться в долгу, вот и вытащил галеты. Ей ещё крутить и крутить баранку, нахлебается в темноте по такой дороге, хорошо, если машина не подведёт. Свечи – барахло, факт, а бабы что понимают? Ну, она, кажется, толковая: всё лицо забрызгано, откручивала, значит. Да толку, видно, чуть.
Видел Серёжка, что не хочется ей отпускать его, тоскливо оставаться ночью одной на дороге… А он драпанул.
Малость испугался он, признаться, потому что промелькнуло в лице у неё что-то такое…
Так у них в деревне смотрела на пацанов Шурка Акульшина. Смотрела, смотрела да и высмотрела в прошлом году Серёжкиного дружка Костю. Костя старше Серёжки на два года, ростом, конечно, повыше и в плечах шире. Почти парень. Пригласила его Шурка раз к себе домой, чтобы помог сеновал подправить, потом другой раз понадобилась какая-то помощь, а потом по деревне слух пошел, что бесстыжая Акульшина мальца опутала. Шуркины подруги успели до войны определиться: одни мужей на фронт проводили, другие – женихов, а она осталась вольная, замуж не торопилась, всё отшучивалась:
– Хомут на шею надеть успею!
Не успела, осталась беспризорной, всех парней забрали на войну. Кто милого, пусть увечного, ждёт, кто весточку, а Шурке ждать некого.
Мать Кости Шурку срамила, сучкой и стервой называла и просила-уговаривала не губить сына, на колени перед ней становилась, но Костя сам, как упрямый бычок, нагнёт голову, чтобы никого не видеть, и после работы только через знакомый сеновал домой идёт.
Даша моложе Шурки, не было, наверное, у неё парня до войны, а теперь смотрит…
И на сестрёнку, Нюрку, Даша чем-то похожа. До нынешнего года Мишук, бывало, по глупости сестрёнку бил – чем попадёт, сердился, что занятая делом Нюрка внимания на него не обращает; она сдачи не давала, жалела. Терпела, не плакала, когда ударит больно, только от обиды нижняя губа у неё вперёд подвинется и чуток в сторону. И у Даши, когда Серёжка галеты на сиденье положил, нижняя губа так же по-детски оттопырилась.
Серёжке вдруг стало нестерпимо стыдно за свой драный ватник, за протёртые штаны, сквозь которые она видела его грязные колени, за весь свой тощий измученный вид. Он, наверное, её во сне вместо матери обнял. Серёжка почувствовал, как у него загорелись уши.
Оглянулся ещё раз и опять ничего не увидел, и снова низко над землёй мелькнули два слабых, как светлячки, огонька и пропали. И снова Серёжка не обратил на них внимания.
Слева от дороги дружно под снег поднялись озимые. Ровный бархат зелени, казалось, густел в подступавшей тьме, но Серёжка видел поле так, будто стоял самый ясный день. Как видел его, когда выходил с отцом поздней осенью за околицу.
Земля пустела и блёкла к зиме, и неожиданная свежесть зелени озимого поля радовала и восторгала отца, он не мог не похвалиться своей работой, не поделиться этой радостью с близкими, выводил за деревню всю семью – жену и ребятишек. Мишуку трудно было идти по стылой неровной дороге, и отец садил его на плечо…
Какое теперь у него поле? Живой ли? Почему мать Серёжке ничего не писала, только ли потому, что дела невпроворот?
Может быть, посадят Серёжку на отцовский трактор весной, когда Михаилу Жданову исполнится восемнадцать и он уйдёт воевать? Серёжка справится, он отцовский колёсник знает до последней гаечки.
Будто шилом ткнули Серёжку в спину, он резко обернулся. Парных светляков на поле стало много, они бесшумно передвигались над озимыми, и хоть в серой мгле трудно было понять, далеко это или близко, но было ясно: они движутся в его сторону. Волки!
Серёжка побежал. До крайних домов оставалось совсем недалеко – пахло деревней, видны были редкие огни; доковыляв до первых огородов, оглянулся. Никаких светляков, пусто. Померещилось ему или волки, ещё не обозленные зимней голодовкой, близко к деревне подойти не решились?
Серёжка прошёл по улице до ближней избы, где горел свет в окне, постоял напротив, но подойти постучать не решился. Если бы не волки, отправился бы домой не задумываясь, а так надо проситься на ночлег.
Увидев идущего по улице мужчину, Серёжка поторопился ему навстречу. И вовремя: мужчина свернул к дому.
– Дяденька! – позвал Серёжка. Тот повернул голову в его сторону, задержал шаг. – Дяденька, – несмело повторил Серёжка, теряя уверенность по мере того, как подходил ближе, – пустите переночевать.
Мужчина молча, не глядя на Серёжку, пожевал губами. Лицо его, заросшее щетиной, было угрюмым, а поза выражала сомнение.
– Я из Ждановки, – против воли голос у Серёжки задрожал, и в нём появились жалостливые ноты. Мужчина вздохнул. – Дяденька, не бойтесь, я – сытый!
– Кхе, – мужчина хотел что-то сказать, но поперхнулся, пошёл к воротам, связанным из одних жердей, между которыми во двор мог легко пролезть взрослый, не только Серёжка: доски с ворот были сняты на дрова или для другой надобности. И покосившаяся рама калитки тоже зияла насквозь. Мужчина отворил её, оглянулся:
– Что стоишь? Заходи.
В сенях хозяин приостановился, тронул Серёжку за плечо:
– Ты – того, не думай: места не жалко, у нас это – малость нехорошо.
«О» в словах у него круглое, выпирает, и кажется, что вот-вот выкатится.
– Здравствуйте, – сказал Серёжка, переступив порог, и стащил с головы фуражку.
В доме топили плиту, свет из раскрытой дверцы её падал под ноги вошедшим и освещал лица трёх ребятишек – двух девочек, примерно четырех и шести лет, и мальчишки немного постарше их. Они грелись у огня, сидя на корточках у открытой топки, и дружно повернули головы, когда отворилась дверь.
На Серёжку ребятишки уставились с недоумением, словно в дом к ним никогда не заходили посторонние люди.
– Здравствуйте, – неуверенно сказала девочка постарше, а за ней эхом с той же неуверенностью поздоровалась малышка.
Больше никто не отозвался, хотя у плиты над чугуном виднелась и женская фигура; Серёжка подумал, что это мать ребятишек.
– Темно, – сказал ей хозяин, – запали лампу.
Она немедленно исполнила приказание, шагнула к ребятишкам, наклонилась, взяла с пола лучину, сунула в огонь, зажгла; подошла к столу, сняла свободной рукой стекло с лампы – стекло было заранее почищено, – положила его на стол, вывернула фитиль, поднесла к нему лучину, вставила стекло, убавила огонь, чтобы лампа не чадила и давала ровный свет.
Серёжка с волнением следил за каждым её шагом. Так же вот, наверное, и у него дома сейчас мать или сестра зажигают лампу…
Мальчишка забрал чадящую лучину и бросил в печь. При свете Серёжка разглядел, что это не мать ребятишек, а их старшая сестра. Было ей лет шестнадцать на вид, и всё, что должно, в ней уже округлилось, словно бы и не было никакой войны и постоянного недоедания.
– Па, – негромко пожаловалась девушка отцу, – она опять не ела.
Отец посмотрел в сторону тьмы на печи, нахмурил свой и без того морщинистый лоб, но сказал другое:
– Посади гостя.
– Проходите, – серьёзно и вежливо, как взрослому, сказала девушка Серёжке, – вот сюда.
Вдоль стены у длинного самодельного стола стояла широкая прочная лавка, с трёх других сторон – табуретки, тоже кондовые, сработанные на долгий век. Серёжка немного отодвинул от стола предложенный ему табурет, сел, прикрыв дыры на коленях фуражкой, замер, терзаемый мыслью, что хозяева будут ужинать и пригласят его.
Малыши поспорили, кто будет поливать на руки отцу; очередь, видимо, была за мальчишкой, и он, овладев ковшом, зачерпнул воды из небольшого бочонка, стал возле таза, дожидаясь, когда отец стащит с себя пахнущие навозом сапоги. Хозяин умылся, достал с полатей старые валенки, надел и подсел к Серёжке.
– Ты откудова?
Серёжка объяснил.
– А чей?
– Узлов. Павла Семёновича сын.
– А-а. Нет, не знавал, – хозяин устало вздохнул, свесив тяжёлые кисти рук с колен, о чём-то задумался. Потом поделился заботой с Серёжкой, как с ровней:
– Соли нет – беда. Капуста вся в кладовке лежит несолёная, огурцы скотине скормил, – спросил: – Сколько ещё будем с им биться?
– Н-не знаю.
Серёжка припомнил, как много в конце лета и начале осени говорили по радио о победах – на Курской дуге, под Харьковом, Смоленском и Новороссийском… Напали фашисты на нас вероломно, воспользовались моментом: пока наши силы собирали, они много земли и городов захватили. Но теперь Сталин дал приказ, и не будет врагу пощады.
При мысли о великом вожде, самом мудром человеке на земле, сердце у Серёжки взволнованно забилось – на него вся надежда, он всё знает, всё может. Бойцы за него жизни кладут, и Серёжка бы свою не пожалел, отдал бы с радостью – пусть прикажет. Сталина Серёжка любил и уважал, как отца, а может, и больше. Его внимательный, чуть прищуренный взгляд постоянно чувствовал Серёжка на себе, и взгляд этот давал ему, как и всему народу, смелость, и силу, и терпение. И, конечно, веру в победу. Без веры никак: много у народа врагов, даже в Ждановке был один. Откуда они только берутся? Прикидывался хорошим трактористом, а сам в позапрошлом году на весеннем севе запорол двигатель. Кольца и поршни, говорит, старые и потёртые, а он не виноватый. Забрали его куда следует, а жену из колхоза исключили, подхватила ребятишек и уехала… Товарищ Сталин разобьет и уничтожит всех врагов. Вслух высказать свои чувства Серёжка постеснялся.
– К весне, пожалуй, не отвоюемся, – сказал он солидно, – сеять сами будем, а урожай пусть батя убирает.
И улыбнулся счастливо, увидев, как наяву, идущий по золотому полю отцовский трактор с прицепленным к нему комбайном.
Хозяин внимательно слушал Серёжку и, кажется, понимал все его невысказанные мысли.
– Так. Гм… В городе-то что говорят?
Что говорили в городе, Серёжка не знал, он и городских людей-то почти не видел. Все новости сообщал им репродуктор, установленный на столбе возле барака, а лейтенант Вахрамеев разъяснял иногда военные сводки штатским бабам, приспосабливая важные новости на пользу конкретному делу разгрузки барж, разоблачал глупую политику Гитлера:
– Он думал, что мы разбежимся, как только увидим их танки. Такая доктрина у фашистов была: ударим хорошенько – и Советский Союз развалится, русский против татарина пойдёт, тот – на казаха…
Намёк был всем понятен: тётка Параскева обозвала однажды стариков Искандярова и Акпергенова узкоглазыми баранами за то, что они подолгу мылись в бане и задерживали баб.
Ещё не совсем старики, Искандяров и Акпергенов, татарин и казах, неразлучные и на барже, и на берегу, согласно кивали головами: думал дурной фюрер так, правильно говорит начальник лейтенант, но ни хрена у фашистов не выйдет – тоже правильно. На Параскеву они нисколько не обижались.
Высокая, худая, как жердь, Параскева, мгновенно воспалясь гневом, ругалась на чём свет стоит:
– А… не хотел?! – и, выбросив воображаемому бесноватому фюреру под нос реальный, жёсткий, как сучок, кукиш, требовала: – Так, лейтенант, крой дальше! Мать их…
Бабы вообще-то почти не матерились и попервости пытались одернуть и мужиковатую Параскеву, потом махнули рукой. Эта речь Параскевы воспринималась, как просьба о прощении за «баранов» и обещание, что такое больше не повторится.
Ещё лейтенант говорил тогда о неразрывной, крепкой, как цепь, дружбе всех советских народов и призывал дать врагу по мозгам ударной работой на разгрузке смертельно необходимого для фронта леса.
Серёжка усвоил, конечно, всю эту политграмоту назубок, но повторить её перед незнакомыми людьми не решился. В то же время он чувствовал, что в их глазах он не просто парнишка из Ждановки, а представитель армии труда, который побывал ближе к месту смертельной схватки и потому умудрён особым знанием.
– В общем, – Серёжка поднял кулак с зажатой в нём фуражкой, – будут знать, как к нам соваться, запомнят фрицы на всю жизнь!
– Скоро, говоришь? М-да-а, – хозяин покачал головой, будто соглашался, – война на самой макушке, попьет ещё нашу кровушку. А солдатного народу мало осталось.
Картошка сварилась, девушка слила отвар из чугуна в небольшую бадейку; картошку вывалила в огромную, как таз, миску, поставила на стол. От картошки валил пар, почти забытый за три месяца запах ударил Серёжке в ноздри. Он встал и отошел от стола в запечье, сел на лавку, по которой хозяева взбирались на полати.
Девушка принесла половину каравая из сеней – хлеб был серый, военного, хорошо знакомого Серёжке замеса, – взяла нож, стала резать. Серёжка старался не смотреть в ту сторону, но видел мельком и хлеб, разрезанный на восемь частей, и картошку, исходящую паром, и крупномолотую соль, одну щепоть, в тёмной казеиновой тарелке, и ребятишек, которые заняли свои места за столом и немедленно приступили к делу: выдернули из миски по картофелине и, обжигаясь, начали счищать с неё пленку кожуры.
– Хоть ты и сытой, а садись, – кивком указал хозяин Серёжке на табурет у стола. По голосу его нетрудно догадаться, что он твёрдо знает, что любой гость в эту пору – голодный. – Да куфайку-то сыми, натопилось уже, чего преть?
С печи, из тряпья, которое успел разглядеть Серёжка, когда подходил сюда, слышно было хрипловатое неровное дыхание больного человека. Вот почему сказал хозяин Серёжке, что у них нехорошо: помирает человек. Его зовут к столу, а что же та, которая «опять не ела»?
Голод-зверь давно ожил в Серёжкином теле, он нерешительно взялся за ремень – снять ремень значило обнаружить банку с рыбой, которую надо было непременно донести домой. Именно вот с такой картошкой, «в мундерах», мечтала поесть селёдки мать.
Хозяин подошел к Серёжке, стал ногой на лавку, потрогал больную рукой.
– Слышь-ка, иди ужинать. Давай помогу слезть.
В это время Серёжка увидел, как из горницы, шаркая ногами по полу, вышла седая старуха, пристроилась на край лавки за столом, рядом с внуком. Стало ясно, почему хлеб порезали на восемь кусков: семеро в семье, Серёжка – восьмой.
На печи никакого движения не обозначилось, только хрип прервался, когда последовал короткий слабый отказ:
– Не хочу.
Хозяин посмотрел на Сережку, словно прощения просил: вот, мол, парень, какие наши дела, положил руку на его плечо, остро выпиравшее из-под «куфайки», легонько направил в сторону стола.
Придерживая банку под полой, – ремень он снял и вместе с фуражкой положил на скамейку, Серёжка сделал два неуверенных шага, в ушах у него всё ещё слышался слабый исчезающий голос: «Не хочу», приостановился, пронзённый внезапной догадкой: может быть, она чего-то хочет?! Даже дыхание притаил: больная, наверное, как Серёжкина мать, тоже поела бы селёдки! Но – умрёт и никогда не узнает… Кровь отхлынула от лица, Серёжка медленно повернул голову:
– Дядя, – шёпотом спросил он, – вас как зовут?
– Иваном, – ответил хозяин и, помедлив, добавил: – Матвеичем.
– Дядя Иван, – прислушиваясь с удивлением к своему шёпоту, словно бы он исходил откуда-то со стороны, продолжал Серёжка, – у меня – вот!
Он вынул свою ношу из-под полы, подержал сверток у груди – напоследок, будто можно было ещё передумать и остановиться, потом прошёл на ослабевших ногах к столу и на свободном краю развернул.
Все притаились.
Ребятишки переводили взгляды с белых квадратиков сахара на блестящую банку, Иван Матвеевич и старшая дочь смотрели в стол перед собой, и только старуха изумленно воззрилась на Серёжку, как на чудотворца, перед тем она не замечала его. Серёжка видел: они испугались, словно бы давно ожидаемая в доме беда – вот, пришла!
– Что это? – тоже переходя на шёпот, спросил Иван Матвеевич и наконец оторвал взгляд от стола, исподлобья недоверчиво посмотрел Серёжке в глаза.
– Открыть… – совсем тихо, одними губами, распорядился Серёжка.
В банке, остро пахнущей пряностями – лавровым листом, перцем и маринадом, было восемь ломтиков – шесть в ряд и по одному сверху и снизу – ровно столько, сколько было в доме людей, как будто чья-то добрая рука заранее знала про этот случай.
Иван Матвеевич слизнул с ножа тёмно-коричневый рассол, изумлённо посмотрел на окружающих, только теперь, похоже, поверил, что ему не блазнится, неожиданная улыбка озарила его лицо.
– Мать, – сказал он громко в сторону печи, – слазь скорей – тут селёдка! Помоги, Катерина.
И сам немедленно пошел вслед за дочерью.
– Селёдка… – слабый голос был полон горечи и укоризны и непоколебимой убеждённости в том, что её лишь манят к столу, а ни о какой селёдке речи быть не может.
– Право слово! Давай руки.
Но уже распространились по избе запахи, и были они красноречивее всяких уговоров.
– Ва-ся?! – у Серёжки мурашки по спине побежали от этого её вскрика, столько в нём выплеснулось печали, надежды и радости. – Ва-сень-ка приехал?!
Простоволосая старуха с вздрагивающей от слабости головой спустила с печи неимоверно худые ноги. Серёжке стало не по себе: две старухи в доме, а где мать ребятишек? И кто тот Вася, за которого его принимает умирающая?
– Постой! – Иван Матвеевич едва успел подхватить падающую с печи больную, поставил на пол. – Чуни-то надень.
Она как была босиком, так и устремилась к столу и к Серёжке. В глазах её, казалось бы, уставших от жизни и потухших навсегда, зажглись безумные огни, она не понимала, зачем её задерживают, зачем надевают на ноги старые с обрезанными голенищами валенки и заталкивают руки в рукава кофты.
– Серёжка это, Узлов, – негромко, внушающе сказал Иван Матвеевич, – рыбой нас угостил. Иди поешь.
За столом, когда её посадили рядом с Серёжкой, она разглядела его и опамятовалась, зажав ладони коленями, стала покорно ждать, как с ней распорядятся дальше. Голова её на тонкой синюшной шее медленно колыхалась из стороны в сторону, как осиновый лист на слабом ветру.
Катя поставила перед ней жестяную тарелку, положила на неё ломтик хлеба, начала очищать картофелину.
Иван Матвеевич стоя раздавал рыбу – подцеплял ложкой, придерживая большим пальцем, осторожно вынимал из банки и, внимательно следя за тем, чтобы капля драгоценного рассола не упала на стол и не пропала зря, переносил на тарелку. Первый ломтик, из середины банки, положил Серёжке, второй – больной:
– Ешь, Семёновна.
Когда Иван Матвеевич занёс руку над банкой в третий раз, по его посветлевшему от радости лицу пробежала тень. Рука повисла в воздухе. Он посмотрел на Серёжку озадаченно, будто забыл враз, кто это и откуда взялся, медленно повёл головой, осмотрел тем же недоумевающим взглядом застолье – старух и детей, ждущих, что будет дальше, снова обратился лицом к гостю:
– У тебя дома-то кто?
– Мама, – Серёжка смутился, словно его уличили в воровстве, опустил голову, добавил тише: – и Мишутка с Нюркой.
За столом все разом, кроме больной, занялись картошкой.
Серёжка и без того чувствовал себя несчастным – от взгляда Ивана Матвеевича, а как от него отвернулись даже малыши, так готов был умереть от горя. Но не умер, смотрел в лицо Ивана Матвеевича и кричал молча: «Домой не понесу!» И захлёбывался в невидимых слезах. Хозяин и сам понимал, что не дать теперь своим детям рыбы – невозможно, но невозможно было и отнять её у тех, кому нёс эту рыбу Серёжка. И тогда Иван Матвеевич взял нож и разрезал очередной ломтик пополам. Всем остальным выдал по половинке; три кусочка остались в банке нетронутыми. После чего он аккуратно прикрыл крышку, придавил большим пальцем и посмотрел на гостя, словно ждал подтверждения, что сделал как должно.
У Серёжки посветлело на душе, он улыбнулся сквозь кипевшие на глазах слёзы и посмотрел на больную, приглашая и хозяина обратить на неё внимание: старуха к пище не притронулась, она по-прежнему сидела, зажав руки в коленях, и всё так же качалась голова её на тонкой шее.
– Давай очищу, – сказал ей Иван Матвеевич. Она отрицательно мотнула головой и от резкого движения чуть не повалилась с табурета.
– Ты чего? – удивился отказу Иван Матвеевич. – Я же вижу: хочешь!
Она облизнула сухие губы.
– Всё одно помру, – две скупые слезы покатились по лицу, – зря пропадёт.
– Ты мне эту дурь брось! – строго сказал Иван Матвеевич и кончиком ножа вспорол ломтик по брюшку.
Взгляд больной вдруг вновь вспыхнул безумием, она неожиданно быстрым движением выхватила свою долю из-под ножа, впилась в селёдку ртом и стала судорожными сосущими движениями впитывать в себя живительную влагу.
Глава 6
Ночью мороз был сильный, землю припорошило слоем свежего снега, природа, словно мать, ожидая сына домой, выстелила на поля и дороги большую чистую холстину. Шагая по застывшей колее, Серёжка думал о том, как ему повезло: сперва с машиной, потом с ночлегом – замёрзнуть в такую ночь ничего не стоило.
Спал он у тёплой стены, у печки, сладко, как, бывало, дома. Засыпать он начал ещё за столом – сказывалась дорога и те три месяца работы, которые, казалось ему, утомили его на всю оставшуюся жизнь. И вообще, будь у него такая возможность, лёг бы он спать на целую неделю.
Он с трудом стащил с ног ботинки, засунул в них протёртые свои носки, сделанные матерью из старых чулок, прошёл, как велела седая старуха, на чистую половину дома и хотел повалиться на большой сундук, на котором уже была постелена старая шуба, но старуха повернула его к широкой лежанке, где обыкновенно спала сама – одна или с кем-нибудь из малышей.
– У меня грязные, – с трудом ворочая отяжелевшим языком, сказал Серёжка, – гачи.
На штаны за дорогу намоталось и насохло грязи до самых колен, а снять их он не мог, потому что от трусов у него осталось одно название.
– Нешто это грязь? Это, сынок, земля. Земля грязной не бывает, – она легонько подтолкнула его. – Ложись, ангел, к теплу, а я – с краешку.
Серёжка видел ещё, как Катя принесла себе какую-то одежину вместо одеяла и села на сундук, дожидаясь, когда Серёжка отвернётся и ей можно будет тоже лечь. Потом её отец погасил лампу, стало темно, но сон почему-то улетучился, и Серёжка слышал некоторое время, как шуршало в той стороне, где была девушка, а затем стихло.
Утром он пробудился последним, после того, как поднялись Иван Матвеевич, старуха и Катя. Он хотел одеться и незаметно улизнуть, чтобы не дожидаться завтрака, но старуха увидела, что он зашевелился, остановила:
– Погоди-ка, – сказала, – ноги забинтую.
Она зажгла лампу, принесла и поставила на табурет напротив. При свете Серёжка с удивлением обнаружил, что ноги ниже колен у него чистые, протёртые, видимо, влажной тряпкой, а потёртые места и цыпки чем-то смазаны. Кожа на ногах помягчела и стала не такой болезненной, как была с вечера. Крепко же Серёжка спал, если не почувствовал, как старуха лечила его!
Она забинтовала ему обе ноги белыми лоскутами, подала носки, чистые, сухие и заштопанные; принесла ботинки, тоже чистые и просушенные, вытащила из них ветошь, которой она набила ботинки с вечера, чтобы при сушке они не скукожились:
– Налезут? Да не так, кулёма! – командовала она Серёжкой ласково, но решительно, как собственным внуком. – Вот эдак.
Помогла ему обуться так, чтобы тряпицы на ногах при ходьбе не сбились. Нарочито грубоватым обращением она прикрывала свою жалость и озабоченность бедственным Серёжкиным положением; душа его, которая исподволь, незаметно для него самого ожесточилась невзгодами последних дней, отмякла и отзывалась щемяще и сладко на малейшее проявление доброго чувства. Казалось ему: он – дома; хотелось смеяться и плакать. Но, как и она, Серёжка был с виду деловит и озабочен, собирался в путь обстоятельно и надёжно.
Его заставили поесть на дорогу; опять была картошка, чай, заваренный чагой, берёзовым грибом, а к чаю – пареная репа, вместо пирогов.
Оставшуюся селёдку ему завернули в обложку от старой ученической тетради и сахар – все шесть кусочков – в отдельный лоскуток бумажки, видимо, из той же тетради. Он начал протестовать, но Иван Матвеевич цыкнул на него:
– Того! Давай без этого.
Вышло смешно. Катя засмеялась, и в первый раз за все время Серёжке показалось, что в хмари, тёмной тучей стоявшей в доме, появился просвет. Будто свежий воздух проник в тревожную духоту застоявшейся беды, дышать стало легче.
Иван Матвеевич попрощался и ушёл, бабушка занялась во дворе скотиной, Катя одевалась, чтобы идти на работу и заодно проводить Серёжку, а он не мог просто так уйти. Он чувствовал на себе взгляд с печи и терзался внезапно возникшим в нём пониманием того, что от него, может быть, зависит: жить или умереть старой женщине. Вечером она соблазнилась солёной рыбой и поела, а когда у человека появляется аппетит, то – кто ж этого не знает? – он может справиться с хворью. Серёжка отошёл к тому углу стола, который не могла видеть больная, развернул свой похудевший свёрток и отделил из него одну селёдочную дольку. И сахар ополовинил сперва, а потом, глянув украдкой в сторону Кати, выложил на стол четвёртый кусочек. Они с матерью обойдутся без сладкого. Быстро завернул остатки, на ходу спрятал под ватник.
Девушка догнала его у калитки, заглянула сбоку в лицо:
– Ты чего помчался?
Она почему-то сильно встревожилась.
– Так, – буркнул Серёжка, пряча улыбку. Он подумал, что если Бог есть, то дома должно быть всё хорошо.
На лице Кати появилось и не сразу исчезло выражение встревоженности и непонятного Серёжке недоверия; однако морозец и ходьба согнали тревогу, нарумянили ей щеки, сделали привлекательной… да чего там – просто красивой!
Серёжка поневоле взглядывал на неё искоса и молча шагал рядом. Она хотела ещё что-то спросить или сказать, но ей помешала встречная женщина, которая взглянула на них с удивлением и вдруг резко свернула, обошла их стороной, как зачумлённых. Катя опять посмурнела и закусила губу. Так они дошли до большого деревянного дома без ставней, до правления колхоза, здесь она придержала легонько его за рукав, чтобы сказать прощальное слово:
– Мне сюда, – посмотрела в глаза Серёжке задумчиво и печально. – Вася у нас, – голос её дрогнул, – потерялся без вести. Как это – без вести?
Она делала ударение на слове «вести» – у Серёжки дыхание перехватило и озноб по спине прошёл: он понял, что это было второй бедой, может быть, главной, которая придавила всех, даже самых маленьких, в Катиной семье. И поэтому она встревожилась, когда увидела, как он заторопился уходить, а когда догнала, то сомневалась: надо ли говорить, знает ли Серёжка от отца о её пропавшем брате? Без вести – что за этими страшными словами? Плен? Струсил и сдался Катин брат и висит теперь над семьей неоглашённым пока приговором неотвратимое и вечное наказание? Уже боятся сельчане лишний раз словом перемолвиться, обходят стороной, а что станется с Катей и её родными, если Василия официально заклеймят именем предателя?
Нет, они не такие, чтобы сдаваться, погиб Катин брат, а может, в госпитале без памяти лежит. Серёжке хочется верить в лучший исход, но и червь сомнения и недоверия уже просочился в душу.
Она напряжённо вглядывается в его лицо, закусив от огромной обиды губу, ждёт так, будто Серёжкино маленькое мнение о случившемся несчастье – главное и решающее в её судьбе.
– А я не верю, – сказала, прочитав в выражении Серёжкиного лица ход его мыслей, – и никогда не поверю… Без вести…
– И я, – подтвердил Серёжка, внезапно проникаясь силой её убеждённости.
Глаза у Кати потеплели. Они у неё карие, светлые, цвета янтарного мёда… Постояли ещё недолго, она сказала напоследок:
– Приходи к нам завсегда, как будешь в Семёновке. Ладно?
Ботинки плотно сидели на ногах, ногам тепло и почти не больно, дорога ровная, не избитая, шёл Серёжка, словно пел. Будто живой водой его окропили и вернули с того света на этот – тяжёлый, мучительный и горький, но такой прекрасный и желанный.
Посевы озимых тянулись и в эту сторону от Семёновки – до самого леса, и зелень хлебного поля на чистом снегу радовала крестьянскую душу Серёжки, успокаивала незыблемой повторяемостью жизни растений, надёжностью законов природы, которые обещали людям урожай и пропитание, несмотря на существовавшую в мире несуразно-жуткую людскую деятельность по убийству себе подобных. Теперь, при ясном свете солнца, Серёжка различал каждый росток на поле и намётанным глазом определил: вручную посеяно. Знать, тракторы у соседей не на ходу – неисправны или, скорее всего, без горючки стоят. Досталось бабам в осеннюю страду… Всё в их руках: и хлеб, и снаряды, и лес для фронта, исцеляющая забота и кровь, отданная раненым.
Берёзовый колок белел понизу стволами деревьев, кудри тёмно-коричневых ветвей сплетались вверху в один подсвеченный небесной синью узор. Лучи солнца играли из-за стволов, высвечивали пылинки снежной изморози, тихо опадавшей с голых прутьев и устилавшей и без того чистое нетоптаное полотно просёлка. Оборванные ветром листья таились под тонким и рыхлым пока ещё слоем снега и заявляли о себе лишь негромким шуршанием под ногой.
Сразу за березняком шло ждановское поле, вспаханное под зиму, снег укрыл на нём борозды, и оно казалось аккуратно причёсанным гигантским гребнем. Серёжка почувствовал себя дома. Вон и нераспаханная полоса у края леса – любимое место отца. Весной, когда отец пахал, Серёжка приносил сюда обед, отец оставлял трактор поодаль, приговаривая ему, как живому:
– Извини, друг, там другие запахи, – и, сбросив кепку на сиденье, шёл к своей поляне неторопливым хозяйским шагом.
Серёжка отдавал ему корзинку с провизией, семенил рядом, поглядывая на отца с затаённой гордостью и желанием поскорее вырасти таким же большим и сильным, чтобы так же уверенно шагать по своей пахоте.
А пока Серёжка возвращался домой после трудной работы в городе; возвращался той единственной дорогой, по которой вслед за ним должен прийти с войны отец.
Дул ветерок, в степи редко воздух бывает спокойным, позёмка начала переметать путь.
Чем ближе подходил к своей Ждановке Серёжка, тем сильнее билось у него сердце. Всматривался в знакомые очертания околицы, в крыши домов и тревожился всё больше и больше: ни дымка над трубами, ни звука – дверь ни одна не скрипнет, не слышно ни голоса человеческого, ни собачьего лая. Деревня словно вымерла.
Помимо коровника со свинарником да тракторного двора, одна улица в Ждановке; избы стоят молчаливо по обе стороны просёлка, ставни на многих окнах закрыты – берегут тепло, но Серёжке кажется: смотреть на него не хотят, не ждут, а может, и ждать некому.
Вот и четвёртый дом от края. Ноги у него ослабели вдруг, задрожало веко, но разглядел на снегу три цепочки следов: две со двора и одна обратно. Большие следы – мать на ферму ушла, маленькие – к колодезному журавлю и назад – Нюра воды на коромысле принесла: у калитки выплеснулось с обоих вёдер…
Дома всё было по-прежнему. Незыблемо стояла печь посреди избы, разделяя её на две половины, из подпечья торчали сковородник, ухват, деревянная лопата, которой сажают в печь хлеб, когда есть что сажать, в углу – кочерга и полынный веник; привычно пахло варёными картофельными очистками, которыми подкармливали корову и кур.
Нюрка бросилась брату на шею и быстро, как ласковый щенок, обцеловала-облизала ему всё лицо. Мишук, посапывая, вылез из-под стола – что-то приколачивал там, – но к брату не подошёл, смотрел исподлобья, заложив руки за спину. Серёжка сам подступил к нему, тоже набычил голову, нагнулся и легонько боднул.
– А мамка на лаботе, – сказал на это серьёзный брат.
– Ну?! – Серёжка обхватил Мишутку, поднял и, будто покусывая за ухом, спрятал от младших своё лицо.
Все ждановские уже вернулись с лесозаготовок, рассказала сестра, замученные, а дед Задорожный так и вовсе больной. Его там сильно помяло бревном, которое посунулось на крутом склоне.
– Дедушко помлёт, – Мишук внимательно слушал разговор и решил, что сестра не сказала главного.
– Ты уже полные вёдра носишь? – без всякой связи с разговором спросил сестру Серёжка.
– Давно, – Нюра приняла это как похвалу, одновременно недоумевала: откуда брату известно?
Не раздеваясь, Серёжка пошёл на ферму, чтобы показаться матери. Они там толком и не поздоровались: мать несла сено на вилах, ткнулась сухими шершавыми губами ему в щёку – и всё. «Здоров?» – засияли глаза. И Серёжка включился в работу: носил в тесный саманный коровник, с крохотными подслеповатыми оконцами под крышей, сено, раскладывал в ясли; нагружал на сани навоз и вывозил, то и дело попадая ногами в рытвины на земляном полу, заполненные жижей; помогал матери и дояркам таскать фляги – пустые и с молоком; крутил ручку сепаратора, а после помогал разбирать и мыть его. Домой пришли после вечерней дойки, когда уже стемнело.
Нюрка, полновластная хозяйка в доме, к тому времени тоже подоила корову. А ещё она затопила плиту, сварила ужин, подмела пол, умыла бунтовавшего против воды младшего брата.
Сели за стол. Скудные городские гостинцы лежали нетронутыми. Вымученно улыбаясь, Серёжка развернул свой стыдливый припас:
– Вот: сахар – маленьким, а взрослым – селёдку.
– Ага! Я тоже серёдку! – Мишук, оказывается, научился выговаривать «р», но вставлял этот звук не там, где надо.
Сахар для него никакой ценности не имел, он просто не знал, не помнил, что это такое, как, впрочем, не знал и вкуса солёной рыбы, но раз взрослым полагается селёдка, то и ему её надо: Мишук тоже хотел быть большим.
Мать отвернулась на минуту, будто по делу, к плите, покусала губы, чтобы остановить ненужные слёзы, готовые выкатиться наружу, улыбнулась и посмотрела на сына с любовью и гордостью, словно бы он не два измятых и уже подсохших кусочка рыбы домой принёс, а геройский подвиг совершил – немецкий танк подбил или фашиста в плен взял.
Селёдку она порезала наискосок тонюсенькими ломтиками – получилось много, уложила лесенкой на тарелку, сверху луковичными колечками украсила.
– Праздник, – вздохнула, – мужчина в дом вернулся.
На что мужчина неожиданно для всех и для себя швыркнул носом: промочил на ферме ноги, вот и приключился насморк от простуды.
Отдохнули за ужином, и мать села за прялку, а Серёжка нашёл в кладовке вар, достал из комода толстые, суровые нитки и принялся сучить дратву: зима пришла, валенки надо подшить.
– Налог выплатили, – негромко отчитывалась мать, – молока осталось отнести литров пятнадцать, ну, справимся: корова доится пока. Яйца сдали полностью…
– Да! – перебил Серёжка. – Что с курами? Не зарубила?
– Нет.
– А клещи? Вывела?!
– Избавились. Спасибо бабушке Терентьевой, – вздохнула, – царствие небесное ей, – и, остановив кружение веретена, перекрестилась.
Серёжка глянул на божницу, но свет от лампы не достигал угла, и Святая Дева Мария, и Христос, и какой-то ещё главный непонятный Серёжке Бог таились во мраке. А вот простенок между окнами был освещен, из рамки, сделанной отцом ещё до войны, спокойно и прозорливо смотрел в будущее великий вождь народов – портрет Сталина отец вырезал из газеты.
Мать до войны Богу не шибко поклонялась, когда гром гремел над головой – крестилась, иконы в красном углу содержала в порядке – на всякий случай; но и не ругала мужиков, когда они, приходя к отцу, советовали пустить «Исусика» на растопку. «Хорошо горит!» Как ушёл отец на войну, мать вольностей по отношению к Богу больше не допускала. Да и богохульничать стало некому.
– Умерла?! – тут только дошёл до Серёжки смысл материных слов.
Ласковая была баба Фрося, добрая. Все деревенские ребятишки летом в её огороде паслись: морковку ели, огурцы, мак, подсолнухи шелушили – для баловства в своих огородах деревенские и до войны мало сеяли, а у старухи Терентьевой половина огорода одним только горохом была занята, и каким-то чудом всё у неё раньше поспевало.
– Я уж отчаялась с нашими курицами, – вновь крутилось веретено, – да ты помнишь, а тут как-то зашла к ним, теперь уж забыла зачем, она стала спрашивать про тебя да про наше житье-бытье, ну я и пожаловалась ей на нашу беду. «О-о, – говорит, – что ж раньше не пришла не спросила? Есть средство: пёрышков чесночных нащипли да и в гнезда положи». Я бегом домой и сделала, как она велела. А баба Фрося той же ночью померла. Хворала она, совсем слабая была. Пока хоронили, я про кур у Нюрки не справлялась, забыла, а когда вспомнила – никаких клещей уж не стало.
У Серёжки комок к горлу подкатил. Он любил бабу Фросю, как и все деревенские ребятишки, пользовался её добротой и досаждал, случалось, шалостями старухе. Не догадался тогда по материному письму: «…а кто по деревне помер, потом сам увидишь». Уже не испросить прощения за причинённые обиды.
– Нюра-то в школу у нас не ходит, – продолжала мать, немного погодя, – учить некому: учительница твоя, Марфа Андреевна, успокоилась от старости. Её, бывалыча, хвалили на правлении, что исправно всё сдаёт: и деньги, и молоко, и яйца. Да. А у неё ведь, кроме кур и петуха, ничего во дворе не было. Всё – за деньги. Зарплату свою изведёт, а не рассчитается – на деньги теперь что купишь? Ну, у неё были скопленные на книжке до военной поры и ещё колечки и серёжки разные драгоценные были – от матери ей остались, мать у неё не из бедных – так она всё отдала. На танк, если, говорила, её сбережений не хватит, пусть люди добавят.
Рука матери дрогнула, нить оборвалась, веретено покатилось по полу. Серёжка поймал его, подал. Свою нитку, уже натёртую варом и частью скрученную на колене, отпустил, она раскрутилась. Вот так и внутри Серёжки: что-то рвалось, скручивалось и раскручивалось с каждым материнским словом, ходило кругами, неумолимо приближаясь к неведомой запретной точке. И, наконец, жаром ударило в сердце; оно сбилось и замерло: что с отцом? Не спросил давеча второпях у сестры, есть ли письма от него, и она словно забыла сказать. Про Костю небось мигом наболтала:
– Друг твой жениться будет на Акульшиной.
– Тебя на свадьбу звали? – съязвил Серёжка. – Откуда знаешь?
– От верблюда! Ребёночка она родит скоро, куда он денется?
– Ври?!
– Ничего не вру! У Шурки одна пуговичка на пальте уже не застёгивается – вот!
Мать послюнила пальцы, потеребила куделю, вплела в неё оборванную нить, пустила веретено.
– Вот и смерть пришла, – и словно забыла, о чьей смерти говорит, вопрошающе посмотрела на сына, потом вспомнила: – Да, померла Марфа Андреевна без сил – единой крошки в доме после не нашли и дров – ни полена. Рассчитала, стало быть, что топить в зиму ей не придётся.
Пять лет ходил в школу к Марфе Андреевне Серёжка, совсем недавно, кажется, учила она его азбуке, учила писать, журила с улыбкой, когда он слизывал языком кляксу… И – нет её больше на этом свете. Уже две зимы пропустил Серёжка, началась война – кончилось его ученье: в шестой класс в Семёновку надо было ходить или в райцентр ехать, а тут работа навалилась. Так что была Марфа Андреевна первой и единственной Серёжкиной учительницей и останется ею навеки. Что же такое творится – почему уходят хорошие, дорогие сердцу люди?
– Маленький ребёночек у Боковой Анны от болезни помер, – продолжала перечислять мать, – Бог прибрал, потому что всех не прокормить. И так ещё, слава тебе господи, шестеро. Завидовали, бывалыча, ей, говорили: богатая, что ни год, то с прибылью. А теперь на убыль пошло: мужа убили, дитя померло.
– Что с папкой, мама?!
Мать перестала прясть, посмотрела на Серёжку печально:
– Кто знает, сынок, что с ним? Последнее письмо ещё при тебе было.
«Без вести», – вдруг явственно слышится Катин голос. Она говорит о своем брате, голос её дрожит, наливается тоской и болью, усиливается и ударяет, будто язык колокола изнутри в горячую Серёжкину голову. «Не ве-рю! Без вести. Без…»
Вырвалась из рук скрученная дратва, Серёжка наклонился было за ней, но не поднял, выпрямился с трудом, чувствуя, что всё вокруг него закачалось и поплыло, как на волне, и сам он стал невесомым.
– Что-то лицо у тебя разрумянилось? – мать, взглянув мельком на Серёжку, воткнула веретено в куделю, поднялась со стула, приложила приятно-прохладную ладонь ко лбу сына. – Да у тебя жар! Господи, твоя воля…
На какое-то мгновение рука матери вернула Серёжку в реальный мир.
– Ничего, мама, не бойся, я – крепкий, – сказал он и тут же почувствовал, как на него навалилась тяжёлая беспросветная тьма.
Снова, как в городе два дня назад. Серёжка погрузился в беспамятство, на этот раз надолго.
Глава 7
Две недели метался Серёжка в бреду – вновь по команде лейтенанта Вахрамеева добывал под палящим солнцем тяжеленные брёвна из реки, окунался в ледяную воду, проваливался в тёмный трюм и, ожидая удара о жёсткое дно баржи, весь сжимался и покрывался потом. Но удара не следовало, и он всё падал и падал вниз, преследуемый безжалостным взглядом из-под припухших прищуренных век. «Одним едоком меньше!» А потом долго, задыхаясь от напряжения, лез по бревну на мерцающий в вышине свет, но оскользался и опять падал, переживая ужас падения в сотый, а может быть, и в тысячный раз.
Временами бред перемежался сном. Сны тоже состояли из прошлого, но случались в них не только страшные дни и часы, но и светлые минуты, когда живы были все: и отец, и похожий на него замасленным комбинезоном Катин брат, и Марфа Андреевна – почему-то с ребёночком Анны Боковой на руках, и баба Фрося. Баба Фрося улыбалась Серёжке всем своим морщинистым лицом и ласково звала:
– Иди сюда, родной, здесь хорошо.
– Да, иди к нам, – говорила и учительница и, поворачивая голову так, чтобы прядь седых волос, падавшая ей на лицо, не мешала видеть Серёжку, зачем-то протягивала навстречу ему малыша.
Очнулся Серёжка ночью. Тихо. Открыл глаза. Коптила лампа на столе, мать сидела рядом, уронив голову на сложенные на спинке стула руки, дышала ровно.
«Долго же я дрых», – подумал Серёжка, смутно припоминая, что он, кажется, вставал и даже не один раз, куда-то двигался и что-то делал, а рядом с ним неотлучно была мать и руководила им.
Но Серёжка ошибался. Мать обихаживала его только ночью, а днем она уходила на ферму, потому что скотину голодную и недоенную не бросишь. Заменить некем. Другие доярки и хотели бы помочь, но ни сил, ни времени у них на чужую группу коров не оставалось. Мать исхитрялась в эти дни делать всё быстрее – выкидывать навоз, давать корм, доить – выкраивала время и прибегала домой два, а то и три раза на день. Тревожно вглядываясь в сына, убеждалась она, что душа в нём ещё теплится, давала наставления Нюрке и уходила снова, чтобы везти солому с поля, опять доить, крутить – по очереди – ручку сепаратора… Молоко в райцентр не возили: далеко и накладно, рассчитывались сливками и маслом. Эта круглосуточная круговерть, она знала, кончится однажды тем, что в свой час она тоже упадёт и не поднимется. Но иного выхода у неё не было, от её жизни зависела жизнь всех её детей – не только старшего, и мать держалась; неизвестно, кто кого больше спасал: она их или они её.
Серёжка чувствовал лёгкость и невесомость в теле, будто бы брёвна, которые так долго давили его, наконец свалились. Но одновременно с лёгкостью владело им ощущение немощности – надо бы повернуться, а он не мог, не умел этого сделать, как младенец, только что народившийся на свет. Ещё он боялся потревожить сон матери и потому лежал не шевелясь и старался дышать бесшумно.
Однако сторож, недрёманно живший в ней, толкнул мать.
Она подняла голову, встретила взгляд сына.
– Слава Богу! – выдохнула.
Серёжка подумал, что сейчас мать заплачет, и деликатно отвернулся. Но глаза её остались сухими, в них даже угасла вспыхнувшая было радость – так она устала.
– Жёлтый, – сказал Серёжка, глядя на портрет в рамке.
– Что? – не поняла она.
– Надо сменить Сталина, пожелтел.
– Тсс! – приложив палец к губам, мать оглянулась в испуге. Нюра и Мишук крепко спали. – Где теперь возьмёшь? Потом. Ты только не говори им, ладно?
Вот так она и раньше: вскидывалась почему-то настороженно, если кто из детей произносил имя вождя, и останавливала строго, строже, чем когда задевали Бога:
– Нельзя!
Была какая-то тайна, которую взрослые хранили от детей: на людях почему-то имя Сталина они произносили часто и с радостью – во всех торжественных случаях, – а дома говорить что-либо о нём не дозволяли.
– Есть будешь? – мать от усталости с трудом выговаривала слова.
– Пить. Молочка бы…
Мать помогла ему сесть. У Серёжки от движения всё закружилось перед глазами, затуманилось, но вскоре прояснилось и стало на место. Она взяла со стола стакан:
– Кипячёное.
– Вкусно, – он осилил полстакана, и его потянуло к подушке, – парного бы испить.
– Нету парного, – мать с трудом отвела взгляд от оставшегося молока, – корова уже не доится. Это тебе Шурка принесла.
Она вернула стакан на место.
Серёжка пошевелил мозгами:
– Сколько же я болел?
– Я знаю? – она разговаривала, уже не открывая глаз. – Долго.
– Ты ложись, – сказал Серёжка.
Она покорно, словно бы только и ждала этих слов, побрела к топчану и, не раздеваясь, как куль, повалилась на него.
Отец, может быть, письмо прислал, а Серёжка не спросил у матери и досадовал на себя, пока тоже не уснул.
– Ничего не прислал, – сказала сестра Серёжке утром. – А мамка-то не встаёт.
Мать проспала утреннюю дойку, не поднялась к обеденной и ни на какие попытки Нюрки разбудить её не реагировала. Тогда Нюрка решила подоить коров сама.
– Вы поживите тут без меня, – сказала она братьям, – я пойду. Мишутка подаст, если чего понадобится.
Она уже оделась, но тут пришёл председатель.
– Так, – сказал он вместо приветствия, – полный лазарет. Ты, значит, заместо матери пойдёшь?
– Ага. Я умею, дядя Назар.
– Знамо дело, – председатель сел на табурет, поставил меж ног длинную палку, которой он пользовался, как посохом; когда Серёжка уезжал на лесозаготовки, Назар Евсеевич в подпорках не нуждался. – Выручай, Аннушка, больше некому. Я сказал бабам, чтобы взяли по две-три из вашей группы, но остальные, значит, твои.
Нюрка ничего не ответила, ждала, что ещё скажет председатель. Он молчал, словно забыл, где он находится, и думал лишь о том, как лучше прожить минуту покоя, столь неожиданно выпавшую ему. На впалом лице его, поросшем седой щетиной, застыло выражение заботы, которую не избыть вечно, даже тогда, когда Назар Евсеевич успокоится в могиле. Заметно сдал председатель за время, что Серёжка не видел его.
– Ты хорошо дои, – наказал Мишук сестре, – а то дедушка Назар тебя палкой!
Младший брат долго смотрел на посох и, наконец, додумался, для чего он нужен.
– Она хорошо подоит, – пообещал без улыбки Назар Евсеевич. – А я не дерусь.
– Так мне идти?
– Да, иди.
Нюра ушла. Назар Евсеевич посидел в раздумье ещё минуту, положил руку на плечико Мишутке, который, услышав, что председатель смирный и не дерётся, осмелел и тёрся у его колена, вздохнул:
– Вот так, Михаил Павлович, давай расти скорее на подмогу: на тебя вся надёжа.
Наказ Мишука сестре – хорошо работать – председатель примерил и на себя: всё ли делает он ладом в хозяйстве, доживут ли колхозники до весны, не протянут ли бабы ноги? Кажется, навел малый на дельную мысль. Когда осенью рассчитались с государством и отвезли сверх плана – «наш подарок товарищу Сталину», – остались в амбарах, кроме посевного материала, кое-какие крохи, не учтённые уполномоченными. Хотел зажилить до весны этот остаток Назар Евсеевич, но бабы взяли его «за зебры»:
– Не крути, председатель, говори как на духу: семена с избытком?
– Какой там избыток… – начал было Назар Евсеевич.
– Подохнем, – предупредили бабы. – На ком тогда пахать станешь и кто будет сеять?
Известное дело: набить брюхо картошкой можно, но силы в ней нет; хоть сколь-нибудь хлебного добавлять надо, иначе – голодно: многие поколения на хлебе взращены, и без него люди слабнут. Порешили правленцы: выдать по сто пятьдесят граммов на трудодень работающему и по пятьдесят добавить ему на иждивенца. Но, чувствовал Назар Евсеевич, уполномоченный не зря в последний свой приезд в амбары заглядывал: глаз положил. Приедет перед весной «раскулачивать» – опять «на подарок» или соседям на сев заставит раскошелиться. На току, в стороне от других амбаров, стоит ещё один, небольшой и негодный с виду: солома на крыше обдёргана, дверь щелястая без замка и на одном крюке болтается – уполномоченный к нему не подошёл, а там было что посмотреть. Амбар-то внутри на две половины разделённый, и вторая – исправна, с хорошим запором, и крыша на той стороне в порядке, но главное – все сусеки в той половине с зерном. С тем самым «излишком», который хотел приберечь председатель до самых голодных весенних дней. Правильно мыслил: зиму бы и так протянули, а перед посевной поддержка ох как нужна! Но и не без греха была думка. Председатель открещивался от неё, запихивал в самый тёмный угол эту грешную половину, но она и оттуда высовывалась, как гвоздь, и раздирала душу: если слабые, которые не работники, до тепла не все выдюжат, то зачем на них хлеб изводить? Пусть уж больше пахарям достанется. Паскудная мыслишка, прямо сказать – сволочная, и, слава Богу, что не по его воле вышло. Роздали зерно – отпала эта болячка, но всё равно совесть мучает: кажется Назару Евсеевичу, что каждый покойник беспощадным судией на том свете его дожидается: и воины, живые и мёртвые, тоже спрашивают: «Как же ты допустил, председатель, что люди мрут?»
Какие у колхозников были глаза, когда в полной тишине на весы ставился очередной полупустой мешок, какое смирение – не забыть!
Брали зерно из всех амбаров понемногу, чтобы не очень приметно убыло. Людям всё равно, из какого сусека им нагребут; амбарушко остался нетронутым. Тётка Манефа, кладовщица, помалкивает, раз молчит председатель, словно бы забыла, что у неё на отшибе амбар полный. Ушлая старуха.
Надо позаботиться, чтобы и в следующий приезд уполномоченный о том зерне не проведал. Спасибо мальцу, надоумил…
Назар Евсеевич коснулся ладонью Мишуткиной головы, поднялся со вздохом, пожелал всем Узловым здоровья и вышел.
Мать проснулась утром следующего дня точно в свой час, затемно, управилась, как всегда, по хозяйству дома и ушла на ферму. Там ей ничего не сказали, и она сперва не знала, что проспала сутки, только удивлялась, как это халат и подойник оказались не на тех местах, где она оставила их с вечера.
Глава 8
В тот день, вскоре после того, как ушёл председатель, появился новый гость. Брякнула щеколда в сенях, почти сразу затем распахнулась дверь в избу, и вместе с клубом морозного пара на пороге появился Костя.
– Ко мне не лезь, – сразу же предупредил он Мишутку, – я холодный!
Сдёрнув рукавички, сунул их в карман полушубка – отцовского, конечно, прошёл и сел у койки, широко расставив ноги в больших серых валенках. Устроился основательно. Они некоторое время смотрели с Серёжкой друг на друга, молча, будто знакомились заново. От Кости пахло табаком и навозом и веяло уличной свежестью.
– Женишься? – спросил Серёжка.
– Кого там, – у Кости обозначилась на лбу морщина. – Женился.
– Чё говорят? Рано?
– Хэ! Работать – так большой, а как жениться – маленький. На лесозаготовки – опять мужик.
– Когда?
– Прямо щас. Повидаться зашёл, – Костя поскрёб обветренный и уже слегка покрытый светлым пушком подбородок. – Как там, шибко тяжело?
– Есть маленько, – Серёжка усмехнулся, кивнул на одеяло, под которым почти не было заметно его тела.
– Ага. Хорошо, что домой успел добраться, – Костя, отвернув полу, достал из кармана брюк кисет, повертел его в руках и сунул обратно. – Одна тётя Валя вернулась ничего. Правда, худая, как смерть, и кашляет, но это, говорит, пройдёт.
– Как одна? – испугался Серёжка. – А с Натальей и Аришкой что?
– Не знаешь? Наталья немного того, – Костя коснулся виска пальцем, – её тамошний начальник спортил. Ну, Аришка не далась, так он её поставил на место, где двоим мужикам не управиться было. Надорвалась. Болеет.
Костя опять вынул кисет, нервно теребя его, смотрел на друга глубоким незнакомым взглядом, будто прокурор.
– Вдовушек ему мало?!
Столько ненависти было в Костиных словах, что Серёжка не посмел что-нибудь ответить.
– Моя говорит: «Всё. У Аришки никогда уже не будет ребёночка». Ты можешь это понять? Нельзя бабе пуп рвать, не лошадь, – Костя опустил взгляд, стал разглядывать свой валенок. – Женчина – существо. Для другого назначена.
Костя помолчал, не поднимая головы, потом продолжил в ненарушенной тишине, словно бы не с Серёжкой разговаривал, а с самим собой:
– Ну, мужики – ладно. Наше дело – воевать и угробляться. Но бабы и детишки чем провинились? – Костя оглянулся на спящую Александру Касьяновну, убавил голос. – Это как же надо людей ненавидеть, чтобы такую войну учинить?
Серёжка надел полушубок, запахнулся, застегнул пуговицы, которые мать перешила для него чуть не под мышку, опоясался ремнем. Он сильно вытянулся за время болезни, полушубок отцовский наладили ему и шапку приспособили – стянули подкладку нитками, чтобы не болталась на голове. Одеваться надо тепло, чтобы опять не простыть, его недавно определили ездовым вместо деда Задорожного, который не умирал и не поправлялся.
Мучаясь между жизнью и смертью, дед Задорожный в лучшую минуту заботился о колхозных делах, главным образом о лошадях, наказывал Серёжке, чтобы не обижал животных.
– Любить всякую тварь – это закон Божий, – говорил дед, – он в живой душе посеянный и взрастает от ласки. Кто любит, того и ответно полюбят. Ласковый человек завсегда счастливый, сколько бы зла на него ни наворотили.
В худой час дед стонал и бредил в беспамятстве, собирался к Богу и спорил с Ним и ругал Его самыми поносными словами, ничуть не лучше тех, которыми костерил фашистов, когда узнал, что они пошли войной на нашу землю.
Серёжка прошмыгнул в конюшню быстро, чтобы не напустить холода, притворил за собой широкую дверь, постоял, привыкая к полутьме. Конюх Антипыч, хромой допотопный старик, явился, конечно, на конюшню затемно, убрал катыши, дал лошадям сена, надел на морду Гнедому тощую торбу с овсом. Управившись, привалился к вороху сена в углу и придремал. Деревянный пол конюшни подмёрз у дверей, но дальше воздух, заряженный ароматом конского навоза и пота, был значительно теплее, чем на дворе, и по-своему свеж.
Стараясь не шуметь, Серёжка снял с кованого гвоздя, забитого в стену, хомут Гнедого, надел себе на шею, потом и дугу – туда же, в руки – седёлко и вожжи, вынес всё, положил в кошеву. В Ждановке почты не было, и ему предстояла поездка в Семёновку с письмом, которое дал председатель с вечера, и с посылками на фронт, приготовленными сельчанами к Новому году. Посылки надо было забрать из правления.
Серёжка походил вокруг саней, поджидая, когда жеребец управится с овсом; дверь конюшни отворилась, Антипыч высунул бороду:
– Запрягай. Поки ты собираешься, он своё схрумкал. Ага.
Серёжка пошел за конём. Дед уже снял пустую торбу с морды Гнедого – тот недовольно мотал головой, не желая менять вкусный овёс на холодные удила уздечки.
– Стой, говорю! Ага. Вот, на.
Серёжка взял повод, снял со стены кнут, вывел коня, поставил между оглоблями: «Стоять!» – взял из саней хомут.
– Ага, – Антипыч прихромал следом, ему хотелось поговорить. – Ишь, стервец, овса ему. Завсегда так: кто возле начальства – тому хлеб, а кто пашет – тому сено, а то и солома.
Увидев перед собой сбрую, Гнедой привычно подставил голову. Серёжка надел хомут, принёс дугу, наклонился за оглоблей – конь косил умным глазом за Серёжкой, изредка посматривал и на старика: куда девалась торба? Не углядел, повернул голову, дохнул Серёжке в лицо, пошлёпал недовольно большой влажной губой.
– Щас поедем, – сердце Серёжки неизменно щемило, когда он видел в упор понимающе-терпеливые лошадиные глаза, ощущал тепло, исходящее от сильного тела животного, и чувствовал готовность его повиноваться малейшему желанию человека.
Гнедого Серёжка любил особенно: конь был красив. Это чудо, что его не забрали в кавалерию – военный фельдшер-ветеринар нашёл у коня какой-то серьёзный изъян в зубах. Гнедого берегли, сколько можно, не впрягали в тягловую работу, холка у него не потёрта, как у других лошадей, и спина не избита. Он не успел износиться и охотно, без понуждения, откликался на призыв к бегу.
– Подмогнуть?
– Сам! – Серёжка продел в гуж конец дуги, обошёл Гнедого, зацепил другой конец, быстро и ловко стянул дугу, упираясь в хомут ступнёй, затянул супонь, кончик ремешка завязал петелькой – всё одним неразрывным движением.
– Ага, – одобрил Антипыч. – Ты, Сергей Палыч, в туё сторону шибко его не пускай, не дай ему упреть, а то застудишь, поки с почтаркой будешь заниматься.
– Ладно, – Сережка прыгнул в кошеву, и Гнедой играючи вынес сани со двора.
– Синё, – щурясь от сверкающего на солнце снега, Антипыч глядел с удовольствием, как из-под копыт Гнедого брызнули мелкие осколки, когда он взял с места. – Славный день.
Старик нисколько не обиделся, что Серёжка не удостоил его разговором – так даже лучше: начнёшь балаболить по пустякам да вдруг и обмолвишься о том, чего никому говорить не следует.
А зудело. Очень хотелось похвалиться надёжному человеку тем, какую они с председателем штуку втайне спроворили. Месяц тому назад или чуток поболее, когда сильных морозов ещё не было, пришёл Назар Евсеич на конюшню, повздыхал возле лошадей, которых в колхозе осталось мало, так что, если бы раздать их по дворам, как в пору единоличного хозяйствования, то ни одного справного крестьянина в деревне бы не оказалось – хоть всем миром ступай в батраки наниматься.
– Дожили до последней бедности, – Антипыч хорошо понимал председателя. – Как будем державу кормить? Сиротская наша жисть.
– Сироты и есть, – ответил Евсеич, проходя в пустовавшую часть конюшни и как-то по-особому, словно пробовал на прочность, ступая по земляному здесь полу. – Хороший хламник.
Поломанные сани и телеги, колёсные ступицы, лопнувшая дуга, рваные хомуты и прочая рухлядь – всё было здесь, натащили со двора: целее будет, что-то, если руки приложить, пойдёт когда-нибудь в дело.
Антипыч хромал следом, силился уразуметь, что надумал председатель. Евсеич заинтересовался кривым и ржавым ломиком, поднял его, прислонил к стенке. Потом нашёл совковую лопату без черена и её с довольным видом положил возле ломика.
– Чего будем рыть?
– Вот и я думаю: ежли из дому лопату принести, то вся деревня начнёт соображать: «А что наш председатель и где копает?» Штыковую бы ещё найти.
– Ага. Есть такая. Я небось чищу тута. И где будем закапывать?
Назар Евсеевич посмотрел на конюха недовольно:
– Ох и дошлый! Что собрался прятать?
– Я?! – Антипыч поразился, что председатель вдруг вздумал хитрить, когда дело ясное. – Амбарушко ты, я думаю, вознамерился опустошить. Давно пора. Манефа-то что говорит?
– Н-да, – Евсеич потрогал щетину на подбородке. – Ущучил. Безо всяких следователей.
– Ага, – приосанился дед. – В японскую меня два разы в разведку посылали, я всё высмотрел и ни разу не попался. Да! Японец ворог хитрый! Не по-нашему гыргочет, не по-русски думает – поди угадай его! Я…
– Ладно, – не стал слушать знакомую историю председатель, – тут не разведка, а партизанское дело. Набрось на свой роток большой платок, чтобы ни одна живая душа… За Манефу не бойся: она баба с мозгом, знает, чем тут пахнет.
Назар Евсеевич пробрался к стене, ткнул пальцем под ноги: – Здесь. А там, где стоишь, надо отгородить соломой: коням будет теплее.
– Ага, понял. Будет сполнено!
На следующий день приступили. Оттащили старые сани в сторону, сдвинули телегу и рухлядь – копал председатель в одиночку, вечерами; Антипыч охранял, чтобы кто-нибудь нечаянно тайную работу не обнаружил. Верхний слой земли председатель откинул в угол, прикрыл соломой, а глину, в двойном куле, чтобы через дерюгу земля не трусилась и не оставляла следа, выносил с оглядкой в овражек за конюшней. Работал часа полтора-два, не больше, чтобы люди не обратили внимание, что председатель слишком долго где-то пропадает. Потом яму маскировали: кидали поперёк неё две доски, на них – сани, телегой преграждали к яме ход. В первый же вечер Антипыч сказал:
– Однако, Евсеич, нам с тобой могилка получается, аккурат на двоих. Мелковата пока, дак углубим.
– Иди карауль, а то застукают нас тут, как тараканов на столе.
– Тама заперто у меня.
– Ступай, мало ли что: вдруг стучать начнут, а мы с разговорами не услышим.
Уходя, председатель напоминал каждый раз:
– Не болтай! Завяжи тряпкой рот, будто зуб болит, и молчи.
Дед рот не завязывал, но людей сторонился, что по довоенным временам вызвало бы удивление и вопросы, но теперь не казалось странным.
Больше двух недель готовил хранилище для зерна Назар Евсеевич, вырыл три отсека, укрепил стенки, утоптал дно, соломы настелил. Перед решающей операцией дал себе и деду два вечера для отдыха. Самое опасное было – перевезти зерно, чтобы никто не заметил. Мешки приготовили заранее, дождались вечера, к счастью, не очень холодного – снег под санями не сильно скрипел, и сделали две ходки. В следующий вечер – ещё одну. Поверх соломы набросали, присыпали землёй и хорошенько утоптали.
Манефа в деле не принимала участия, будто бы хворала, ключи от амбаров по такому случаю были у председателя.
Когда всё кончили, сели в деннике на солому рядом, не веря благополучному исходу, посмотрели друг на друга. Евсеич пытался дрожащими руками самокрутку соорудить. Антипыч же с чувством перебирал косточки Господу и всему Святому семейству.
Покурив, председатель успокоился, сказал усмехаясь:
– Что-то не пойму, Антипыч; только что ты славил Бога, а теперь хулишь. С чего бы это?
– Эвон сколь молчал, должен поговорить.
– Кары не боишься?
– Э-э, – махнул рукой дед, – с Богом я давно раскланялся, еще в туё германскую. Лежал, значит, в траншее ранетый, весь в кровях, в дерьме, газами травленный, и беседовал с им – всю правду-матку высказал: «Сатана ты есть, Господи, когда над христьянами своими такую муку учиняешь. За что наказуешь? Наказание должно быть божеским – по справедливости, по содеянному. Где твое милосердие?» Ага. Много я ему тогда чего сказал. И через одно слово молитвы – два наших, солдатских.
– Ответил?
– Где ему?! Пыхтел в кулак – и только. Я так кумекаю своим маленьким умишком: нет у его власти. Навроде как у тебя: будто бы ты землёй и нами владеешь, а на поверку от твоей воли – один пшик. Вот – дожили: у себя крадём! Самый дохлый районец с портфелем над тобой комиссар. Так и у его: он – Бог, председатель над человеком, а Сатана – его уполномоченный – нами правит.
– Наговорился? – Назар Евсеевич загасил окурок, положил его в карман, поднялся. – Теперь опять молчи, пока посевную не отведём. Будет невмоготу – зови меня, я тебя исповедую. Да. А лучше, если забудешь насовсем, что мы тут с тобой делали. Бывай здоров.
– Обиделся, что ли? А чего я такого сказал? – Антипыч проводил председателя до двери, напомнил: – Подругу-то свою не забывай.
Назар Евсеевич молчком взял поданную палку-посох и, тяжело опираясь на него, побрёл домой.
Посылок набралось семь – по числу фронтовиков, которые считались неубитыми; две – в небольших фанерных ящичках, видимо, с сухарями и салом, остальные – в тряпичных упаковках. Была здесь небольшая посылка и отцу. Рукавички шерстяные связала мать и носки, зашила вместе с табаком в неизношенный угол старой простыни.
Табак в Ждановке раньше не сеяли, бабы стали выращивать его уже после начала войны. Некоторые и курить научились, чтобы узнать, из чего более крепкий самосад получается – из листьев или стеблей? Говорили, что курево хорошо голод перебивает. Серёжка пока не пробовал, мать не велела.
Писем от отца всё не было, и посылку мать подписала на прежний адрес, полагая, что коли жив старший Узлов – должен быть живой, иначе прислали бы им посмертную весть, – то приписан всё к той же своей части, а уж там знают, где его сыскать.
На выезде из деревни Серёжку остановила Петровна, старуха деда Задорожного, подала белый сверток, видимо, тоже с рукавицами и табаком, такими же подарками, какие были в большинстве посылок, сказала:
– Увезёшь моему Ванечке, а?
Серёжка ничего не ответил, положил сверток в сани, в глаза Петровне старался не смотреть – трудно было видеть её вопрошающий взгляд, в котором читалась мольба: «Не говори, что моего Вани больше нет!» – и: «Скажи, что он ещё вернётся!»
Сыновей у Задорожных было четверо, все ушли воевать; там их убивали по старшинству; когда очередь дошла до самого младшего – когда пришла похоронка на Ваню, – Петровна с его смертью не согласилась, тайком от своего старика продолжала писать сыну письма на фронт. Советовала младшенькому беречь себя, подолгу на сырой земле не лежать, а уж коли придется, то подстилать соломы или веток, чтобы не простудиться, как это случилось с ним позапрошлой осенью, когда он, умаявшись на току, уснул за амбаром. Лечиться теперь нечем, ни мёду нет, ни варенья. И редька на огороде нынче не удалась, чем-то порченная…
На письмах Петровна фамилию сына не указывала, писала: «Самому храброму герою». Теперь вот и посылку собрала меньшому к празднику и адресовала её всё тому же герою.
Изредка Петровна получала ответные треугольнички, в них бойцы обещали: «Мы отомстим за Вашего сына, Мама!» Тогда Петровна на своих слабых ногах добиралась до правления и с торжеством в голосе говорила: «Вот – мне от Вани письмо пришло, прочитайте».
Бабы сморкались в платки, читали и плакали. А Петровна слушала их и светлела лицом, будто и вправду верила, что как только настигнет возмездие самого последнего ворога, так и объявится её сын среди живых, и пришлют ей с фронта самую радостную весть. Не могла она допустить мысли, что Задорожных извели под корень и что со смертью старика и её самой прервётся навсегда их родовая ветвь.
Глава 9
За деревней – простор. И великая тишина. Казалось, вся земля, весь мир обрядился в два цвета – синий и белый – и отдыхал после праведных трудов.
Невозможно было поверить, что где-то грохочут пушки, рвутся снаряды, визжат пули и кричат и стонут люди.
Санный путь размечен кое-где точками конского навоза – словно на огромной белой странице оказались незаполненными судьбы, прерванные в далеких от дома краях, а взамен поставлены многоточия. Или это Серёжкина линия жизни проступала пунктиром, уводя за собой неспешно, но и неотвратимо?
Гнедой бежал легко, полозья скользили почти бесшумно, изредка выбивая на раскатах снежные фонтанчики. Душа купалась в сине-белом приволье. Серёжка радовался солнцу, свету, движению; всей грудью вдыхал морозный воздух и с каждым вздохом чувствовал, что наполняются у него не только лёгкие, но и весь он ширится и растёт, словно сказочный богатырь. И едет он средь искрящегося на солнце снега уже не на почту с посылками для фронтовиков, а в тридевятое царство на выручку тамошнего народа, и ждёт его в тереме назначенная ему судьбой принцесса.
Прежде Серёжка иногда вспоминал Катю, но без фантазий, ничего не добавляя к тому, как он её видел в реальности. А вчера вечером, когда дома заговорили о поездке в Семёновку, что-то в нём дрогнуло и воображение заработало, невольно подыскивая подходящую обстановку и слова будущей встречи.
О Кате подумала и мать.
Вечерами, когда начал выздоравливать, Серёжка рассказал матери, как ему работалось в городе и как он сумел добраться домой. Обо всём понемногу: о баржах и лейтенанте, о казённой кормёжке, о попутной машине и ночёвке в стогу; о семье, приютившей его на ночь, и, наконец, о селёдке, которой он с ними поделился. Мать внимала ему молча, изредка покачивала головой, подтверждая, что так оно всё и должно быть. Быстрые спицы мелькали в её руках, подхватывая слова на лету и вплетая их вместе с нитью в вязанье. Когда он упомянул о пропавшем без вести хозяйском сыне, мать насторожилась, замерла на мгновение, будто петли считала. А имя девушки, показалось Серёжке, повторила беззвучно; запомнила.
Серёжкина поездка в соседнюю деревню её встревожила.
– Ты… – начала было и замолчала.
Но Серёжка сразу – не умом понял, а сердцем: почувствовал – о чём её беспокойство. Мать не хотела, чтобы он встречался с людьми, чей родственник пропадает в неизвестности. Кроме суеверного чувства, что такая встреча – как и всякий другой грех, совершённый дома, – каким-то непостижимым образом навредит мужу, её тревожила забота о детях. Если после многих дней неизвестности обнаружится, что старший Узлов тоже, как и Катин брат, пропал без вести, то потом ведь могут припомнить люди, что между семьями безвестно пропавших отчего-то вдруг дружба завелась…
Раньше, когда взрослые чего-то недоговаривали, Серёжка не обращал на это внимания – мало ли? У детворы и то свои тайны есть. Неизвестно, в какой момент он переступил черту, отделявшую его от мира взрослых, но теперь он знал, что в жизни их, простой и обыкновенной с виду, есть глубинное движение со своими перекатами и опасными подводными камнями.
Мать так и не сказала ему, чтобы он к знакомым не заезжал, отвела взгляд и ссутулилась над кухонным столом.
Хоть Серёжка и не собирался нежданным гостем опять явиться в чужой дом, но неосознанная надежда на случайную встречу с Катей где-нибудь на улице тлела в душе слабым огоньком и сладко томила душу. Припомнив безмолвную материну тревогу, Серёжка притушил свой уголёк.
Вольный воздух заснеженного простора всё глубже проникал под полушубок, знобил тело; Серёжка придержал Гнедого, выскочил из саней и, не выпуская из рук вожжей, побежал рядом.
Почта в Семёновке размещалась в деревянном домишке, который отличался от других деревенских домов лишь тем, что не стало, с некоторых пор, вокруг него ограды. Серёжка подъехал прямо к крыльцу, захлестнул вожжи вокруг столба, стояк был новый, струганый, и одна ступенька была заменена чьей-то уверенной рукой, занёс сперва посылки в ящичках, потом остальные, сложил все на специальный небольшой столик, сколоченный из некрашеных досок, пристроился за женщиной, которая уже отдала свёрток за барьерчик и ждала с деньгами в руке, когда ей скажут, сколько надо заплатить за отправку.
Ещё две женщины стояли в сторонке, сдали своё и, дожидаясь подругу, негромко переговаривались, переживая важное для себя событие.
В помещении было чуть теплее, чем на улице, топили, видно, мало, да и не каждый день, поэтому и та, что принимала посылки, была в фуфайке, застёгнутой на все пуговицы; платок у неё сбился на затылок, и видны были тёмные волосы с мазками седых прядей на висках. Ещё одна женская фигура, но без ватника, в серой длинной кофте, двигалась по ту сторону барьера: уносила посылки в чулан за небольшой дверью.
Серёжкина голова была забита разными важными мыслями: надо было отдать председателево письмо, в котором какая-то серьёзная бумага в район; он впервые отправлял посылки и не знал, требуется ли от него что-нибудь, кроме платы; соображал, как ему не перепутать сдачу; волновался: не будет ли на этот раз среди писем письмо от отца? Он лишь мельком взглянул на ту, вторую женскую фигуру за барьером, и, хотя она показалась ему знакомой, он не подумал – кто бы это мог быть?
– Серёжа! Мама, это тот самый Серёжка! – неожиданный возглас застал его врасплох, и он не сразу понял, что это относится к нему, а не к какому-то другому Серёжке. И голос будто знакомый.
Он поднял голову и растерянно посмотрел на женщину в кофте, но она закрыла лицо руками и странно всхлипывала: то ли смеялась, то ли плакала – не разобрать. Внезапно до него дошло, что в старческих одеждах не пожилая женщина ходит, а – Катя. Оттого, что не ожидал её увидеть здесь, она скользила для него серой бестелесной тенью и не задержала на себе внимание.
Серёжка смутился. Но ему было приятно и радостно, что девушка его узнала; захотелось подойти к ней и спросить что-нибудь. Неважно что – узнать, может быть, ожила ли та старушка, что умирала на печи. Но он не посмел, постеснялся. Он только стащил зачем-то шапку с головы и, переминаясь на месте, ждал, когда она откроет лицо, и тогда он ей скажет: «Здравствуйте». Смутным облаком плавала в сознании мысль: «Почему она сказала “мама”, если матери у неё не было?»
Не видел Серёжка в ту минуту, как поднялась из-за стола и пошла по-за барьером к нему почтальонша. Она вышла к нему, толкнув ногой деревянную дверку, и, обняв, уткнулась лицом ему в щёку. Он не мог ничего сообразить; слабо вырывался, веря и не веря, что давняя полумертвая старуха и вот эта сильная женщина – один и тот же человек.
Катя подошла и смотрела на мать и Серёжку сияющими глазами.
И бабы придвинулись. Они знали историю с селёдкой, на деревне её пересказывали со всё новыми подробностями не один раз. Рассказывали, как чудесно излечилась жена Ивана Матвеевича, а ещё больше – о том, что пришло на следующий же день, после ухода большеглазого и белоголового мальчишки, письмо от пропавшего сына Ивана Матвеевича, из госпиталя, сын оказался потерянным из-за ранения.
Старухи, верующие в Бога, утверждали, что не обыкновенный парнишка заходил в дом Ивана Матвеевича, а посланный Им, и не в селёдке была исцеляющая сила, а в воле Господней, в слове заветном, которое тот парнишка знал.
– Ишь ты! – бабы радовались вместе с Катей и её матерью и, удивляясь, что похожий на ангела мальчишка – не выдумка, только не малец он, а уже вон какой парень, дотрагивались до него в надежде, что им он тоже принесёт счастье.
Катюша выскочила вслед за Серёжкой на крыльцо:
– Серёжа, письма!
Он положил письма в шапку, шапку опять надел, улыбнулся.
– Всё молчишь. Даже не поговорили. Уже уезжаешь? Бабушка, знаешь, за тебя каждый вечер молится. Мамка с того дня как пошла, как пошла… Жить, говорит, хочу. А ты здорово вырос.
– Иван Матвеевич на работе? – придумал, что спросить, Серёжка.
– Нет! Он воевать ушёл! Отремонтировал вот крыльцо и ушёл.
– Да? А разве…
– Ой, его не звали. Сам. Сказал, что не старый ещё, что мальцов берут, а он не хуже. За Серёжку, говорит, за Васю…
– Мне не скоро. Я не успею.
– Ага. Мамка плакала: «Нас не жалко?» Да, у нас же радость: Вася нашёлся в госпитале, скоро должен приехать…
– Замёрзла, – перебил её Серёжка, видя, как она дрожит, – иди оденься.
– Л-ладно, – сразу согласилась она. – Погоди, я – живо!
Вот какая она стала, прямо песни поет! Да и у Серёжки от известия, что Катин брат нашёлся, будто обруч лопнул, сжимавший ему грудь.
Серёжка отвязал вожжи, Гнедой обрадованно переступил ногами. «Тпру!»
Катя выбежала тотчас, вновь раздетая, только полушалок на плечи набросила. Спустилась на нижнюю ступеньку, совсем близко к Серёжке, глаза вровень, лицо её побледнело.
– Я, знаешь, что тебе хотела сказать?
– Что? – спросил Серёжка и почувствовал, что краснеет.
Она потупилась, несколько раз чиркнула носком валенка по неистоптанному краю новой ступеньки, взглянула на него, не поднимая головы, словно хотела повиниться перед ним.
– Серёжа, – сказала негромко, – ты, когда надумаешь жениться… возьми меня.
Серёжка онемел. Она подняла голову, глаза были полны слёз.
– Ты не думай… Я буду любить тебя и всегда-всегда буду жалеть.
Серёжка продолжал стоять столбом. Вдруг она качнулась к нему, поцеловала прямо в губы, оттолкнулась, вихрем влетела на крыльцо и скрылась за дверью.
От неожиданности и от толчка Серёжка сел в кошеву. Гнедой принял это как команду возвращаться домой и рысью взял с места.
В голове у Серёжки всё помутилось. Вот, думал он, Костя уже совсем мужик – шестнадцать лет и дитёнок скоро у него родится, а кто он Шурке? Пока что не муж. Вернётся с лесозаготовок, тогда, может быть, станут жить вместе.
Мать Костина в последнее время к Шурке переменилась. Разговаривает ласково и домой к ней заходит, чтобы по хозяйству помочь. Неповоротливая нынче Шурка стала, как баржа, одна не справляется, а старики её немощны: отец давно болеет, а недавно мать от простуды слегла.
– Правильно, – говорят бабы, видя такую перемену, – о внуке пора позаботиться, родная кровь.
– И сына определить, пока не избаловался…
Но Константину что? Он самый младший в доме, а Серёжке рано о собственной семье думать, надо сперва Нюрку с Мишуком поднять; матери и так тяжело.
Серёжка сидел, свесив ноги из саней, пока Гнедой не вынес его за деревню, а потом им овладело беспричинное веселье, он засмеялся, поднялся на ноги, прибрал вожжи; конь, почуяв хозяйскую руку, прибавил ходу.
– Э-эй! – одобрил коня Серёжка, покрутил кнутом над головой, и они помчались.
Полозья саней бились о выбоины на поворотах дороги, словно стремились выбросить возчика на белоснежную простыню поля, но Серёжка стоял крепко, грудь его распирало от восторга быстрой езды и непонятной гордости. А когда они влетели в белоствольный берёзовый лес и деревья хороводом заплясали вокруг саней, Серёжка и вовсе захлебнулся радостью и забыл на время о всех бедах и напастях: о войне, о полуголодном житье, о письмах в шапке, на которые он не взглянул и не знал пока, кому добрые вести шли, а кому – страшные.
Фронтовые письма были без конвертов, писали их на одной стороне листка, складывали листок треугольником, сверху – адрес; если кому надо проверить, о чём пишет боец домой, пусть разворачивает и смотрит. Горе шло осиротевшим детям, жёнам и матерям в аккуратных казённых конвертах, заклеенных и со штампом вместо обратного адреса. Одно такое письмо вёз и Серёжка в Ждановку.
Неожиданно конь притормозил, всхрапнул и рванул вперёд с удвоенной резвостью. Сани дёрнулись. Серёжка едва устоял на ногах.
Показалось Гнедому, что за деревьями мелькнула серая тень, или ему почудились запахи зверя, но он помчался от опасности во весь опор. Страх его невидимой волной окатил и Серёжку. Но только мгновение озноб погулял по спине, Серёжкино настроение оказалось сильнее – он не запаниковал и не утратил радостного ощущения жизни, крепче сжал вожжи левой рукой, надел ремённую петлю кнутовища на правую. Кнут – серьёзное оружие. Серёжка оглянулся – преследователей не видно; на всякий случай сделал пробный замах и…
Кончик кнута предательски обвился вокруг ветки, рывок – и земля встала на дыбы: Серёжку винтом выдернуло из саней. Сани уже выкатывались из леса и поравнялись с последней берёзкой, она и встретила ездока.
Серёжка ударился затылком и распластался на рыхлом снегу; кнут тихой змейкой соскользнул с ветки и одновременно с хозяином послушно лёг рядом; письма разлетелись веером; берёзка окропила Серёжку снежинками со своих ветвей, но это ему не помогло, он потерял сознание.
Конь, дико кося глазом, наддал ещё; кипела грива, летел снег из-под копыт – безмерный ужас пустых саней подгонял его. Гнедой со всего хода влетел на конный двор и встал, как врос, перед изумлённым Антипычем.
Старик, задрав бороду, некоторое время всматривался в пустую кошевку, словно надеясь, что Серёга учинил шутку и сейчас объявится, потом запустил матюгом, метнулся к конюшне, ухватил наперевес прислонённые к стене вилы, свалился с ними в сани:
– Пошёл!
Когда Серёжка очнулся, то не смог двинуть ни рукой, ни ногой. Боли он не чувствовал, но все в нём онемело и замерло, будто во сне, в котором надо бежать или обороняться, а страх сковал тело. Даже память не могла пошевелиться, и он не помнил, почему и для чего он лежит здесь. Видел березу над собой и синее небо, и в голове было так же просторно, как вокруг.
Вынырнула из леса стайка снегирей и уселась на ветках – перед тем, как покинуть лес и отправиться на поиски корма в другие места или, поразмыслив, вернуться обратно. Красиво, будто яблоки в райском саду.
Ветерок приметил нарядную берёзку, подвернул с поля, обошёл вокруг, погладил светлые Серёжкины волосы, обнаружил письма, потрогал, нашёл себе по силам – широкое, в конверте – да и улизнул с ним. Унёс письмо, написанное незнакомой рукой, о том, как долго страдал от ран и ожогов сержант Узлов и умер, и похоронен далеко от фронта и вдали от дома. Унёс письмо как последний привет пахаря осиротевшему полю; или, может быть, ветер позаботился о его родных, чтобы они не узнали о постигшем их горе.
Вилы не понадобились. Антипыч остановил коня, испуганно косящего в сторону распластанного под деревом человека, поспешно вылез из саней и, проваливаясь в снег, закултыхал к Серёжке. Присел рядом:
– Ты чегой-то?
– А? Сейчас, отдохну чуток.
– Ага, – Антипыч взял Серёжку за плечи, с трудом посадил. – Я думал: волки. Язви их!
Серёжка засмеялся – почувствовал: руки-ноги вернулись к нему.
– Снегири улетели.
– Ха-ха, – старик отозвался булькающим смешком, – снегири? Испужал, чтоб тебя черти не утащили!
Антипыч подобрал шапку, отряхнул её от снега, нахлобучил Серёжке на голову.
– Ой! – Серёжка пощупал затылок. – Шишак хороший.
– Ага. Заживёт, ничо.
Антипыч увидел письмо в снегу, потом ещё два, поднял; щурясь, осмотрелся кругом, спросил озабоченно:
– Все, что ли?
Серёжка стал на колени, потом поднялся, покачал головой, будто проверяя, не выплеснется ли из неё что-нибудь; на старика посмотрел растерянно – не знал, что ответить. Он помнил выражение Катиного лица, руку, протягивающую письма, но сколько их и какие – забыл начисто.
Глава 10
Март выдался таким же строптивым, как и февраль. В первых числах пригрело, на солнечной стороне дома, на завалинке, снег потемнел и прохудился, с крыш свесились сосульки, возле крылечка после полудня образовывалась лужица, которая к вечеру застывала и хрустела под ногой. В последующие дни ветер понатащил с севера туч, стал вытряхивать из них густые хлопья снега; снег укутал все дома и всю землю заново. Временами снегопад прекращался ненадолго, выглядывало солнце; а потом снова ветер хлестал по просторам и вновь затевал снеговую канитель. За несколько дней до апреля зима выдохлась окончательно, отдельные облака высоко в небе уплывали на восток, воздух резко потеплел, сугробы обмякли и стали оседать, того и гляди, побегут ручьями.
Серёжка в предпоследний мартовский день закрутил наконец последнюю гайку, залил в бак три литра керосина, с трепетным сердцем попытался завести трактор. Бился он с полчаса, пока не понял, что надеждам его не суждено сбыться. Двигатель даже не чихнул по-настоящему ни разу. Серёжка вышел из сарая на волю, обессиленно опустился на чёрный от мазута чурбак, привалился спиной к саманной стенке и замер.
Незадолго до того, как он осознал своё поражение, свидетели его позора разошлись, но всё равно на душе было тяжко.
На него надеялись… Антипыч ушёл к лошадям, управить их на ночь; Манефу-кладовщицу лихоманка приносила зачем-то на мехдвор – тоже ушла, молча, но уж в деревне поговорит; новый председатель, Семен Тимофеевич Гриньков, оставляя круглые следы на мокром снегу, удалился на своих обрубках, тоже не обронив слова. Только Гошка Буркин, здоровый глуповатый парень, всегда сонный и свирепо голодный Серёжкин помощник, остался возле трактора, там дотлевал костерок, и Гошка млел над ним, чтобы тепло не пропадало зря.
Отцовский трактор, железный конь на четырёх колесах, перешёл к Серёжке от Мишки Жданова. Мишку, вскоре после наступления нового года, взяли в военное училище. Полных восемнадцати ему ещё не было, но для училища это, стало быть, неважно. Гошку тоже вызывали в военкомат, но он военному начальству чем-то не показался, и его развернули домой. Райвоенком сказал, что Гошке надо дозревать, что до Гитлера он не успеет добраться, из чего Гошка сделал вывод, что война скоро кончится. Он был немного разочарован, потому что надеялся, что на фронте кормят лучше, чем дома; но раз скоро победа, то Гошка готов и потерпеть: после победы, говорят, хлеба будет вдоволь. Серёжке он подчинялся безропотно: Серёжка должен был довести до ума начатый Мишкой Ждановым ремонт трактора, вспахать весной и засеять поле, на котором вырастет тот самый долгожданный хлеб.
Помощник из Гошки аховый. Подтащить, поддержать – куда ни шло, а вот гайку открутить или завернуть ему не дашь. Никак не мог он запомнить, в какую сторону её воротить надо. Сила есть, раз сорвал резьбу, другой, а больше Серёжка ему ключ не доверил. А у самого мощи не хватает, все руки в кровь избил, наплакался под трактором втихаря…
И – не заводится.
Две бочки керосина Назар Евсеевич припас ещё с осени; неизвестно, где добыл поршень с кольцами – с третьего или четвёртого захода, в последний раз, говорят, увёз из дома добрый кусок сала и с полпуда пшеницы.
Эта пшеница, наверное, его и сгубила.
Однажды Серёжка подслушал нечаянно разговор Назара Евсеевича с конюхом. Председатель сказал:
– Ну, держись, Антипыч! – тот поднял вопросительно бровь. – Едут, – добавил Назар Евсеевич.
– Ктой-то донёс?
Председатель помолчал, устало вздохнул:
– Никто не донёс, там, – поднял палец кверху, криво усмехнулся, – всё известно. Ты Бога костерил?
– Дак за дело. Ага.
– Вот и Он нас – за дело…
Уполномоченный, как и предполагал Назар Евсеевич, предложил «оказать помощь государству» хлебом.
– Так нечего сдавать, у нас на посевную только-только.
– Никаких излишков?
– Помилуй Бог, откуда? – Назар Евсеевич повернулся к кладовщице. – Давай, Манефа, книги.
Она вздрогнула, хоть и ждала наготове с толстыми амбарными тетрадями, протянула их председателю, который сидел сбоку стола, Назар Евсеевич передал тетради уполномоченному, тот занимал председательское место. Уполномоченный полистал замусоленные страницы, сделал вид, что удостоверился в правильности записей, повернулся к своим спутникам:
– Нету у них лишка.
Вместе с уполномоченным были еще двое. Один – известный всей деревне милиционер Санько, другого, с усами и в гражданском сером костюме, Назар Евсеевич видел впервые. Они устроились возле печки, которая топилась в конторе по случаю приезда начальства. Оба ничего не ответили, только усатый кивнул головой – понятно, мол.
Потом уполномоченный спрашивал поочерёдно колхозниц про зерно, получали или нет? Бабы не отпирались. Давали, как же. Сколько? Дак мало совсем. А точнее? И кто распорядился? Писал у себя в бумагах.
Покончив с допросом, опять обратился к председателю:
– Так что же получается, Назар Евсеевич, хлеб по домам растащили, а говорите, что сеять нечем будет. Нехорошо обманывать государство.
– Почто обманывать? – обиделся председатель. – Нам это не годится, на вранье не проживешь. А хлеба дали немного за трудодни. Надо народ пожалеть, совсем-то без хлеба нельзя.
– Ах, вон что! Пожалел, значит. Была такая директива? Не было? – повернулся в сторону печки. – Что будем делать с этим жалельщиком?
Тот, что в гражданском, проверил большим и указательным пальцами щеточку усов, сказал нехотя:
– Пусть соберёт.
– Нечего собирать! – Назар Евсеевич приложил руки к груди. Ему казалось, что этот человек немного сочувствует ему. – Сколько было той выдачи? Съели давно.
– Ладно, – уполномоченный решительно положил ладонь на лист бумаги, – напиши, сколько пудов вы обязуетесь сдать ко дню нашей славной армии, и – дело с концом!
– То есть как? – Назар Евсеевич попытался заглянуть уполномоченному в глаза. – А сеять чем станем?
– Ты мне эти кулацкие штучки брось! – окрысился тот. – Нашёл, что раздать, найдёшь и сеять. Иначе… – побарабанил пальцами по столу.
Назар Евсеевич свесил голову низко-низко, худые плечи его торчали, как стропила, руки комкали шапку.
– Ладно, – сказал глухо, – пишите документ, что распоряжаетесь сдать зерно, я – сдам.
– О! – усатый первый раз взглянул на председателя с интересом. – Свежая мысль! – поднялся, прошёлся к окну и обратно; на ногах у него белые бурки, и ступает он ими по некрашеному полу мягко, неслышно, будто боится нарушить тишину, в которую он аккуратно укладывает неторопливые тяжёлые слова:
– Придётся, товарищ председатель, поехать с нами. Поговорим обстоятельно – ты слишком умный.
Домой Назар Евсеевич не вернулся. Дней десять спустя, уже в марте, позвонили из района и сказали, что надо выбрать нового председателя. Кого выбрать – не сказали. Пришлось решать самим, и новым председателем стал фронтовик Гриньков.
Первая встреча Серёжки с Семёном Тимофеевичем произошла в начале зимы, в тот день, когда он вышел после болезни на улицу. Был тогда Серёжка слабым, голова слегка кружилась, и когда он глянул наискосок через дорогу, то решил, что опять бредит. Над плетнём двора Гриньковых сам по себе гулял топор. Серёжка крепко зажмурился, постоял так немного, открыл глаза – видение не пропало. Он пошёл потихоньку туда и увидел, что во дворе коротконогий человек, обутый в безносые кожаные самоделки, одетый в зелёную стёганку, мощными ударами крушит ограду. Оттого, что ноги у него заканчивались сразу ниже колен, руки казались несуразно длинными.
– Сергей, что ли? – мужчина опустил топор, опёрся на него, как на трость. – Узлов? Ишь ты, вырос. Ну, заходи.
– Здравствуйте, дядя Семён, – Серёжка тоже узнал соседа. – Что вы делаете?
– Дрова заготовляю. Пока голова думает, как жить дальше, руки должны работать.
Первое время после возвращения домой Гриньков больше сидел в избе, в колхозе дела ему не находилось. Он мог бы, например, шить хомуты или гнуть дуги, да не было такой надобности. Так и просидел несколько месяцев – домохозяином. Потом, незадолго до того, как увезли Назара Евсеевича, по деревне новость прошла:
– Безногий бабу свою обрюхатил, – говорили с осуждением будто, но и с усмешками – чему-то радовались люди.
Когда встал вопрос о новом председателе, недолго думали и не спорили – мужика надо ставить – выбрали Гринькова.
Гриньков тоже, как и Назар Евсеевич, человек хозяйственный и разумный; другое дело, что оказался нервным недавний солдат, вспыльчивым. Но на Серёжку он не шумел, может быть, потому, что сам в технике разбирался слабо, а точнее – никак.
Первое время Семён Тимофеевич до правления на санках добирался, в которые жена впрягалась, однако это – не порядок, Антипыч стал Гнедого к председательскому двору по утрам подавать. Всё же, случается, когда недалеко, Гриньков и на своих двоих ковыляет, небольшой тросточкой-самоделкой помогает и идёт себе.
Снова приезжал уполномоченный, на этот раз с одним милиционером в сопровождающих, заставил проверить наличность семенного фонда. Вместе с Семёном Тимофеевичем два дня неотступно стоял в амбаре возле весов, рядом с Манефой; когда работу закончили, ничего не сказал, кривил губы и смотрел задумчиво и рассеянно.
– Как там наш Назар Евсеевич? – отважился и подступил к нему Антипыч, хотя, признаться, на ответ не надеялся.
– Болеет, – лаконично сказал уполномоченный.
– Ага. Хворает, дело известное.
Потом Антипыч изловил за амбаром и милиционера и задал ему тот же вопрос.
– Отправили туда, где похуже, – Санько успел выменять в деревне на кусок материи добрый шмат сала и полкуля картошки и был настроен благодушно. – Чтобы не умничал.
– Гдей-то может быть хуже? – поинтересовался Антипыч, но на этот вопрос ответа не получил.
В тот день, когда увезли Назара Евсеевича, Антипыч показал Серёжке, как главному теперь колхозному пахарю, где находится тайник с зерном.
– Ежли что, ежли и меня заметут, – Антипыч был готов к такому повороту дела, – то знай: здесь семена. Ага. А наказ председателев такой: пустошку за овражком распахать и засеять. Землица там отдохнула, хороший урожай будет.
Но Антипыч остался вне подозрений уполномоченного: глаза у старика слезились, когда его о чем-нибудь спрашивали, он прижимал плечом здоровое ухо и выставлял другое, контуженное, не слыша того, о чём его спрашивали, вполне натурально отвечал невпопад; стар и глуп – ясно было любому приезжему.
Ну и председатель в тех разговорах, для которых его пригласил в город человек в сером, про Антипыча, похоже, не упомянул.
Ждановка осиротела без Назара Евсеевича, оставался он в деревне как бы за отца – всем, от мала до велика. Свет померк для Серёжки и мир пошатнулся, когда тронулись от крыльца правления сани, в которых горбился, отворачиваясь от людей, председатель.
Серёжка решил написать письмо товарищу Сталину, попросить, чтобы защитил Назара Евсеевича, потому что председатель у них хороший и все силы кладет для народа и для всей страны. Он даже спрятал часть семенного зерна, чтобы по норме сеять, а то у них всегда семян не хватало; осенью большой урожай можно…
Подзабыл за два года Серёжка грамоту, правда, и раньше в грамматике не слишком был силён – как посылать дорогому вождю письмо с ошибками? Стыдно. И всё равно бы написал Серёжка письмо, но откладывал, потому что надеялся сперва, что Назара Евсеевича всё же отпустят домой. Разберутся и отпустят. Но вдруг по деревне стали шёпотом передавать друг другу новость, будто бы умер председатель в городе. Известно, мол, это от надёжного человека.
Так быстро всё свершилось… Никакое письмо уже не поможет.
День догорал. Солнце укатилось далеко на запад и там опустилось на снег, снег заалел. Земля, перечёркнутая длинными тенями, готовилась к ночи, последней, может быть, перед окончательным наступлением весны.
Буркин спросил у Серёжки разрешения и ушёл домой. Серёжка, разогретый было вознёй с трактором, чувствовал, что скоро начнёт мёрзнуть, но не шевелился. Околеет – так ему и надо! Плохой из него ремонтник, не сумел запустить трактор. Как теперь смотреть в глаза людям? Конечно, колхозники и без Серёжки справятся с весенней страдой, и если даже последние лошади передохнут – на себе вспашут и засеют поля, без хлеба армию не оставят. Но какой ценой? И так уже, наверное, ни одного здорового человека в деревне не осталось. Когда все бабы надсадятся, что же тогда им делать – идти вслед за Петровной по миру? А кто милостыню будет подавать?
С недавних пор старуха деда Задорожного ходит по деревне с сумой. Горькая доля выпала Петровне – горше не придумаешь, но жизнь окаянная так повернулась, что ударила ещё сильнее.
А сперва была великая радость: письмо пришло старикам от младшего сына, живым оказался Ваня – раненый был, на командира учился – похоронка на него, значит, была ошибочная и этим письмом, стало быть, отменялась. «Жив сынок!» У Петровны не оказалось вдруг слов для выражения своего счастья, она молча смотрела сквозь слёзы, как робко брали письмо в руки овдовевшие женщины и, шевеля губами, вышёптывали из его строк и для себя надежду. И муж её, дед Задорожный, лежал просветлённый, как дух святой, торжествовал:
– Вот она, мать, справедливость! Мы – есмь! – и добавлял тихо: – Дождался я, теперь можно и на покой.
И верно: через три дня старик успокоился навеки. С лёгкой ли душой отправился к старшим своим сыновьям или предчувствие подсказало ему, что в войне справедливости не может быть, – Бог весть.
Петровна свыклась с мыслью, что муж её должен был вот-вот умереть, но он не умирал. И к этому она тоже привыкла: коли уцепился за самый краешек жизни и держится – вознамерился, стало быть, терпеть такое своё положение долго, делить с ней горе горькое до конца дней, до какого-то окончания всех людских судеб. И вдруг, когда Господь сжалился над ними, вернул одного сына, муж покинул её, оставил без поддержки – радость тоже ведь подкосить может.
До чего же холодна земля, до чего тверда!
Два дня долбили ломиками мерзлоту, пока добрались до мягкого слоя. Как же, думал Серёжка, зимой воевать, как окопы рыть и траншеи? И как можно усидеть в том стылом окопе хоть один день?
Не прошло девяти дней после смерти мужа, а уж получила Петровна другую похоронку на Ваню, на этот раз с письмом от его фронтовых товарищей. Надежды на ошибку в этот раз не осталось – к письму была приложена фотография в утешение, на ней видно: пожилые командиры возле Ваниного тела стоят и скорбят о погибшем.
– Глазыньки твои ясные закрылися, – причитала над фотокарточкой тетка Манефа, старухи сидели вокруг, как на похоронах, – руки белые, крылья лебединые опустилися, резвым ноженькам не измять траву…
Петровна будто окаменела с тех пор, ни один мускул не дрогнет на её лице. Ходит она опираясь на палку и трудно переставляя ноги, переступив порог, подаяния не просит, словно бы задумалась о чем-то глубоко и ненароком зашла.
Беда приключилась по осени, когда дед Задорожный был на лесозаготовках. Тогда соседи помогли Петровне убрать урожай с огорода, да Петровна плохо укрыла погреб, поморозила картошку. Обнаружилось это зимой, когда картошка из подполья была съедена и в него перетащили ту, что хранилась во дворе. Оттаяла в тепле картошка и загнила.
Петровна постепенно, день за днем обходит деревню, сегодня два двора и завтра два. Кто сырых картофелин даст, кто варёных, кто соли щепотку, кто пару спичек. Потом хозяйка дома обязательно скажет:
– Возьми там.
И тогда Петровна, выйдя во двор, бережно, как хлеб, заворачивает в припасённую мешковину каравай кизяка. Без тепла в доме, как без пищи, не проживёшь.
Женщины говорили меж собой, что хорошую пенсию старухе Задорожной должны дать – за офицеров, мол, больше платят, чем за солдат. Жизнь человеческая имела установленную цену в рублях, строго в соответствии с тем мундиром, какой был на воине, когда он исполнил свой последний долг.
Петровна в своем забытьи не думала о деньгах хлопотать, Манефа взяла эту заботу на себя. Но пока бумаги через сельсовет в военкомат ходят – и куда там ещё? – Петровна ходит по дворам. Да что деньги? Когда хлеба нет, его и за тысячи не купишь. И печку рублями не истопишь. И видно: Петровну хоть золотом осыпь, хоть яствами ей дома стол уставь, она всё равно будет ходить за подаянием – такая теперь у неё стезя. Когда очередь до Узловых дошла, мать забеспокоилась: вдруг Петровна не придёт? Испокон веков в деревне помогали сирым и убогим, обидеть же их считалось за грех. Хотя, казалось бы, зачем нужны миру эти жалкие ущербные люди, от которых никакой пользы нет, одна тоска? Какой смысл отрывать кусок у своих близких ради тех, чей скорый конец предопределён? Не равносильно ли это тому, как если бы люди, страдая от жажды, взялись поливать дерево, ветви которого обломаны, а корни засохли?
Но подавали, значит, смысл был. Быть может, самый главный, соединяющий через сострадание и милосердие душу человеческую с бренным его телом и, после этого, людей между собой. Только такое, на грани самоотречения, бытие дарует людям подлинную свободу и силы противостоять самым тяжёлым испытаниям.
Мать, как и другие женщины в деревне, посчитала бы, что на семью её пало заклятие, что они в чём-то нарушили главный закон жизни, если бы Петровна обошла их дом.
…«Краник!» Серёжку аж подбросило от догадки. Отец ли придумал и впаял под баком второй, потайной, краник или на заводе он был поставлен, Серёжка не знал, но вспомнил, что спрашивал отца когда-то, зачем перекрывать горючку в двух местах. И ведь снимал бак для промывки, видел и повёртывал рычажок, как же забыл-то?!
Первый выхлоп, как выстрел, а потом двигатель затарахтел ровно. Прошивая сумерки до самого дальнего края деревни, и дальше вёл строку – в поле, в небо, в мирную – сытую и счастливую – жизнь. Не только у Серёжки учащённо забилось сердце, когда трактор завёлся, во всех домах напряжённо прислушивались: не прервутся ли снова давно позабытые звуки? Серёжка представил, как сестрёнка Нюрка замерла, затаив дыхание, среди избы, а Мишук изумлённо вытаращил глаза; мать, наверное, перекрестилась: «Слава Богу!» Зато Антипыч сразу доверился тракторному рокоту, хитровато прищурился и, выставив большой палец, подмигнул старухе: знай, мол, наших!
Как он не своротил стенку – не понять, ничего не видел от волнения и радости. Выехал из сараюхи, сделал круг по двору, другой, нарисовал восьмёрку…
Обратно въехал аккуратненько. Заглушил мотор. Тишина. Только стучит в висках да в ссадинах отяжелевших ладоней торкается боль. Устал. Устал безмерно, до полного опустошения. Радость погасла, потускнели и отодвинулись в прошлое, как в далёкое детство, переживания минувших дней. Что-то в нём свершилось окончательно и бесповоротно, будто отворилась перед ним дверь, в которую он стремился, пропустила и закрылась беззвучно за спиной. И нет дороги назад, а впереди опять всё то же: трудная бесконечная работа и ожидание.
Без всякой связи с тем, о чём думал, чем жил всё последнее время, представил вдруг: у Кати в руках было четыре письма. Антипыч подобрал из снега только три. И Серёжке, только что переступившему порог невидимой двери, стало ясно: то, пропавшее, было об отце…
Куталась в сумерки опечаленная земля. Ветер отыскал где-то вытаявшую из снега полынь и донёс её горький аромат под крышу вместе со свежестью весеннего поля. Поле, поле. На дальнем конце его, у берёзового колка, виделась Серёжке заветная поляна, на которую никогда уже не придёт отец. Там, в память об отце, о всех погибших на фронте и умерших в тылу, обильно зацветут ковыли, серебристо-светлые, чистые. Земля всех приняла и простила: деда Задорожного и его воинов-сыновей, бабу Фросю и младенца Анны Боковой, учительницу Марфу Андреевну и Назара Евсеевича…
Когда-то вырастут новые поколения, не изведавшие голода и холода, нечеловеческой усталости и смертельной тоски о погибших – этих спутников войны, будет вырублен в беспамятстве берёзовый лесок и распахана ковыльная поляна. Да и поле захиреет, и деревня. Но это – потом.
А пока Серёжка ясно видит, как зеленеют и колосятся хлеба, слышит, как звенят жаворонки в синеве, чувствует, как похрустывает под ногой осенняя стерня, на которой в отдалении пасутся степенные серые журавли; на утренней зорьке журавли покинут поле: поднимутся в небо, выстроятся клином на юг, уронят на землю прощальный привет и растают вдали; в родные края птицы вернутся весной.
Война уходила на запад. Война должна была умереть там, где родилась.
У порога
Глава 1
Апрель управился со снегами, но земля ещё была стылая: под лучами солнца она оттаивала, а за ночь подмерзала вновь. Но с каждым днём солнце пробиралось всё глубже и глубже, и хотя холод ещё крепко держал землю, чувствовалось: она пробуждается.
Тимофей Несторович был плох.
Вот уже три дня не ест, не пьёт и с постели не поднимается, очнувшись, ждёт, когда Поля, Полина Филипповна, подойдёт к нему. Тогда его глаза оживают и в них – мольба. Баба Поля, как называют её все знакомые – и малые, и старые, – делает вид, что не замечает этой молчаливой просьбы, не помнит о ней, сама спрашивает: «Поешь, может, а, Тимофей? Я тебе свежего бульончика приготовила, Тёпленького… Не будешь? А то бы поел. Немножко. Ну, скажи, чего тебе хочется – я сготовлю».
Тимофей Несторович не отвечает, но баба Поля знает, что он понял её: скажи она что-нибудь другое, тогда, может, и не понял бы, а это – понял и занят мыслью: «не даст…»
После такой беседы он обычно закрывает глаза и погружается в забытьё, но в этот раз надежда в его взгляде не гаснет. Он подтягивает руку, лежащую поверх одеяла, ближе к своему лицу, складывает большой и указательный пальцы вместе – так, чтобы кончик указательного чуть-чуть выступал из-за большого, ждёт.
«Граммульку всего и просит… Господи, за что мука такая? Ведь всё равно умрёт…» Баба Поля пугается этой мысли. Боится уступить – врач сказал: «Нельзя!» Боится не дать – умрёт её Тимофей Несторович, а она не уважила его, не исполнила последнего желания. «Нельзя!» Самое последнее… Казнили раньше преступников и то, сказывают, всегда исполняли их последнюю волю. Чать, не преступник Тимофей Несторович, самый, может быть, мирный и добрый человек, какой был на свете. Как же не дать?
Старик не дождался ответа и на сей раз, прикрыл глаза, задремал; рука со сложенными пальцами так и осталась лежать на груди – напоминанием о неутолённой жажде гаснущей души.
Белые пальцы впервые за всю их долгую жизнь так спокойны и чисты. Тимофей Несторович, сколько знала его Полина Филипповна, сколько помнил он себя сам, трудился, и руки его, загрубевшие, в царапинах и трещинах, были черны от въевшейся в них земли, копоти, мазута и ржавчины и, натруженные, в такт пульсу мелко вздрагивали. Даже ночью, во сне. Теперь вот, когда он отлежал в больнице почти два месяца и немногим меньше дома, руки, наконец, очистились от копоти, перестали дрожать, успокоились.
Баба Поля присаживается у кровати и ждёт. Скоро должен прийти врач. Он всегда в это время приходит. Посмотрит, положит свою длинную ладонь с ухоженными пальцами на широкое запястье Тимофея, послушает пульс, бодренько скажет: «Всё хорошо», – заголив руку умирающего выше локтя, сделает «укольчик» и – до свидания.
Ходить эти дни и ставить укол врачу приходится потому, что медсестра, которая ему помогает, последнее время хворая. Может, у него есть и свой интерес: для лучшего уразумения болезни ходит, то ли забота берёт…
Когда Тимофея Несторовича выписали из больницы, баба Поля поняла: умрёт. Сказывают, что худо врачам приходится, когда кто-нибудь помрёт в больнице. Дома – совсем не тот спрос. А другим больным каково? Потому и выписывают.
Почувствовала она и другое. Тимофей тоже имел своё понятие о выписке, хоть виду и не подавал. Подумать, так оно, пожалуй, лучше: не ездить ей каждый день в больницу, весь день Тимофей на глазах – и на душе спокойней.
С тех пор, как его выписали из больницы, Тимофей Несторович большую часть времени проводил на старом, без спинки, диване, что стоял у печи, вставал только по надобности да по привычке – к столу. Ел мало, так мало, что и вовсе ничего: погреет ладони на горячем стакане – и на покой. К ночи раздевался, ложился в кровать.
Разговаривал охотно. И с ней, бабой Полей, а чаще – с Серёжкой. Серёжку родители приводят на день – на время работы. Серёжке всего полтора года, и в садик его пока не сумели устроить.
Баба Поля согласилась водиться не из жадности, но расчёт всё-таки был. Тут уж никуда не денешься – вся жизнь её учила бережливости. Нужды было много, а денег не было. То есть они были, в тот день, когда Тимофей приносил зарплату. Брали из этих денег только на самое необходимое, остальные она рассчитывала так, чтобы хватило на хлеб, соль, крупу – как раз до следующей получки. В войну, да и в первые годы после войны, деньги ничего не стоили – как ни рассчитывай – на хлеб не хватало.
Ртов-то было четверо. Четверо ребятишек, и у всех волчий аппетит. Не то что у нынешних – всё есть: и хлеб белый, и масло, и молоко, и колбаса, и сласти разные – не едят. Почто так?
Баба Поля вздыхает. Выросли дети Тимофея Несторовича. Разъехались. Сами уж давно пообзавелись детишками. В нужде, а выросли. Хорошими людьми стали – и баба Поля гордится ими.
Теперь нет ни нужды, ни ребят в доме. Она да Тимофей. Тимофей собрался уходить…
Останется одна. Как тогда, в сорок четвёртом. Вот и подкапливает деньжат. Чтобы не быть никому в обузу. Конечно, можно к ребятам. Васенька, последний из всех, любимчик Тимофея, зовёт каждый год к себе жить. Возьмёт и одну, когда отца не станет.
И Алёша возьмёт. Он добрый, славный. Только сам уж в деды метит. Как выйдет в отставку, так, считай, дед. Рано у них, у военных, пенсия. Алёша в отца – добрый, как он только в армии служит? Мухи даром не обидит – разве такие должны быть командиры?
Верка – вот командир. Бритва! Парнишкой ей бы родиться. Бесстрашная. Как мать.
Баба Поля вздрагивает, отрывается от своих мыслей, осторожно кладёт ладонь на трудную Тимофееву руку – пальцы его всё в той же немой просьбе: «Чуть-чуть…»
«Господи. Скорей бы уж врач пришёл». Она старается направить ход мыслей по новому руслу, но Марья – мать детей Тимофея – неотступно требует своё: «А я?»
То-то и оно. Посоветоваться не с кем, а самой не решить. Сообщать ли, звать ли её на похороны. Поди, скоро уж… Дать бы телеграммы – приехали бы, у них бы и спросить. У детей. Им лучше знать. Опять и тут без врача не обойдёшься: заверенные должны быть телеграммы. Что-то долго он не идёт, врач-то.
…Марья в любой момент может приехать. Тут недалеко: час на электричке. Ежели сообщить, конечно, приедет. И как тогда быть?
Эта забота – сообщать ли Марье о смерти её бывшего мужа и как быть, когда она войдёт в этот дом, – неотступно следует за бабой Полей с той минуты, как она поняла, что Тимофей, Тимофей Несторович, своё отжил.
Не за себя забота, за детей. Худо им и без того будет, а тут ещё она, Марья. Эти, младшие-то, Васятка да Вера, вроде ничего. «Не нужна такая мать» – и всё. И горя мало. А вот старшие, Алёша и Аня, шибко переживали. И то: почти выросли при родной матери, сколько горя вместе хлебнули… А души-то у них ласковые, отзывчивые на всякую боль. Им бы в самый раз подошло врачевать людей. Алёша почему-то в военные пошёл, Аня – в химию. Верка, Вера – в медсёстры определилась. Вот и узнай их…
По скольку же им тогда было?
На дворе лениво гавкнул пёс, загремел цепью.
– Ох ты, господи! Пришёл, – баба Поля заспешила через кухню к входной двери.
На пороге выросли двое. Баба Поля враз узнала и второго: тоже врач, старшой среди них, Иван Васильевич.
– Здравствуйте, Полина Филипповна, – в полный голос приветствует её Иван Васильевич. – Долгих лет вам. Как дела, как Тимофей Несторович?
– Здравствуйте, Иван Васильевич. Здравствуйте, Пётр Афанасьевич.
Баба Поля смотрит встревоженно: сам главный приехал – к худу, наверное.
– Подвёз вот молодого коллегу: опаздывал. Не успевает молодёжь, – успокоил её Иван Васильевич.
Баба Поля согласно кивает головой, пропускает Петра Афанасьевича в комнату, где лежит Тимофей Несторович, сама задерживается у двери, негромко жалуется:
– Худо, ой худо дело, Иван Васильевич. Плох мой старик.
В жалобе её таится крохотная надежда: а вдруг этот пожилой и мудрый человек, врач, ещё раз посмотрит Тимошу и скажет… Что он скажет, она представить не может. Ну, так на то он и самый старший среди врачей. Не зря ведь.
Иван Васильевич не отводит своего взгляда, и она понимает: сказать нечего и надеяться не на что. Но он, тоже негромко, говорит:
– Да, Полина Филипповна… Что же делать? Мне Тимофей Несторович ещё там, в больнице, как-то сказал: «Износился я, не почините», – Иван Васильевич вздохнул. – Было бы что чинить… Да, вы понимаете.
– Никогда не хворал, не жаловался… Скоро уж? – беззвучно шевелит губами баба Поля.
– Идёмте-ка посмотрим, как там Пётр Афанасьевич управляется.
Баба Поля ведёт Ивана Васильевича в горницу – к стулу, сама становится в сторонку, так, чтобы было видно и молодого врача, колдующего у постели, и лицо Тимофея Несторовича, и Ивана Васильевича. Делится негромко своей печалью:
– Ведь он не ест у меня совсем. Всё просит рюмашечку, ну хоть с напёрсток.
– Да? Нельзя: рюмка водки ему… – Иван Васильевич не досказал, только рукой повёл.
– Вот и Пётр Афанасьевич то ж самое говорит. А мне-т каково? – у бабы Поли навёртывается слеза. – Он ведь больше ничего не просит. Я не дам, а может…
Баба Поля смотрит на Тимофея Несторовича, угадывает, что сейчас можно говорить всё: он не внемлет разговору.
Иван Васильевич тоже смотрит на умирающего, потом на бабу Полю, говорит отошедшему от кровати коллеге:
– Если напёрсток сухого… Ты как, Пётр Афанасьевич?
Тот пожимает плечами, глазами показывает на бабу Полю.
– Э-э… Чего уж там – говори, – Иван Васильевич идёт к двери. – Она знает, как дело обстоит. И вообще они, брат, больше нашего понимают. Мы лечим, спасаем им жизнь, а они возьмут и отдадут её по доброй воле. За идею. За нас с вами. А кто и неизвестно за что. И попробуй докажи, что они – неправы. Разве не так? – он смотрит на бабу Полю ласково-сочувственно, уважение, которое слышалось в голосе, светится и во взгляде. – Бывает, что и чужими жизнями распоряжаются. А нам этого не дано.
– Бывает… – баба Поля холодеет: перед глазами у неё стоит Марья.
– Ну, напёрсток хорошего виноградного вина найдётся? Но – не больше!
– Спасибо, родненькие вы мои. Есть у меня всякое. Постойте, я же вас чайком угощу с вареньицем. У меня его много, с осени стоит, есть некому.
Иван Васильевич секунду колеблется, смотрит на часы, с сожалением разводит руками:
– Хорошо бы горяченького, но времени не осталось. Меня уже ждут. Спасибо, но не могу.
– А я что хотела ещё спросить…
– Да?
– Телеграммы мне отправлять? Детям.
– Отправьте.
– Так ведь заверенные надо. Могут с работы не отпустить. Алексея Тимофеевича и вовсе: он военный.
– Как, Пётр Афанасьевич?
– Я сделаю. Вы сможете завтра до обеда с телеграммами зайти в больницу? Заверим. Написать знаете как?
– «Шибко хворый» – чего ж не знать? Напишут мне. Я попрошу. Завтра, стало быть. Вот и ладно, вот и хорошо. Ребятки наши приедут. Спасибо вам.
С души у бабы Поли свалилась тяжкая ноша. Ещё бы с Марьей…
Едва ушли доктора, заявилась соседка. У неё нерабочий день. Видела она, что были двое, любопытно ей.
– Здравствуйте, баба Поля.
– Здравствуй, Галя. Заходи-тко на кухню, чайку попьём.
У Гали безобидный интерес.
– А Тимофей Несторович не будет?
– Третий день не встаёт.
– Что говорят? Этот седой кто?
– Главный у них. Плох Тимофей мой Несторович. Завтра телеграммки буду отбивать, – баба Поля прикусила дрогнувшую губу, налила чай.
Галя пробует мягкие булочки, варенье, хвалит:
– Вкусно вы стряпаете, баба Поля. И варенье – как свежее.
– Нравится? Ты бери больше, не стесняйся, – баба Поля придвигает вазу с вареньем ближе к соседке. «Вот и на поминки надо будет ватрушек и булочек изготовить…» – думает она, глядя, как вкусно, с неподдельным удовольствием Галя ест булочку. – Я что хочу тебя попросить. Ты мяса можешь принести? Ежли что…