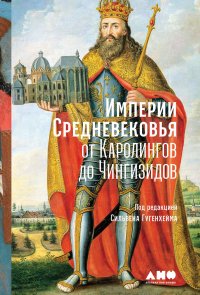Читать онлайн Альманах «Истоки». Выпуск 9 бесплатно
- Все книги автора: Коллектив авторов
Солдатский медальон
Валерий Желыбенцев
9 мая
- Отгремела давно мировая война,
- Не подняться знамёнам третьего рейха!
- Ветераны надели опять ордена,
- Они снова в строю на парадной поверке.
- С каждым годом всё тают, их тают ряды –
- Тех, кто брали Берлин и мятежную Прагу.
- Кто остался живым, стал до срока седым,
- Опалённым военною, огненной правдой.
- Они отдали всё, чтоб Россия жила,
- Чтобы мирным всегда было небо…
- Над странною салют, сердца стук, тишина,
- Мы причастны к Победе, кто был там, кто не был.
Солдатский медальон
- Солдатский медальон – послание живым
- От без вести пропавшего солдата.
- Последнее «Прощай» любимым и родным,
- Он верил, что листок дойдет до адресата.
- Пластмассовая гильза сохранила
- Фамилию –
- мы памятью живем.
- Есть у солдата имя и могила.
- Он без вести пропал,
- но помнили о нем.
- И есть теперь куда приехать близким…
- Где шли бои, застыли обелиски.
Валентин Ермаков
(1933–2015), г. Обнинск
«Картошки – и той не осталось…»
Памяти тети Маши Охотниковой, приютившей нашу семью во время оккупации.
- Картошки – и той не осталось.
- Что делать?
- Пришлось променять
- И платье, в котором венчалась
- Моя бережливая мать.
- Два дня от деревни к деревне
- В июльский немыслимый жар
- Несла она праздничный, древний,
- Такой неуместный товар.
- Да, было тогда не до свадеб –
- Шли годы военной поры.
- В безмолвной и горькой досаде
- Она покидала дворы…
- Скажу ли обидное слово
- О женщине той из села,
- Которая за обнову
- Неполную цену дала?
- Ей платье-то было не нужно:
- В избе обгорелой своей,
- Вестей ожидая от мужа,
- Растила одних сыновей!
В этом доме жили погорельцы
- В этом доме жили погорельцы:
- Женщины и уйма малышей.
- В этот дом пускали обогреться
- Стариков из мокрых шалашей.
- В этот дом со всех фронтов России
- Похоронки шли, как на почтамт.
- В этом доме вслух не голосили –
- В поле убегали причитать.
- Этот дом, безлюдный, темный, древний,
- Весь перекосился и осел.
- А по славе – первый дом в деревне:
- От войны один лишь уцелел.
Вера Чижевская
Скрипка оружейного мастера…
- ОНА – бежала с односельчанами
- в тёмные глухие леса –
- к партизанам –
- от фашистов,
- вломившихся в ЕЁ родную деревню.
- ОН – был оружейным мастером
- в партизанском отряде
- (снова на фронт не пустила
- контузия
- от разорвавшейся фашистской бомбы).
- …Когда в небе
- НЕ ревели немецкие самолёты,
- люди из землянок
- заполняли паузы танцами –
- длиной в короткую ночную лесную тишь –
- под музыку скрипки,
- на которой играл ОН –
- советский солдат-партизан.
- ОНА подошла и сказала:
- – А я тоже
- умею играть на скрипке…
- на одной струне…
- …Молодые, красивые, полные надежд
- шутили, веселились
- и любили друг друга,
- если над головой
- НЕ ревели немецкие самолёты.
- …Фашистов вышибли из деревни.
- И в мире он и она
- родили дочку и сына.
- …ОНА умерла спустя три года
- после войны.
- ОН прожил ещё полвека.
- После них остались
- дети
- и скрипка…
- Я знала тебя,
- старая скрипка –
- без струн, без смычка и футляра –
- когда ты уже не могла
- воспроизвести мелодию,
- соединившую моих родителей…
Анри Маркович
Пленные немцы в Майори
- Пленных несчастных видели в Маори
- Через два года после войны.
- Рыли канаву, по-немецки гутарили. –
- Трудное время Советской страны.
- Мы отдыхали с мамой в Майори.
- Дом отдыха, полуразрушенный вид…
- Немцы здоровались, не базарили.
- В воздухе туберкулёз, а не СПИД.
- Тогда менингит был зловещий.
- Детям смерть приносил.
- Палочка Коха вползала в вещи,
- Только стрептомицин лечил.
- Мы проходили – июль был жаркий,
- Гутен таг – говорили они.
- Красиво на взморье, роскошно в парке.
- Для пленных были нелёгкие дни.
- Рижское взморье. Река Лилеупе,
- Очень глубокая река.
- Ракушки на пляже. Мир в Европе.
- Горячий песок обжигал слегка.
- Немцы носили разбитую обувь,
- Еле-еле вдевали шнурки.
- Портянки летом – здоровье гробить,
- В ответе за Гитлера мужики.
- За ними следил конвоир русский
- С винтовкой обычной за плечом.
- Исчез у немцев дух прусский.
- Мама встречалась с главврачом.
- Жалела мама врагов проклятых,
- Они твердили; мы – не враги,
- И не нацисты, и не фанаты
- Сдались сами и не моги
- Трепаться с немцем. (я был школьник,
- Перешёл в третий класс,
- впервые линейку взял, угольник.)
- Рижское взморье для нас!
- У мамы муж погиб на фронте,
- Я потерял отца.
- К пленным – ненависть. Но, позвольте,
- Нельзя им мстить без конца!
- Мама сказала: дядя сдался.
- Чинил нам розетку – не починил.
- Русский монтёр легко разобрался.
- Немец боялся и спешил.
- Просили немцы купить смородину
- И дали маме три рубля.
- Прошлое набило оскомину.
- Латвия – чужая земля.
Инна Варварица
Два Петра
- У дочки моей два деда
- были. Два деда Петра.
- С фашизмом война до победы
- их молодостью была.
- Подлый враг вероломно
- вторгся в наши границы!
- Дома остались жёны,
- дети должны родиться,
- но время лихое настало –
- и встали стеной единой
- Фёдорыч – русский с Урала,
- Семёнович – грек с Украины!
- В лязге железа и стали,
- в грохоте взрывов войны
- на разных фронтах воевали,
- духом единым сильны.
- Вести из дома почта
- в год принесла один:
- у Фёдоровича – дочка,
- а у Семёныча – сын!
- Родина, дом и дети –
- всё слилось воедино.
- Были за всё в ответе!
- Путь до победы длинный –
- мины, снаряды да пули
- вёрсты войны считали.
- Сколько смертей обманули!
- Сколько друзей потеряли!
- Выжили, победили!
- В мирную жизнь вернулись.
- Жили, детей растили.
- Судьбы соприкоснулись,
- пусть и не близко были
- Москва и Донбасс, но их
- дети в Москве породнили,
- внучка одна на двоих.
- Жили в стране единой,
- съезжались друг к другу в гости
- Семёнович с Украины
- и Фёдорович московский…
- Из жизни ушли, не зная,
- что Родину развалила
- хищная, жадная стая,
- новая вражья сила.
- Пётр Семёнович, грек по крови,
- на Донбассе с рожденья жил,
- только не на украинской мове,
- а по-русски всегда говорил.
- Но сегодня за русское слово
- и за память о той войне
- убивать друг друга готовы
- те, кто жили в одной стране.
- Пётр Семёныч, разведчик, вечным
- стать не смог тебе вечный покой –
- он осколками тоже мечен,
- ты опять на передовой!
- Там, где бьют «Ураганы» и «Грады»,
- с ополченцами вместе стоят,
- с фотографий сурово глядя,
- все надгробья былых солдат!
- Память предков наших… Единство,
- братство, дружба – пример живой
- защищающим от бесчинства
- отчий дом и язык родной!
Татьяна Хачумова
Розовые цветы
Папе
- Падает мокрый снег. Мгла, пустота и боль…
- А на столе стакан, фото, свеча и соль,
- Соль с непросохших век, а за окном февраль.
- Китель в шкафу всегда будет хранить медаль.
- Песни военных лет тихо звучат в ушах,
- Падает мокрый снег, пряча в сугробе страх:
- «Скоро Победы день! Будет он без тебя…»
- Падает мокрый снег, вместе со мной скорбя.
- И к «журавлям войны», может, примкнешь и ты.
- Ветер поднимет ввысь розовые цветы.
Валентин Терещенко (1937–2011)
Отец мой – Григорий Данилович
- Ко мне приходит иногда
- Отец с гремящими вещами…
- И угощает калачами! – с войны –
- Какая ерунда…
- Я понимаю и во сне –
- Что нет ни может быть такого –
- Давно я выучил толково –
- Что он остался на войне…
- А что ж выходит. Что не все
- Частицы разума смирились –
- И вот, Отец. Скажи на милость! –
- Идёт в обмотках по росе…
- Кладёт на лавку вещмешок –
- Винтовку ставит у порога –
- И говорит мне: «Слава Богу! –
- Однако. Вырос ты. Сынок…!»
Обелиск
- Чугунна ограда,
- И скорбь высока,
- Как будто бы рада
- Вонзить облака
- Подобием иска
- Творцу за разбой
- Иглу обелиска
- С горячей звездой.
- Как будто бы рада
- Она облакам,
- Как гроздь винограда –
- Девичьим рукам,
- Но ива роняет слезу на гранит,
- Который не знает
- Чьё имя хранит.
Дочке Валерии
- Горя нет и нет печали…
- Журавли вчера кричали.
- Облетев почёта круг
- Сели белые на луг,
- Но плясать ещё не смели,
- Лишь на отмели белели…
- Дань платили журавли
- Тяготению Земли…
- Всё ж они по воле рока,
- Как трещит с утра сорока,
- Посеревшие слегка
- Поминали вожака.
Александр Серафимов
Степанида
Увидев в руках почтальонки серую бумажку, Степанида обмерла, сердце защемило от предчувствия беды, холодный пот проступил на лбу и щеках, ноги ослабли, и, чтобы не упасть, она ухватилась за калитку. Такие небольшие четвертушки серой бумаги означали одно – отец, сын или брат погиб в бою с фашистами. Осознание, что её муж погиб за правое дело не смягчало горечь утраты. Скомкав в руке роковую бумажку и постояв несколько минут у калитки, она вытерла фартуком слёзы и вернулась в дом. Этот дом они вместе с мужем построили сразу после скромной свадьбы на участке, который выделил им райсовет. По правде сказать, это был не дом, а засыпная халупа, сбитая из досок и покрытая от дождей рубероидом. Посреди халупы возвышалась русская печь, которая делила помещение на кухню и комнату, где стояли две железные кровати, на одной спали родители, на другой старшая дочь и её младший братик. У самой печи на топчане, над которым висела люлька малышки, спал престарелый отец мужа, Степан, который на время отсутствия невестки присматривал за детьми.
Теперь она одна должна была вырастить троих детей, двое из которых были совсем крохами – Стёпке шёл четвёртый год, Насте год, третья двенадцатилетняя дочь Дуся была её помощницей по дому и в огороде. Собственно, если бы не огород, они уже давно бы померли от голода. Картошки, квашеной капусты, морковки и свеклы им хватало до апреля. Весной, когда сходил с полей снег, Степанида с Дусей отправлялись на ближайшее картофельное колхозное поле в поисках остатков прошлогоднего урожая. В раскисшей от избытка воды холодной земле они отыскивали перемёршие за зиму картофельные клубни, из которых пекли драники. В мае, когда очнувшаяся от зимней спячки земля расцветала, Степанида с Дусей шли за город и вдоль дороги рвали лебеду, из которой варили суп, а осенью собирали калину, черёмуху и грибы – тем и питались всю зиму.
Протопив с утра печь и собираясь на работу, Степанида укладывала малышей на теплые полати, разжёвывала ржаной хлеб, обёртывала жвачку в марлю и засовывала в рот малышам.
– Мамочка я хлебушка хочу – выплёвывая жвачку изо рта – заплакал Степка.
– Потерпи, мой хороший, вот схожу на работу и принесу тебе хлебушек.
– А ты скоро придёшь?
– Скоро, очень скоро, а пока ты поспи, поспи милый, да присмотри за малышкой, пока Дуся в школе будет и за дедушкой тоже присмотри, он совсем хворый, а ты у меня мужчина, старший в семье, – прижимая к себе и утирая слёзы, давала наказ Степанида.
– Мамочка, а у меня вон какой животик – подняв подол рубахи, вдруг заявил Стёпка.
– Господи, неужели рахит? Так и есть – рахит, – оглядывая водянистый живот сына с ужасом подумала Степанида и, погладив сына по головке, спросила – а он не болит?
– Не болит, мамочка.
– Хорошо, очень хорошо, а хлебушек я скоро принесу – сказала Степанида, а про себя подумала, как будет поить Степку рыбьем жиром, которым только и можно было вылечить рахит.
Работала Степанида путевым обходчиком на ближайшей от дома железнодорожной станции, куда устроилась за три года перед Великой отечественной войной. В любую погоду, несмотря на дождь и снег, она ежедневно обходила свой участок железной дороги, осматривала шпалы и рельсы и, если обнаруживала ослабленные гайки, тут же подтягивала их. Особенно тяжело было зимой, когда снег заносил соединения рельс, которые она должна была откопать и проверить стыки. Однажды она обнаружила, что несколько крепёжных гаек, совсем по Чехову, были отвинчены, а в это время должен был пройти состав, гружённый углём. Недолго думая, Степанида выхватила из футляра красный флажок и размахивая им, бросилась бежать навстречу поезду. Помня, что тормозной путь гружённого состава почти километр она, преодолевая слабость от хронического недоедания, с большим трудом, но пробежала большую часть пути и остановила поезд. За этот самоотверженный поступок руководство наградило её отрезом шёлковой материи, которую она тут же променяла на кусок мяса.
Однажды на станции она познакомилась с помощником машиниста, будущим мужем Дмитрием, который более года ухаживал за ней и только благодаря своей настойчивости взял её в жёны.
Степанида долго не соглашалась выходить замуж потому, что последние восемь лет после всего случившегося с ней и её семьёй, она жила воспоминаниями о прошлой счастливой жизни, где у неё был любимый муж, большая дружная и работящая семья, которую в одночасье уничтожила советская власть.
Очаровательную девушку из бедной семьи сосватали за Колмогорова Ивана из зажиточной семьи, когда её исполнилось восемнадцать лет. Жених был хорош собой – статный, черноволосый с выразительными ласковыми карими глазами, о которых многие девушки села Поспелиха втайне мечтали. На свадьбе счастливой пары целую неделю гуляло всё село, мать жениха и несколько её помощниц буквально сбились с ног, готовя угощения и подавая на столы всё новые блюда.
Семья Колмогоровых, куда переехала после свадьбы Степанида, была дружной и работящей. Кроме родителей мужа в большом доме с многочисленными хозяйственными постройками проживали сестра, брат Ивана Андрей с женой и тремя детьми, дедушка с бабушкой по отцовской линии.
Дед Ивана, Колмогоров Григорий Спиридонович потомственный донской казак, в девяностые годы 19 века во время пьяной ссоры покалечил своего атамана в результате чего вынужден был покинуть станицу и переселиться на Алтай. Здесь в предгорьях в селе Поспелиха он получил несколько десятин плодородной земли, построил дом, обзавёлся хозяйством и женился на местной девице. Со временем его сын, Прохор, продолжил дело своего отца, прикупив к уже имеющимся три десятка десятин земли, заливной луг для пастбища, отару овец, двух коров, рабочую лошадь и рысака для выездов. Хозяйство разрасталось, требовались работники и Прохор женил ещё совсем молодого старшего сына на соседской, крепкого телосложения девице. На все возражения сына он отвечал – красота приглядится, а крепкая рука пригодится. Все обязанности в доме были расписаны, каждый знал, чем ему заниматься, какую работу в данный момент выполнять – мужчины пахали, сеяли и убирали урожай, косили сено, стригли овец и заготавливали дрова на зиму, женщины работали на кухне – готовили еду на семью, варили пойло для животины, убирали навоз, а по вечерам пряли дотканные холсты, из которых шили нательное бельё и рубахи для мужиков. Жена старшего сына Марфа была обязана сбывать излишки продукции на городском рынке, до которого было верст пятьдесят и куда по пятницам отвозил её муж.
Когда Степанида вошла в дом своего мужа, ей сразу определили работу по дому – в её обязанности входила уборка в доме, хозяйственных постройках и обширном дворе. По вечерам, как и все, садилась за пряжу, ловко вращая веретено, сучила шерстяную нить для будущих носков, рукавиц и шарфов. С раннего детства приученная в доме своих родителей к тяжелому крестьянскому труду, она воспринимала работу по дому совсем не тяжелой и помогала на кухне своей свекрови чистить картошку и овощи.
Через полгода Степанида забеременела и к концу 1929 года разрешилась девочкой, которую назвали в честь бабушки Евдокией.
Всё шло хорошо, деревня после гражданской войны в годы нэпа начала процветать, наиболее старательные и трудолюбивые крестьяне обзаводились скотом, разводили бахчу, на которую был большой спрос в городе. Раз в неделю в селе появились перекупщики, которые за умеренную цену скупали зерно, арбузы, дыни, яблоки и облепиху, которой была особенно богата алтайская земля.
Но однажды, в конце апреля в село вернулся местный забияка и пламенный борец за справедливость Аркашка Мешков. После освобождения Сибири от Колчака, Аркадий, бросив больного отца и мать добровольно записался в Красную Армию, дошёл с ней до Владивостока, потом оказался в Туркестане, где гонялся за басмачами, был тяжело ранен и в связи с этим комиссован из армии. Пока он воевал с международным империализмом, умер отец, больная, рано постаревшая мать вынуждена была просить у сердобольных односельчан кусок хлеба, тем и жила в ожидании своего неугомонного сына. Вернулся он в ту пору, когда в стране началась знаменитая коллективизация, в результате которой было раскулачено сотни тысяч крестьянских хозяйств, беднота объединялась в колхозы, а крепкие хозяева ссылались в Сибирь. Там, в глухих, необжитых местах большинство из них погибло от голода и неустроенности.
Приехал Аркадий в село с особыми полномочиями – уничтожить, как класс, местных кулаков, а за одно и всех середняков, особенно тех, кто во время уборки урожая нанимал сезонных рабочих. Одетый в кожаную куртку и красные революционные галифе с кольтом на поясе и именной саблей на боку он, размахивая постановлением Губкома о коллективизации, наводил ужас на своих селян. Затем созвал сельский сход и объявил о начале коллективизации в селе, которая будет осуществляться неким комитетом, образованным из числа наиболее сознательных граждан. К сознательным гражданам, как правило, относились беднейшие крестьяне, у которых всё хозяйство ограничивалось огородом, одной коровой да парой поросят. Летом большинство из них нанимались в работники к крепким хозяевам, получая за свой труд пшеницу, гречиху и бахчевые.
Раскол на богатых и бедных в селе начался давно, те кто не мог или не хотел обрабатывать землю, продавали свои наделы более трудолюбивым и хозяйственным мужикам, сами же превращались в сезонных батраков. Вот они-то и стали объединяться в колхозы.
Впервые Аркадий увидел Степаниду на сходе, она стояла вместе с мужем в первом ряду и явно выделялась своей красотой из общей массы односельчан.
– Кто это? – обратился он к одному из своих помощников.
– Кто?
– Вот та, что стоит рядом с Колмогором.
– Как кто, его жена.
– Значит жена, красивая жена досталась кровопивцу, нехорошо.
– Брось Аркаша, у них дочь растёт, и потом Колмогор крепкий мужик, своего просто так не отдаст.
– Поживём увидим, а муж объелся груш, не китайская стена, обойти можно.
С тех пор Аркадий стал выслеживать Степаниду и всячески старался привлечь её внимание. Дошло до того, что она пожаловалась мужу на приставания Аркадия. Однажды поздним вечером, когда Аркадий возвращался домой после очередного заседания комитета Николай подстерёг его и, схватив за грудки, сказал – не отстанешь от моей жены, убью.
– Ты на кого руку поднял? Ты на власть руку поднял, упеку туда где Макар телят не пас.
– Я не на власть руку поднял, а на подонка, который на чужом горбу хочет в рай въехать и запомни, я тебя из-под земли достану, если не перестанешь домогаться моей жены, – схватив Аркадия за ухо, сказал Иван и пошёл домой.
– Скажи спасибо, что я сегодня безоружен, пристрелил бы тебя, как собаку, – крикнул Аркадий.
На следующий день Аркадий отправился в Барнаул и через два дня вернулся с небольшим отрядом Губчека, в его задачу входило аресты и высылка из села всех недовольных советской властью, конфискация в пользу государства их имущества, а также принудительное вовлечение колеблющихся в колхозы.
Первыми с кого начали раскулачивание, оказались Колмогоровы. Рано утром к их усадьбе подкатила тачанка и несколько подвод, с них спрыгнули вооруженные солдаты и направились во двор. На истошный лай Барса на крыльцо дома вышел глава семьи Прохор.
– Зачем вломились в чужой двор, люди добрые?
– Ты, Прохор и твоя семья подлежат раскулачиванию, – крикнул Аркадий.
– Вы, что же белены объелись, мы же не кулаки, мы всё, что у нас есть, своим горбом наживали, что же получается, те, которые кормят народ и есть враги советской власти?
– Ты, Прохор, демагогию тут не разводи, сказано подлежишь раскулачиванию, значит отдай своё добро и дело с концом, а не отдашь возьмём силой, – заявил Аркадий.
В это время на крыльцо вышел Иван с двустволкой в руках:
– Убирайтесь туда откуда пришли, – прицеливаясь в командира отряда, крикнул Иван.
В тоже мгновение один из солдат вскинул винтовку и выстрелил, пуля попала прямо в сердце Ивана.
Так закончилось недолгое счастье Степаниды, начались годы скитаний, тяжкого труда и спасения детей от голода и болезней.
г. Высоковск, 2016 г.
Владимир Пустовитовский
Марьина роща
Поэма
1
- Переулок Второй Стрелецкий,
- Я когда-то родился в нём,
- Небу ватному прямо в сердце
- Дым пускал из трубы мой дом.
- А весною заросшие грядки
- В окнах первого этажа
- Отражались. И длинные прядки
- Распускала весна-госпожа.
- Над дырявым дощатым сараем
- Сизари ворковали с утра,
- Как и я, спутав с призрачным Раем
- Солнцем залитый мусор двора.
- Был сосед мой фальшивомонетчик.
- Позабытые матушкой щи
- Добывал как заштатный разведчик,
- Половицею скрипнув в ночи.
- А другой, приложившись к острогу,
- Из застенков домой возвратясь,
- Выходил на пустую дорогу
- С папироской как марьинский князь.
- Бывший флотский соседом был тоже,
- Сев на суше как трал на мели,
- Доставал ржавый ножик из ножен,
- И мальчишкам строгал корабли.
- Но штормила матросика водка,
- Он твердил мне: «Я встать не могу,
- Эх, Володька, Володька, Володька,
- Потерял я на флоте ногу́».
- Дела нет до ноги флотоводца,
- Я тогда был в соседку влюблён.
- Мне на небе как в бездне колодца
- Отражался серебряный клён.
- Клён разросшийся гибкою веткой
- Бил в открытое настежь окно,
- Где с косичкою русой соседка
- Моё имя склоняла давно.
- И тогда до истерик, до дурки,
- Изучив скорбный вид сквозь очки,
- Верный друг приносил мне окурки,
- По помойкам искал мне бычки.
- И… легчало от первой затяжки,
- «Трын-трава» – от второй говорил…
- В бликах солнца, поправив подтяжки,
- Надо мной воспарил Гавриил.
- Он одёрнул замызганный батник,
- С плеч стряхнул два прилипших пера,
- Тем архангелом был голубятник,
- Он кормил голубей по утрам.
- Гавриил, белобрысый наш Гришка,
- Хмырь болтливый, а значит меня
- Встретит гнева отцовского вспышка,
- Ритуальная пляска ремня.
- И тогда, после третьей затяжки,
- В Гавриила швырнул я бычок.
- И слетела с макушки фуражка,
- И стрельнул чёрным гневом зрачок.
- И когда как Христос на Голгофу
- Шёл домой, миновав частокол,
- Проплыла мимо русая Софа,
- Как звезда на небесный престол.
- И мне что-то шепнула соседка,
- И я что-то не к месту сказал.
- Мы молчали. В саду над беседкой
- В чистом небе сверкнула гроза.
- Прославляли весну коростели,
- Между туч крался мутный желток,
- На короткие дни и недели
- Две души завязав в узелок.
- Но… однажды услышал: «Володька».
- Это был флотоводец – моряк.
- Он кричал мне: «Володенька, подь ка,
- Расскажу тебе разный пустяк.
- Может быть не настолько он малый,
- Пустяком может не назовёшь».
- Морячок замолчал. Ветер шквалом
- Гнал по улице пыльную дрожь.
- Фонари словно цапли в болоте
- Погружались в разросшийся шквал.
- Я стоял. Как в рулетке из сотен
- Всё один вариант выпадал.
- И сосед, мой герой одноногий,
- Опираясь на шаткий протез,
- Выжидал. И на узкой дороге
- Жизнь меняла значенье и вес.
- И услышал: «Дружище, намедни,
- Обуял моряка пьяный транс,
- Я побрёл-похромал на последний,
- В синима на последний сеанс.
- С педантичностью глупой немецкой
- В кассу встал. Взял билет. Влез в беду.
- Мы храним, Вовка, с Первым Стрелецким
- Как араб с иудеем вражду.
- За сараями стенка на стенку
- Мы сойдёмся. Зовут пустыри.
- Завтра вновь кулаки да коленки
- Кровью скрасят оттенки зари».
- Я вспылил: «Ты меня только, право,
- Не записывай в дикую рать.
- Не хочу за бойцовскую славу
- До костей кулаки разбивать!»
- Но ответ был: «На первом стрелецком,
- Где берёзок унылый купаж,
- Твою Софу мозгаль молодецки
- Взял с фарватера на абордаж.
- И девчонка такому пассажу
- Улыбаясь, ладьёй поплыла.
- Ты ищи дорогую пропажу
- У реки, где горюет ветла.
- Где весеннею белою вьюгой
- Тополя осыпают причал,
- Потерял ты, Володька, подругу,
- Как ногу́ я свою потерял».
- И ударили в мозг реки крови.
- И ладонь превратилась в кулак,
- И поднявшись отчаянью вровень,
- Я не мог совладать с ним никак.
- И сказал: «Да, давно наши предки
- Били Первый Стрелецкий. Не нам
- Доедать от победы объедки,
- Соберём свою рать по дворам».
- Мы пошли в тусклых красках заката,
- Флотоводец скрипел и хромал…
- Помнишь, Марьина Роща, когда-то,
- Чтил я грязных дворов ритуал.
2
- Ровесник сотворенья мира
- По тротуару гонит воз,
- В тулупе из заплат и дырок,
- Не взглянешь на него без слёз.
- Старьёвщик, мой старьёвщик милый,
- В телеге катится своей.
- И ржание гнедой кобылы
- Мне лечит сердце как елей.
- По мостовой стучат копыта
- Скрипят колёса на оси,
- Давно втянув меня в орбиту
- Умом не познанной Руси.
- Заржала низенькая кляча,
- Свернул старьёвщик в пыльный двор
- Господь, ты вору дай удачу,
- А без удачи вор не вор.
- И я из тёмного подвала
- Умело, как багдадский вор,
- Тащу палас, и покрывало,
- И молью съеденный ковёр.
- И вот уже близка удача,
- Крадусь по темноте как рысь.
- Но третий раз заржала кляча,
- И чёрный грач сорвался ввысь.
- Со всею неподъёмной ношей
- Упал, вскочил и вновь упал.
- Я мог ещё бы стать хорошим,
- Но гаснут свечи, кончен бал.
- Стоит заплаканная Софа.
- Двор опустел. Исчез старик.
- Как мне вместить в скупые строфы,
- Всё, что я пережил в тот миг.
- Качнулась поздняя рябина,
- Закат над крышею погас.
- И сердце стало мягче глины
- От девичьих зелёных глаз.
- Бросает мне она, что слишком
- Сильны в пустой башке ветра,
- Что я испорченный мальчишка,
- Что мне забыть её пора.
- И я молчу не возражая,
- Любовь упрёк бросает мне,
- Так от соседского ножа я
- Стоял, припав к сырой стене.
- О, Марьина святая Роща,
- На несколько дворов страна,
- Где мальчуганом с кошкой тощей
- Сижу у тёмного окна.
- А за окном летят куда-то
- Ветра. Ослепли фонари.
- По крыше дождь стучит стаккато,
- И в грязных лужах пузыри.
- И дождик шепчет мне украдкой
- Не о соседке, а о том,
- Что мёрзнет под мостом лошадка,
- Старик зарезан под мостом.
Наши публикации
Кирилл Столяров
Заслуженный артист России
На круги своя
Семейная хроника (продолжение)
Все мы родом из детства.
Антуан де Сент-Экзюпери
«Это не написано, это наговорено на диктофон. Сколько он успел…»[1]
Рано или поздно все возвращается на круги своя. Так устроена жизнь. Так об этом сказал Экклезиаст, и мне хотелось бы тоже вернуться на круги своя, вернуться на свою родину, в то место, где я родился.
Моя бабушка родом из купеческого семейства Самохиных. Это довольно известная купеческая семья. У них были свои дома в Лялином переулке, в Подсосенском, и бабушкин отец, мой прадед, Семен Данилович был серьезным купцом. У него было свое дело, как тогда называли. Он был печник.
Вообще русскому человеку свойственно начинать от печки. Печка – это центр жизни. Мы живем в холодной северной стране. Печка – это наш очаг, спальня, кухня, и, когда надо, баня. Это наше спасение. Это наша лечебница. Все крутится вокруг печки. И в России, на Руси в избе, в истоке, главная была, конечно, печка. Вот знаменитая русская печь; ее удивительная конструкция, вьюшки, ее дымоходы, ее умение держать тепло, ее красота, и функциональность идеальная. За печкой жили животные. На печке лежали дети, бабушка, дедушка. Печь – это главный источник благополучия. Все, что есть в печи, все на стол мечи. Печники были всегда уважаемыми людьми в Москве. Нужно построить печь, чтобы она не дымила, была красивая, экономно расходовала дрова, долго удерживала тепло, – масса нюансов.
Кроме того, Москва всегда был пожароопасный город, и печники даже селились в отдельных местах. Например, на Поварской, где были царские стольники, скатертники, хлебники, там был и Трубниковский переулок. Некоторые почему-то утверждают, что Трубниковский переулок происходит от слова «трубы». Но что, собственно, трубить-то? Холодно зимой. Поэтому надо печь топить. А чтобы не случилось каких-то неприятностей, необходимо эту печку чистить. Трубники, трубочисты – почитаемые люди на Западе, трубочист – это особый человек, вот созданием этого уникального, чисто национального произведения – русская печь, и занимались печники.
Сергей и Кирилл Столяровы
Семен Данилович был большой мастер. Вероятно, это ремесло к нему пришло по наследству. Он был поставщиком печей для Большого театра. Я помню эти печи. Не знаю, после реставрации сохранились они или нет. Это были такие же печи, как у нас в доме, те, которые поставил Семен Данилович Самохин для своей дочери и для своего зятя. Великолепный образец эстетики печной. Печи трехзеркальные выходили на три комнаты. Дом строили для себя. Было несколько печей в доме. И когда к нам приходили наши знакомые, в частности такой замечательный художник Эмиль Виноградов, он был главным художником театра Вахтангова, театра Моссовета, восхищался этой красотой, элегантностью, простотой, изяществом, каким-то аристократизмом этой печи.
Семен Данилович был замечательный, оборотистый человек. Он как-то сумел так прожить жизнь, что, когда всех ограбили, в частности, Константиновых, всё отняли: и банки, и магазины, он где-то сумел спрятать какие-то деньги; и его семья жила относительно благополучно во времена нэпа.
Бабушка иногда даже завидовала Самохиным, а это ее ближайшие родственники. Ее брат Николай был женат на Александре Будеровой. Будеровы тоже купцы. Они делали мебель в стиле Буль. У нас стояла в гардеробной мебель: великолепный шкаф красного дерева, двухметровое чудесное зеркало, внизу ящик, открывается дверь – и там множество можно повесить одежды, и огромное количество мелких ящичков, секретеров, совершенно уникальных. Этот шкаф всегда меня привлекал. Там лежали замечательные ценности, к которым меня не всегда допускали. Там лежало самое дорогое, что было у бабушки, – свадебные свечи, которые горели у них в руках, когда они венчались в храме Николая Чудотворца. Вот эти свечи лежали, остались. Флёр д’оранж – фата. Там лежал бабушкин страусовый веер, корсет, который я нещадно потрошил, он был сделан из китового уса. Там было много тайн. Однажды одну тайну такую раскрыл дед. Он достал пакет, перевязанный ленточкой, аккуратно развернул его и вынул погоны поручика, золотые погоны с вытканным инициалом «НII» – «Николай II». Обратная сторона была зеленая, из такого бильярдного, что ли, сукна, немножко побитая молью. Но больше всего меня поразило даже не само золото погон, а тот запах, который от них исходил, какой-то удивительный, таинственный запах, расшифровать который я до сих пор не могу. Иногда запахи могут сказать гораздо больше, чем любое изображение, любое слово. Этот запах остался у меня на всю жизнь. Там была тайна прошлой жизни, прошлых поколений. Это немножко пахло нафталином, немножко – лавандой, какими-то еще, совершенно нездешними запахами. Вот эти погоны с царским вензелем.
Там лежала дедовская каракулевая папаха, с кокардой. Кокарда меня потрясла особенно. Это было в 40-м, наверное, году. Кокарда – это был признак белогвардейщины, почти было запрещенное дело – кокарда, и лежала такая шпага, что ли. Дед был не строевым офицером, он работал по интендантской части, такая парадная шпага. Мне шпагу эту не дали, но дали ножны от этой шпаги. Я их схватил, был страшно счастлив. Дед и отец смотрели на меня. Это было летом. Светило солнце, чудесная погода. Я с этими ножнами от шпаги, кричал: «За Родину! За Сталина!» Дед грустно улыбался.
* * *
Мой прапрапрадед и вообще первые Константиновы поселились на Басманной, рядом с Разгуляем. Я был потрясен, когда увидел замечательные книги – «Жить», «Жизнь», «Жительство», – книга, составленная архимандритом Дионисием. Потрясающая книга. Я увидел моих родственников. Там была межевая комиссия, которая подтверждала земельный участок Покровского поселения. Тогда Покровское еще не входило в черту Москвы. Это было Подмосковье. Покровское, Дворцовая слобода принадлежало Романовым. Вообще Покровское существует чрезвычайно давно. Но это особый разговор. Имя моего прапрапрадеда Михаила Константинова впервые упоминается в этой межевой грамоте.
У меня сохранилась фотография Михаила Константинова. Он, наверное, был из городских жителей, из мещан, был москвичем, и начал свое дело очень рано. Потому что фирма существовала с 1831 года, еще до отмены крепостного права. Михаил Константинов эту фирму создал. У него была своя контора, своя лавка. И быть купцом 2-й гильдии в Басманной части – это серьезное дело. У него было несколько сыновей, в том числе вот мой прадед Григорий Михайлович, и старший брат – Яков Михайлович. Яков Михайлович Константинов – тот самый человек, который впервые поселился на землях, принадлежащих храму Николая Чудотворца.
Только в 1869 году, по-моему, было разрешено сдавать эту землю под стройку. И вот первый, кто построил там дом, был брат моего прадеда Яков Михайлович Константинов. Был установлен договор, который долго и очень тщательно составлялся. Ему было разрешено поставить дом под железной крышей, каменный низ, там была лавка, и деревянные покои. Это типично московский дом. Впоследствии мой дед построил для своей семьи тоже такой же дом.
* * *
Почему дома московские строились деревянные? После пожара 12-го года ведь почти все дома новые, которые делал, допустим, архитектор Бове, Жилярди, они внешне делались под камень, но по сути это были деревянные дома. В деревянных домах в России лучше жить. Они более здоровые. Климат холодный. И не было парового отопления. Поэтому самая страшная болезнь, которая была в России, – чахотка – от холода, от сырости. В каменных домах неуютно. Низ – для прислуги, для кухни, для прачечной, дворницкая, где жили горничные, – каменный. У нас дом 102, он не строился, как лавка, он строился, как частный дом. Этот дом делал один из замечательных архитекторов, очень популярный, который строил такие дома. Причем называлось это строение – бельэтаж. Чудесный дом такой на Проспекте Мира построил для себя архитектор Баженов. Бельэтажный дом, но он уже был в камне, такой как бы европейский изыск. А этот дом мой дед построил, построил в 904–905-м году, когда они поженились с моей бабушкой.
* * *
Москвичи того времени, жили как-то коммунами, пытались поселяться там, где уже были свои. Константиновы поселились на Басманной. Самохины жили на Покровке в Лялином переулке, в Подсосенском. Дудеровы жили там же недалеко.
Купцы выбирали своим сыновьям и своим дочерям пару с тем, чтобы и дело развивалось, чтобы и люди были порядочные. Фирма Константинова существует с 1831 года. Это о чем говорит? – О том, что не воровали там. О том, что это была честная торговля. О том, что продукт, который готовили они там, отличался удивительным качеством. Константиновы, в частности, отец иногда в шутку смеялся над матерью – «колбасники». Он-то был беспризорник из села Беззубово, так сказать, пролетарий, а они вот были купцами. Ну и константиновская колбаса славилась в Москве. Это что за продукт? – Это твердая сухая колбаса, которая делалась по особой технологии. К сожалению, секрет ее утрачен, остались, некоторые детали. Но это, прежде всего, отбиралось качественное мясо, в основном мясо быка, гусиное мясо, свинина. Это мясо с добавками ингредиентов обрабатывалось, коптилось и потом как-то благородно выдерживалось, что ли, на армянском коньяке. Прадед Григорий Михайлович занимался снабжением. Он доставал продукты, привозил их на фабрику, на производство, там была коптильня, там были специальные такие шкафы, где выдерживали колбасу. Колбаса была совершенно удивительная. Потом пытались сделать аналог – так называемая кремлевская, микояновская, колбаса – до войны. Бутерброд с такой колбасой стоил столько, сколько бутерброд с черной икрой. Но это была все-таки не та колбаса. Был утрачен вот этот личный, что ли, интерес в этом продукте. Ведь специально от Шустова из Армении в огромных бутылках, я просто видел эти бутылки, они стояли у нас на чердаке, огромные, в мой рост бутылки, оплетенные ивовыми прутьями. На этом коньяке выдерживали долго эту колбасу. Она становилась твердой. Когда ее резали тонкими кусочками, она была прозрачной, светилась насквозь. Вкус был совершенно упоительный. Колбаса была продуктом уникальным. И вот на бренде магазина, на вывеске, «Колбасная торговля» – было написано с гордостью. Это не какая-то там немецкая колбаса, сосиски с капустой, а это было русское изобретение. Почему я говорю, что русское? – Потому что не было холодильников. Были большие переезды. Самолетов не было, да и поездов было не много. Поэтому люди часто ездили в каких-то санях, тележках, экипажах. Это были длительные переезды. И иметь с собой качественный продукт, который бы не портился в дороге, это было очень важно. Поэтому эта колбаса особенно ценилась. По вкусу, и по сохранности, и по тому аромату, неповторимому совершенно, который был в ней, – вот эти все качества делали этот продукт совершенно уникальным. Поэтому у прадеда было два магазина. на Покровской улице – с правой и с левой стороны.
* * *
В одном из наших магазинов открыли первый салон по продаже автомобилей. Там продавали «Победы» – тот самый легендарный автомобиль и немецкие «Опели». В будущем они назывались «Москвичи». Но это были просто немецкие «Опели», вывезли завод и производили здесь. Там продавали велосипеды, «ИЖИ» – мотоциклы. Мы забегали туда, смотрели. Это было потрясающее зрелище. Не знал я, что это наш магазин. И однажды бабушка, я, наверно, учился во 2-м или 3-м классе, пришла за мной, по-моему тогда отменили карточки и открыли первые коммерческие магазины. И напротив нашего магазина, где продавали автомобили… Кстати, в этом магазине свой первый автомобиль купил студент МХАТа Алексей Баталов. Он об этом говорил по телевидению и мне рассказывал. Купил автомобиль на деньги, которые дала его матери Анна Андреевна Ахматова, чтобы он прилично выглядел, студент, купил бы себе костюм. Вместо костюма он купил себе вот автомобиль в нашем магазине. Так вот, напротив этого магазина стоял другой магазин. И бабушка взяла меня за руку и повела в этот магазин. Это было наше первое посещение коммерческого магазина. Там была икра, ветчина, балык, лососина, то есть то, что мы никогда не видели и есть не могли. И цены были совершенно фантастические, заоблачные. Но об этом написано у Булгакова в романе «Мастер и Маргарита». И там тогда на последние деньги, которые у нее были, она купила два пирожных, одно мне. Я до сих пор помню это пирожное. Она с таким трепетом мне его передала. Для нее, наверно, это очень много значило. Это как бы возвращение на круги своя, туда, в детство, когда было все – было пирожное, была прекрасная жизнь.
* * *
Бабушкины приятельницы, старушки собирались, вечером приходили, не в дверь стучали, а под окном. Это был условный стук. Бабушка их встречала. И каждая из этих бывших людей, как они себя назвали – «мы бывшие», приносила что-то. Кто-то постный сахар, кто-то хлебушек, кто-то селедку. А одна, Анна ее звали, Нюшка, всегда приносила керосин. Где-то у нее была возможность достать этот керосин. Бабушка наливала керосин в огромную стосвечовую лампу керосиновую, которую поднимали, как люстру, зажигала ее. И освещался стол, и они вспоминали минувшие дни, вспоминали людей, которых они знали, говорили о тех, в кого были влюблены. Бабушка говорила: «Вот наш Сергей. Не знаю. Не знаю. Вот наш Всеволод…» Всеволод – это брат деда. Он умер от чахотки. Красивый молодой человек. «Вот наш Всеволод нисколько не хуже». Отец был тогда чрезвычайно популярный человек после картин «Цирк», «Василиса Прекрасная» и других – символ был страны, России того времени. Все эти беседы проходили шепотом. Эти люди были напуганы патологически раз и навсегда, и разговаривали только шепотом. Все время на полную мощность работал репродуктор картонный. Он работал и день, и ночь. Его нельзя было выключить, потому что утром поднимали на работу в 6 утра, по нему объявляли воздушную тревогу.
И продолжалось уже накануне второй войны, в 41-м. Я это говорю потому, что здесь, вот на этом треугольнике, между Большой Покровской, Хапиловской и Николо-Покровским переулком царило удивительное отношение к памяти, к памяти не героев даже, павших за Отчизну, а просто простых людей, которые здесь жили, работали в этих полях, жили в этих домах, отстраивали Москву. Это были простые люди, те самые люди, силами, волею которых и строилась Москва. Москва не сразу строилась – это верно. Вот они строили этот город. Я говорю об этом с болью и с огромной благодарностью вот тем людям, которые охраняли эту память. Здесь, вот на этом треугольнике, вот на этом месте, которое я для себя называю Никольский погост, прошло все мое детство. Я про это не знал. Мы здесь бегали, играли в свои мальчишеские игры. И здесь потом уже, возвращаясь через многие годы, я понял, что это совсем для меня непростое место. Поэтому меня сюда влечет. Мне хочется думать об этом удивительном, небольшом, но духовно для меня чрезвычайно важном куске земли. И когда я прихожу и вижу, что здесь по-прежнему растет трава, бурьян, нет никаких построек, хранится память, и опять я невольно возвращаюсь на круги своя, к тем людям, которых я не знал, и они меня не знали. И я ничего не могу о них рассказать. Но память о них жива в моей душе.
* * *
Для меня в книге архимандрита Дионисия было одно удивительное открытие: первое здание, единственное, которое было построено, по-моему, в начале XIX века, и построено по необходимости, – домик-просфирня. Нужны были просфоры для службы, для деятельности храма, для того, чтобы совершался обряд моления. И вот одной из первых просфирен была, как выяснилось, бабушка великого русского драматурга Александра Николаевича Островского. Для меня это было удивительное открытие, подтверждение целого ряда моих размышлений о русском языке, о русской речи, в частности о московской речи. «Я учусь русской речи у московских просфирин», – говорил Пушкин, который учился говорить и писал свои первые стихи на французском языке. «А как речь-то говорит? Словно реченька журчит». Это журчание естественное русской речи, хранится и живет в Москве. В Петербурге появились всякие французские слова, обороты, построение предложений, часто с немецкой грамматикой схожие. Появились выражения, свойственные бюрократии, – бюрократизмы, которую загрязняли эту речь. Вообще, русская московская речь отличалась от петербургской, как отличалась речь, допустим, Малого театра от Александринского театра. Другое произношение. По-другому произносились некоторые слова. И школа русской речи, в частности даже в профессиональных учреждениях, в театральных училищах была особая. И московская речь была узнаваемая. Московские обороты, московские образы – это неповторимый источник и родник именно московской жизни. Ведь Москва всегда была некой антитезой официальному Петербургу. Москва – это был свой, исконный, рожденный древними обычаями, привычками, традициями, русский город. Он не был европейским городом. Как писал Есенин: «Золотая дремотная Азия опочила на куполах». Здесь встречались Европа и Азия, и рождалась Россия. Здесь в чистоте содержался великий русский язык, обороты русской речи, неповторимые образы русской речи. Здесь слагался тот самый русский речевой этикет, особый, который ты чувствуешь, узнаешь, то, что мы сейчас утрачиваем. Это речь, которая живет в душе народа, которая слагается и хранится народом. Это тот родник чистоты, понимания образа. Утратить язык – значит утратить свою самобытность, просто утратить нацию, утратить свою культуру. Я вспоминаю некие московские речевые обороты, которые жили в нашем доме, к несчастью, не записывал их, но мне запомнился какой-то чисто московский оборот, когда мне перешили рубашку, мне нечего было носить, и она оказалась велика. Бабушка увидела меня в этой рубашке и сказала: «Да что ж вы ему рубашку-то дали, как на Минина и Пожарского». И потом рубашку мне переделали.