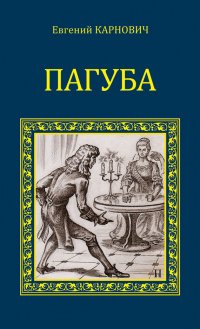
Читать онлайн Пагуба (сборник) бесплатно
- Все книги автора: Е. П. Карнович
I
В небольшой, но опрятно убранной комнате, на одной из многочисленных и скромных лифляндских мыз[1] сидели за дубовым чистым столом двое пожилых мужчин. Они составляли между собою совершенную противоположность по их внешности. Один из них, в котором легко было узнать хозяина, так как он угощал своего собеседника, был невысокий, здоровый и толстый весельчак с широкою грудью, короткою шеей и выдавшимся брюхом. Несмотря на свои почтенные годы и тучность, он отличался проворством и ловкостью. Часто во время разговора он или, вскакивая с места, смеялся от души, то отмахиваясь обеими руками, то держа ими свое дрожавшее от смеха брюхо, или, оставаясь сидеть, сильно притопывал об пол своими короткими ножками в такт хохоту. Иногда, после громкого хохота, он отваливался на спинку кресел и с трудом дышал, как будто только что сбросил с плеч тяжелую ношу.
Другой собеседник — гость — был не столько высокий, сколько долговязый и поджарый, с коротким туловищем, с выпяченною искусственно грудью, на худеньких и тонких, точно жерди, ногах, и прежде всего напоминал собою журавля. Сидя на креслах, он беспрестанно вытягивал вперед свои ноги, обутые в высокие кожаные краги. Худощавое, с множеством мелких, неглубоких морщин, вроде продолговатых насечек, и с вытянутыми щеками лицо; лоб с высокими взлизами и глубоким вдоль его шрамом; орлиный, но вместе с тем аляповатый нос; впалые большие серые глаза под седеющими густыми бровями и, наконец, длинные и густые опущенные книзу усы с сильно пробивавшейся проседью, придавали этому гостю воинственный вид. Одежда его соответствовала как нельзя более этому виду. На нем был военный мундир тогдашнего немецкого покроя, из темно-зеленого сукна, с небольшим отложным воротником красного цвета, с мелкими круглыми пуговицами, и узкие лосиные панталоны; а на затылке болталась, словно маятник, то в ту, то в другую сторону, небольшая, плотно свитая косичка. Сбоку у него висел на белых ремнях с огромным эфесом большущий палаш[2], который беспрестанно грохотал, стукаясь об пол, и который он по временам ставил между колен, складывая на его рукоятке свои жилистые руки или упираясь на него его гладко выбритым острым подбородком. К грохоту палаша примешивалось очень часто и звяканье огромных шпор. На столе перед ним лежали белые лосиные перчатки, небольшая треуголка тогдашней формы, с поднятыми с трех сторон полями, а оторачивавший их золотой галун показывал людям, знавшим толк в тогдашней военной форме, что лицо, которому принадлежала треуголка, было особой штаб-офицерского ранга. Гость, говоривший, как и хозяин, по-немецки, произносил слова резко и отрывисто и порою так строго упирал свои глаза в собеседника, что тот, если и не трусил своего приятеля-гостя, то все же весьма заметно проникался к нему уважением, отзывавшимся сознанием какой-то дисциплины. В это время он дружеское «ты» заменял обращением к своему собеседнику на «вы», прибавляя слова «высокородный господин, герр майор, герр фон Шнопкопф» и т. п., и веселость его на несколько времени замирала.
При разговоре двух старых приятелей присутствовало еще и третье лицо, которое собственно нельзя было назвать собеседником. Это был мальчик лет одиннадцати — красивенький белобрысенький немчик. Видно было, что на него майор производил чрезвычайно сильное впечатление. Он превращался весь в слух, стараясь не проронить ни одного слова, произносимого воинственным гостем; но лишь только гость хотя случайно обращал на него свои глаза, мальчуган жался, ежился и как будто хотел куда-нибудь спрятаться от этих серых глаз, словно проникавших во все его помыслы. Очень бы хотелось подростку Фридриху подержать в руках или хоть потрогать блестящий палаш майора, надеть на свои маленькие руки его огромные перчатки с раструбами и его треуголку, но об этом нельзя было и подумать: майор смотрел так грозно, что при одной мысли о дерзостном прикосновении к его амуниции у мальчугана опускались вниз руки, чрезвычайно шаловливые в другое время.
Беседуя со своим приятелем, майор порою вынимал вставленную в один конец его рта коротенькую глиняную голландскую трубочку, из которой он с наслаждением тянул дым, слегка пошлепывая губами, как будто смакуя вкус той горечи, которая лезла ему в рот. Такие трубочки были тогда в Европе во всеобщем употреблении и со времени Петра расплодились и у наших солдат под названием «носогреек». Майор курил крепчайший кнастер[3], от которого даже у него, несмотря на всю его привычку к этому снадобью, по временам мутило в глазах и в них начинали вертеться зеленые, синие и красные круги. Время от времени майор протыкал набитый плотно в трубку кнастер длинной медной спицей, привешенной к трубочке.
— Его курфиршское высочество, — рассказывал майор своему хозяину, — соизволил отдать тот отряд, к которому я принадлежал, в распоряжение его величества короля шведского Карла XII[4], и я, таким образом, участвовал в победоносной для шведов баталии под Нарвой[5]. Побывал я потом в Польше, а затем пришли мы в Малороссию — страну очень хорошую, где можно жить и продовольствовать войско очень дешево. Под Нарвой меня прокололи вот сюда пикой, — майор дотронулся рукой до левого бока, — но так как мы остались победителями, то раненые наши, в том числе и я, не были взяты в плен. Совсем другое вышло под Полтавой[6]: там мы были разбиты русскими, и я, раненный пулею вот сюда, — майор высоко задрал вверх правую ногу и указал на ее щиколотку носком левой ноги, — был взят русскими в плен.
Так как Шнопкопф рассказывал теперь о своих военных деяниях, то требовалось оказать ему особенное уважение, и вследствие этого хозяин изменил свое приятельское обхождение с майором на почтительное.
— Ведь вы, господин майор, были взяты в плен вместе с его сиятельством господином графом фон Левенвольдом[7], моим земляком и почти соседом? — полунапоминая и полурасспрашивая своего собеседника, Сказал хозяин. Хотя он очень хорошо знал это обстоятельство, рассказанное ему уже майором, но не упускал случая повторить этот вопрос, так как этим он давал майору повод завести сетования на испытанные им, Шнопкопфом, неудачи по службе, а майор, будучи совершенно одиноким человеком по своему семейному положению, любил разговором об этом предмете с близкими ему людьми хоть несколько отвести свою скорбящую душу.
— Да, но он был тогда простым драгуном и моложе меня на много лет, а теперь какая между нами разница? — хотя и с грустью, но без малейшего проявления зависти проговорил старый служака.
— Но как же он так далеко ушел? — спросил хозяин.
— Через карты и через женщин, — проговорил вполголоса майор, вытянув вперед шею по направлению к хозяину и полагая, что при таких предосторожностях он охранит от всякого соблазна присутствовавшего при этом разговоре мальчугана.
Хотя Фридрих не имел никакого понятия о карточной игре, а тем менее мог себе представить ту огромную и бешеную игру, какую вел Левенвольд в Петербурге, и хотя он, по своему детскому возрасту, не в силах был без постороннего истолкования домыслиться, каким образом можно через женщин выходить в знатные люди, но тем не менее, как это часто случается в детстве, слова майора «женщины» и «карты», хотя и без сознания их настоящего значения, запечатлелись в памяти Фридриха вместе со столь часто повторявшимся в доме отца его именем Левенвольда, о котором говорили как о необыкновенно счастливом человеке.
— Да и что для нас, немцев, значит военная служба? — как бы спросил самого себя с оттенком грусти старый рубака. — Разве мы служим нашему отечеству? Мы служим только тому знамени, под которое то сегодня, то завтра поставит нас слепая судьба.
Майор быстро выдернул изо рта трубку, положил ее боком на край стола и, загремев палашом, встал с кресла и вытянулся во весь рост.
— Я верою и правдой служил тем знаменам, под которыми находился, — торжественно проговорил он, подняв к потолку правую руку, как для присяги. — По повелению моего всемилостивейшего государя данную ему военную присягу я перенес на его величество короля шведского. В сражении под Полтавой меня взяли в плен русские, но не захватили меня, как труса, — я лежал на поле битвы с простреленной ногой и без памяти, ошеломленный ударом сабли по лбу. Плен при таких не позорных ни для какого воина условиях освободил меня от обязательства перед королем шведским, и я получил полное право выбрать себе новое знамя.
Так как майор произносил все это с горячностью и убеждением, стоя на своих длинных ногах, то хозяину показалось неприличным оставаться сидя, и он счел нужным также встать и при этом наставительно подмигнул мальчугану, который вскочил со своего стула; таким образом, вышло нечто торжественное.
— Его величество царь Петр Алексеевич[8], — продолжал майор, — умевший ценить славу и понимавший несчастье людей, обласкал нас, пленных, и предложил тем, которые могли считать себя вправе отречься от присяги королю, вступить в его царскую службу. Я был свободен и с чистою совестью присягнул военному знамени русского царя; до русских же мне не было, собственно, никакого дела, я их и знать не хотел, но по повелению царя я всегда и на всяком месте сумел бы умереть за него, как следует честному солдату, и соблюду этот долг до тех пор, пока буду служить знамени, которому присягнул.
— О, я знаю, ты честный служака, — подхватил хозяин, обращаясь к майору, медленно, со стуком палаша опускавшемуся в кресло.
— Мне, впрочем, русская служба не совсем чужая; еще дед мой служил в иноземном войске в Москве при тамошнем царе, — не помню теперь, как его звали, — да убежал оттуда, — продолжал майор.
— Значит ты, дорогой Ульрих, не в него пошел. Плохой он, видно, был служивый!
— Нет! — с жаром вскрикнул майор, — и я то же самое сделал бы на его месте. Дед мой был обязан повиноваться только воинскому уставу, а ему вдруг захотели отрезать нос…
Хозяин изумился, а мальчуган встрепенулся и с напряженным любопытством навострил уши.
— Отрезать нос? — сдерживая с трудом подступивший к горлу хохот, спросил хозяин.
— Да, ему хотели отрезать нос по указу главного московского попа, которого называли патриархом, — с негодованием заговорил майор, — и хотел его так наказать за то, что он курил табак, ну, а такому закону он не обязывался подчиняться. Он должен был повиноваться только своему начальству, а тут, как оказалось потом, вмешались, по подозрению, русские попы. Что они за командиры немцам?
— Да, да, совершенная правда, — поддакнул хозяин.
Майор хотел было продолжать, но его собеседник готовился разразиться хохотом. По лицу хозяина уже начало скользить судорожное подергивание — предвестник неудержимого хохота. Он хотел как-нибудь предупредить его взрыв подходящею шуткою, так как засмеяться только рассказу майора было бы крайне неприлично.
— А большой был нос у вашего дедушки? — вдруг спросил хозяин и захохотал уже во все горло.
Мальчуган, который до сих пор слушал рассказ Шнопкопфа не без ужаса, вдруг на всю комнату прыснул от смеха.
— А ты, сшенок, как отваживался смеяться над законом? — вдруг на ломаном русском языке обратился майор к Фридриху, грозя ему пальцем. — Я буду тебя научивать, как следует уваживать закон! — с запальчивостью гаркнул майор.
Мальчик, не понимая, на каком языке так грозно заговорил майор, вскочил, оторопевши, с места, а хозяин от изумления разинул рот.
Майор, строго взглянув на своего собеседника, принялся объяснять ему то, что сказал по-русски Фридриху, и стал внушать, что дисциплина требует, дабы молодые люди не позволяли себе издеваться над тем, что устанавливают или требуют старшие, кто бы они ни были, хотя бы и русские попы, и что если он, майор, мог осуждать закон, как человек взрослый, порядком поживший на своем веку, то все же молокососы, подобные Фридриху, должны держать себя чинно при старших и только почтительно слушать, что говорят эти последние, не выражая при этом даже знаков одобрения, а тем еще менее имеют они право выражать знаки порицания.
Хотя и должно было показаться слишком странным, что немец-майор вдруг, ни с того, ни с сего, заговорил с Фридрихом по-русски, но это объясняется очень просто. Подогретый уже разговором о святости воинского долга, майор невольно перенесся мыслью в ту среду, в которой он вращался уже двадцать восемь лет, — в среду своих подчиненных из русских, и начал в каком-то полузабытьи делать нагоняй Фридриху на русском языке по привычке, так как этот язык почти исключительно употреблялся им в подобных случаях. Нельзя, впрочем, не добавить, что раздражению вспыльчивого майора посодействовала и насмешка над дедушкиным носом.
Шнопкопф мог быть признан одним из главных типов немецких воинов прошлого века. Мог он, вместе с тем, — при отсутствии в ту пору так называемых ныне «политических принципов», — считаться и типом простого, честного солдата. Надобно сказать, что в это время мелкие владетели разрозненной Германии обратились, между прочим, в поставщиков «пушечного мяса». В их резиденциях беспрерывно слышались и наигрывание охотничьих рожков, и грохот барабанов, и под эти надоедавшие местным жителям звуки и стукотню обучались военным экзерцициям[9] верноподданные герцогов, князей, маркграфов, ландграфов, пфальцграфов[10] и т. д.
Достаточно обученные военной выправке и военным приемам, они то оптом, то в розницу сдавались в временное распоряжение разным верховным правителям, имевшим надобность воспользоваться наемными воинскими силами. Такие сделки, — как обыкновенные имущественные сделки, — заключались своего рода нотариальным порядком. Один владетель обязывался другому выставить, под страхом денежной неустойки, к такому-то сроку такое-то число гренадеров, драгун, кирасиров, бомбардиров, драбантов и других всякого приспособления военных людей. Получивший же их во временное пользование другой владетель обязывался возвратить всю эту рать «в целости» ее собственнику, но так как болезни и баталии не обращали внимания на святость и на нерушимость подобных договоров о сохранении чужой собственности, отданной только на время, а не окончательно, то в договорах об этом постановлялось, что настоящий владелец должен за утрату или порчу его воинства получить известное денежное вознаграждение. Весь могущий произойти при этом ущерб был расписан по статьям с немецкою аккуратностью. Постановлялось, что за полегшего «на поле чести» фендриха должно быть заплачено столько-то, за ефрейтора столько-то, за капрала столько-то и т. д.; провиделась также возможность различных увечий и поранений, причем производима была предварительно их оценка. Ценились тут руки, ноги, глаза, зубы, нужные солдату, чтобы скусывать ружейный патрон; перечислялись тут и] другие увечья, делающие всякий воинский чин неспособным к дальнейшему отправлению его боевых обязанностей. Затем уши и нос не входили в оценку, так как истинно храбрый воин мог бы обойтись и без них.
В одну из таких ратных поставок попал и Шнопкопф, понявший уже слишком свято свою обязанность умирать или быть искалеченным ради денег, полученных его августейшим повелителем. Он усердно бил тех, на кого его натравливало начальство, и, в свою очередь, не раз был бит и мят сам куда как больно, собственно, ни за что, ни про что. Под Нарвой его, несмотря на победу со стороны той рати, к которой он принадлежал, вдобавок к той ране, которую он получил в бок, вздули еще шибко прикладом; под Полтавой его придавили чем-то тяжелым и стукнули саблей вдоль лба. Но все эти раны не шли у него в счет, и Шнопкопф вспоминая о них, только радовался, что имел случай выполнить свой священный долг перед тем знаменем, которому он принес присягу, хотя и недобровольную. Битва под Полтавой безупречно освободила его от прежней, слишком невыгодной для него присяги, и он, достигнув теперь в русской службе майорского чина, был по-своему доволен и если с некоторою грустью и вспоминал разницу между собой, незаметным еще майором, и блестящим гофмаршалом Петербургского двора графом Левенвольдом, красавцем и записным игроком, то вспоминал лишь как о примере, наглядно поучающем, что у судьбы есть и свои балуемые чада, и свои пасынки, к которым она относится совершенно равнодушно.
После русского окрика на легкомысленного немчика и внушения, сделанного его весельчаку-родителю насчет необходимости внедрять дисциплину в юные сердца, а также после согласия со стороны отца о пользе такой заботы, разговор весьма естественно перешел к вопросу о будущей судьбе Фридриха. Отец хотел приспособить сына к мирным сельским занятиям, но майор твердо и красноречиво настаивал, чтобы отец отдал будущего юношу в военную службу. При этом он растолковал, что военная служба в России — дело для немцев очень подходящее, и что если при нынешних условиях посвятить ей себя смолоду, то можно уйти куда как далеко — можно попасть не только в генералы, но, пожалуй, добраться и до фельдмаршала.
— Много немцев служит в русских войсках, но их в солдатах мало, почти все они состоят в офицерах, и немало есть также из них и полковников, и генералов, — говорил Шнопкопф. — Фридрих найдет себе в Петербурге хорошую немецкую компанию. Вот еще недавно учреждены в Петербурге два гвардейских полка, конный и Измайловский, в которые хотят принимать исключительно немцев. Да что и говорить — живется нам в России не худо! Фельдмаршал Миних[11] родом из Ольденбурга, а первое лицо при ее величестве, его светлость герцог Курляндский[12] — немец из ваших краев; а потом наберется еще много и других наших единоплеменников, состоящих в больших чинах.
— Да вот хоть бы один из моих земляков, — не без гордости вставил хозяин, — генерал Балк[13], как высоко зашел; значит, служил исправно.
Гость не поддержал на этот раз хозяина. Он не ответил ничего, но, вспомнив историю Монсов[14] и не слишком приглядный брак Балка с Матреной Монс[15], закусил нижнюю губу и отрицательно помотал головою, а на его строгом и честном лице выразилось неудовольствие. «По-моему, следует служить вовсе не так, чтобы дойти до генеральского чина, — подумал майор, — чин этот надо брать или в сражении, или на учебном плацу, а не иными способами».
— Через дочь свою генерал, как у нас говорят, и с царским семейством породнился, — продолжал хозяин, довольный тем положением, какое занял в России лифляндский дворянин фон Балк.
— Да, это правда, — равнодушно пробурчал майор, — царь Петр выдал его дочь Наталью за двоюродного брата своей жены, господина Лопухина, человека очень богатого.
— Вот оно как! — радостно крикнул отец Фридриха. — Когда я, по твоему совету, буду посылать моего сына на службу в Петербург, то непременно достану ему письмо к госпоже фон Лопухиной от ее здешних родственников, господ Лилиенфельдов. Она станет оказывать Фридриху свое покровительство, и вот, дорогой Ульрих, ты увидишь, как сынишка мой далеко пойдет! — И заботливый папаша весело захохотал при этом полною грудью.
— Прежде чем искать ему дамских протекций, — сурово проговорил майор, — пусть постарается заслужить расположение своего военного начальства.
— Да ведь ты, любезный мой приятель, возьмешь его под свой надзор?
— И сделаю из него исправного солдата, если ты мешать не станешь. Будет дурно служить и не помогут увещания, так примусь и за фухтеля[16]. Шутить я не люблю.
— Ой! Ой! О! — вскрикнул хозяин, которому показалось, что и по его спине гуляет это исправительное орудие.
— Фридрих Бергер! — громко и повелительно крикнул Шнопкопф, встав с кресла.
— Фридрих Бергер! — еще повелительнее и еще громче позвал к себе майор мальчугана, который, после заданной ему русско-немецкой острастки, поспешил улучить благоприятную минуту, чтобы убраться от грозного майора.
Шнопкопф между тем надел перчатки и шляпу, подтянул пояс у палаша и принял внушительную позу в ожидании появления своего будущего питомца, который вскоре после второго зова в сильном волнении предстал перед майором.
Между тем старик Бергер в недоумении посматривал на майора, который в эту минуту казался ему и смешным, и грозным, так что он и сам не знал, что ему следует делать — хохотать или трусить.
— Ты должен на первый зоф являться по своему нашальству, — внушительно по-русски сказал Фридриху майор. — Нашальство требует тебя на караул, на тревог. Ты, как говоряйт русские, дерши всегда ухи остро.
Майор эту затвержденную по-русски речь, беспрестанно повторяемую им на службе, перевел теперь по-немецки, желая показать своим знанием русского языка, что он недаром получает свое штаб-офицерское жалованье и что он хоть и немец, но умеет учить русских солдат как следует, то есть прежде разъяснит им, что требуется от них, а потом уж взыскивает за неисправность.
Мальчуган стоял, словно вкопанный, но с тою распущенностью, какая бывает свойственна детям, которых мало школят.
Майор отступил задом шага на три от Фридриха, пристально смотря на него.
— Слю… шай!.. Смирно! — скомандовал он, но нежданный новобранец не понял русской команды и, растерянный, смотрел на Шнопкопфа.
Между тем майор, объясняя по-немецки Фридриху, что он от него требует, подошел к нему и начал кулаком подталкивать его подбородок, поднимая толчками, — на этот раз, впрочем, очень легкими, — вверх его голову. Потом, взглянув на него и заметив, что голова мальчика наклонена несколько в правую сторону, он стал тем же способом подавать ее влево до тех пор, пока не привел в такое положение, в каком голова солдата должна находиться во фронте.
Отец Бергер, посматривая на то, как майор выправляет его сына, и незнакомый вовсе с предварительными приемами военной муштровки, только удивлялся, пожимая плечами и покачивая в недоумении головою.
— Ты должен будешь служить исправно, честно и усердно; если же станешь шалить и не слушать начальства, то тебя, как сказано в воинском уставе, — можно будет «весьма шифота лишать через аркебузирование»[17].
Сказав это выражение, взятое буквально из русского воинского регламента, сперва по-русски, майор, для сведения и для надлежащего вразумения Фридриха относительно предстоящих ему по воинской службе обязанностей, разъяснил эти слова и по-немецки.
Малый струхнул не на шутку, и из глаз его выступили слезы.
— Я тебе, мой любезный друг, сделаю из него хорошего служивого, — обращаясь к отцу, самоуверенно сказал майор, слегка погладив Фридриха рукою по голове в виде начальственного одобрения.
— Я поручу тебе его в Петербурге, и там ты заменишь ему меня, — с чувством сказал отец.
— Знай наперед, приятель, что я по службе спуску ему ни на волос не дам, а во всех других случаях буду защищать его от притеснений и нападок и никогда не забуду, что он наш брат немец! — И майор протянул свою правую руку для дружеского пожатия с растроганным хозяином.
Шнопкопф пояснил Бергеру, что он, майор, назначен военною коллегией для осмотра и проверки военного обоза в полевых полках, расположенных в Лифляндии[18] и Курляндии[19], и что, проезжая для исполнения этого поручения невдалеке от его имения, не мог не взять несколько в сторону, чтобы повидаться хотя часок со своим старым другом. Затем он распрощался с хозяином.
— Когда на службе будешь прощаться со мною, — не преминул Шнопкопф внушить Фридриху, — то следует тебе держать руки по швам и сказать только: «Стравья шелаю, ваше высокоблагородие».
Майор, по существовавшему тогда по всей Европе среди военных людей обычаю, разъезжал и по проселочным дорогам не иначе как в полной форме. Только усевшись в бричку, да и то на ночь, он снимал с себя мундир, заменяя его, смотря по времени года, епанчею или тулупом, а треуголку — простою шапкой; но палаша не отцеплял никогда и возился с ним в дороге денно и нощно, твердо памятуя, что истинный солдат должен быть всегда в готовности к бою и что первым признаком такой готовности служит имение при себе надлежащего по роду службы оружия.
Майор выразил хозяину искреннее сожаление, что не мог засвидетельствовать своего глубочайшего уважения госпоже Бергер, его почтенной супруге, которая с двумя взрослыми дочерьми уехала в гости, и просил ее мужа исполнить это за него.
Гремя своим палашом на всю мызу, майор взобрался в бричку, уселся в ней на разостланном сене и отдал провожавшим его отцу и сыну прощальный поклон по военному уставу. Почтарь протрубил в рожок, хлестнул лошадей длинным бичом, и бричка быстро выкатила из ворот на дорогу.
II
Проходил незаметно год за годом. Майор Шнопкопф, доказавший не раз свою честность и добросовестность по делам службы и по казенному интересу, продолжал исполнять поручение военной коллегии в Лифляндии, осматривая полковые хозяйства расположенных там войск и собирая справочные цены по поставкам фуража и провианта. При этих поездках он, если только представлялась к тому какая-нибудь возможность, всегда навещал своего старого друга. Беседы между ними при каждом свидании шли на старый лад и оканчивались внушениями майора определить Фридриха в один из полков, стоявших в Петербурге, и отдать его под строгий надзор майора, так как подраставший мальчик, будучи на свободе, может до того избаловаться и испортиться, что потом, пожалуй, ни к чему уже не будет годен.
Самого Фридриха в это время майору муштровать уже не приходилось, так как отец, видя, что с взрослым парнем нет в доме никакого сладу, отправил его в Ригу. В Риге этот подросток, у которого уже начали пробиваться усики, сперва принялся только заглядываться на смазливых немочек, а потом и волочиться за ними. Он стал посещать пивные, погребки и разные увеселительные места, а когда приехал на каникулярное время на мызу, чтобы отдохнуть, и отец с своей стороны думал к нему обратиться с родительскими увещаниями относительно его разгульного образа жизни, то Фридрих и ухом не повел.
— Ты мне, батюшка, вместо того, чтобы читать пустые нравоучения, дай лучше побольше денег и отпусти меня в Петербург; там я и поступлю в кирасирский полк[20], — говорил отцу Фридрих, выросший, несмотря на свои только шестнадцать лет, чуть ли не на целую сажень. — В Ригу весною приезжал сын тамошнего аптекаря, пожалуй, не старше меня годами, а говорит, что он уже вахмистр, так что не сегодня-завтра будет корнетом[21], а я-то что ж у тебя без толку кисну?
Собственно, Фридриху служить не очень хотелось. Каждый раз при мысли о службе перед ним вставал призрак грозного майора, посвящавшего его лет пять тому назад в воинскую службу толчками под подбородок, но ему показалось слишком обидным его положение сравнительно с положением аптекарского сына. На него, как на школьника, никто не обращал никакого внимания, тогда как на проходившего по рижским улицам кирасира, громко стучавшего палашом, заглядывались и дамы, и девушки, и тут-то Фридриху отчетливо уяснились схваченные им прежде на лету слова о Левенвольде, сделавшемся счастливым человеком через женщин.
Если прежде Бергер не очень желал определять своего сына в военную службу, то теперь, видя, что Фридрих делается беспорядочным кутилою, он обрадовался заявлению его, хотя и жаль ему было расстаться с накопленными — правда, в очень умеренном количестве — русскими рублевиками и немецкими талерами.
— Поезжай с Богом в Петербург, все равно ты теперь не живешь на моих глазах, — вздохнул старый немец, — а я попрошу господина майора фон Шнопкопфа, чтобы он наблюдал за тобою. Я стану высылать ему деньги, следующие на твое содержание, а он будет выдавать тебе их по мере надобности и по представлении тобой отчетов о расходах.
— Как же! Так я и захочу зависеть от этого старого хрыча! Да я к нему и не пойду вовсе.
Старик только пожал плечами, озабоченный тем, как устроить ему в полку Фридриха без содействия и руководительства со стороны уважаемого им господина майора.
— Добудьте мне только рекомендательное письмо к госпоже Лопухиной[22], а в Петербурге я сумею устроиться и сам, без Шнопкопфа, — сказал самоуверенно Фридрих, имея в виду счастливую долю графа Левенвольда, о котором ему так много толковали в Риге, и не принимая в расчет, что Рейнгольд Левенвольд был такой красавец, каких редко можно встретить, а он, Фридрих, был ничего более, как только широкоплечий детина, пригодный по своей топорности только для кирасирского строя, но никак не для дамских будуаров, где требуется не только видная наружность, но и своего рода соблазнительные приемы и вкрадчивые речи.
Отец не умел противостоять требованию сына обойтись без майора, но тем не менее, уведомив Шнопкопфа, что он, Бергер, отправляет своего Фридриха в Петербург для определения в кирасирский полк, просил высокоблагородного господина фон Шнопкопфа хоть издали наблюдать за Фридрихом и в случае какой-нибудь могущей быть беды пособить ему и выручить его.
Завязав в замшевую мошну отсчитанную на первый раз отцом сотню рублевиков, Фридрих отправился в Петербург в чаянии той же самой радужной будущности, какая некогда ждала в Петербурге его земляка Левенвольда. Не менее, если еще не более, чем туго набитую мошной, дорожил Фридрих и рекомендательным письмом, добытым его отцом, к Наталье Федоровне Лопухиной, рожденной Балк, племяннице или родственнице известной Аннушки Монс[23].
Попасть в дом Лопухиной в качестве рекомендованного ее родственниками лица было для Бергера большой заручкой. В ту пору в Петербурге — как это, впрочем, велось и всюду — сословность имела большое значение для того, чтобы занять на первый раз известное положение в обществе. Бергер не был по рождению дворянином, и ему трудно было бы втереться даже в круг своих земляков, служивших в Петербурге и под влиянием аристократических понятий сближавшихся только с равными по происхождению.
Майор был уже настороже в ожидании скорого появления в Петербурге молодого Бергера, считая, что он, майор, получил над ним хоть некоторую долю родительской власти, и воображая его таким же трусливым, как прежде, мальчиком, на которого стоит только прикрикнуть, чтобы подчинить его строгой дисциплине. Но молодой немец стал уже совсем не тот, каким знавал его майор.
Бергер явился в Петербург в последние годы царствования Анны Ивановны[24], во время самого сильного могущества Бирона. Если положение, занятое в Петербурге Минихом, Левенвольдом и другими, хотя и менее важными, лицами из немцев, подстрекало их единоплеменников искать для себя в России и знатности, и богатства, и политического значения, то пример Бирона, вышедшего из ничтожества и ставшего на степень владетельного государя благодаря покровительству русской императрицы, еще более усиливал такое стремление, и Бергер явился в Петербург с твердым намерением так или иначе, но во всяком случае выйти на широкую дорогу, преодолевая все препятствия и не обращая внимания на те средства, которые могут привести его к желаемой цели.
В кирасирский полк он был принят беспрепятственно, поступив на службу, как это было тогда установлено для всех, простым рядовым.
Узнав об этом, майор Шнопкопф с нетерпением ожидал, когда к нему с должным решпектом[25] явится новый солдат. Майор с удовольствием воображал, как он заметит Фридриху какую-нибудь неисправность в обмундировке или в амуниции и стойке перед начальством, как он станет учить его по-русски установленным на службе выражениям и как он, обойдясь с ним сперва по-начальнически, будет потом обращаться с ним, как с немцем, по-дружески. Долго, однако, приходилось ждать старому служаке такой отрады. Дни проходили за днями, а Фридрих не только не является к своему покровителю, но даже и не думал о нем.
Старик Бергер неоднократно в своих родительски нежных письмах напоминал сыну, чтобы он явился к майору, который очень огорчается таким невниманием к нему Фридриха и пишет, что он никогда не ожидал такого к себе пренебрежения со стороны молодого человека, которого, как он это очень хорошо помнит, он, майор, первый посвятил в основы воинских приемов и воинской субординации. Все напоминания старика об обидчивом майоре были, однако, напрасны, да и кстати ли было думать Фридриху о каком-то ничтожном майоре, если он надеялся и даже был уверен, что гораздо скорее и легче пробьет себе дорогу по службе иными, более надежными способами.
III
Дом Лопухиных, в который так порывался открыть себе доступ молодой лифляндец, громко звучал по своей древности и по родству с царским семейством. Он был известен и по тем бедствиям, которые фамилия Лопухиных испытала несколько лет тому назад. Главный, недавний его представитель, брат царицы Евдокии Федоровны[26], Авраам Федорович Лопухин[27], человек надменный и невежественный, держал сторону царевича Алексея Петровича[28], но царь Петр расправился с ним жестоко: голова боярина отскочила на плахе 9 декабря 1718 года.
После него главным представителем фамилии Лопухиных остался родной племянник казненного, Степан Васильевич[29]. Петр послал его учиться морскому искусству в Англию, и надобно полагать, что после этого ученья молодой Лопухин сделался хорошим моряком, так как он командовал фрегатом «Феникс». Служил он и по дипломатической части, но, несмотря на все это, личность его представлялась не только не выдающейся из ряда личностей заурядных, но можно сказать, была ничтожной. Как моряк старого времени, он усвоил себе общую, господствовавшую тогда не только в русском, но и в других европейских флотах слабость — любил крепко выпить, и неумеренные его попойки отозвались с годами мучительными припадками подагры. Как моряк, он был нелюдим и обществу женщин предпочитал товарищеский кружок, в котором главным условием времяпровождения была изобильная выпивка венгерского. Изнуренный недугами, он не хотел оставаться в Петербурге и большую часть года жил в своей подмосковной деревне.
Несмотря на это, дом Лопухина и без хозяина мог бы быть открытым и приятным домом, так как хозяйка его, Наталья Федоровна, могла, по своей любезности и светскости, заменять отсутствующего мужа. Но ей было теперь не до того. Из любви к избраннику своего сердца она отреклась от всех светских развлечений, редко выезжала куда-нибудь, а у себя принимала лишь немногих близких людей.
Попасть в дом Лопухиной Бергеру, небогатому и без всяких родственных связей молодому человеку, было делом нелегким, а между тем ему именно этого всего более желалось. В кругу молодежи он много наслышался о Лопухиной. Говорили часто в Петербурге о том, как ее красоте завидовали не только дамы, но и цесаревна Елизавета, которая в свою очередь, слыла сама замечательною красавицей и при этом была шестью годами моложе Лопухиной, так что, по-видимому, зависть к красоте хотя еще и молодой женщины, но у которой подрастали дети, наглядно выдававшие ее годы, зависть со стороны девушки, только что расцветшей, казалась неуместной. Рассказывали также, что петербургские дамы старались как-нибудь походить на Лопухину, подражая ее нарядам и манерам. Вдобавок к обворожительной красоте, главною прелестью которой были необыкновенно чудные, темные и томные глаза, Лопухина была умна и образованна, а такими придатками не могли похвалиться тогдашние русские барыни.
Быть может, много думавший о себе кирасир и мечтал покорить себе сердце женщины, о которой так много говорили в Петербурге, и тем самым обратить на себя внимание, так как вообще сердечные связи с такими женщинами, как Лопухина, придают в обществе мужчине своего рода почетную известность, и он становится предметом внимания других женщин. Сближение с Лопухиной могло представлять еще особое удобство: муж дал ей полную волю жить, как она хочет, так как женился на ней, а она пошла за него вовсе не по страсти. Чету эту обвенчал, не спрашивая ее согласия, сам Петр, и было неудобно отказываться от его сватовства, в особенности же когда он, будучи сватом, желал быть еще и маршалом на предстоящей свадьбе. Но если в этом случае муж Натальи Федоровны не мог быть для волокит никакой помехой, зато являлась со стороны другая помеха, которой, можно с уверенностью сказать, не преодолел бы никто.
Давно уже сошлась Наталья Федоровна с красавцем графом Левенвольдом и была верна ему непоколебимо. Со своей стороны, и он платил ей стойкою, незыблемою верностью, перед которою бессильны были искушения и красоты, и богатства. Это было не одним только предположением, но и действительностью. Екатерина высватала Левенвольду богатейшую в России невесту, княжну Варвару Алексеевну Черкасскую. Левенвольд сгоряча не прочь был от такого брака, дававшего ему неистощимые средства для мотовства, расточительности и картежной игры, до чего он был такой страстный охотник; но, одумавшись, он предпочел остаться по-прежнему кругом в долгах и очень часто без гроша в кармане для того только, чтоб не прекращать своих сердечных отношений к Наталье.
Но и помимо вопроса о самой Лопухиной лифляндчику хотелось втереться в ее дом уже и потому, что там он мог бы близко познакомиться с Левенвольдом, кружившим его голову своими успехами у женщин, и, хорошенько присмотревшись к нему, наладить себя на его образец.
Доступ в дом Лопухиной отчасти облегчался Бергеру семейной обстановкой хозяйки. Принадлежа по отцу к лифляндской фамилии фон Балк, служившей, впрочем, России уже в двух поколениях, она и по матери, Матрене Ивановне Монс, не была чужда Лифляндии, так как ремесленник или виноторговец Монс приехал в Москву из Риги. И над семейством Монсов разразились страшные удары чисто романтического свойства. В Аннушку Монс Петр Великий был влюблен до безумия, и только Екатерина заглушила в царе кипучую любовь к Анне. Старшую сестру Аннушки, Матрену Ивановну, Петр выдал за генерала Балка, и от этого брака родилась Наталья, на которой царь женил Лопухина. Мать Лопухиной пострадала тоже. Когда Петру сделались известны отношения Екатерины к красавцу Виллиму, или Вильгельму Монсу, состоявшему камергером при императрице, то Петр, не без основания предполагая, что Матрена Балк содействовала близости этих отношений, отправил в ссылку генеральшу, приказав дать ей на дорогу десять ударов кнутом. Виллим же, как известно, погиб на плахе, но не по обвинению в нарушении того верования, что «супруги кесаря не должно коснуться даже подозрение», а по обвинению в лихоимстве. Он был приговорен к отсечению головы за то, что будто бы, пользуясь доверием государыни, нарушил такое доверие, доставляя за взятки недостойным лицам должности и покровительство государыни, которая, будучи вводима им в заблуждение, в свою очередь невольно вводила в заблуждение и самого государя.
Так как Бергер все-таки не являлся к Шнопкопфу, то майор стал стороною наводить справки о строптивом кирасире; но как велико было огорчение старого служаки, когда он узнал, что молодой солдат и без помощи его оказывался исправным и толковым служивым. Он прекрасно ездил на коне и, будучи фланкером, отлично держал линию и как нельзя лучше проделывал разные эволюции и палашом, и карабином, так что вскоре за успехи по фронтовой части был произведен в вахмистры, а это звание в ту пору для человека, хотя бы и немца, но не имевшего, по-видимому, никакой протекции, могло считаться большим успехом по службе.
На представившегося Лопухиной, с письмом от госпожи Лилиенфельд, Бергера генеральша не обратила особенного внимания, да и после изящного во всех отношениях Левенвольда Фридрих, не более как только молодцеватый, но неотесанный кирасир, не мог показаться ей ни красавцем, ни даже привлекательным юношей. Бывая, хотя и редко, в доме Лопухиной, он мало-помалу приятельски сошелся с ее сыном Иваном, который в год приезда Бергера в Петербург был юношей лет восемнадцати. Бергер начал с того, что стал оказывать молодому Лопухину свое покровительство по части разных развлечений и сделался товарищем его похождений. Последствием таких похождений была тесная между ними дружба, причем Фридрих руководствовался двоякими соображениями: во-первых, Лопухин был богатый и тароватый юноша, и, следовательно, открылась возможность кутить на его счет; а во-вторых, Бергер мог рассчитывать, что такой знатный боярский род, как род Лопухиных, не останется же вечно в загоне и что со временем он, Бергер, может найти себе в своем юном приятеле сильного покровителя.
IV
— Хотя я и немец, но я пошел бы арестовывать его высочество герцога Курляндского, — горячился майор Шнопкопф в кругу своих немецких родичей, находившихся в военно-русской службе. — Арестовать его приказал бы господин генерал-фельдмаршал граф Миних, мой главный начальник, — продолжал рассуждать майор, смотря с своей особой точки зрения на обязанности воинского звания, — и я не имел бы права рассуждать, правильно или неправильно распоряжается его сиятельство, и только должен был бы исполнить его приказание. Но я не осмелился бы никогда арестовать его высочество принца Брауншвейгского[30], так как он был генералиссимусом и, следовательно, верховным начальником всей военной силы в России, и об арестовании его никто войску приказывать не смел, а нужно было, чтоб его уволил от его высокой должности тот, кто имел на это право. Тогда бы я арестовал и его, но только в таком случае, если бы это приказано было в порядке дисциплины. Генерал, офицер и солдат, получивший приказание от своего начальника, не смеет рассуждать — следует или нет исполнять то или другое, но только обязан слепо повиноваться.
Собеседники майора не входили в разбор происшедшего в Петербурге переворота с такой стороны, но только жалели, что немецкое господство в России кончалось, — говорили, что русские вообще, а русские солдаты в особенности, ожесточены против немцев и что этим последним теперь будет жить в России плохо; что не лучше ли ввиду этого подобру-поздорову убраться отсюда. Но майор рассуждал иначе, утверждая, что он служит военному знамени, а до всего прочего ему никакого дела нет и что он должен оставаться на своем месте, пока не получит «абшида»[31] в установленном порядке. Вместе с тем майор громко порицал низложение престола принца Ивана Брауншвейгского[32], которому присягнуло не только войско, но и вся Россия, а вместе с тем порицал, конечно, и переворот, произведенный в пользу цесаревны Елизаветы.
В таком настроении, неприязненном новому царствованию, Шнопкопф проходил по одной из петербургских улиц, когда по другой стороне он увидел идущих двух молодых людей, дружески разговаривавших между собою.
В одном из них майор тотчас узнал Бергера, другой, худенький и маленький, казавшийся почти мальчиком, был одет в партикулярное платье.
Майор сделал вид, что он не узнал своего давнего знакомого.
— Вахмистр! — громко крикнул он на всю улицу своим повелительным голосом; но оказалось, что вахмистр или не слышал, или только притворился, будто не слышит обращенного к нему зова, и ускорил свой шаг.
— Вахмистр кирасирского полка! — рявкнул майор еще громче и, не ожидая его поворота назад, сам пустился вдогонку улепетывавшему от него нижнему чину.
Все явственнее слышались Бергеру мерно отбиваемые майором шаги; все громче отзывались в его ушах и грохот палаша, болтавшегося около ног майора, и звяканье его огромных шпор, но Бергер и его спутник все-таки не останавливались. Наконец вахмистр признал невозможность скрыться от настойчиво преследовавшего его долговязого майора. Он приостановился и, став навытяжку, ожидал приближения грозного штаб-офицера.
— Кого ты имел честь встречивать? — спросил сурово майор.
Оторопелый Бергер молчал, видя перед собой того, кто еще в отцовском доме делал ему первые внушения о важности воинской дисциплины.
— Ты имел честь встречивать господин майор, и что ты должен был сделать? — говорил майор, колотя себя правою рукою в грудь и этим движением указывая на себя вахмистру. — И что ты долженствовал сделать? Ты долженствовал отдать мне воинскую честь, следующую по военному артикулу, — строго внушал майор, — и я за твою манкировку буду всаживать тебя на кордегард.
Вахмистр только моргал глазами.
— Господин фон Шнопкопф, — заговорил было по-немецки Фридрих.
— Теперь нет ни господин фон Шнопкопф, ни господин Бергер, а есть только господин майор и вахмистр. Да и на слушпе не говоряйт здесь по-немецки. По-немецки мы будем разговаривать потом с тобой в приват-компании. А вы, господин Фридрих Бергер, — начал вдруг на этом языке Шнопкопф, — избегали такой компании со мной.
— Простите меня за это, ваше высокоблагородие, но я, как нижний чин, не мог позволить себе явиться к вам, как к штаб-офицеру: вы могли принять это за дерзость с моей стороны, увидели бы в этом нарушение дисциплины.
— Неправда! Неправда! — замахал руками майор. — Я и твоему батюшке жаловался в письмах, что ты меня совсем знать не хочешь! Я после того, как ты явился бы ко мне с соблюдением всей дисциплины, принял бы тебя, как сына моего доброго приятеля. А с кем ты ведешь знакомство? — спросил майор, показав глазами на Лопухина, стоявшего несколько поодаль в ожидании, чем кончится столкновение майора с вахмистром.
— Это господин Лопухин.
— Господин Лопухин? Это знаменитая фамилия.
— Он сын генерал-поручика, а дедушка его по матери, лифляндец господин фон Балк, тоже генерал-поручик. Он был камер-юнкером при правительнице Анне, а теперь будет переименован в подполковники.
Расходившийся было майор присмирел и, оставив Бергера, подошел к его спутнику.
— Вы извините меня, ваше высокоблагородие, — сказал он, следуя тогдашней формуле обращения к лицам, которым оказывался почет, — что я позволил себе заставлять вам ожидать, но я должен был выговаривать нижнему чину, как нашальник. Вы сами были в военной слушпе и знаете дисциплину.
— Никогда я в военной службе и не думал служить, — отвечал небрежно Лопухин.
— Но мне господин Бергер сказывал, что вы бываете подполковником.
— Так что ж, что меня переименуют в подполковники? Я должен бы быть не только подполковником, но и бригадиром.
Майор, взглянув на юношу, требовавшего для себя таких высоких чинов без всякой предварительной службы в войске, только пожал плечами от удивления.
— Это мне бестии преображенцы подгадили, — продолжал Лопухин, — вздумали распоряжаться в государстве по своей воле[33]. Их ли это дело?
Майор обрадовался, увидя, что он наткнулся на человека, который сходственно с ним смотрит на обязанности войска. Он сделал знак рукою, чтобы Бергер подошел ближе.
— В самом деле, на что это походит! У нас в Германии, — начал горячиться майор, — никогда не бывал и бывать не может, чтоб зольдатен приходили ночью во дворец и сняли с престол государь! Ай, ай, ай! — удивленно выкрикивал майор, — да и приходили они на такой дело без знамени, как разбойники, и без своих шеф.
— Да, всем делом распоряжался выкрещенный жид Грюнштейн[34], сделавшийся теперь богатым и знатным господином, — перебил Лопухин. — Вот подите-ка!
На лице Бергера при воспоминании о Грюнштейне проявилось выражение досады, которую легко можно было объяснить завистью к счастью этого смелого пройдохи.
— Говорят, что хотели избавить от немцев, а теперь что? Немцев, правда, прогнали, а теперь стал всем распоряжаться Лесток[35], какой-то французишка из немцев, — вышло еще хуже. Эх-ма! — добавил Лопухин, махнув рукой.
— Зольдатен не должны были идти без своих шеф и без знамени! И как отваживался господин Лесток разрезывать барабан на кордегард[36], чтобы там не ударили тревог и сбор. Его за это следовало тут же закалывать через штыка, а если нет, то потом весьма шифота лишить через аркебузирование, — настаивал майор.
— Потолкуйте-ка с ними… Они и вас разрежут… Пойдем, Бергер! — крикнул Лопухин, обращаясь к своему спутнику. — Прощения просим, господин майор. Так вы недовольны вступлением на престол Елизаветы Петровны? — вопросительно добавил Лопухин.
— Как же можно быть доволен, когда сломали всю дисциплин зольдатен… — Но Лопухин не дал договорить майору и, подхватив под руку Бергера, пошел своею дорогой, а майор зашагал в другую сторону.
— А вот бы донести на него, — как бы шутя проговорил Бергер, обернувшись назад и увидя, что Шнопкопф отошел от них уже довольно далеко. — Досталось бы ему порядком!
— Никак ты, Федор Федорович, с ума спятил? Разве может сделать это честный человек? Да ему и на ум такие подлые мысли приходить не должны! — сказал удивленным голосом Лопухин, торопливо выхватывая свою руку из-под руки Бергера.
— Тебя бы и в свидетели поставил, — как будто отшучиваясь, продолжал Бергер.
— Не пошел бы я на такое мерзостное дело и в свидетели, а если бы пришлось мне показывать, то показал бы против тебя, а не против майора. Он человек хороший, если говорит то, что думает, и выдавать таких людей не следует, хотя бы на пытке стали допрашивать.
При этих словах Бергер смутился, но Лопухин, не смотревший на него, не заметил его смущения.
— Явился было здесь доносчик между офицерами, некто Камынин[37], — продолжал Лопухин, — родственник вице-канцлера Головкина, и сообщил ему, что против бывшего регента составляют заговор, а Головкин поспешил передать об этом Бирону, и те, на кого был донос, жестоко пострадали, хотя и не были ни в чем виноваты…
— Ну, а Камынину что было за это? — торопливо спросил Бергер.
— Разумеется, наградили, — с досадой проговорил Лопухин, — да что в том пользы? Все честные люди отворачиваться от него стали, у всех в презрение вошел, да и недолго ему благоприятствовало счастье: обоих его покровителей, и Бирона, и Головкина[38], в Сибирь турнули, а затем уже никто с ним, как с доносчиком, никакого дела иметь не хотел, и на совести-то у него злое дело навеки осталось.
— Гм, — пробормотал себе под нос Бергер.
— Да еще к слову скажу тебе, Федор Федорович, уж коли валиться с коня, так валиться с хорошего, а что тебе дадут за жалкого майора? Уж поймал бы какую-нибудь важную птицу, а то эка невидаль — майор какого-то полевого полка! Да он и весь-то ничего не стоит!
Бергер призадумался.
— Ведь это, разумеется, я шутя говорил. Пойду ли я в доносчики! Худо ты, брат Ваня, меня знаешь, — проговорил он.
— Понимаю, что это шутка, да шутка-то глупая; ведал бы я, что ты думаешь это на самом деле, так я не только дружбы с тобой не водил бы, а видеть бы тебя не захотел. Скажу тебе только одно: вперед такими пакостными шутками не шути!
— Бросим этот разговор. Правда твоя, шутка эта мерзкая, а ты вот что мне скажи. Настенька Ягужинская, которую я видал у вас раза два в доме, кажется, родная племянница того Головкина, о котором ты говорил?
— Да, дочь сестры его Анны Гавриловны[39], которая была замужем за графом Павлом Ивановичем Ягужинским[40], а теперь, как говорят, выходит за Михайлу Петровича Бестужева-Рюмина[41].
— Эх, славная девушка! — лакомо проговорил Бергер.
— И девушка-то славная, и богатая. Вот бы тебе, Федор Федорыч, невеста — лучшей и искать нечего! Я знаю, через кого я бы ее тебе посватал.
— Куда уж мне до нее! — с притворной скромностью отозвался Бергер, думавший, однако, о себе самом слишком много.
— Как куда? Да чем же был лучше тебя, например, граф Андрей Иваныч Остерман[42]? Такой же бездомный немчура, как и ты, а женился же на Марье Ивановне Стрешневой, приходившейся еще царской родственницей, а ведь Ягужинские сами по себе неважные господа. Через некоторое время и ты в люди выйти можешь. Ты малый не промах.
— Где же выходить мне в люди! Вот третий год служу в нижних чинах. Попал в вахмистры, а в офицеры пробраться не могу, а уж, кажется, пора бы…
— Ну, ну, утешься, скоро и офицером будешь, а теперь пойдем поиграть на бильярде, а оттуда махнем в веселый дом[43], посмотрим, что там есть новенького.
— Денег-то у меня нет, — вздохнул Бергер.
— Ну, об этом не беспокойся, у меня они найдутся, — сказал Лопухин, запуская руку в карман своего кафтана и звякая лежавшими там в кошельке червонцами. — Ты, брат, лихой товарищ на всякую гулянку, и на таких, как ты, молодцов денег мне тратить не жаль, а их у меня, слава Богу, довольно.
Спустя недели три после встречи майора Шнопкопфа с вахмистром Бергером первый был неизвестно почему выписан из Петербурга в полк, расположенный около Воронежа, а последний был произведен в корнеты конной гвардии.
V
«От жены моей не токмо в супружестве непозволительные обиды имею, но и прочие, закону христианскому противные поступки ею чинятся», — читал секретарь, докладывая присутствию Святейшего Синода поступившее в это духовное судилище прошение генерал-майора графа Павла Ивановича Ягужинского. По поводу этого прошения Синод выслушал также и экстракт из дела «о многих буйных и отвратительно-мерзких действиях графини Ягужинской в церкви, избах и на улицах». Синод приказал «инквизитору» допросить обвиняемую, а муж с своей стороны просил освященный собор «принять в рефлекцию, что она женою его быть не может». Видно было, что прошение, поданное обижаемым не в меру супругом, настрочил опытный в бракоразводных делах подьячий. В прошении этом были сделаны ссылки и на «Уложение», и на «Кормчую Книгу», и на «Духовный Регламент», и на «Воинский Устав»[44], и на разные сепаратные указы, так что графине, при такой опоре ее противника на законы, трудновато было отвертеться от таких проступков, которые требовали строжайшего возмездия по уставам, как мирским, так и духовным.
Из дела оказывалось, что Ягужинская сбежала из мужнина дома к какой-то дьячей жене, а потом сбежала к «беспутной» княгине Щербатовой. После этих двух побегов отправилась она в Рождественский монастырь, но в какой — мужской или женский — этого в деле не указывается. Чтобы сильнее затронуть нежные чувства отцов освященного собора, Ягужинский заявил, что он, «ввиду бесприкладных непотребств, важных продерзостей и скаредных поступков» своей супруги, «боится за своих птенцов». В особенности же генерал напирал на то, что жена его ночевала у садовника, «и то ночеванье, — говорилось в прошении, — может причитаться за чужой дом; господствующим неприлично в рабских храминах, вне своих палат — кроме великой и едва ли случающейся нужды ночевать». В подтверждение справедливости этого соображения приводилась «новая заповедь Иустинианова», гласящая: «Аще жена, не хотяща мужеви ея, вне дому своего, кроме родителей своих, нощь пролежит, брачному подвергают сотворяща тако разлучению».
В опровержение своей злоумышленности относительно такого поступка, расторгавшего, по закону благоверных греческих царей, не только в их владениях, но и в Петербурге брачные узы, Ягужинская, как докладывал Синоду секретарь, отговаривалась «меленколиею»[45]: «Была-де я в меленколической скорби, — отписывалась она, — а потому и за ночлежные мои поступки в ответе перед святыми отцами быть не должна».
Синод не расторгнул на этот раз брака, но только запретил с угрозами графине ночевать на будущее время вне дома. Но, должно быть, она не очень покорилась такому запрещению, потому что, докладывал секретарь, явилась «предерзостна и страшна». Тогда Синод взялся за нее покруче и определил: «Послать ее в Девич монастырь, в Александровскую слободу; а чтоб монастырю от ее житья напрасного истощанья не было, то продовольствовал бы ее супруг Ягужинский». Разумеется, что он не пожалел таких относительно ничтожных расходов на обуздание своей сожительницы. Девичий монастырь в Александровской слободе оставил по себе недобрую память. Он существовал еще во дни царя Ивана IV, который, как гласило предание, «вынужав оттуда благочестивых инокинь», сам в качестве игумена засел в этой обители со своими опричниками. Темные подвалы под монастырскою церковью были наполнены несчастными, обреченными лютым царем на муки и казни. В этой обители справлялись Иваном кощунственные потехи и игрища. Но теперь страшные предания уходили все далее и далее в глубь старины. Ушли из монастыря опричники, и взамен их снова заселили его жены и девы ангельского чина. Но и теперь от этой обители не веяло особенным духом кротости и милосердия, так как она была обращена в одно из главных мест заточения провинившихся в чем-либо мирянок. Со своей стороны, Ягужинский тем более мог рассчитывать на усмирение своей жены, что монастырь, куда ее засадили, считался «крепкожительным» в том смысле, что тамошняя мать игуменья никому спуску не давала, а непокорных всего чаще смиряла самым нещадным образом «шелепами», то есть длинными, в аршин с лишком, узкими, пальца в два с половиною, холстинными мешками, набитыми мокрым песком. При таком наказании смиряемую ослушницу ее сестры во Христе обнажали настолько, сколько это нужно было для удобного восприятия виновною на теле такой карательной и исправительной меры. Наказуемую растягивали чернички на скамье или на полу, крепко придерживая за руки и за ноги, а потом принимались шлепать с обеих сторон упомянутыми песочно-мокрыми дубинками, дававшими себя чувствовать сильнее самой крепкой палки и самой свежей, гибкой лозы.
Не боялась, однако, как видно, Ягужинская и мучительных шелепов, потому что и под их грозою она «упорствовала, воздвигла церковный мятеж, церковнику учинила озлобление» и, мало того, даже «метала иконы и крест с мощами». Выбилась наконец мать игуменья из сил. Монастырь, заведуемый ею, о котором прежде шла далекая молва, что при побывке в нем самые злобные волчицы обращаются в смирных овечек, стал терять теперь лестную для него известность. Принялись толковать, что тамошние инокини не покорствуют перед матерью игуменьей и что вообще там теперь все обстоит куда как неладно.
— И ума я не приложу, преосвященнейший владыко, что мне делать с ее сиятельством, — жаловалась, разводя руками и затем поправляя на голове свой клобук, мать-игуменья посетившему святую обитель епархиальному архиерею, в то время, когда его преосвященство перед своим отъездом сидел за приготовленной для него прощальной закуской. — Уж и отец-инквизитор от нее отрекся. «Ничего, мол, с ней, окаянной, не поделаю», — говорил он мне и сестрам. Каленым железом и плетьми пугал ее, а она не только ухом не ведет, но еще и на его особу с продерзостями накинулась, да накинулась, владыко, так озлобленно, что он, подобрав как есть рясу, поскорее от нее наутек. «Справляйтесь с нею, мол, как знаете», — махнул рукой, да и был таков. А чего только я и сестры с ее сиятельством не проделывали: и ежедневного корму, положенного от его сиятельства, по целым суткам не давали, а питали ее только сухим хлебом и водою; и в холодный темный подвал сажали, и в рогатке, и на цепи держали. Ничего не берет ее!
— Ну, а шелепа-то в ход пускали ли или небось трусили по графской плоти ее отшлепать? — глубокомысленно спросил архипастырь, вытирая краем скатерти усы и бороду.
— Э, преосвященнейший владыко, у нас, в нашей богоспасаемой обители, ни на какую плоть не смотрят. Радеем мы о душе, а не о грешном теле. Для меня все равно, что графиня, что княгиня, что княжна, что знатная боярыня или боярышня; ведь известно тебе, что мы сами в ангельском чине состоим, так что же нам смотреть на мирские отличия. Суета в них одна, да и только. Ни на одну из непокорных не извели мы столько шелепов, сколько на ее сиятельство.
— Да ты, мать преподобная, дуй ее всякий день, авось проймешь как-нибудь, да посматривай, чтобы шелепа была хорошо увлажены, а то как они подсохнут, то не так забористы бывают. Мне многие мати-игуменьи о том говорили.
— Уж что учить меня, преосвященный, — обидчиво пробормотала старуха. — Слава тебе, Господи, не первый год я игумствую и заготовку этих снарядов преотменно знаю. Трудно также бывает нам с нею, владыко, совладать; под шелепа добром нейдет, силою брать приходится. Вот еще на днях сестра Иринея на нее с ухватом ходила, — докладывала старица, указывая архиерею на здоровенную монахиню.
— Точно, ходила, преосвященный владыко, — подтвердила Иринея, кланяясь в пояс.
— Сам посуди, преосвященный, как нам трудно справляться с нею; силы у нас небольшие — бабьи, а мужского пола употреблять на это нельзя; во-первых, у нас его и не имеется, а вторительно — здесь обнажение телес бывает.
При этих словах молодая беличка, подававшая тарелку архиерею, вся зарделась от стыда.
— Доводить себя до этого не нужно, непорочность сохранять подобает, — промолвил наставительно архипастырь, направив свое поучение в сторону молоденькой белички и довольный тем, что имел случай преподать стыдливой юнице благое поучение косвенным образом и тем укрепить ее добродетель. — Дельно ты, мать Феодулия, рассуждаешь, — заметил владыка, — а все-таки потачки ей не давай, а для усмирения ее аки супостата ходи на нее всем христолюбивым воинством, — подсмеялся владыка.
— Слушаю, преосвященный, но наперед дерзаю доложить, что все бесполезно будет: под шелепами она ревет благим матом, лежа на койке — постонет, поохает, а там, глядишь, все ей нипочем. Задай ей сам, преосвященнейший владыко, хорошего трезвону, авось твоего святительского гласа послушает, — жалобно пропищала мать игуменья.
— Как же! Послушает она меня, если и перед Святейшим Правительствующим Синодом чиниться посмела буйственной! Не хочу я ее видеть; еще, чего доброго, мой архиерейский сан опозорит. Вожжайся с ней, как сама знаешь! А мне что с бабами путаться — не черничка она!
— Умилосердись над нами, сиротами, преосвященнейший владыко, убери ее от нас, не наводи срамоты на святую нашу обитель, — слезно проговорила мать-игуменья и бухнулась в ноги преосвященному. Примеру ее последовали находившиеся тут же другие монастырские власти: казначея, эклезиарха, хлебодарка, виночерпия и старшая уставщица.
— Господи, Господи! Эко, подумаешь, наказание! — бормотала, приподнявшись с пола, мать-игуменья, поддерживаемая под локоть казначеею.
— С чего ты, мать Феодулия, так нюнишь? — заговорил, вставая из-за стола, Амфилохий. — Держи обитель в грозе, так и все в порядке будет. Вот царь Петр Алексеевич, так тот и стрельцов смирил.
— Да ведь, отец родной, он им головы рубил и, в страх другим, на колья тыкал.
— Ну, и ты тыкай! — с досадою крикнул подрумянившийся после хорошей закуски владыка, не зная, что отвечать на возражение Феодулии против своего бестолкового сравнения. — Пиши, впрочем, всепокорнейший репорт на мое имя, а я препровожу его на благораспоряжение Святейшего Правительствующего Синода. Ведь по его, а не по моему распоряжению прислана сюда эта озорница. Что я с ней поделаю? Пожалуй, велю ее предать всенародно, анафеме, да будет ли из того какой толк? — говорил преосвященный, раздавая благословение подступавшим и падавшим ему в ноги монахиням и беличкам.
Поблагодарив Феодулию и сестер за радушный прием, преосвященный вышел на крыльцо, сел в свою колымагу и, напутствуемый трезвоном, медленно выехал из святых ворот.
— И он-то ничего не поделал, — твердила огорченная мать-игуменья, и сетованиям ее вторили сестры, расходясь по своим кельям.
Ни уменьшение «корма», ни рогатки, ни цепь, ни шелепа, ни инквизитор, ни «всепокорнейший репорт», отправленный игуменьею к преосвященному и им препровожденный на благоусмотрение Синода, не могли укротить «страшную и продерзостную графиню». Не подействовала бы, конечно, на нее, метавшую и иконы, и кресты, и всенародная анафема, которой в былую пору без малейшего затруднения предавали в своих епархиях митрополиты, архиепископы и епископы тех, к кому считали нужным применить эту кару. Да не только архиереи, но и попы по своим приходам выкрикивали в церквах анафему своим врагам. С своей же стороны Синод не внимал новой заповеди Иустиниановой, объясняя, что ночлег Ягужинской у садовника в собственной ее усадьбе мог быть действительно истолкован «меленколичной скорбью» женщины, в свою очередь обижаемой мужем. Тогда этот последний прибег к тому решительному способу, который казался ему несомненно верным средством для получения развода, по каким бы заповедям и правилам этот вопрос ни разрешали.
Ягужинский представил в Синод самую наглядную, по его мнению, улику в нарушении его женою супружеской верности, а именно: письмо, написанное к ней из Риги каким-то влюбившимся в нее немцем, и потому в присутствии Святейшего Синода была прочитана следующая на исковерканном русском языке любовная цидулка:
«Хотя я все три дне твоих писем читал, то все мене не скушно бил, и я могу тебе правду и верна божица, что я сколку на свете жил, и сколко луди видал, никто мне так мил не бил, как ты мой сердце дорогая».
С какою суровою важностью ни относились члены высшего духовного судилища к вопросу об отмене силы одного из таинств, установленных искони веков христианскою церковью, но все-таки при чтении этого безграмотного послания легкая улыбка скользнула под их усами.
— А чья подпись-то значится под письмом? — спросил секретаря один из членов.
— «Иван Ливорх», — доложил секретарь.
— А когда оно писано? — спросил тот же член.
— В 1716 году от Рождества Христова, с пометою по немецкому летосчислению от 11 апреля, а по нашему — от 31 марта.
— Ого! Какой стариной тряхнул его сиятельство граф Павел Иванович, — засмеялся один из членов, проводя вниз по всей жидкой бороде сжатою в кулак рукою.
— Да и как по сему письму обвинить жену в супружеской неверности? Мало ли кого женщина непроизвольно обольстит своею красотою, а он вздумает ей на письме излагать свои сентименты? Может, она и аттенции к ним никакой не показала, — рассуждал один из заседавших.
— Ну, в настоящем припадке сказать сего нельзя, — перебил третий член, — из цидулы ясно видно, что и она с немчиком в грешных корреспонденциях пребывала; ведь он читал ее письма, а она, конечно, писала в них свои сентименты.
Начались вследствие этого прения, которые окончились тем, что Синод приказал архимандриту монастыря, соседнего с женскою Александровско-слободскою обителью, в которой находилась Ягужинская, объявить ей «при всем соборе порицание за блуднические речи и отчаянные письма».
И эта попытка Ягужинского тоже не выгорела, и он, прежде веселый и беззаботный, теперь крепко приуныл.
— Что, брат Павел, ты больно уж присмирел? Видно, все с законной сожительницей возишься? — спросил однажды Петр входившего к нему Ягужинского.
Царь, занимавшийся в это время точением на станке, приостановил работу, не отнимая ноги от махового привода.
— Приладь-ка мне вот эту штуку, — добавил царь, указывая Ягужинскому на кусок дерева, подведенный под точило.
Ягужинский поспешил исполнить приказание государя, который снова завертел ногою колесо.
— Знаю я эти хлопоты. Повозился и я порядком с моею женою, и, знаешь, поведи я это дело законным путем, я не выиграл бы ничего. Эх, эти бородачи-черноризцы! Жизни человеческой не понимают или, лучше сказать, знать не хотят. А ты, Павел, вот что сделай: женись на другой, да и махни в Святейший Правительствующий Синод всепокорнейшим доношением, что так и так, я, мол, вторично женился, а потому и прошу всепочтительно дело мое о разводе, как ныне рассмотрением уже не требующееся, прекратить и сдать оное на хранение в архиву. Ты их сим так озадачишь, что они не будут знать, за что им и приняться.
— Объявят меня двоеженцем и будущих птенцов моих признают от блуда происходящими.
— А ты им отпиши, что вступил-де я в новый брак по указу его императорского величества, а я тебя им не выдам, — засмеялся весело Петр, — ведь я «верховный судия» сей коллегии.
— Невесты-то у меня теперь на примете нет, ваше величество, да кто же за меня и пойдет, или кто выдаст за меня свою дочь, когда все знают, что я состою в законном браке?
— О невесте не хлопочи, найду я тебе преотменную невесту, а кто она — узнаешь завтра, когда придешь ко мне об эту пору, и порадуешься. А теперь ты мне не нужен — ступай с Богом!
И государь, кивнув на прощанье Ягужинскому головою, принялся вертеть станок с прежним усердием.
VI
На другой день Петр ранним утром, сев в свою окрашенную красной краской и запряженную в одну лошадку одноколку, отправился по обычаю в объезд по Петербургу. Заглянул он на производившиеся в Адмиралтействе разные корабельные работы, завернул в Сенат, а оттуда поехал на Васильевский остров к вице-канцлеру графу Гавриле Ивановичу Головкину[46]. Хотя посещения государем частных лиц — начиная с дипломатических представителей иностранных держав в Петербурге и высших государственных сановников и кончая иностранными негоциантами и разными мастерами — не были вообще в диковинку петербургским жителям, но тем не менее такие посещения всегда производили переполох в том доме, куда неожиданно заезжал царь. Порою посещения его оказывались очень прискорбными для хозяина дома, так как Петр нередко заезжал к кому-либо для того, чтобы, приняв от него надлежащее угощение, с своей стороны угостить хорошенько хозяина дубинкой за что-нибудь нехорошее, узнанное или замеченное царем на дороге.
Вице-канцлер, как и вообще все его родные, за исключением одной лишь дочери Анны, отличались мнительностью и нераздельною с нею робостью, а потому Головкин сильно всполошился, узнав о приезде к нему государя.
— А я, Гаврила Иванович, сватом к тебе приехал, — сказал весело государь встретившему его в сенях Головкину.
Хотя Петр был не всегда приятный сват, да и нельзя сказать, чтобы в этом случае у него была легкая рука, но верноподданнический долг требовал не только радостно принять такое, иногда вовсе неожиданное вмешательство Петра в чужие домашние дела, но и выразить свою рабскую признательность за столь великую честь.
Старик Головкин, в изъявление такого чувства, хотел упасть к ногам императора.
— Что ты, Гаврила! — гневно крикнул государь, — вздумал падать ниц передо мною? Разве забыл всенародное объявление, что поклонение челом в землю достоит только единому Богу, а не достоит ни единому из человеков? Разве забыл, что не раз толковал я вам, что я не Бог, чтоб мне воздавать такие почести, какие воздаются ему, и что я только «приставленный от Бога истец за все дурное, сделанное России»? Эх, старина, — ласково добавил Петр, трепля по плечу Головкина, — верно, из памяти выжил.
— От необузданной радости хотел кинуться к освященным стопам вашим! — пробормотал Головкин.
— Нет, выжил ты, Гаврила Иванович, из памяти, и вот сейчас я это проверю. Скажи мне, да только без ошибок, сколько у тебя дочерей? — требовательным голосом спросил государь.
Разумеется, что Головкин очень хорошо помнил весь личный состав своего семейства, но такой простой, конечно, шуточный, а вместе с тем и загадочный вопрос со стороны государя, знавшего всю семью графа наперечет, заставил вконец растеряться оторопевшего сановника. В голове его быстро промелькнула мысль: не проведал ли что-нибудь государь о грехах его юности, не отыскал ли он какую-нибудь придаточную отрасль Гаврилы Ивановича, не выдает ли себя перед Петром за его, Гаврилы Ивановича, дочь какая-нибудь искательница приключений? Да и мало ли к чему мог вести вопрос, выраженный так странно.
— У меня, — заплетающимся голосом начал Головкин, — старшая дочь Анастасья — прости, Господи! — Наталья замужем за князем Барятинским, да две, Анна и Анастасия, в девицах.
— Ну, хорошо! А сыновей сколько?
— Иван, Александр и Михайла, — уже без запинки ответил Головкин.
— Верно. А из всех их уступи мне одну Аннушку, выдам я ее хорошо замуж. Приданого ей, разумеется, от себя не дам. Таких трат мне производить не из чего, сам я по себе человек, как ты знаешь, небогатый, так что ты будешь богаче меня. Так приданого ей, как сказано, от себя я не дам, но мужа ее, если будет служить мне и отечеству исправно, как служил до сих пор, пожалую деревнями — на это у меня есть полное право. Да не стану тебя томить попусту любопытством. Жених твоей дочери — Павел Ягужинский, человек мне любезный за его давнюю верность и испытанную преданность.
— Да ведь супруга-то его… — начал было робко бормотать Головкин.
— Хочешь сказать, здравствует? — перебил Петр.
— Или, быть может, уже Господу Богу душу отдала? — поторопился спросить Гаврила Иванович. — Долго ли умереть человеку!
— Нет, она жива и в Успенском монастыре на исправлении пребывает. Да что тебе до этого за дело? Коли я берусь быть сватом, то в дураки я не полезу и сделаю дело начисто, а не как-нибудь.
— Знаю это, государь, знаю, — отозвался Головкин. — но ты сам изволишь понимать, что родительское сердце чует лучше чужого.
— Правда твоя, правда! Но уж коли завести речь о сердце, то нужно спросить не отцовское иль материнское сердце, а сердце самой невесты. Хорош и я, — засмеялся Петр, — сам издал указ о непринуждении детей к бракам их родителями, а между тем устраиваю свадьбу, не спросивши невесту: хочет ли она идти замуж за намеченного жениха? Быть может, — кто знает их, девок! — ей уже мил и другой? Плохое дело подневольные браки, Гаврила Иванович, плохое дело. Вот хоть бы и я — что я сделал? Поневоле сочетал супружеством сродственника моего Степана Лопухина с Наташей Балк. А что она за бабенка! Просто загляденье, вся в мать, Матрену, пошла. Кажись, не налюбуешься ею, а вот поди — не любит ее Степан, да и он ей не люб. Хорошо еще, что он дает ей полную волю жить, как она хочет, а она обзавелась дружком, который, кажись, и в жизнь ей не изменит. Да и как ей Левенвольд пришелся под пару — и он-то просто писаный красавец.
— Иногда, ваше величество, и в подневольном браке муж с женой исподволь сживаются, — заметил Головкин.
— А что, Гаврила, должно быть, ты такой брак затеваешь, если московскую старину стал подхваливать? — шутливо спросил Петр.
— Замышлять не замышляю, а случиться может. Метит, сказать по правде, на младшую мою дочурку князь Никита Юрьевич Трубецкой[47], да не знаю, как сладится. Стар он для Настюшки. Спрашивал я ее как-то, хочет ли она пойти за него, а она отвечает: «Мне все равно, батюшка, как твоя воля будет». Она такая у меня мирная и покорная, а Аннушка, ваше величество, потверже будет; были у нее подходящие женихи, да упрямится, а младшую прежде старшей венчать как-то не приходится, из-за нее и Настенька в девках сидит. Уж не знаю, как полажу с нею, а насчет Павла Ивановича — кажись, он ей не противен. А в случае ее отказа ты, государь, ее заставь, для тебя она и против своей охоты пойдет за графа.
— С чего я буду ее приневоливать? Издал я, как тебе сейчас напомнил, указ против принудительных браков, издал и обязан наказывать нарушителей его, а от них же, Господи, первый есмь аз! — смиренно добавил Петр. — Берусь я за сватовство, да при этом забываю, что у нас воле царской воспротивиться никто не посмеет и что Аннушка, если не желает, все-таки выйдет за Ягужинского. Насильствую, пользуясь моею властью, ее девическую волю. Вот тебе и указ! Позови-ка ее ко мне, а я поговорю с ней сам, да вели ей, кстати, поднести мне и чарочку анисовки.
Головкин опрометью кинулся исполнять приказание.
— Да ты на пожар, что ли, спешишь, Иваныч? Не торопи ее, да и не говори ей пока ничего.
Хозяин ушел, а державный гость в глубоком раздумье начал расхаживать по комнате большими шагами.
— Прости, государь, дуру девчонку, если она замедлит явиться на твой зов, — доложил возвратившийся Головкин. — Не приодета она еще как следует: ныне бабьи наряды по твоей воле уж не такие стали, какие были у наших матерей и бабушек. В ту пору вскинула боярыня или боярышня на плечи ферязь да шугай, кику на голову надела — вот тебе и все готово; а ныне не то: надень и фижмы, и роброн, и маншеты, а голову напудри да всякую всячину то пришпиль, то обтяни, то подтяни. А к тебе Аннушка неряхой выйти боится; знает, что ты во всем порядок любишь.
— Ну, ничего, что помедлит, ведь я приехал к тебе и не по команде ее к себе требую. Могу, значит, и обождать, а если девка принаряжается, так выходит, что пригляднее хочет казаться. На то самое и весь женский пол Господом Богом создан. Ты меж тем присядь со мной, и я тебе скажу вот что. В настоящую пору у нас всяких молодых балбесов, олухов, ветрогонов куда как много, а из них хорошей девушке жениха выбрать трудно. Вот я и надумал сам пристроить твою Анну, и кажется мне, что Павел ей будет под стать. Правда, он уже не первой молодости, не молокосос, идет ему под сороковку, но он детина статный, ражий и пригожий и никому из молодых ни в чем не уступит. Малый он добрый, только больно задорен, ну, да Аннушка возьмет его в руки и от излишних запалов удерживать станет, а он, намаявшись до устали с первою женою — с такой бабой, с которой не может быть ни ладу, ни складу, — будет крепко любить вторую свою жену — добрую, кроткую и рассудительную. Будет и для Павла удобство: сердце у него горячее, любит он своих птенчиков, а Аннушка, пока они подрастут, заменит этим сироткам их мать-негодницу. Впрочем, я сам потолкую об этом с Аннушкой и, ей-ей, ни к чему ее приневоливать не стану.
Прежде чем успел досказать Петр эти слова, дверь в ту комнату, где он сидел, приотворилась и между дверями показалась голова Аннушкиной няни. Вслед за тем дверь распахнулась настежь, и на пороге показалась вторая дочь графа Головкина — Анна. Никто не назвал бы красавицей эту бледненькую и худенькую, но вместе с тем и чрезвычайно стройную девушку. Ее светлые волосы, свитые в большие букли, опускавшиеся на плечи, были слегка посыпаны пудрою, и иметь такие волосы пожелала бы каждая девушка. Ее высокий рост и ровная, твердая поступь как бы противоречили той кротости и той мягкости, которые выражались в ее больших темно-серых глазах, и в тонких нежных чертах ее лица, и в хрупкости ее стана. Она несла в руках на серебряном подносе такую же чарку, штоф анисовки и несколько крендельков, обычную закуску государя в так называемый «адмиральский час».
Вместо прежних приниженных московских поклонов, которые отвешивала в подобных случаях почетным гостям ее бабушка, а отчасти еще и мать, Анна развязно, без всякого жеманства, сделала государю немецкий книксен и подошла к нему.
— Здравствуй, девочка! — ласково сказал Петр Аннушке, — вот какую красавицу я почти что сам на руках выносил! Помнишь, как я тебя, маленькую, вверх подбрасывал, аль забыла?
— Нет, государь, я всегда помню твои к нам превеликие ласки, не забыла и твоих гостинцев. Баловать ты меня изволил.
— Поставь-ка поднос на стол да поцелуй меня.
Анна подошла к Петру, он взял ее за подбородок, пристально взглянул ей в глаза и поцеловал в лоб.
— Погладил бы я тебя, Аннушка, по старой привычке по головке, да вишь какой шевелюр ты взбила, помять его боюсь.
— Не бойтесь, ваше величество, коли и помять изволите, так ведь мне шевелюр мой взобьют, — игриво отвечала девушка.
— Какая она у тебя, Гаврила Иваныч, и прыткая, и складная, — сказал Петр, присматриваясь к Анне, — недаром же она слывет первой танцоркой в Петербурге. Любишь танцевать, Аннушка?
— Даже и очень.
— И я в молодости любил танцевать. Бывало, смотришь в Москве, в Кукуевской слободе, как пляшут немцы, так в душе завидуешь им. Хотел было и я в пляс еще в Москве пуститься, да все удерживался. Думал, узнают москвичи, что я пляшу, так на смех меня подымут, а смех пуще всего вреден для властедержателей. Пусть клевещут и бранят, как хотят, это перенести можно, а как высмеют — это уж негоже. Заговорили бы на Москве: «Царь пляшет!» Вот и конец всякому ко мне уважению. Подучил меня плясать тайком Лефорт[48] перед первым моим отъездом в чужие земли. А вот ты теперь, Аннушка, послушай, что я рассказывать буду, — это вашей женской породы касается. Приехали мы в Кенигсберг, а там тем временем проживала маркграфиня Байретская — бой-баба! Устроила она в честь мою препышную ассамблею и на этой ассамблее подвела меня к какой-то немецкой графинюшке: «Потанцуйте, мол, с нею, ваше величество». Вижу, немочка пригоженькая. Взял я ее «валец», по немецкому обычаю, за бока. Господи помилуй, думаю я, да что это такое: или у здешних немок ребра не так, как у других женщин? Знаю, что у всех идут ребра поперек корпуса, а у этой немки моей — вдоль, или, как говорят в геометрической науке, не горизонтально, а вертикально. Проплясал я с ней валец да и рассказываю моим спутникам о таком диве, а около меня немцы ну шептаться: что, мол, сказал царь? — «Да говорит, что у здешних немок ребра не такие, как у всех женщин». Все так и померли со смеху, а маркграфиня после того каждый раз, как взглянет на меня, так и зальется хохотом без всякой удержи. Потом мне объяснили, что немки кенигсбергские переняли от французинок корсеты, сшитые на крепких китовых усах, и что корсеты эти называются у них шнурбрустами, ну, а на ощупь китовые подпорки вкруг всего корпуса кажутся ребрами, да и только. Маркграфиня не только похохотала надо мною, но, как говорят, записала об этом казусе в своем «юрнале»[49], а шутники переиначили мои слова и говорили, будто я пустил о немках диковинную небывальщину.
Петр переглянулся с Головкиным, и оба весело расхохотались.
— Так вот, Аннушка, какие со мной оказии бывали.
— С необыкновенным человеком и бывает необыкновенное, — находчиво отрезала Аннушка.
— Эх, ты смотри, воструха! Прикусишь язычок, как я тебя выдам замуж. Ведь я затем и приехал к твоему отцу, чтобы тебя сватать.
— Знаю я, государь, что ты к нашей фамилии и ко мне милостив и, наверное, высватаешь мне хорошего человека; а не полюбится он мне, так знай наперед, что я ни за что с ним под венец не пойду, да, впрочем, ты и сам перечить своему указу не будешь — было бы тебе это и грешно, и стыдно! — спокойно проговорила Аннушка.
Головкин изумился такой развязности своей дочери и замямлил что-то, желая оправдать ее резкую речь, но Петр не дал сказать ему ни полслова.
— Ай да молодец-девка! — с живостью воскликнул государь, — вот люблю таких, которые мне прямо режут в глаза правду-матку! — И, вскочив с кресел, он крепко обнял смелую девушку и несколько раз поцеловал ее.
— Хочу я женить на тебе Павла Ивановича Ягужинского. Скажи мне по душе, мил он тебе или нет? — спросил государь, взяв Аннушку за руку и с участием глядя на нее.
— Что таиться: мне он мил, да человек он женатый, так о супружестве с ним не приходится девушке и думать. Если бы божеские законы не противились с ним браку, то я пошла бы за него.
Петр призадумался. Видно было, что слова прямодушной и рассудительной девушки произвели на него сильное впечатление. Он уже не сказал ничего о сватовстве, и, переговорив только о некоторых делах с Головкиным, простился с ним и с Аннушкой.
«Эх, ведь что я в самом деле затеял — сватать жениха при живой его жене. Впрочем, что ж ведь! Как говорит пословица: «И на старуху бывает проруха», — думал государь, влезая в одноколку.
VII
Предположив посватать Ягужинского к Анне Головкиной, Петр не сказал ничего о той невесте, которую он наметил для своего любимца, да и излишне было бы говорить об этом. В Петербурге давно знали, что Павел Иванович страстно влюблен в Анну, но отвечала ли она ему любовью или хоть особенным сочувствием — насчет этого трудно было догадаться. Дочери Головкина были для того времени очень хорошо образованы, и в обществе, когда было нужно, они отличались той сдержанностью, которая никогда не обнаруживает оказываемого кому-либо особого предпочтения. Анна со всеми мужчинами была одинаково обходительна, мила и любезна, хотя в душе и отдавала преимущество перед всеми ловкому, красивому, веселому и остроумному Ягужинскому. Он считался в Петербурге лучшим танцором, а она — первой танцоркой, и когда они начинали танцевать вдвоем, то гости обступали их вокруг, любуясь изящными движениями этой парочки.
По уму и по нраву Анна и Ягужинский близко сходились между собою: и он, и она были живого характера, и отличительною их чертою была прямота, порою доходившая до излишней пылкости. Анна, полюбив Ягужинского и зная его несчастную супружескую жизнь, очень часто высказывала сожаление, что ему выпала такая горькая, невыносимая доля. Да и не одна Анна сожалела о добром малом Ягужинском. Почти все в один голос обвиняли в домашних его невзгодах не его, а его жену. Между тем на деле нельзя было винить и ее, так как собственно Ягужинская была несчастная женщина с расстроенными умственными способностями. Но тогда на душевные болезни не только у нас на Руси, но и во всей Западной Европе не обращали никакого внимания. Запугивание, непреклонная строгость и жестокие истязания считались вернейшим средством излечения душевных недугов. Помешанных и сумасшедших за их бессознательные поступки наказывали гораздо строже, нежели людей, совершивших такие же и даже более важные проступки с полным, отчетливым сознанием всей их важности. Их сажали на цепь, приковывали к стенам, притягивали ремнями к койкам, а о наносимых им побоях и ударах плетьми и палками и говорить нечего. Подобного рода меры применяли в прежнее время и к таким лицам, за которыми мог быть даже самый тщательный, самый заботливый уход. Так, например, помешавшегося короля английского Георга[50] врачи предписали, при наступлении первых признаков бывшего у него временного помешательства, вздувать для вразумления палкой без всякой пощады, и один знатный английский лорд, принявший на себя эту спасительную обязанность, вместе с первым королевским камердинером практиковал некоторое время означенный способ лечения весьма успешно. Сохранилось письменное известие и о другом лице, которого таким же способом врачевал один из самых приближенных к нему любимцев и довел свое врачебное искусство до такой степени совершенства, что по временам одно только указание глазами на тот угол комнаты, где стояла сплетенная из воловьих жил палка, просветляло рассудок больного, принимавшегося было дурить на разные лады.
Но если такие медицинские рецепты могли приносить пользу той или другой умственно расстроенной личности, то нельзя сказать, что они, прописываемые Ягужинской такими эмпириками, какими были преосвященный Амфилохий и преподобная мать-игуменья Феодулия, были применяемые с успехом к этой несчастной женщине. Видя себя в обители кротости и милосердия и в то же время испытывая там страшные истязания, она, при помрачившемся рассудке, перенесла свою вполне справедливую ненависть к своим мучительницам на всю окружавшую их благочестивую обстановку. Ягужинская, ожесточенная матерью-игуменьей и ее сестрами во Христе, «неистовствовала» в Успенском монастыре все сильнее, и неистовства ее выражались не только в «бесприкладных продерзостях» против монастырских властей, но и в опорочивании, хулении и надругательстве над всем, что относилось не только к «ангельскому чину», но и к обрядам церкви. «Всепокорнейшее донесение» о том смиренной Феодулии владыке Амфилохию не осталось без последствий. Синод снова вошел в рассмотрение дела Ягужинской и на этот раз, оставя в стороне вопрос о разводе ее с мужем как вопрос, однажды уже разрешенный и никем более не возбуждаемый, занялся лишь рассмотрением дела о «богохульственных мерзостях и предерзостных пакостях» графини Ягужинской.
Страшные обвинения были выставлены при этом в Синоде против несчастной женщины, говорившей и действовавшей под влиянием сильно пошатнувшегося рассудка, и случись с ней это до царствования Петра, в Москве, — быть бы Ягужинской, как злостной еретичке, богохульствовавшей под дьявольским наваждением, на Болоте или в деревянном срубе, или в железной клетке. Нельзя, однако, сказать, чтобы и отцы петербургского освященного собора отнеслись с чувством особого сострадания к помешанной. Из того монастыря, где она натерпелась и голода, и холода, и шелепов и где железные обручи и цепи натирали ей болезненные язвы, Синод 25 мая 1725 года приказал перевести ее в Федоровский Переяславский монастырь, где, разумеется, за нее взялись еще строже. Она не выдержала тамошней жизни и убежала ночью в лес, окружавший монастырь. Сестры под предводительством матери-игуменьи отправились на ловитву беглянки. При помощи соседних крестьян, созванных набатом на монастырской колокольне, они, как писалось во всепокорнейшем доношении местному владыке, учинили в лесу облаву и наконец в густой чаще захватили ее сиятельство. Ввиду всего этого Синод в конце того же года постановил: сослать графиню Ягужинскую в монастырь, «зовомый в Горах», находившийся в Белозерском уезде, близ мужского Кириллова монастыря, и в том монастыре заточить ее безысходно.
Таким безысходным заточением разрушался сам собою брак Ягужинского с первою его женою Анной Федоровной из рода Хитровых. Безысходная затворница не могла уже быть ни женою, ни матерью своих птенцов, и Ягужинский вследствие этого освободился без дальнейших с своей стороны домогательств от тяжелых для него брачных уз. Петра Великого в это время не было уже на свете, но, благодаря начатому им сватовству, Ягужинский знал о расположении или, вернее сказать, о любви к нему Анны Головкиной, и брак его с нею после синодского приговора мог состояться беспрепятственно.
Вступая с ним в супружество, молоденькая Ягужинская приняла на свое попечение падчерицу Настеньку, девочку двух лет. Она полюбила ребенка, как свою родную дочь, заботилась о ней и воспитывала так старательно, что впоследствии императрица Анна Ивановна, осведомившись об этом, пригласила Анну Гавриловну быть гофмейстериной и главной наблюдательницей своей племянницы, будущей правительницы Русской империи Анны Леопольдовны Мекленбургской.
Наступило царствование Анны Ивановны. Прямодушный и резкий, а отчасти взбалмошный Ягужинский не нравился ни верховникам, ни вообще лицам, имевшим тогда силу, и его спровадили посланником в Берлин, где он вскоре умер. Молодая еще в ту пору вдова его возвратилась в Петербург и здесь пользовалась большим расположением императрицы. Она жила так скромно, что самые злые языки не могли сказать о ней ни одного дурного слова.
Настенька между тем подрастала и хорошела и, как говорилось в старину, стала невеститься, то есть становилась взрослой девушкой, готовившейся явиться невестою. Мачеха, против обыкновения, горячо любила выросшую на руках ее падчерицу и приискивала ей жениха, не гонясь ни за знатностью, ни за богатством, и такие скромные желания она умела внушить Настеньке.
Не одну, впрочем, Настеньку любила Анна Гавриловна. Был у нее еще самый дорогой любимец, младший из трех братьев Головкиных, но бывший годами значительно старше своей сестры, граф Михайла Гаврилович. Редко можно встретить такую беспредельную привязанность, какую чувствовала к нему Анна. С самого детства она, не замечая некоторых его недостатков, видела в нем только такого человека, лучше которого во всех отношениях нельзя было найти в целом свете. Любовь ее к брату доходила до какого-то боготворения его личности. Неразрывную дружбу сестры к брату поддерживала, между прочим, и жена графа Михайлы, графиня Екатерина Ивановна, рожденная княжна Ромодановская, приходившаяся внучатой сестрой императрице Анне Ивановне и отличавшаяся чрезвычайною добротой, кротостью, а вместе с тем, как потом оказалось, и чрезвычайною твердостью и редкою преданностью своему несчастному мужу.
Хорошо жилось семейству Головкиных при Анне Ивановне. Сам Михайла Гаврилович, робкий, мнительный и осторожный, умел отлично ладить с Бироном, разумеется, угождая ему на каждом шагу. Умная Ягужинская не могла не замечать приниженного положения своего брата перед временщиком, но, ослепленная любовью к брату, извиняла, как могла, его крайне непохвальную угодливость и только втайне скорбела, что он не занимает того независимого положения, которое, как ей казалось, должно было бы принадлежать ему и по его необыкновенным дарованиям, и по его редким способностям к государственным делам. Ослепление в этом случае сестры насчет почти бездарного и далеко не высоконравственного брата было слишком велико, но она не могла истребить в себе то нежное к нему чувство, которое вкоренилось в нее с малолетства. С тех пор, как только начала она себя помнить, никто не представлялся ей более заслуживающим любви и уважения, как брат ее Михайла. Каждое его огорчение она принимала так близко, а пожалуй, еще и ближе, чем свое собственное, каждый неблагоприятный о нем отзыв раздражал ее гораздо сильнее, чем раздражала бы лично ей нанесенная самая тяжкая обида, которую она по своей доброте тотчас же была готова не только простить, но и забыть навсегда.
Падение Бирона не только не изменило почетного положения семейства Головкиных при дворе, но, напротив, еще улучшило его. Теперь между молодою, беззаботною правительницей и Михайлой Головкиным не было уже прежнего могущественного временщика, перед которым так принижался вице-канцлер, а после удаления от дел властолюбивого Миниха Головкин сделался на некоторое время первенствующим в России лицом, если только не брать при этом в расчет влияния саксонского посланника Линара[51], руководившего тайно всеми действиями правительницы. Но здесь была уже сердечная привязанность. В домашней жизни правительницы Головкины, а в числе их и Анна Гавриловна, они занимали самое видное место, и не проходило дня, которого бы не проводили они во дворце у Анны Леопольдовны, как самые близкие к ней люди. Ягужинская, впрочем, не вмешивалась в политические дела, довольствуясь оказываемыми ей правительницею уважением и дружбою, но относительно последней она должна была уступить первенствующее место любимой фрейлине правительницы, баронессе Юлианне Менгден, прехорошенькой, веселой и бойкой девушке.
Будучи ревностным сторонником правительницы и желая упрочить за нею верховную власть, Головкин вместе с графом Линаром, которому Анна Леопольдовна предалась всею душою, принялся хлопотать, чтобы мать малолетнего государя была провозглашена самодержавною императрицей. Он прочитывал церемониалы коронаций императриц Екатерины I и Анны Ивановны и по этим образцам готовился уже составить новый церемониал для венчания в Москве на царство императрицы Анны II Леопольдовны. Казалось, все шло успешно, но дворцовый переворот, произведенный Елизаветой Петровной с помощью одной только роты гренадер Преображенского полка и при пособии золота со стороны французского посла в Петербурге, известного маркиза Шетарди[52], разрушил все замыслы графа Михайла Головкина.
По вступлении на престол Елизаветы, Миних, Остерман, Левенвольд, приговоренные к смерти, хотя и были избавлены ею от казни, но тем не менее были отправлены в Сибирь, в отдаленную суровую ссылку. В числе знатных сановников, низверженных новою государынею, был и граф Михайла Гаврилович Головкин. Елизавета преследовала его не только за преданность бывшей правительнице, но и за внушения, делаемые им Анне, — постричь Елизавету в монашество и засадить ее на вечное заточение в какой-нибудь отдаленный монастырь. Вице-канцлер, избавленный от плахи, был отправлен в вечную ссылку под Якутск, в пустынный поселок, носивший непривлекательное название Собачий Острог.
Не столько падение семейства Головкиных, конфискация их обширных имений и всего движимого имущества и предстоявшие им в будущем забвение и ничтожество поразили Анну Гавриловну, сколько сокрушала ее страшная участь, постигшая так неожиданно ее любимого брата Михайлу, свергнутого с высоты величия. Часто и в воображении, и во сне представлялся он ей, изможденный и горем, и лишениями, опозоренный, привыкший с детства к удобствам и роскоши, а в зрелые годы — к особому почету. Анна Гавриловна не переставала плакать и терзаться о нем и, конечно, не могла относиться дружественно к главной виновнице ее злополучия — императрице Елизавете, забывая, что брат ее, будучи во власти, вовсе не мягкосердно относился к участи цесаревны и без сострадания обрекал на вечное заточение молодую женщину, желавшую пожить на воле, повеселиться и насладиться земными благами.
Если изменилось прежнее, завидное для многих положение Анны Гавриловны, то то же самое должна была испытать и ее падчерица, Анастасия Павловна Ягужинская. Если еще и прежде Анна Гавриловна не готовила Настеньку к блестящему замужеству, то теперь об этом нельзя было и думать. Молодая девушка, при своем сиротстве и с отцовской, и с материнской стороны, считалась как бы принадлежащею к семейству Головкиных и разделяла его недавнюю счастливую участь, а теперь ей приходилось разделять и разразившуюся над ним беду. Никто из видных петербургских женихов не решился бы в ту опасную пору, — когда кара, которую должен был понести один виновный, распространялась на всех его родных, — никто не решился бы предложить свою руку девушке с опальным родством, да вдобавок к тому же не слишком богатой. Такой смельчак едва ли отыскался бы в тогдашнем русском обществе.
Еще до ссылки графа Головкина с домом его сестры Ягужинской познакомился через своего близкого приятеля Ивана Лопухина Фридрих Бергер, произведенный Бог весть за какое отличие в поручики с зачислением опять в тот же стоявший в Петербурге кирасирский полк, в котором он находился до своего перевода в конную гвардию. Независимо от того, что Настенька крепко приглянулась ему, он рассчитывал и на то, что такой сильный в ту пору вельможа, каким был граф Головкин, принимавший постоянное участие в падчерице своей сестры, скоро выведет его в люди. С своей стороны, и Настенька, не гоняясь за блестящим супружеством, не прочь была выйти за молодого и статного офицера. Между Настенькой и Бергером начали мало-помалу установляться близкие, почти дружеские отношения.
Когда несчастье постигло семейство Головкиных, то Бергер на первых порах не уклонился от прежних хороших отношений с домом Анны Гавриловны Ягужинской, но при этом он имел в виду очень тонкие расчеты.
Первые месяцы нового царствования были очень тревожны. Неудовольствия против новых любимцев государыни — Лестока, Шувалова[53] и Разумовского[54] — и проявившийся ропот даже среди лейб-компанцев, которым, собственно, Елизавета была обязана своим восшествием на престол, наводили на мысль, что и ее власть не очень прочна. Эта мысль вызвала весьма последовательно другую мысль, а именно: что низверженная Елизаветой Брауншвейгская фамилия, имевшая всюду немало сторонников, может, пожалуй, занять свое прежнее место, и тогда все ее приверженцы, а между ними и один из главных — граф Михайла Головкин, так тяжко пострадавший за свою преданность правительнице, явятся не только в прежней, но и в еще большей силе.
«Надежда еще не потеряна, — думал честолюбивый немчик, — да, кроме того, хоть Настенька и не из богатых невест, но все же настолько есть у нее достатка, что на ее средства можно мне будет прожить безбедно весь век, и если повезет мне счастье, то уеду к себе в Лифляндию и заживу там важным господином назло тем, которые считают Бергеров людьми ничтожными».
VIII
Еще при Петре Великом строитель Ладожского канала, знаменитый в свое время инженер и прославившийся потом своими воинскими подвигами как начальствовавший над русскими войсками Бурхард Миних, немец, родом из Ольденбурга, построил на том месте, где ныне стоит лютеранская церковь во имя апостолов Петра и Павла, небольшую и, как кажется, деревянную лютеранскую кирку. Он считался ее ктитором и был самым почетным лицом этого лютеранского прихода, о делах и пользах которого он радел с большим усердием. Желая дать своим прихожанам рассудительного и честного пастора, Миних выписал откуда-то из Германии известного по своей благочестивой христианской жизни пастора Грофта.
В один из воскресных весенних дней 1742 года пастор Грофт произнес в этой церкви, по принятому им обыкновению, обширное поучительное слово. Внушая своим слушателям и слушательницам разные христианские добродетели, он в заключение очень сдержанно намекнул на то, что совпадающее с этим воскресным днем число праздновалось прежде в приходе с особенною торжественностью в честь одного из прихожан, которого, к сожалению, ныне нет среди молящихся.
Все присутствовавшие в кирке немцы и немки были чрезвычайно растроганы таким заключением пасторской проповеди. Они вспомнили, что на это число приходился день рождения фельдмаршала Миниха, томившегося теперь в печальном изгнании в отдаленном Пелыме. Многим как живой представился этот приснопамятный прихожанин — высокий, бодрый, с воинственной осанкой, начавший уже стариться мужчина, величавая и повелительная наружность которого обращала на себя внимание каждого, кто его видел. Припомнилось также всем, как этот благочестивый прихожанин чисто лютеранского закала, сидя на своем почетном месте, под бархатным балдахином, распевал зычным голосом на всю церковь псалмы. У многих расчувствовавшихся немцев, а в особенности у немок, навернулись на глазах слезы при этих грустных воспоминаниях, а одна старая немка-булочница, влюбленная без души в бывшего фельдмаршала, расплакалась навзрыд, и тщетно утешал ее муж, что герр граф фон Миних живет очень хорошо в Пелыме, что русские, наверно, без него никак не обойдутся и что если не в то, то в одно из ближайших воскресений она снова увидит господина фельдмаршала сидящим на своем обычном месте и услышит его голос.
Когда Грофт окончил свою речь и спустился с кафедры, многие из прихожан стали подходить к нему, дружески и почтительно пожимая ему руку и благодаря его в лестных выражениях за прекрасную и трогательную проповедь. Пастор, чрезвычайно довольный тем впечатлением, какое он произвел на свою паству, отправился спокойно домой, рассуждая на пути сам с собою о непрочности всего земного и заготовляя в голове новую проповедь на эту благодарную тему.
Во время богослужения посторонний зритель, пришедший в кирку не для молитвы, а только для наблюдений, непременно заметил бы среди многочисленного и довольно пестрого собрания богомольцев двух выдававшихся лиц. Один из них, худощавый старик, сидел на одной из задних лавок, уткнув свой нос в молитвенник, и ни разу не только не оборотил своей головы в ту или другую сторону, но даже не отвел глаз от листов своего старого «гезангбуха». Старчески разбитым, но, как было заметно, когда-то мощным голосом он с замечательной верностью слуха подпевал под гремевший в церкви орган. В старике этом нетрудно было узнать майора Ульриха Шнопкопфа, несмотря на происшедшую в нем перемену, так как в короткое время он постарел на целый десяток лет, осунулся чрезвычайно, а спина его сделалась сильно сутуловатой. И неудивительно, что так ослаб еще незадолго перед тем столь молодцеватый майор. В короткое время он испытал много горя: сперва перевели его в далекую команду, потом отняли ее у него, а вскоре за тем прислали «абшид», то есть отставку, в которой, по обычаю того времени, он был рекомендован всем «высоким потентатам» как честный и храбрый офицер, с добавлением, что он может быть принят на службу всюду, «где он, по состоянию своему, счастия искать пожелает».
Но бедного майора, которому уже поздно было искать счастья, огорчал не столько «абшид», присланный из военной коллегии без всякой с его стороны просьбы, сколько внесение в означенный патент, что он, майор Шнопкопф, увольняется от службы за непригодностью к ней «по дряхлости лет». Также сильно огорчало его и неупоминание о ранах, полученных им при Нарве и при Полтаве, о которых, конечно, вовсе некстати было упоминать русскому военному начальству как о воинских отличиях. При чтении выданного Шнопкопфу патента можно было предполагать, что он был захвачен, пожалуй, как беглец с поля битвы. Но всего более огорчало его то, что он, как «абшидованный», то есть по-нынешнему, отставной, не имел уже права носить свой огромный палаш, с которым он так свыкся. Теперь майор, к крайнему его прискорбию, был уже совершенно устранен от всякого участия по внедрению дисциплины среди победоносного православного воинства. Не мог уже он, идя без палаша, остановить на улице нижнего чина и распечь его на ломаном русском языке, с угрозою тем или другим артикулом «Воинского Устава», который теперь ему приходилось забыть навеки как знание, ни к чему уже не пригодное.
Через своего приятеля, служившего в военной коллегии по секретной части, майор узнал, что причиной всех его злосчастий был поступивший прямо в эту коллегию неграмотно написанный по-русски донос. Подробности этого доноса, то есть встреча доносчика с майором на улице в то время, когда он, доноситель, шел с одним из своих товарищей, и затем изложение обстоятельств, в сущности сходных с действительностью, но только с добавочными прикрасами и с приданием иного смысла разговору майора с молодым Лопухиным, явно показали, что доносчиком мог быть только Фридрих Бергер, пожелавший таким гнусным поступком обратить на себя внимание военного начальства.
Слушая рассказ о доносе, Шнопкопф выходил из себя и даже бесновался. Сперва он хотел вызвать Бергера на поединок, но потом сообразил, что с подлецами такой способ расправы не только непозволителен, но и признается унизительным по господствующим понятиям о чести. Затем майор хотел заколоть или застрелить Бергера, как презренного негодяя, но опять сообразил, что нападение на кого-либо с оружием без предварительного объяснения о причине, подавшей к тому повод, составляет своего рода низкий поступок, на который никогда не может решиться прямодушный солдат. Таким образом, оказывалось, что Бергер, хотя и несомненный доносчик, был неуязвим со стороны людей, чутко понимавших правила чести. Открыть же Бергеру причину вызова на поединок или неожиданного на него нападения было для майора невозможно, так как это повлекло бы к погибели того из его доброжелателей, который сообщил майору о поступившем на него доносе.
Другой молельщик был с совершенно иным отпечатком сравнительно с Шнопкопфом. Он был молодой, здоровенный детина, довольно представительной наружности, в мундире поручика кирасирского полка, и, конечно, нетрудно догадаться, что то был Фридрих Бергер. Бергер засел на одну из первых лавок с своим, как было видно, близким знакомцем, одетым в мундир какого-то армейского полка, стоявшего гарнизоном в Петербурге. Вместо того, чтобы быть внимательным к богослужению, Бергер беспрестанно вертелся на месте, заглядывая то в ту, то в другую сторону и не смотря вовсе в свой «гезангбух». Так как в лютеранских церквах искони строго поддерживается внешнее благочиние, то Бергеру нельзя было даже и шепотом разговаривать с своим соседом, а потому он, поглядывая в левую сторону, где на лавках сидели дамы и девицы, только подталкивал соседа локтем и показывал глазами на хорошенькую или миловидную замеченную им немку. Когда пастор начал говорить свою проповедь, то Бергер не обращал сперва никакого внимания на его душеспасительные поучения; но когда Грофт перешел к намекам на Миниха, то Бергер как-то радостно встрепенулся, навострил уши и даже попридержал своего соседа, когда тот слегка подтолкнул его локтем, желая в свою очередь указать на общую их знакомую Лотхен.
При выходе из кирки Шнопкопф приостановился на паперти, ожидая в грустном настроении, не выйдет ли из кирки кто-нибудь из его хороших знакомых, кому бы он мог передать постигшее его горе и встретить хоть какое-нибудь участие к своей печальной судьбе.
Майору не пришлось долго ждать. Вскоре в выходных дверях показались Бергер и его сосед по церковной лавке. Бергер, завидев Шнопкопфа и притворившись, будто не замечает его, проворно юркнул в сторону и замешался в толпе, пристав с разными пошлыми любезностями к Лотхен. Но товарищ Бергера подошел к Шнопкопфу.
— Здравствуйте, господин майор, — сказал он ему, протягивая руку, — да что же вы без палаша? Неужели вы, такой исправный служака, забыли прицепить его?
Майор грустно покачал головой.
— Со мною, господин Фалькенберг, — начал он жалобным голосом, — приключилось большое несчастье! Я получил «абшид».
— Ах, да, я слышал, да забыл… Мне что-то об этом говорил Бергер, — перебил Фалькенберг. — Бергер! Бергер! Где ты? — окликнул молодой майор, отыскивая глазами своего товарища среди все более и более редевшей около кирки толпы; но Бергер, укрываясь от Шнопкопфа, взял направо по Невской першпективе и был уже далеко. Он остановился только у Зеленого, нынешнего Полицейского моста, поджидая, когда подойдет сюда Фалькенберг, которому тоже следовало идти этим путем.
— Вот кто счастливец, так это Фридрих Бергер, — заговорил Фалькенберг, продолжая свой разговор с Шнопкопфом. — Мало того, что он вдруг и так скоро по службе пошел, он еще отыскал себе славную невесту — графиню Ягужинскую, молоденькую, хорошенькую, и хоть не слишком богатую, но для Бергера, у которого за душой нет ни гроша, с таким хорошим достатком, что она просто для него находка! Да и хорошо он думает устроиться в супружестве. Если, толкует он, придется мне с женою жить ладно, то ей хорошо будет, а если она наскучит, так поеду в Лифляндию и, как тамошний уроженец, легко разведусь с нею. У нас развод не так труден, а по нашим законам, — рассчитывает Бергер, — все женино имение достается в распоряжение мужа, если от разведенной с ним жены есть у него дети. Вот так сметливый человек! — подхвалил Фалькенберг своего товарища.
— Если господин Бергер действительно так думает, как вы говорите, — вспылил старик, — то он должен быть отъявленный негодяй. Благородный офицер не позволит себе делать такие низкие расчеты, и если бы я имел честь быть знакомым в доме графини Ягужинской, то предупредил бы ее о том, какая печальная участь готовится бедной девушке. Мое нижайшее почтение, господин майор фон Фалькенберг! — сказал, раскланиваясь с ним, Шнопкопф и поспешил уйти от одного из близких приятелей Фридриха.
Фалькенберг, так круто оставленный Шнопкопфом, направился к Зеленому мосту. Около него он сошелся с поджидавшим его Фридрихом, и оба они отправились обедать на Луговую, нынешнюю Миллионную улицу, в немецкий трактир, который содержал пруссак Беглер. Трактир этот был в ту пору местом сходки всех немцев, проживавших в Петербурге, — разумеется, за исключением тех, которые занимали высшие должности и потому считали неудобным ходить по трактирам. Там собиралась главным образом вся петербургско-немецкая молодежь и преимущественно молодые офицеры, проводившие время в разговорах за кружкой пива или за бутылкой дешевого вина, или за игрою на бильярде, в карты, домино, шашки и шахматы. Без устали любезничали они с молоденькими служанками из немок и в особенности льнули к игравшим на арфе или распевавшим свои песни тиролькам, которые, для таких прибыльных в ту пору занятий, стали в изобилии наезжать в Петербург чуть ли не с самого его основания. Было заметно, что в немецкой компании, собиравшейся в заведении Беглера, Бергер, несмотря на свой офицерский чин, не пользовался ни малейшим уважением. Все, даже его земляки, как-то косо и недоверчиво посматривали на него; никто ничем его не потчевал и не подсаживался к нему для беседы, как это обыкновенно водится в отношении приятных знакомых или добрых товарищей. Все как будто избегали не только разговора с ним, но даже и встречи. Один лишь Фалькенберг считался его коротким приятелем, да иногда заходил с Бергером в трактир молодой Лопухин, чтобы поиграть с ним на бильярде. Бергер почти силой затаскивал туда молодого подполковника с тем, чтобы угоститься на даровщинку или попросить щедрого на деньги Лопухина заплатить долг по счету, записанному на Бергера.
— Что ты заставил меня так долго ждать? — спросил Бергер подошедшего к нему у Зеленого моста Фалькенберга.
— Да заболтался со старым Шнопкопфом. Рассказывал, как он неожиданно получил «абшид» без всякой с его стороны просьбы и должен был вследствие этого отцепить свой тяжелый палаш. Старик ужасно огорчен. Да из-за чего он так сердит на тебя?
— Почему же ты думаешь, что он сердит на меня? — не без смущения спросил Бергер.
— Вообрази, он как-то узнал стороною, что ты собираешься жениться на Настеньке Ягужинской, и теперь хочет написать безыменное письмо к ее мачехе, чтобы она не выдавала за тебя свою падчерицу, потому что ты, как он говорит, — извини за откровенность, — негодяй, плут, мот, картежник, пьяница, короче сказать, по его словам, ты самый скверный человек во всем мире.
Бергер не промолвил ни слова, стараясь сделать вид, что не обращает внимания на оскорбительные о нем отзывы со стороны майора.
На другой день с утра принялся Бергер что-то писать; долго писал он и много делал помарок, пока не окончил своего сочинения.
Между тем «абшидованный» майор терялся в соображениях, что ему делать, очень ясно сознавая, что без службы и без палаша он существовать не может.
«Пойти разве опять в шведскую службу, — думал он. — Вышел я из нее не бесчестным образом, да и обстоятельства для меня сложились так, что мне не приходилось воевать против шведов».
Когда однажды майор в таких размышлениях сидел в своей скромной квартирке и, по обыкновению, покуривал трубку, ему принесли повестку, в которой требовалось, чтобы он завтра утром с имеющимся у него патентом явился в полицейскую управу. В тревожном настроении отправился туда Шнопкопф, и тревога его была не напрасна. В полиции, по указу военной коллегии, отобрали у него абшид и выдали ему подорожную до русской границы с тем, чтобы он в течение трех суток в сопровождении приставленного к нему полицейского выехал из России. При этом его предварили, что в противном случае с ним будет поступлено, как с ослушником, по всей строгости законов.
Разведывать о причине такой внезапной высылки было бы бесполезно. Бергер, которого вследствие сплетни Фалькенберга тревожило присутствие майора в Петербурге, знал очень хорошо эту причину. Сам же Шнопкопф приписывал свою высылку общей проявившейся среди русских ненависти против немцев. Майор наскоро собрал свои скудные пожитки и отправился к границам Курляндии. Совесть успокаивала его, что он в России честно служил тому знамени, которому присягал, что не его вина, если с ним поступили так безжалостно. Он признавал, что теперь свободен от присяги русскому знамени и может «по состоянию своему» искать счастья, где пожелает, хотя письменного на то удостоверения при нем уже не имелось.
IX
В той комнате трактира Беглера, где за небольшим особым столом уселись обедать Бергер и Фалькенберг, шел шумный говор на немецком языке, представлявшем смесь всех германских наречий, которые в ту пору разнились одно от другого более, чем разнятся ныне. Но эта разница не нарушила никогда единомыслия петербургских немцев; в особенности же они сплачивались тесно между собою теперь, когда им всем без исключения стала грозить, по-видимому, общая опасность со стороны русских. Русские, озлобленные против немцев при Бироне, а отчасти и при правительнице Анне Леопольдовне, теперь явно выражали свою неприязнь к немцам. Они за деньги и в чаянии щедрых наград первые принялись возбуждать преображенцев против правительницы и ее сына, разглашая, между прочим, что он даже и крещен не по православному обряду. Они склоняли солдат в пользу Елизаветы, как истинно русской царевны, при которой русским будет житься иначе, нежели жилось при немцах. Шварц и Грюнштейн, после удачного исполнения их замысла, были щедро награждены Елизаветой. Так, выкрест Грюнштейн за оказанные им услуги и преданность не только был произведен прямо из солдат в майоры, но еще получил до тысячи душ крестьян в вечное потомственное владение. Соответственная тому награда была пожалована и Шварцу. Они были первыми лицами, которым признательная Елизавета оказала свои царственные щедроты. В отношении же других своих пособников она в первые месяцы своего царствования была скупа, не желая, чтобы оказываемые им милости приняли как следовавшее им вознаграждение за действия в ее пользу.
Современники воцарения Елизаветы не знали ничего о происках французского посла маркиза де Шетарди, употреблявшего все усилия, чтобы, сообразно инструкциям Версальского двора, сделать в России государственный или, вернее, династический переворот. Правда, в Петербурге ходила не совсем благоприятная для Елизаветы молва, разглашавшая, что хотя при ней уже немцев и нет, но что все-таки вся сила находится по-прежнему в руках людей не русских, а француза Лестока и Разумовского, которого в народе ошибочно считали поляком, и Разумовский — человек незлобивый и безвредный — сделался в первое время царствования Елизаветы предметом общей и даже более сильной ненависти, нежели злой и пронырливый Лесток. Но так как низвержение Брауншвейгской фамилии было произведено солдатами при деятельном участии таких чисто русских людей, как Воронцовы и Шуваловы, и так как Елизавета не слыла сторонницей немцев, а симпатии ее к Франции народу не были известны, то все полагали, что теперь наступила такая благоприятная пора, что легко будет расправиться с сильно надоедавшими немцами.
Движение против них обнаружилось прежде всего в войске, так как солдаты, настроенные общим подъемом народного духа, хотели истребить своих начальников из немцев.
Невдалеке от столика, за который уселись Бергер и Фалькенберг, разместились за большим обеденным столом несколько близких между собою приятелей-немцев. Один из них, вернувшийся недавно из Финляндии, какой-то пожилой уже штаб-офицер, рассыпался в восторженных похвалах о командовавшем находившимися там русскими войсками генерале Ласси[55], рассказывая, как этот генерал смело и решительно усмирил солдат, разбушевавшихся под тем предлогом, будто новая государыня, ненавидевшая немцев, приказала истребить всех начальствовавших из этой породы и объявить, что отныне солдаты не должны им более повиноваться, а обязаны слушаться только русских офицеров.
Другой собеседник, тоже из военных, рассказывал подробности о том, как во многих полках солдаты оскорбляли и даже били своих начальников немецкого происхождения.
Все присутствовавшие приходили в ужас от этих сообщений, не предвещавших ничего доброго немцам, и в недоумении посматривали друг на друга, как бы спрашивая один другого, что же им придется делать, если продолжится или, что еще хуже, усилится еще более такое враждебное отношение русских к немцам. В дополнение ко всему этому слышались со всех сторон хулы и порицания и России, и русскому народу, а также насмешки над его религией, свойствами, способностями, обычаями и нравами.
— Я вам вот что скажу, — начал вдруг громким голосом среди общего шумного говора, отзывавшегося сильным раздражением, сидевший также за столом седой старик с умным прямодушным выражением в лице. Легко можно было заметить, что к этому старику все собеседники относились с большим уважением, так как лишь только начал он говорить, все примолкли и стали слушать его с напряженным вниманием. — Я вам скажу, господа, — продолжал он, — что хулы ваши на русский народ несправедливы; я имею с русскими беспрерывные сношения уже пятьдесят лет и прямо среди моих почтенных единоплеменников заявляю, что русские — народ добрый, ласковый и приветливый…
— Да вы, Карл Иванович, известный защитник русских, недаром даже и мы, немцы, называем по-русски «Карл Иваныч», — со смехом отозвался один из собеседников.
— Так почетно называл меня и сам царь Петр Алексеевич, а я сам, хоть и очень привык к русским, но в душе остался и останусь навсегда таким же немцем, каким я родился! — почти крикнул Майглокен, один из первостатейных немецких негоциантов в Петербурге. — Я желаю и даже завещаю моему семейству, чтобы тело мое после смерти было перевезено в мой родной Юнкгейм; но все это не мешает мне нисколько отдавать должную справедливость русскому народу за его хорошие качества и осуждать то, что действительно в нем есть дурного. Я приехал прямо в Москву еще очень молодым человеком, бедным приказчиком к тамошнему купцу из немцев Августу Фрейлиху, и с каким пренебрежением, а вместе с тем и с боязнью смотрел я тогда на русских! Но вот что я скажу вам: когда при мне начались в Москве народные смятения, когда стрельцы и чернь беспощадно истребляли своих начальников и бояр, даже родственников царских, — мы, немцы, в своей мирной слободе оставались спокойны. Московские старожилы из немцев успокаивали нас, рассказывая, что даже в один из самых сильных бунтов, когда московская чернь грабила русских купцов и разорила правительственное учреждение, называвшееся «Холопий приказ», — никто из немцев не был ни ограблен, ни оскорблен русскими. Правда, был при мне убит один из иноземцев, доктор Гаден, но, во-первых, он был не немец, а жид, а во-вторых, убили его потому, что обвинили в чародействе, в отравлении царя Федора, а такое обвинение не спасло бы от смерти и природного русского. Не спорю, что злоумышленными подстрекательствами нетрудно довести русский народ до того, что он примется поголовно и беспощадно истреблять тех, на кого его станут натравливать, но разве не бывало того же самого и у немцев?.. Вспомните-ка, сколько подобных ужасов происходило и в нашем отечестве, в дорогой и милой всем нам Германии.
— Это справедливо, — заметили несколько голосов, но зато все прочие собеседники сомнительно покачали головами и отнеслись к словам Майглокена не только с заметным недоверием, но и неприязненно.
— Положим, что сам по себе русский народ хоть и не любит, но и не ненавидит нас, но у нас в России есть опасные и злые враги — попы и монахи, — заметил один из обедавших.
— Не говорите и этого безусловно, господин Форслебен, — с живостью возразил Майглокен. — Знаю я и русских попов, и русских монахов. Правда, они смотрят на иноверцев враждебно, боясь, что мы совратим русских, или, как они их называют, православных, в свою нечестивую веру; но замечательно, что они с гораздо большим ожесточением преследуют своих же русских сектантов, так называемых раскольников. Не раз приходилось мне вести об этом беседу с русскими духовными лицами. Мы, например, имеем в Москве, да и в Петербурге, на одной из главных улиц этого города, свои храмы, тогда как русские сектанты не только справляют свои собственно те же православные обряды тайком, но уходят в леса, чтобы там иметь свои молитвенные сборища. Мало того, мы иной раз при нашем богослужении вмешиваемся и во внутренние дела России, — добавил, улыбнувшись, Майглокен. — Вот хотя бы сегодня господин пастор Грофт говорил в своей проповеди о досточтимом графе Минихе, и, конечно, все поняли, какой укол и какие порицания нынешнему правительству заключались в его проповеди. Надобно нам, господа, быть справедливыми и искренними.
— Проповедь господина пастора Грофта была превосходна, — заговорили разом несколько голосов.
— Это образец красноречия и глубины мысли, — подхватил учитель немецкого языка при церковной школе.
— Я нисколько не позволю себе порицать риторические и нравственные достоинства этой блестящей проповеди, но, господа…
— Вы, вероятно, хотите сказать, что подобного рода проповеди с политическим оттенком могут навлечь и на господина пастора и на его прихожан, сочувствующих им и ободряющих их, неудовольствие, если и не со стороны ничего не понимающего в этом народа, то со стороны правительства? — перебил толстый консисториал-советник с тревожным выражением в лице.
— Вы совершенно верно угадали мою мысль, господин Викинз. Представьте себе, что в это время находился бы кто-нибудь из русских, понимающих по-немецки, довел бы до сведения правительства о существенной мысли проповедника. Согласитесь, что в таком случае господину Грофту пришлось бы очень плохо. Теперь шпионство господствует здесь не менее прежнего; оно сильно поощряется; смело можно сказать, что нынче выходят в люди за доносы, и я уверен, что если бы кто-нибудь донес на господина пастора, и в особенности если бы таким предателем явился бы кто-нибудь из немцев, он щедро был бы награжден за особенную преданность настоящему правительству. Мы живем в опасное для нас время, но опасность грозит нам не со стороны самого народа.
При этих словах Бергера, внимательно прислушивавшегося к тому, что говорил Майглокен, как-то передернуло.
— Теперешнее правительство только ищет предлога, чтобы за что-нибудь придраться к немцам, и нам как нельзя более следует остерегаться, чтобы не подать к тому какого-либо повода. Малейшая с нашей стороны неосторожность может очень дорого обойтись нам. На днях я слышал от верного человека, что духовника государыни, Дубянского[56], который имеет на нее такое сильное влияние во всем, что касается религии, подбивает против лютеран какой-то приехавший из города Владимира монах Варсонофий[57]. Живет он теперь в Александро-Невском монастыре и распускает слух, что к нему являются разные святые, которые требуют от него, чтобы он пошел против лютеран и проповедовал бы народу об их поголовном истреблении и о разрушении лютеранских церквей. Разумеется, такой изувер может взволновать простых русских людей, а через духовника государыни он убедит и ее в необходимости — если не разрушения наших церквей, то все же в необходимости стеснить свободное отправление богослужения по нашему обряду.
Около этого предмета завязался между застольными собеседниками оживленный разговор. Они были уверены, что в обеденном зале не было никого из русских, так как все немцы знали один другого наперечет и тотчас же могли бы заметить постороннего человека, которого следовало стесняться при откровенном разговоре.
Бергер и Фалькенберг чувствовали, однако, себя неловко в этой компании. С ними никто из посетителей не заговаривал, но не по политическому к ним несочувствию, а потому что Бергер считался дрянным и сварливым человеком и беззастенчивым блюдолизом. Такое отчужденное и приниженное его положение среди «своих» сильно раздражало его, тем более что его постоянно грызло желание выйти в люди во что бы то ни стало. Он все более и более терял надежду на покровительство Головкиных, которые теперь находились в таком незавидном положении, что брат Михайлы Гавриловича Александр, бывший посланником в Голландии, решился навсегда со всем своим потомством отрешиться от своего отечества. Он перевел свои громадные капиталы в Амстердамский банк, утвердил в своем семействе лютеранскую веру, и оно до такой степени отчуждилось от России, что возвратившийся в Россию при Екатерине II внук графа Александра, лютеранин по вере, не умел даже говорить по-русски.
Но если бы даже Головкины и сохранили их прежнее значение, то устроиться около них Бергер не мог рассчитывать с достаточною уверенностью. В том, что он, как молодой и статный офицер, мог, подделываясь хитро к молодой девушке, полюбиться ей, еще не было твердой заручки для брака. Сегодня Настеньке мог нравиться один, а завтра понравится другой, тем более что сильной и глубокой страсти тут не было, и молоденькой Ягужинской так же легко мог полюбиться и другой приглядный по наружности молодой человек, как понравился Бергер, бывавший чаще других в доме ее мачехи.
Помимо этого, Бергер имел основание опасаться, что затеваемое им супружество легко может расстроиться и по особой причине: до Анны Гавриловны или вообще до семейства Головкиных могли так или иначе дойти слухи о разных неблаговидных его поступках и об его развратной жизни. Особенно он этого начал побаиваться с той поры, когда сплетник Фалькенберг передал ему угрозу майора Шнопкопфа. Зная безупречную нравственность старика и его прямодушие, Фридрих опасался, что решительный Шнопкопф надумает, чего доброго, сделаться охранителем молодой девушки и из современного майора обратиться в средневекового рыцаря, считавшего защиту невинности одною из главных обязанностей своего звания. Поэтому Бергер и счел нелишним избавиться на всякий случай от майора уже известным ему, Бергеру, способом, и вследствие его гнусной проделки майор, по отобрании у него «абшида», был выпровожен на курляндскую границу под обычным в то время полицейским надзором.
Между тем честолюбивые искания все сильнее разыгрывались в кирасирском поручике. Он крепко досадовал, что ему не пришлось примкнуть к тем молодцам, которые способствовали вступлению на престол Елизаветы, и мучился от зависти, когда ему приходилось слышать рассказы о той великолепной свадьбе, которую справил саксонский жидок Грюнштейн в Москве и которая была удостоена присутствием императрицы, щедро одарившей невесту Грюнштейна и бриллиантами, и золотом, и серебром. Такое же мучительное чувство испытывал Бергер, когда до него порою доходили слухи о том, как благоденствует Шварц, хозяйничая в пожалованной ему обширной и богатой вотчине. Не без досады вспоминал он, что даже простые солдаты Преображенского полка, обращенные в лейб-компанцев[58], пользовались особым почетом, что они не только были пожалованы в офицерские ранги, но и получили поместья, тогда как он, Бергер, остался тем же поручиком и, промотав доставшееся ему от умершего отца небольшое состояние, должен был довольствоваться небольшим жалованьем, запутанный кругом в долгах и находясь очень часто без копейки денег, тогда как ему хотелось бы пожить в довольстве и пользоваться всем, чем может пользоваться человек в его годы.
X
Теряясь в бесплодных догадках, как бы получше устроиться и выйти в люди, неразборчивый в выборе клонящихся к тому средств, Бергер напал на мысль, что удобно было бы ему, как немцу, воспользоваться раздражением русских против его единоплеменников и, выделившись сразу из ряда этих последних, заявить себя правительству с самой что ни на есть благонадежной стороны. Как человек хотя и крайне плутоватый, но вместе и ограниченный умом и без всяких правил чести, он подумал, что при настоящем положении дел предательство может служить очень пригодным орудием для достижения предположенной цели.
«Если я укажу на политические подстрекательства пастором Грофтом его прихожан, то, без всякого сомнения, во мне увидят благонадежного человека, не думающего, ради государственных интересов, даже и о потачке своим единоплеменникам и единоверцам. Кажется, тогда я представлю такое доказательство моей преданности, сильнее которого едва ли можно найти. Непростительно было бы мне упускать такой благоприятный случай», — думал Бергер.
Раздумывая таким образом, Бергер хотя и желал предать неосторожно проболтнувшегося пастора, но с тем, чтобы устроить это предательство так, чтобы оно открыло ему доступ прямо к тем лицам, которые имели сильное влияние при императрице. Теперь в пустоватой голове кирасира, туманившейся вдобавок к тому нередко и пивными, и водочными, и винными парами, стали являться те небольшие переходы, посредством которых он, как один из самых усерднейших верноподданных, может дойти и до государыни.
Бергер, отчужденный от немцев, которые очень хорошо знали его как продувного малого, имел довольно обширное знакомство среди русских и у них мог проведать многое. Русские, по своему благодушию, относились к нему с нравственной точки зрения гораздо снисходительнее, нежели немцы, старавшиеся поддержать о своем небольшом петербургском кружке добрую молву относительно некоторых условий общественной жизни и личных отношений. С своей стороны, Грофт, в качестве обер-пастора, успел даже присвоить себе своего рода нравственно-духовную расправу над своею паствою. Разумеется, он не решался привлекать к своему суду более или менее чиновных лиц из ее среды, но простых немцев он нередко приглашал к себе для соответствующих вразумлений. Хозяева часто обращались к нему с жалобами на мастеровых, рабочих и приказчиков из немцев, прося пастора сделать им отеческие внушения и наставления. Нередко приходили к Грофту с жалобами мужья на жен, жены на мужей, отцы на детей. На петербургской немец-,кой колонии лежала та же печать общинного духа, какую вообще наложило протестантство на своих последователей.
Собираясь обнаружить перед подлежащими властями политическую неблагонадежность пастора, Бергер, одно из духовных его чад, видел в этом деле особенную важность, на которую, как он полагал, следовало ему указать в своем доносе, а именно — что пастор Грофт был вызван в Петербург бывшим фельдмаршалом Минихом, который отправлен за свои злокозненные замыслы против благополучно царствующей ныне государыни в отдаленную ссылку; что он, Грофт, был в дружбе с графом Остерманом, достойно наказанным за «злодейские поступки», и что при этих условиях он и в настоящее время может затевать разные злоумышления, подготовлять восстановление Брауншвейгской фамилии, а вместе с ее возвращением — и возвращение двух упомянутых злодеев. Короче, несмотря на свою ограниченность, честолюбивого кирасира хватило настолько, что он сумел представить дело пастора в таком виде, что оно будто бы грозило государству страшною опасностью и что он, Бергер, избавлял государыню от беды, почему в настоящем случае он являлся спасителем государства и его нельзя было оставить без особых отличий. «Важнее же всего, — думал он, — здесь окажется то, что такие предостережения идут от немца и лютеранина. Поступи так русский, донос его казался бы не столь важным».
Обдумывал также Бергер, через кого бы лучше всего можно довести о своем усердии до сведения императрицы. Сделать это через Лестока ему казалось не совсем удобным, так как Лесток — реформат, хотя и слывет безбожником. На Воронцовых, Шуваловых и Разумовского тоже рассчитывать было нечего: они занимаются совсем иными делами.
— Да что же я долго думаю, — спохватившись, ударил себя по лбу поручик. — А Варсонофий-то монах — чего же лучше? Он через государынина духовника представит мою бумагу императрице, и, быть может, она потребует меня к себе для личных объяснений.
В тот же день Бергер, который, как мы сказали, имел много русских знакомых, начал, как бы без всякой цели, расспрашивать у них об отце Дубянском и о монахе Варсонофии. Собранные им о том и о другом сведения оказывались для него чрезвычайно благоприятными. Ему рассказали, что Дубянский пользуется у государыни большим влиянием и что он неприязненно относится к немцам и в особенности к лютеранству. Сообщили ему также, что в Александро-Невском монастыре живет приезжий монах Варсонофий, считающийся человеком святой жизни и имеющий дар пророчества; что ему в монастыре, по внушениям духовника императрицы, оказывают особый почет; что к нему за благословением и за советами ездят и знатные русские господа и именитое русское купечество, а он им всем пророчествует, что русское царство вскоре постигнут большие бедствия за нечестие, которое разводят между православными «нечестивые люторы», что их давно бы следовало изгнать, а божницы их предать поруганию. Добавляли к этому, что и набожная императрица внимает таким вещим глаголам смиренного инока.
Императрица, собиравшаяся сама, после ссылки Шубина Бироном, уйти в монастырь и даже добровольно отведавшая в Успенском Александро-Слободском монастыре обстановку монашеского жития, любила окружать себя людьми, бывшими или только представлявшимися людьми благочестивой жизни, и отец Варсонофий, о котором столько наговорил ей Дубянский, был во многих отношениях под стать тому настроению, в каком находилась Елизавета.
Сообразительные люди могли легко догадаться, что то враждебное настроение к немцам и к их религии, в какое старался привести Елизавету Варсонофий, поддерживалось и лицами, бывшими к ней близкими. Все они желали избавиться от злого и заносчивого Лестока, который содействовал так много Елизавете в ее предприятии против брауншвейгцев, хотел управлять всем и всеми по своему произволу. Немногие, да и то слишком робко и уклончиво, решались не столько говорить ей прямо о Лестоке, сколько лишь намекать на то исключительное положение, какое занял при ней иноземец, бывший лейб-хирург, в обиду русским. Отцу Дубянскому он был невмоготу не только по каким-либо государственным соображениям, но и потому еще, что он, как безоглядочный болтун, порою дерзко затрагивал религию.
«Пусть отец Варсонофий, — думал часто Дубянский, — скажет напрямки государыне то, чего не посмеем сказать ей ни я и никто из ее приближенных. С грубого мужика за это не взыщется. Да и сам-то Варсонофий, как я заметил, парень ловкий. Пусть другие, как хотят, возятся с Лестоком, а я уверен, что никто столько ему не навредит, сколько Варсонофий».
Приезжая часто в Невский монастырь, государыня после обедни бывала в келье Варсонофия и выходила оттуда растроганная, нередко с заплаканными глазами, и Лесток мог заметить, что после такой побывки она относилась к нему уже не с особенною благосклонностью и порою высказывала, что пора бы избавить Россию от всех иноземцев, и разумеется, что такие как будто невольные обмолвки государыни принимались за предвестие, что Лестоку несдобровать.
Мало-помалу Варсонофий, присмотревшийся к государыне и, таким образом, попривыкший к ней, а следовательно — уже переставший ее бояться, стал постепенно забываться перед государыней. Он позволял уже себе журить ее, угрожая ей и жупелом, и металлом, и устрашал ее от имени Божия страшным воздаянием за ее прегрешения, если она будет непокорна его внушениям, идущим будто бы не от него самого, но от святой высоты. Он начинал входить в обширные права духовного отца, считающего своею обязанностью обуздывать страсти и помыслы покорствующей перед ним овечки. Главным предметом укоров государыне со стороны этого изувера было то, что она слишком мирволит нечестивым иноверцам, которые только и помышляют о пагубе святой православной церкви и о распространении их дьявольских ересей.
На первых порах хитрый хохол Дубянский, земляк Разумовского, был очень доволен тем влиянием, которое он, вдобавок к своему личному, успел утвердить через Варсонофия над Елизаветой. Варсонофий в точности исполнял наставления, даваемые ему духовником, но, почувствовав свою силу, начал относиться иначе к своему покровителю.
— Да что ты, отец Федор, вздор-то городишь! Без тебя я все знаю. Голова-то у тебя, видно, без мозгов, — начал возражать Дубянскому Варсонофий своим грубым вологодским наречием в противоположность мягкому говору малоросса. — Да ты кто? Такой же поляк, как и приятель твой Разумовский; знаю я ваше отродье. Я и без тебя сумею сказать царице, что ей нужно творить для спасения ее души. Пусть она идет по моему пути, а ты в дела наши не суйся. Никто тебя о том не просит. Знай, сверчок, свой шесток…
Спохватился отец Федор, что он слишком далеко завел монаха в доверие и благорасположение императрицы и что теперь пора бы и повернуть его вспять.
«Потерплю еще маленько, — думал Дубянский, — пусть он прежде спихнет Лестока, а там с Варсонофием уж я справлюсь».
Особенно встревожился Дубянский, когда Мавра Егоровна Шувалова,[59] рожденная Шепелева, передала, что как-то однажды императрица сказала, что ей хочется побывать на духу у Варсонофия.
При этом известии отец Федор уразумел, что он, чего доброго, может остаться ни при чем по милости Варсонофия, и отправился посоветоваться к Разумовскому.
— А щоб его кием добре отсель випыхнуть на его Вологду, — посоветовал земляку Разумовский.
Дубянский объяснил Разумовскому неуместность такого простого приема в настоящее время, так как пока Варсонофий еще им очень нужен, чтобы сжить ненавистного Лестока, и что после того как Лесток спихнется, можно будет приняться за кий и распорядиться с Варсонофием. Разумовский, очень хладнокровно выслушав мнение протопопа, согласился с его доводом, вполне уверенный, что его собственное положение нисколько не зависит от Варсонофия, который, сверх того, вовсе не перебивает доходов, пожалованных ему императрицею, как может перебивать высочайшие дачи, делаемые Дубянскому.
XI
Собрав сведения о Дубянском и Варсонофии, Бергер решился толкнуться к последнему из них. Он рассчитывал на то, что чем необыкновеннее дойдет его донос до императрицы, тем более он будет иметь важности и тем большее значение получит в глазах государыни сочинитель доноса. «Ее непременно должно будет, — соображал Фридрих, — поразить странное соединение, ради государственных и ее личных интересов, молодого кирасирского офицера с простым русским монахом, и притом офицера из немцев, указывающего на свободомыслие своего пастора, пользовавшегося в Петербурге общим уважением. Такие подвиги не забываются, — думал Бергер, — они выходят из ряда обыкновенных. Я предупреждаю государыню о зловредных для нее замыслах, указываю ей на то, чего она не узнает от русских, открываю ей новую измену. Притом, — рассуждал Бергер, чувствовавший, несмотря на все нравственное свое падение, потребность в каком-нибудь, хотя бы самом слабом, оправдании, — я в сущности ничего не выдумываю, так как Грофт действительно был бы рад возвращению в Петербург своих могущественных покровителей Миниха и Остермана, хотя бы это не обошлось без низвержения с престола нынешней государыни. Помню я, что майор Шнопкопф, которого все считали честным человеком, не находил возможным изменить только знамени, а я, как лифляндец, присягал не только русскому знамени, но еще и на верноподданство нынешней императрице. Следовательно, если я укажу на угрожающую ей опасность, то я только выполню мой долг».
Так желал оправдать себя Бергер, упуская из виду, что он прибавлял к действительности много такого, что ее искажало и придавало чрезвычайную политическую важность проповеди Грофта. Бергер не хотел принять во внимание и то еще обстоятельство, что если бы его не мучило желание так или иначе выйти в люди, то он не придумывал бы тех непозволительных способов, к которым он прибегал теперь, И оставил бы пастора в покое.
Рассуждая сам с собою, Бергер с Луговой улицы, на которой он жил, вышел на Невскую першпективу. Эта улица — нынешний Невский проспект — не имела тогда ни малейшего сходства с тем, что она представляет в настоящее время. В начале ее стояло Адмиралтейство, на том же месте, где оно стоит ныне. Это было крайне неуклюжее здание, представляющее укрепление, окруженное валами и рвами; перед ним расстилался луг, служивший городским выгоном, на котором пасся скот. По обеим сторонам улицы, по направлению к Зеленому мосту, стояли небольшие каменные и деревянные дома вперемежку с садами, огородами, пустырями и пустопорожними местами, то открытыми, то загороженными дощатыми заборами. На месте нынешнего Казанского собора стоял прежний Казанский собор, представлявший большую деревянную постройку — образец строительного безобразия. В этом соборе отправлялось богослужение в торжественные дни. Далее тянулись также дома и заборы до Аничкина моста; здесь по левому берегу Фонтанки строились, уходя все далее к взморью, загородные дома или усадьбы петербургских вельмож. На Невской першпективе, до Литейной улицы, которая вела к артиллерийским казармам, или светлицам, рос сосновый лес. В нем, как бы в виде продолжения «першпективы», была сделана просека, тянувшаяся вплоть до Невского монастыря, около которого вдоль левого берега Невы стали селиться оптовые хлебные торговцы, предки современных калашниковцев. На протяжении Невской першпективы до Знаменской церкви во многих местах были топи, сверх которых была настлана бревенчатая мостовая, а далее начинались «пески», шедшие до самого монастыря. Тротуаров около домов не было, и пешеходы пробирались или по тропинкам, проложенным около домов, или около заборов, или шли посреди улицы.
Движение по Невской першпективе было очень незначительно, гораздо менее, нежели на Васильевском острове и даже Петербургской стороне. Редко проезжали по першпективе громадные тяжелые кареты, запряженные шестеркой лошадей цугом, и такая упряжь показывала, что экипажи эти принадлежат «знатным персонам». Проезжали здесь также коляски и колымаги, запряженные четверней, принадлежавшие лицам штаб-офицерского ранга. Чаще же всего показывались на першпективе парные и одноконные брички и тележки, в которых разъезжали лица обер-офицерского звания, купечество и духовные лица. По временам проезжали здесь и беговые дрожки, и существующие до сих пор двухколесные чухонские таратайки. Вообще тогдашний Петербург по постройкам был не красивее и по движению менее оживлен, чем нынешние наши уездные города. Освещение города было самое жалкое, только кое-где были поставлены на столбах да повешены на веревках, протянутых поперек улиц, тускло и недолго горевшие фонари. Ворота в домах русских, по перешедшему из Москвы обычаю, были на запоре и днем, и ночью, и вдобавок к такой предосторожности, когда начинало смеркаться, на цепи спускали около домов дворовых собак. Рано ложившийся спать город всю ночь до самого рассвета оглашался их вытьем и лаем, протяжными окликами часовых, грохотом трещоток и битьем в чугунные плиты или деревянные доски.
Невский монастырь вовсе не был тогда такою представительною обителью, какою является теперь. В то время он только что стал обстраиваться. Известный в свое время петербургский архитектор граф Растрелли начал по повелению императрицы возводить нынешний монастырский Троицкий собор с прилегающими к нему полукруглыми галереями, а также и митрополиточьи палаты по образцу итальянских палаццо. Весь монастырский двор был загроможден камнями, кирпичами, бревнами и досками, и Бергер с трудом пробирался между грудами этих строительных материалов, отыскивая келью Варсонофия. Был послеобеденный час, и на дворе никого не было видно, так как вся братия после трапезы разошлась по кельям на отдых. Долго ходил по двору кирасир, пока встретил какого-то послушника, у которого он и спросил, как пройти к Варсонофию.
По узкой и крутой лестнице взобрался Бергер к той двери, на которую указал ему тотчас же скрывшийся послушник. Кирасир слегка постучал в эту дверь, но она не отворялась, и на этот стук внутри кельи не было никакого отзыва. Он стукнул в другой раз посильнее, но также напрасно. Раздосадованный кирасир принялся стучать в дверь кулаком и греметь по полу палашом.
— Что ты, дьявол, в дверь так ломишься? Нешто не знаешь, как к монахам в келью просятся? — отозвался за дверью грубый голос; но, услышав в сенях звяканье палаша и шпор, Варсонофий, вставший с постели, поспешил приотворить дверь.
— Я пришел к вам, господин Варсонофьев… — проговорил смутившийся от такой невежливой встречи поручик.
— Какой я господин Варсонофьев! И назвать-то меня не умеешь как следует. Я просто или отец Варсонофий, или, иначе, преподобный отче. Да что тебе, брат, от меня надо?
— Позвольте войти к вам, госпо… отец Варсонофий, — проговорил не оправившийся еще от смущения Бергер, — и я вам расскажу, в чем дело.
— Нагрешил, верно, а теперь ко мне за разрешением от грехов притащился? Да ты кто такой будешь? — придерживая Бергера на пороге, спросил Варсонофий.
— Поручик кирасирского полка.
— Значит, из тех, что на конях в железе ездят?
— Так точно.
— Ну, лезь, — проговорил монах, толкнув вперед рукою дверь, жалобно заскрипевшую на ржавых петлях.
Едва ли можно представить себе что-нибудь хуже того помещения, в котором обитал Варсонофий. Хотя архимандрит и предлагал ему в монастыре очень приличное помещение, но Варсонофий, желая явить в этом случае смирение, отказался от всякого удобства и выбрал для себя самую скромную келью. Воздух в небольшой комнате или просто каморке, занятой Варсонофием, был удушлив. На стеклах запертого теперь, да и вообще никогда не отворявшегося окна, покрытых грязью и пылью, жужжало и пищало множество мух. У стены на простых из белого дерева подмостках лежали какие-то грязные лохмотья, служившие одром отшельнику. Подле этого ложа стоял деревянный запачканный стол, а на нем находился почерневший железный ковшик с квасом.
— Эка тварь проклятая! — проговорил с досадой Варсонофий, подбрасывая вверх своими запущенными в ковш грязными пальцами плававшую там муху. — Все время ко мне, окаянная, приставала, лезла то в нос, то в рот, а потом ты ко мне ломиться стал. Совсем заснуть не дали, а я-то на службе Божией с самого раннего утра порядком намаялся, отдохнуть надо было на вечерние радения… Так что ж тебе от меня надо? — спросил Варсонофий, обращаясь к Бергеру и садясь на постель. Он закрыл лицо ладонями и зевнул несколько раз. — Да садись же и ты вот сюда, — сказал он поручику, указывая ему глазами на стоявший подле постели чурбан.
Бергер присел на чурбан.
— Так, значит, выходит, чего ж ты от меня хочешь? — спросил опять Варсонофий, сопровождая свой вопрос несколькими зевками во весь рот, который он принялся теперь осенять мелкими крестами.
— Правда ли, что вы, отец Варсонофий, бываете у государыни императрицы?
— А тебе к чему это знать? Коли бываю — значит, того достоин, недаром же царица меня так жалует; значит, выходит, что я того достоин.
— Вот потому-то я и пришел к вам. Хочу вас просить, чтобы вы доставили мне возможность лично поговорить с ее величеством.
— Эк куда хватил! Да знаешь ли ты, олух царя небесного, что не все-то и енералы к ней являться могут? Вишь чего захотел!
Бергер смешался.
— Да ты веры-то какой, скажи ты мне наперед?
— Я лютеранин.
— То-то я смотрю, с чего ты ко мне и под благословение не подходишь, как следует православному.
— Извините меня, отец Варсонофий, я не сделал этого потому, что у нас нет такого обыкновения, — смиренно проговорил Бергер.
— Знаю, что вы, люторы, — нечестивцы. Вы, чай, и своих архиереев ни в грош не ставите, а нас, небось, совращать хотите. Да недолго вам у нас тешиться; после того, как вашим милостивцам Михину да Стерманову[60] хорошо по загривкам дали, всем вам присмиреть пришлось. Или думаете, что эти злодеи снова вернутся, так на вашей улице праздник будет?
— Не хочу я этого, а хочу служить верой и правдой нынешней государыне, и пришел-то я к вам, чтобы через вас предупредить ее о той опасности, которая грозит ей…
Варсонофий встрепенулся от удовольствия и стал поглаживать свою всклокоченную, с сильной проседью бороду, уставив свои лукавые глаза на немца. Он очень обрадовался, что помимо Дубянского и всяких других знатных персон он может явиться к государыне с таким важным известием.
— Да кто же посмел злоумышлять на матушку-царицу? — строго спросил Варсонофий.
— Пастор Грофт.
— Это тот, что на Невской першпективе в вашей божнице обедницы служит? Слыхал я о нем, что он хочет быть у вас патриархом санпитербургским и всенемецким, а потом и до нашей православной церкви добраться и сделаться как бы папою римским, церкву нашу православную себе подчинить. Да его, окаянного, за это в три дуги согнуть надо. Что ж он злоумышляет?
— Желает он возвращения Миниха и Остермана.
— Постой, брат, да ведь ты сам из немцев. Как же ты предательствуешь своих-то? Ведь ты на Иуду-христопродавца смахиваешь.
Бергер до сих пор терпеливо переносил грубости монаха, но теперь он уже не выдержал, вскочил с чурбана и застучал палашом по полу.
— Как смеешь ты мне это говорить? Я хочу верно служить государыне, а ты называешь меня Иудой, сбиваешь меня с пути. Да знаешь ли, что я сейчас же отсюда в тайную канцелярию и объявлю там против тебя «слово и дело». Там тебе все кости переломают, старая собака!
Не ожидая вовсе такой грозной острастки, Варсонофий струхнул порядком, но не хотел показать своего испуга.
— Ты сам сущий пес! С чего так на меня разлаялся? Я обмолвился, а он принялся на меня орать! Сам я без тебя знаю, что ты не Иуда; ведь ты не Христа предаешь, а только предаешь своего попа-негодника, да и предаешь ты не за сребреники. Так возьми же в толк, какой ты Иуда.
— То-то, смотри у меня! — сказал Бергер, садясь опять на чурбан и еще раз в угрозу старику постучав палашом об пол.
— Да ты из каких будешь? — спросил Варсонофий, желая переменить разговор.
— Сказано ведь тебе, что я лютеранин и немец.
— Не о том я спрашиваю, я хочу спросить, кто твой отец будет, чем занимается?
В других случаях Бергеру неприятно было, когда заходила речь о его скромном происхождении от какого-то митавского бюргера, переселившегося в Лифляндию, но теперь ему стесняться было не перед кем: кто бы он по происхождению ни был, во всяком случае, он мог считать себя по своей породе выше какого-нибудь вологодского мужика.
— Отец мой в Лифляндии держал в аренде мызу, — сказал Бергер.
— Не разберу я ничего из твоих слов. Говори толково: чем же, значит, он занимался?
— У него было свое хозяйство, свои поля, свой скот…
— И крестьяне крепостные были?
— Нет, крестьян таких не было.
— Кто же у него в поле-то работал?
— Наемные работники.
— Ну, это другое дело, а я-то думал, что ты по отцу будешь из господ. Уж больно обидчив. Смотрю я да и дивлюсь: из-за чего так малый заартачился? Эка диковина, что старик лишнее, пожалуй, и неосторожное слово проронил. Ну, хорошо, скажу я царице о злодейском против нее замысле, а ты мне передай, что ей к сообщению следует.
— Ну, нет, этого-то уж не будет, а ты только доведи меня до нее.
— Да как твое прозвание будет?
— И этого тебе знать не нужно, — решительным голосом возразил Бергер. — Разве мало с тебя будет, что ты, помимо всяких знатных персон, первый предупредишь государыню о той опасности, которая ей угрожает? Она тебе во всю жизнь признательна за это будет, а когда мы с тобой к ней пойдем, то все там ей расскажем. Если бы я тебе не хотел добра, так разве не мог бы я пойти прямо к графу Лестоку, или к Андрею Ивановичу Ушакову,[61] или к кабинет-министру Бестужеву?[62] Через них мне дорога была бы и прямее, и скорее, а я их хочу обойти и без них прямо обо всем самой государыне рассказать. Да ты, верно, ничего сделать не можешь, так я от тебя к Дубянскому пройду.
— Как же не могу! — обидчиво вскричал Варсонофий, — да то ли я ей еще говорил! А теперь скажу: так-то и так-то, матушка наша, благочестивейшая царица, приходил намедни ко мне офицер из немцев и говорил, что они, нечестивцы, хотят паки в управление и Михина и Стерманова поставить, да и сокрушенную тобою злодейку правительницу с некрещеным ее сыном на царство восстановить. Офицер-то этот своего прозвания не сказал, а хочет тебе открыть многое, что на твою, благочестивейшая самодержица, погибель готовится. Повели же ему через меня, недостойного, к тебе явиться, и он всех твоих недругов из окаянных немцев тебе по пальцам перечтет. Видно, они страшное дело затевают, коли их же брат, немец, на чистую воду вывести хочет. Никому этого дела не поручай, все тебя, матушка, твое царское величество, обманут, а разбери его сама. Офицер-то тебе все как на духу откроет. Складно так будет?
— Больше ничего мне и не нужно. Пусть только государыня позовет меня к себе, а уж говорить с нею я сумею, — самоуверенно сказал Бергер. — И тогда тебя, старика, не забуду, — покровительственно добавил он.
— Ну, брат, бабушка-то еще надвое сказала, кому кого забывать не придется, — возразил монах, — я-то уж в великой чести у царицы, а ты куда какая еще неважная птица! Зайди ко мне послезавтра, так я тебе дам ответ.
— Хорошо, буду я у тебя об эту пору. Да только поскорей дело делай, — сказал Бергер, уходя от Варсонофия не совсем довольный первым с ним свиданием.
XII
Спустя несколько времени после свидания Бергера с Варсонофием, Варсонофий, одетый в истертую и порыжевшую от времени рясу, с белой палкой в руках подходил к очень скромному деревянному дому, судя по приземистости и невзрачности которого никак нельзя было предположить, что владелец этого жилища, которое он сам называл «конурами», был одним из могущественных людей в тогдашней России. Незатейливое, с деревянным навесом на тоненьких столбиках крыльцо с покосившимися и подгнившими ступенями невысокой наружной лестницы вело со двора в эти «конуры». Надворные деревянные постройки имели обветшалый вид, а просторный, заросший травою двор с сохнувшей среди его березой показывал, что за этим домом не было никакого ухода. Все здесь было запущено: дожди давно смыли наружную окраску охрой, образовав на стенах огромные бурые пятна, ставни свешивались со сломанных петель, и деревянная, проросшая бархатисто-зеленым мохом, а кое-где и травою крыша и осыпавшиеся над нею дымовые трубы наглядно обнаруживали весь неуход за обиталищем столь «знатной персоны», какою сделался при императрице Елизавете и еще более прославившийся впоследствии ее кабинет-министр граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин.
Взойдя на крыльцо этого дома, Варсонофий не видел надобности постучать привешенным у входной двери молотком, так как двери прихожей были растворены настежь. В доме министра, против существовавшего тогда у знатных бар обычая, не толпилась многочисленная челядь, и доступ в его покои был открыт каждому. Стены и потолок первой небольшой комнаты были выбелены известью, а на небольших окнах висели простые ситцевые занавески. Вдоль стен стояла самая простая деревянная мебель. В комнате этой, которая должна была служить приемной, не было ни секретарей, ни докладчиков, ни сторожей, ни вестовых, ни ординарцев, которых в прежнюю пору по расписанной очереди посылали от полков и разных команд на дежурство к высшим сановникам, хотя бы они и состояли в гражданских чинах. Только на дворе под березой, около привязанной лошади, можно было заметить растянувшегося на траве полицейского драгуна, назначенного, как это делалось каждый день, от полиции к министру для спешных посылок и для развоза бумаг по городу.
Жил Алексей Петрович так скромно, а относительно своего высокого положения даже так бедно, можно сказать, так по-нищенски, не по наклонности к простоте, но по очень тонким соображениям. Он не имел своих собственных доходов, и такой образ жизни давал ему право ссылаться на ту крайнюю нужду, какую он должен был испытывать, не владея значительным имением, а между тем обязанный по своему высокому служебному положению иметь блестящую обстановку. Убогий домашний быт Бестужева давал ему основательный повод сетовать перед Анной Ивановной, а потом в особенности перед Елизаветой на то, что он живет «в конурах» и не имеет возможности обзавестись той обстановкой, которая соответствовала бы званию министра. Такие сетования не оставались бесплодными. Обе государыни надбавляли ему жалованье, приказывали производить значительные денежные выдачи и жаловали деревни. Ограниченные действительно в прежнее время денежные средства Бестужева возрастали постепенно и в особенности усилились в то время, когда он, сделавшись канцлером, начал получать от иностранных дворов подарки и пенсии. Тогда Бестужев развернулся на широкую ногу и на пожалованном ему под Петербургом, на Неве, Каменном острове выстроил великолепный каменный дом, обзавелся большим количеством серебряной посуды и для приема гостей у себя на даче устроил большую шелковую палатку, о которой говорили в Петербурге как о чуде, стоившем много денег. Вдобавок к этому он устроил обширный погреб, наполненный такими превосходными иностранными винами, каких ни за какие деньги нельзя было достать в Петербурге и о пересылке которых заботились русские, находившиеся в иностранных землях, дипломатические агенты, желая угодить своему начальнику.
Все это появилось у Алексея Петровича только впоследствии как необходимость, по словам его, показать приезжавшим в Петербург иностранцам, что великий канцлер такой богатой и могущественной державы, как Россия, может, благодаря неизмеримым щедротам всемилостивейшей государыни, жить так же пышно, как живут владетельные князья в Западной Европе. Императрица Елизавета, сама любившая пышность, была довольна тою роскошью, какою обставил себя ее канцлер, живший прежде, когда этого от него так настоятельно не требовалось, не только скромно, но даже убого.
Варсонофий посетил Алексея Петровича в прежнем его жилище и очень удивился, что Бестужев, о котором он так много наслышался, живет не в палатах, уподобляющихся царским, а в таком доме, который, пожалуй, был не под стать и зажиточному заурядному человеку.
«Лицемер, Должно быть, — подумал невольно Варсонофий, судя по себе, — ведь наверно у него есть на что жить иначе, а, должно быть, притворствует, чтобы убеждать всех в своем смирении и бескорыстии».
Войдя в приемную и став лицом к красному углу, Варсонофий занес ко лбу правую руку, чтобы перекреститься по привычке, но опустил ее, не видя перед собою иконы. Он осмотрелся по всем углам и, не найдя нигде образа, удивился, зная, что он пришел не к какому-нибудь иноверцу, а к православному, русскому боярину.
Через растворенные двери приемной и других следовавших за нею подряд комнат Варсонофий увидел в этих комнатах расставленные на простых белых столах склянки, банки, пузырьки и разные снаряды, об употреблении и применении которых он никак не мог догадаться, и это было очень естественно: они требовались Бестужеву для производства разных опытов по химии, о которой невежественный монах не имел никакого понятия.
Желая подать о себе весть, Варсонофий принялся ходить по комнате, возя по полу ноги в своих огромных сапожищах и по временам постукивал слегка палкой, припоминая палаш Бергера. Потом он стал откашливаться все громче и громче. Наконец он услышал приближающиеся из соседней комнаты чьи-то легкие шаги, и вслед за тем вошел высокий, представительный, средних лет мужчина. Он отличался горделивой осанкой и умным, а также и приветливым выражением лица.
Варсонофий и Бестужев не знали друг друга в лицо, хотя министр и слышал многое о разных выходках монаха; но так как эти выходки были направлены, под влиянием Дубянского и Разумовского против Лестока, то Алексей Петрович относился к Варсонофию не только без неприязни, но даже готов был ласково его встретить.
— Я старец Федоровско-Рождественна монастыря Варсонофий, — представился монах.
Так как вежливость в обращении с каждым и в ту уже пору считалась необходимым качеством людей благовоспитанных, к числу которых принадлежал и Бестужев-Рюмин, то он пригласил Варсонофия, как духовное лицо, сесть на канапе, а сам сел возле.
— Что вам от меня угодно? — спросил министр голосом, располагающим к доверию.
— Слыхал я, что тебе благочестивейшая самодержица наша передала мой извет на немецкого распопа, что неверию в своей молельне народ поучает и козни зловредные против царицы строит.
— Верно хочешь, преподобный отче, спросить о деле господина пастора Грофта? — мягко заметил Бестужев, заменив обращение на «вы» обращением на «ты», так как он увидел бесполезность такого приема, только что начавшего входить в употребление у русских в подражание Западной Европе.
— С чего же она тебе это дело предложила? Кажись, прежде такими делами Лешток занимался, — пытливо спросил Варсонофий, желая узнать об этом любимце императрицы что-нибудь новое от такого сведущего в придворной части человека, каким должен был бы быть Бестужев. — Али Лешток в немилость пришел?
— Не потому, — отвечал осторожный министр, — а мудрая государыня изволила принять во внимание, что его сиятельство граф Лесток не нашего закона, что беспристрастно может рассмотреть это дело только русский человек, а потому и соизволила мне приказать заняться переданным ее величеству от тебя изветом.
— Уж ты, батюшка, высоко графское сиятельство, спуску этому распопу да и всей его богопротивной пастве не давай, а нажми их хорошенько. На что похоже, что в православном царстве «люторы» в таком же почете, как и мы, обретаются? Много они в себя злочестия и гордыни всяческой забрали. Уж покарает Господь царство всероссийское за то, что мы их у себя терпим. Слыхал, может, какие в разных местах чудеса и знамения являются?
— Слыхал, слыхал, отче, — проговорил уступчиво Бестужев, вынимая из кармана золотую табакерку, подаренную ему императрицей Анной Ивановной, — как не слыхать!
— Да вот и я сподобился нынешней ночью особого откровения. Знаешь, как я после моих молитвенных радений опочил, то предо мною предстал святый Николай Чудотворец да, словно как наяву, возглаголал мне: «Рабе Божий Варсонофий, чего ты зеваешь! Люторы нечестивые свою божницу на Невской першпективе построили и себе православную веру покорить хотят, так ты гряди к благочестивой самодержице и поведай ей, чтоб повелела она эту храмину нечестия с лица земли снести».
Легкая насмешливая улыбка скользнула по губам министра, но значение ее мог уловить только человек более чуткий к впечатлениям и более наблюдательный, нежели Варсонофий, отличавшийся только грубою смекалкой. Бестужев щелкнул по табакерке двумя пальцами, открыл ее крышку, усыпанную бриллиантами и, взяв между двух пальцев щепотку табака, начал, по тогдашней моде, нюхать с расстановкой.
— Справедливо ты говоришь, преподобный отче, что мы живем во время чудес и знамений. Вот тебе поснился такой сон, который вызывает тебя на благочестивый подвиг; представь же, что и мне нынешнею ночью приснился тоже чудный сон. Наслышавшись много о тебе, я даже хотел повидаться с тобою, чтобы попросить твоего праведного совета, а вот ты сам, хоть ни разу не был у меня, вдруг, точно руководимый какою-то особою силой, пришел ко мне. Неверующие скажут, пожалуй, что это не чудо, а я так думаю совсем иначе.
— Конечно, чудо! — подхватил Варсонофий, обрадованный тем льстивым оборотом речи, какой принял Бестужев. — Чудо, чудо! — повторил он, покачивая головою.
— Снилось мне, что ко мне пришли оба верховных апостола, Петр и Павел, и сказали мне, что некие покушаются разрушить немецкий храм, построенный на Невской першпективе во имя их, и чтобы я воспрепятствовал тому, пошел бы к ее величеству и доложил, что допускать этого не следует. Вот теперь и сам я не знаю, как поступить: ты, преподобный отче, на свой сон ссылаться изволишь, а я не могу пренебречь и моим. Как же тут поступить? Вразуми меня.
Варсонофий сперва не догадался, в чем заключалась суть такого чудного совпадения снов, и только с удивлением продолжал покачивать головою.
— Знаешь что, отец Варсонофий, — сказал Алексей Петрович, дружески ударив по плечу монаха, — выходит тут какое-то недомыслие. Смотри, чтоб кому-нибудь из нас не попасть впросак. Подождем-ка лучше, авось и мне, и тебе привидится одинаковый сон, и тогда мы узнаем, что нам следует сделать.
Варсонофий в глубоком раздумье как бы нехотя кивнул в ответ утвердительно головою.
— А что касается господина пастора Грофта, то на это последовало уже высочайшее повеление, которое мною в точности исполнено будет, а тебя надлежит поблагодарить за твое усердие.
Сказав это, Бестужев встал с места; то же сделал и Варсонофий. Он стоял теперь, переминаясь с ноги на ногу в ожидании, что министр сообщит ему еще что-нибудь.
— Затем прощай, преподобный отче, не забывай меня в твоих молитвах.
Проговорив это, Бестужев слегка поклонился монаху и направился в ту комнату, из которой он к нему вышел.
По его уходе стоявший в раздумье Варсонофий сообразил, что министр точно так же выдумал свой предостерегательный сон, как выдумал свой сон сам Варсонофий, и что Бестужев ловко поддел его.
— Эка нечисть! — ворчал про себя монах. — Вот сейчас я и поверю, что ему станут являться во сне первоапостолы. Вон у него ни иконы нет, ни ко мне под благословение не подошел.
В назначенный день Бергер явился к Варсонофию.
— Говорил я о тебе царице, говорил. Будь готов, не сегодня, так завтра потребует она тебя к себе. Не робей только при ней. Вот я — так с ней разговариваю, словно как с тобой.
Еще раза два-три кирасир побывал у Варсонофия, который начал смущаться при его посещениях и заговаривать притчами — притчами, туманными даже и для русских и совершенно непонятными для Бергера, который, пробыв довольно долго в Петербурге, хотя и порядочно выучился по-русски, но все же не настолько, чтобы быть в состоянии разуметь темное простонародное пустословие вологжанина.
Кирасир сердился все более и более на проволочки со стороны Варсонофия, и когда однажды Бергер отправился к нему, чтобы расправиться по-военному, то не достучался в его двери ни кулаками, ни ногами, ни палашом. Прибежавшие на этот страшный стук монахи и послушники рассказали Бергеру, что, как оказалось, Варсонофий вовсе не был человеком «ангельского чина», что за ним водились разные худые дела и что, проведав, что до него стали добираться и ему грозит беда, он неизвестно куда скрылся, о чем архимандрит и сделал сегодня утром надлежащую явку и духовному начальству, и в полицию.
XIII
Не удовлетворенный Бестужевым, Варсонофий попытался толкнуться к отцу Дубянскому. Духовник принял его уже не так предупредительно и ласково, как принимал прежде. Отец Федор не только не угостил его икрой, семгой, наливками, настойками и вареньями, как это всегда водилось, но даже не пригласил его сесть, а, проговорив с ним стоя, сказал, что теперь ему некогда, так как он должен идти к ее величеству сейчас же по очень спешному Делу.
Назойливый Варсонофий отважился было пробраться по-прежнему к самой государыне, но когда он задним ходом пришел к ее апартаментам, то заметил, что ни прислуга, ни приживалки не только не обращают на него никакого внимания, но даже не хотят и разговаривать с ним. Чуть он кого спросит — тот или та, не отвечая ничего, отворачиваются от него.
Объяснялось это тем, что Дубянский, раздраженный нахальством Варсонофия, устроил так, что государыня потеряла к Варсонофию всякое доверие. Отец Федор сумел убедить ее, что Варсонофий дерзал ее обманывать, рассказывая ей нелепости и небылицы, и что он не только не имеет никакого понятия об истинных догматах православия, но даже не знает как следует богослужебных обрядов. Духовник говорил, что нужно произвести о Варсонофии строгое дознание и что тогда наверное окажется, что он не кто иной, как бродяга.
Между тем Бестужев тотчас после ухода от него Варсонофия потребовал своего секретаря, который и написал к Грофту повестку, чтобы он, Грофт, немедленно прибыл к министру для необходимых объяснений, а спавший на траве под березой полицейский драгун поскакал с этой бумагой на Невскую першпективу.
С партией Миниха у Алексея Петровича были свои личные счеты. Нельзя сказать, чтобы он при Анне Ивановне вел себя достойно человека. Угодливостью Бирону и заискиванием у него Бестужев, как бы забытый в Копенгагене на скромном посту резидента, обратил на себя внимание могущественного временщика и был выведен им в люди. При содействии герцога или, вернее сказать, по его воле Бестужев был произведен в тайные советники и получил александровскую ленту. Затем он был вызван в Петербург и назначен кабинет-министром на место Волынского[63]. Когда же Бирон был низвергнут, то Бестужев, как близкий ему человек, был арестован и ему предстояла вместе с его патроном поездка в отдаленнейшие места Сибири. Он обвинялся в том, что первый предложил в регенты герцога Курляндского и для достижения этого при составлении акта о регентстве употреблял обманные способы. Обвиняли его в сочинении «позитивной декларации и листа, якобы вся нация бывшего герцога регентом иметь желают». Далее в обвинении говорилось, что он «неслыханным образом нацию к подписанию сего листа принудил, призывая всех и приневоливая подписывать, впуская в министерскую только человека по два, по три». При допросе Бестужеву прямо говорили: «Известно, что ты бывшего регента весьма откровенным шпионом был». Как человек хитрый и бездушный, Алексей Петрович выпутался, однако, из беды. Вместо того, чтобы, в благодарность Бирону за его покровительство, защитить его, он явился одним из главных его обвинителей; но укоры Бирона пробудили в нем совесть, он упал на колена перед бывшим регентом и просил у него прощения в том, что своими показаниями отягчил его участь.
Так как Бестужев был сторонником Бирона, против которого Елизавета не имела ничего, и явился как бы страдальцем при правительнице, против которой действовала цесаревна, то невзгода, постигшая Алексея Петровича, обратилась — как это часто бывает в жизни человека — в его пользу. Императрица смотрела на него как на недруга власти Брауншвейгской фамилии, а Лесток, с своей стороны, счел нелишним оказать свое покровительство Бестужеву, как очень умному и способному, а следовательно, и пригодному человеку. Стечение всех этих обстоятельств выдвинуло тотчас же по вступлении на престол Елизаветы Бестужева на видное место, и впоследствии он стал распоряжаться всеми делами.
Как человек тонкий, Алексей Петрович отложил в сторону всякие личные раздражения по вопросу о Грофте как представителе партии Миниха и решил поступить с пастором великодушно.
В сильном смущении предстал Грофт перед министром, который принял его с холодною вежливостью.
— Мне пришлось, — сказал ему по-немецки Бестужев, — пригласить вас к себе по делу очень неприятному как для вас, так равно и для меня, так как я должен вам, несмотря на ваше почтенное звание, сделать строгое замечание, а вы — выслушать его и принять его к руководству.
— Ваше сиятельство… — поторопился заметить Грофт.
— Потрудитесь прежде выслушать меня, а потом я выслушаю вас. Есть у вас «концепт»[64] той проповеди, которую вы произнесли в прошлое воскресенье? Если вы мне можете доставить его сейчас же, то он послужит самым лучшим средством для вашего оправдания.
— К сожалению, господин граф, я не могу этого сделать, так как я всегда говорю мои проповеди устно, а не по тетради.
— Этот способ проповедничества указывает на ваше ораторское дарование и вместе с тем служит причиною ваших увлечений. Вы позволили себе отзываться с неуместным сочувствием к бывшему фельдмаршалу Миниху, зная очень хорошо, что он объявлен государственным преступником и что имя его должно быть в полном забвении.
— Но я говорил о графе Минихе, не упоминая даже его имени, только как о бывшем нашем первенствовавшем прихожанине.
— Положим, что и так, но все же очень жаль, что у такого почтенного человека недостало на этот раз необходимой в подобных случаях сообразительности и что вы вашей неосмотрительностью дали повод к толкам, которые могут сильно повредить вам и вашей пастве.
— Мы, ваше сиятельство, и так поставлены теперь в крайне опасное положение. Городские слухи настойчиво утверждают, что храм наш хотят упразднить и вообще стеснить предоставленную нам в России свободу вероисповедания.
— Это возможно, — сурово и твердо начал министр, — если ваши проповедники и ваши прихожане станут вмешиваться в политические дела. Россия должна быть Россией, а не местом сборища иностранных политических партий, которые обыкновенно крайне ошибочно смотрят и на нашу государственность, и на наш народ. Впрочем, я должен сообщить вам, что в настоящее время ее императорское величество не думает прибегать ни к каким угнетательным мерам, и насчет этого я уполномочиваю вас успокоить вашу паству, разумеется, только не с проповеднической кафедры, а в частных разговорах. Затем вы можете считать дело ваше конченным, так как я вполне уверен, что в будущем мне не придется иметь с вами такого неприятного свидания, каким было настоящее.
Сказав это, Бестужев слегка поклонился пастору, показав тем, что аудиенция кончена.
Не получая никакого не только приглашения, но даже и ответа на свой донос и узнав об исчезновении Варсонофия, Бергер убедился, что он попусту возился с пройдохой, что дело его не выгорело и что пастор Грофт был не такой личностью, чтобы донос на него мог, несмотря на всю обстановку доноса, выдвинуть доносчика вперед.
Сообразив все это, Бергер стал измышлять новые средства для своего возвышения, утешая себя мыслью, что если где-нибудь встретит Варсонофия, то вздует его палашом без всякого милосердия.
«Правду говорил мне Лопухин, — думал Бергер, — что если уж ловить птицу, так ловить важную, и если уж падать, так падать с хорошего коня. Нужно будет последовать его, в этом случае разумному, совету».
XIV
В числе фамилий, выдвинувшихся вперед в области государственной деятельности после Петра Великого, была фамилия Бестужевых. Людьми «новыми» в полном значении этого слова их нельзя было назвать, так как родословие их восходило до начала XV века, когда некий англичанин Бестюр выехал из Англии в Москву, а переделанное на русский лад его родовое прозвище обратилось в Бестужева. Бестужевы не только не были в числе людей, ознаменовавших себя какими-либо доблестями или подвигами, но даже не достигали значительных служебных степеней. Из них не было ни бояр, ни окольничих, ни даже стольников. Они служили в войсках, занимая скромные должности, порой их отправляли гонцами к султану или к хану крымскому — и только, и за эти не слишком видные службы жаловали их соответствующими поместьями. Одному из Бестужевых, Петру Михайловичу, и его ближайшим сродникам, в отличие от прочих их однородцев, Петр I дозволил личное прозвание одного из их ближайших предков — «Рюмин» обратить в фамильное имя, и таким образом явились Бестужевы-Рюмины.
Первый из Бестужевых-Рюминых, Петр Михайлович, человек довольно способный и преимущественно хитрый, был известен Петру, и когда тот выдал племянницу свою Анну Ивановну за Вильгельма, герцога Курляндского, то для наблюдения в Курляндии за интересами России послал в Митаву Петра Бестужева в качестве русского резидента. Бестужев оправдал ожидания государя, так как он зорко следил за всем, что там происходило, держал себя перед тамошним дворянством с достоинством, а вместе с тем стал пользоваться среди него и личным влиянием. Сверх того он приобрел еще и дружественное расположение герцогини, с которой, однако, ему было немало хлопот, так как она постоянно билась из-за денег, ибо доходы, получаемые ею со вдовьих имений, находившихся в Курляндии, поступали очень туго, а доходы с ее вотчин в России взимались неисправно и с большими задержками. Разумеется, что такое печальное состояние финансов герцогини отзывалось весьма прискорбно и на кармане ее гофмаршала, так как герцогиня не только не была в состоянии оказывать ему свои щедроты, но ему постоянно приходилось ждать уплаты даже следовавшего ему жалованья. Еще тяжелее для него было списываться с Петербургом насчет получения денег, объясняя при этом те стеснительные обстоятельства по денежной части, в которых находилась его августейшая повелительница, так что он в Петербурге оказывался не блестящим царедворцем, а каким-то надоедливым попрошайкою у всех, кто так или иначе мог помочь герцогине в получении ее рублевиков, талеров и ефимков.
У Петра Михайловича было два сына: Михайло и Алексей. Из них Алексей Петрович известен в истории как знаменитый государственный человек. Что же касается старшего его брата Михаила, то он в юности был «вояжером», то есть разъезжал по всем городам Европы, осматривая древности, замечательные здания, коллекции различных достопримечательностей, живописные виды, картинные галереи и посещая разные зрелища и увеселения. Потом он попал в число дворян русского посольства, снаряженного в Данию, которая тогда имела для нас весьма важное политическое значение. Был он после того дворянином русского посольства в Константинополе при Шафирове[65] и приехал от него с депешами на Прут в ту роковую пору, когда царь на берегах этой реки был окружен татарами и турками. Вскоре после того он был определен «в Курляндию при родителе для вспомоществования ему в немецком языке». Так как, вероятно, сам родитель подучился достаточно этому языку, то вспомоществовавшее ему чадо было назначено камер-юнкером при кронпринцессе — так называли тогда на немецкий лад супругу царевича Алексея Петровича. Он оставался при кронпринцессе в этом самом звании до ее кончины и с известием об этом событии был отправлен в Вену, а оттуда попал на свадьбу в Данциг, где Петр обвенчал свою племянницу Екатерину Ивановну[66] с герцогом Мекленбургским. Из Данцига Бестужев был отправлен президентом в Англию, а оттуда Петр перевел его в Швецию «министром без характера», то есть приказал отправлять обязанности министра при иностранном дворе, а министерского звания официально ему не предоставил. Дал ему Петр хороший по тогдашнему времени «трактамент», или жалованье, а именно три тысячи «рублев», но так как Петр попусту денег тратить не любил, то за значительный трактамент взвалил на Бестужева нелегкую работу. Он поручил ему стараться: во-первых, о признании за русскими государями нового императорского титула, а во-вторых — о признании за покровительствуемым со стороны Петра герцогом Голштинским титула королевского высочества и, наконец, что было особенно важно, — о заключении оборонительного и наступательного союза между Россией и Швецией, которые еще так недавно вели между собою долголетнюю и ожесточенную войну. Бестужеву удалось исполнить все это, и тогда император дал ему «характер» посланника, сделав действительным статским советником и камергером. Не оставил он его и денежною дачею, так как вместо прежних трех тысяч трактамента ему стали отпускать по пяти. Екатерина I отправила его своим послом в Варшаву, а Анна Ивановна — в Берлин, потом в Швецию, где он осилил французскую партию, враждебную России, за что получил чин тайного советника и повышение трактамента до десяти тысяч рублей. Вскоре к этому ему прибавили еще четыре тысячи, сделали действительным тайным советником, возложили на него александровскую ленту и отправили сперва в Гамбург, а потом в Англию, откуда и вызвала его императрица Елизавета, назначив его обер-гофмаршалом своего двора, — и, разумеется, человек этот, присмотревшийся при разных европейских дворах ко всевозможным придворным церемониальным и торжественным порядкам и обрядностям, был как нельзя более на своем месте.
Так как Михайла Бестужев был пятью годами старше своего брата и выдвигался гораздо заметнее, чем Алексей, засидевшийся в Копенгагене на месте резидента, то и полагали, что старший руководит младшим. Но это мнение было ошибочным. Алексей сам по себе был не только не промах, но во многих случаях даже гораздо хитрее, проворнее и изворотливее своего старшего брата. Вся семья Бестужевых-Рюминых, получившая в 1742 году от Елизаветы графское достоинство, старалась господствовать при дворе, и в этом случае не отставала от братьев и сестра их Аграфена Петровна, бывшая замужем за князем Никитою Федоровичем Волконским. Она при Екатерине I неутомимо вела интриги, направленные против князя Меншикова[67], и добивалась должности гофмейстерины при великой княжне Наталье Алексеевне, рассчитывая через эту умную девушку властвовать над братом Натальи, императором Петром II[68], но надежды ее не сбылись.
В свою очередь, братья ее были готовы на все, чтобы выйти вперед. Хотя Бестужевы были люди европейски просвещенные, но из честолюбивых целей они примкнули к партии царевича Алексея, надеясь, что он рано или поздно будет царствовать и что тогда не забудет их своими милостями. Они заискивали и расположение Венского двора, понимая, что близкая родственная связь римско-немецкого императора по жене его с женою царевича Алексея, а вместе с тем и матерью Петра II — может в свое время очень пригодиться. Алексей же Бестужев для удовлетворения томившего его честолюбия передался на сторону Бирона.
При Елизавете он был в большой силе, но поперек его дороги стоял Лесток, который первоначально содействовал возвышению Бестужева, но потом, к крайнему своему раздражению, увидел, что Бестужев не только не уступает ему, Лестоку, но даже, напротив, желает оттеснить его вовсе от государыни, чтобы исключительно только самому ему сделаться доверенным ее лицом. Разумеется, Лесток не захотел уступить Бестужеву своего значения без боя, и между соперниками завязалась упорная борьба. Бестужев при помощи санкт-петербургского почт-директора барона Аша[69] перехватывал пересылаемые по почте депеши иностранных послов в Петербург и с академиком Таубертом[70]разбирал шифр этих депеш, из которых хитрый министр извлекал все то, что могло служить ему в пользу и быть обращено во вред его противнику, Лестоку.
— Наимудрейший монарх в мире, король прусский Фридрих II[71], — оправдывал себя Бестужев, сознавая всю неприглядность таких поступков, — перехватывает чужие письма и перечитывает их. От чего же мне не делать этого, если «перлюстрация» дипломатических депеш может служить на пользу моего отечества, а самого меня ограждать от тех козней и происков, которые ведет против меня мой противник тоже нечестным образом.
Немало уже накопилось у Бестужева собранных таким способом сведений, которые он, в виде своих соображений и догадок, ловко передавал императрице, задевая, сколько возможно, Лестока. Бестужев теперь в глазах Елизаветы стал оказываться каким-то вещим мудрецом. Ему по делам внешней политики было заранее известно, на какую сторону будет Лесток склонять императрицу, и, разумеется, предсказывая такие попытки бывшего лейб-медика, он объяснял их его корыстными расчетами и сокрушался, что государыня так легко может быть введена в заблуждение людьми, недостойными ее высочайшего доверия и не желающими истинного блага отечеству.
С своей стороны, и Лесток, пользуясь своею чрезвычайною близостью к императрице, — как ее врач, как старый друг и, наконец, как едва ли не самый главный деятель при перевороте в ее пользу, — ежедневно имел случай оговорить Бестужева и никогда не упускал благоприятной минуты, чтобы воспользоваться таким случаем.
Бестужеву приходилось порою очень туго от злобных наветов Лестока, так как он не мог не заметить, что оказываемое ему императрицей доверие начинало вдруг слабеть и колебаться.
— Принужден я, — говорил в таких случаях Бестужев государыне, — терпеть по злобе или по ненависти мерзкие нарекания и разные Богу противные оклеветания: то я закуплен от Австрии, то от Англии, а иногда и от датчан; но враги мои должны признаться, что досель ни в европейских, ни в азиатских делах ничего не упущено. Приплетают меня и в богомерзкую конспирацию, но беру я дерзновение просить, чтоб исследовано было. Приводим и в робость превеликую: неужели все труды от моего чистого сердца и усердия отринуты и ни во что превращены будут?
Такие жалобные речи министра трогали сердце Елизаветы. Она переменяла то равнодушное, то немилостивое даже обращение свое с Алексеем Петровичем в благосклонное. Он ободрялся и уходил от нее обнадеженный в расположении к себе государыни. Через несколько дней повторялось, однако, то же самое, и мнительный Бестужев никогда не был уверен в прочности своего положения.
— Сегодня милость, а завтра, может быть, гнев ожидает меня. Разумеется, что я никогда не могу быть спокоен. Быть может, завтра же государыня изъявит мне не только неудовольствие, но и опалу. Необходимо прежде всего сжить со света Лестока. Спасибо еще, что Воронцов[72] и Шувалов поддерживают меня, а то меня сейчас бы проглотил лейб-медикус, как глотает государыня прописанные им ей пилюли.
Кроме соперничества в личном влиянии на государыню, между Бестужевым и Лестоком была и политическая вражда. Лесток, как француз, хотя и родившийся в Ганновере, и друг маркиза де Шетарди, поддерживал в России интересы версальского кабинета, который в благодарность за это назначил ему ежегодную пенсию в пятнадцать тысяч рублей. С своей стороны, Бестужев и по семейному расположению, и по личным своим чувствам был приверженцем Австрии, соперничавшей в это время с Францией. Шетарди пытался было подкупить Бестужева в пользу Франции, но он пребывал верен Австрии, которая, с своей стороны, не оставляла благосклонного к ней министра щедрыми благостынями.
— Уступки земель Швеции государынею, — говорил Бестужев маркизу Шетарди, — была бы противна славе ее отца, и Франция напрасно старается склонить к этому Россию. Начать переговоры с Швецией может Россия только на основаниях Ништадтского мира[73], и мне стоило бы отрубить голову, если бы я посоветовал ее величеству уступить Швеции хоть одну пядь земли. Если нужно воевать с Швецией, то мы будем воевать с нею в добрый час, но я думаю, что, и не прибегая к этой крайности, мы можем быть полезными Швеции. Разве у нее нет других потерь, которые ей гораздо выгоднее возвратить?
— Уж не говорите ли вы о Бремени и Вердене? — со смехом спросил маркиз. — Уже не думаете ли вы помочь ей в этом деле?
— Соглашение между нами и Швецией всегда возможно, — как-то таинственно отозвался Бестужев, — мы искренно желаем добра Швеции; пусть его величество король французский установит мир на севере, заключит союз с Россией и Швецией и… и… — заминаясь, добавил Бестужев, — довершит дело браком. Располагая Россией и Швецией, его наихристианнейшее величество может дать такое направление политики, какое он сам пожелает.
При упоминании о браке Шетарди насмешливо улыбнулся, понимая всю невозможность такого дипломатического сближения между Россией и Францией в настоящее время. Понимал это, конечно, и Бестужев, но упоминание о браке императрицы Елизаветы с одним из членов Бурбонского дома было тогда одним из обыкновенных припевов при дипломатических переговорах между Россией и Францией.
Еще Петр Великий, в бытность свою во Франции, держа на руках в Версале короля-ребенка Людовика XV, подумывал о браке его с Елизаветою. Придворные льстецы из французов говорили, что Елизавета рождена быть украшением Версальского двора, и, по тогдашним понятиям, нельзя было сделать большей похвалы ни одной из принцесс. Предположение о свадьбе Людовика XV с испанскою инфантою сделало замышляемый Петром брак невозможным, но и после того в Петербурге намечали в женихи Елизавете то одного, то другого из французских принцев. Сама Елизавета, страстно любившая Францию, вероятно, под влиянием тех рассказов, которые она слышала от своих воспитательниц, француженок де Лоне и Каро, мечтала о таком браке.
В свою очередь и Лесток, не говоря уже о Шетарди, старался поддержать в императрице расположение к прекрасной Франции. Король Людовик XV был идеалом Елизаветы.
— Как вы смешно сегодня одеты, точно русская царица, — сказал однажды бывший не в духе Людовик XV своей подруге герцогине Мальи, заметив ее безвкусный наряд.
Это замечание изящного короля, знавшего толк в дамских нарядах не меньше первостепенной французской модистки, подхватили версальские придворные как одну из метких острот своего владыки, и оно быстро распространилось по Парижу, а противники перевеса Франции над Россией не замедлили перенести королевскую остроту в Россию.
Насмешкой короля было нанесено глубокое оскорбление Елизавете, считавшей себя первой щеголихой в мире, имевшей в своем гардеробе четыре тысячи великолепных платьев.
Охлаждение к Франции со стороны Елизаветы должно было невыгодно отозваться на положении Лестока и в то же время облегчить для Бестужева борьбу с ним; но прежде чем произошло это, Алексею Петровичу пришлось изведать немало неприятностей.
XV
Прошло более четырех лет со смерти Ягужинского, когда воцарилась императрица Елизавета Петровна. Против семейства Ягужинского она не имела ничего на сердце, но не то следует сказать об отношении ее к семейству Головкиных, из которых самый видный представитель очутился сперва возле плахи, а потом, хотя и помилованный, но опозоренный, томился вместе со своею женой в Собачьем Остроге, в отдаленных местностях Сибири, около мало кому ведомого Якутска.
Ягужинская не могла переносить страданий своего любимого брата и изыскивала все способы, чтобы возвратить его из ужасного изгнания или, по крайней мере, хоть несколько облегчить его участь. Сделать что-нибудь такое могло только лицо, пользовавшееся особым доверием и чрезвычайным расположением государыни. Графиня Анна Гавриловна пыталась достигнуть этого через Воронцовых, Шуваловых и Разумовского, но легко понять, что участники переворота 25 ноября 1741 года не могли заговорить о помиловании графа Михаила Гавриловича или о каком-нибудь к нему снисхождении.
«Если замолвить о Головкине доброе слово, — думали они, — то, в сущности, это будет значить, что мы умаляем свои личные заслуги. Не от слишком же важных врагов освободили мы цесаревну, если теперь сами начинаем просить за такого главного злодея, каким был Головкин. Не велика, значит, была его вина, если он вызывает теперь к себе сострадание в тех, которые обрекли его не на ссылку только, но и на жестокую смертную казнь. Довольно и того, что кроткая царица оказала ему неизреченное милосердие. Кто может также поручиться, что, получив свободу, он не начнет приискивать средств, чтобы сломить своих врагов и при случае отомстить им?»
По этим весьма основательным и вполне последовательным соображениям ни Шуваловы, ни Воронцовы, ни Разумовский не могли быть ходатаями за Головкина. Еще менее мог явиться в таком качестве Лесток. При своей подозрительности, опасаясь каких-либо предприятий со стороны бывших «адгерентов» правительницы, он не только не думал о пощаде их, но «хотел погрузить их так, чтобы они не выплыли». Мало того, на возбуждаемых упомянутыми «адгерентами» опасениях он думал вернее упрочить свое положение при императрице, начавшее казаться ему шатким. Духовник государыни был не таким человеком, который, молясь во Храме Божием «о страждущих», был бы на деле готов помочь им своим представительством у земной царицы.
— Извини, брат Михайла, — говорил однажды в сильном раздражении Алексей Петрович, — хотя я и младший тебе брат, но в настоящем случае не могу удержаться, чтобы не дать тебе доброго совета. Дожил ты почти до пятидесяти лет холостяком, а теперь вдруг вздумал жениться. Уже это одно, по моему мнению, составляет большую ошибку. Поверь мне, что не по тебе будет супружеская жизнь, к ней нужно попривыкнуть смолоду, и в этом отношении я, как человек женатый, более сведущ, нежели ты.
Казалось, Михайла Петрович на внушения своего брата не обращал никакого внимания. Он, задумавшись и заложив за спину руки, ходил по комнате мерными шагами, не отвечая ничего на замечания, делаемые ему Алексеем Петровичем.
— Неблагоразумие с твоей стороны заключается, впрочем, не в одном только этом. Ты занимаешь при дворе такую важную должность, пользуешься особым расположением государыни и вдруг берешь жену из опального семейства. Если, положим, нам и не нужно искать поддержки в родственных связях, потому что мы сами за себя постоять сумеем, то все же некстати родниться нам и с такими фамилиями, которые навлекли на себя немилость.
— Боишься ты, значит, Алексей Петрович, что брак мой может отозваться и на тебе? — усмехнулся гофмаршал.
— Да что ж ты думаешь, разве это невозможно? Разве не могут наши недоброжелатели припутать нас к разным факциям и конспирациям, ссылаясь на твое родство с Головкиными?
— Если это и так, то теперь уже поздно отсоветовать мне жениться на Анне Гавриловне, да и я слишком ее полюбил, чтобы мог отказаться от ее руки.
Министр с неудовольствием пожал плечами.
— Делай как хочешь, но знай наперед, что я на твоей свадьбе не буду; я не хочу наживать себе неприятностей из-за твоей запоздалой любви.
— Твоя воля, — отозвался равнодушно граф Михайла. — Прощай, я ухожу.
— Будь счастлив, боюсь только, чтобы не пришлось тебе вскоре раскаяться в своем неосмотрительном союзе.
Братья расстались между собой более чем холодно, так как каждый из них положил мысленно не иметь друг с другом никаких сношений.
В словах обер-гофмаршала своему мнительному брату о своей сильной страсти к вдове графа Ягужинского не было ничего напускного. Он полюбил Анну Гавриловну с тем пылом, который казался уже несвойственным его годам, когда порывы и увлечения уступают место старческой холодности и себялюбивым расчетам. Ягужинская могла, впрочем, понравиться ему. Она была теперь в полном расцвете своей если и не блистательной, то обольстительной красоты. В петербургском обществе она считалась самою скромной и вполне безупречной женщиной и составляла по своему поведению совершенную противоположность младшей сестре своей Анастасии, бывшей замужем за князем Никитою Юрьевичем Трубецким, за которого пошла она, не чувствуя к нему никакого расположения. В это время молодой ветреницы уже не было на свете. Трубецкой похоронил ее в 1735 году, но хорошо ее помнил. Помнил ее и историк князь Щербатов, который писал о ней следующее:
«Слюбился князь Иван Алексеевич Долгорукой с Трубецкого, рожденною Головкиною, жил с нею и пил с ея мужем, бивал и ругивал его, бывшего генерал-майором кавалергардского полка».
Подвыпивший крепко на какой-то пирушке Иван Долгорукой схватился с Трубецким и принялся колотить его и, наконец, в ярости своей дошел до того, что призвал прислугу и приказал ей вышвырнуть рогоносного кавалергарда за окно, и только заступничество Степана Васильевича Лопухина спасло его от предстоявшего ему полета.
Влюбившись по уши в молодую вдовушку, гофмаршал завел с нею почтительно-любовную переписку.
«Каково вы, мой друг Аннушка, сию ночь почивали, — писал ей Михайла Бестужев, — я худо спал для того, что болезнь моя вчера ввечеру немного прибавилась, нежели днем была, а теперь о них ничего не слышу, и никакого знака на ноге нет; я бы очень желал ко двору выехать должность мою исправить.
Понеже сего дни куртаку (куртага) не будет, пожалуй, приедь ко мне, друг мой; пробавим вечер вместе; мне грустно, когда вас не вижу, хотя вам и не так, то для меня учините».
Жених, начинавший уже чувствовать приступы подагры, старался нравиться Ягужинской и другими способами, без которых может обойтись молодой человек в отношении любимой им женщины. Он хлопотал по разным делам вдовой графини и, уведомляя ее о результатах своих хлопот, писал ей следующие нежные строки:
«А что до меня касается, то я не премину, где надлежит и где полезность увижу, крайнее старание и попечение о том иметь, ибо вам уже видно и приметно о моей истинной вам преданности и особливой венерации, и ничего так на свете не желаю, яко и с вашей стороны таких же сентиментов к вашему верному слуге, в каких я к вашей дражайшей и любезнейшей персоне нахожусь; сии слова не суть комплименты, но от истинного сердца происходят».
«Третьего дни, — продолжал влюбленный обер-гофмаршал, — будучи у господина Лестока, вы изволили мне позволить к себе писать; я в той надежде к вам и пишу, не сумневаяся, что вы удостоите меня своим благосклонным и приятным изветом, еже много поспешит моему облегчению; весьма мне прискорбно, что я не сподоблюся на куртаге вас видеть; когда вы туда мимо моего двора поедете, хоть уж тогда спамятуйте обо мне, вашем верном слуге, который от сердца любит и почитает и дражайшие ваши ручки целует».
Императрица, узнав о предстоящей женитьбе своего обер-гофмаршала на графине Ягужинской, не только не выразила своего неудовольствия против этого брачного союза, но, поздравив старого холостяка со вступлением в супружество, пожелала лично обменять их кольца при обряде обручения. Проведав об этом, Алексей Бестужев пожалел, что он поторопился своим отказом приехать на свадьбу брата из пустого опасения, что своим там присутствием не угодит императрице. Теперь же он сам поехал к брату заявить, что он с большим удовольствием явится как на его обручение, так и на его венчание. Разумеется, что при таких условиях отказа в приглашении быть не могло. Но мнительный министр пал, однако, в новое сомнение: он знал переменчивость в благосклонности императрицы и полагал, что ею оказано было внимание брачущейся чете только потому, что государыне не хотелось казаться мстительной, хотя в душе она и не была расположена к Ягужинской, как к сестре человека, которого считала своим злейшим врагом, и, кроме того, ей было хорошо известно как о тесной дружбе сестры к брату, так и о том, что Ягужинская постоянно оплакивала злополучную долю, постигшую бывшего вице-канцлера. Не забывала также Елизавета, что сама Ягужинская была другом правительницы Анны.
Стоя под венцом с обер-гофмаршалом, Анна поздно уже стала обдумывать, что она поступила опрометчиво, сделав такой решительный шаг. Бестужев, пылавший к ней такою пламенною страстью, вовсе не нравился ей, а тут еще, как на беду, приходило ей на мысль сравнение первого ее мужа, статного и красивого молодца, с своим дряхлеющим новым супругом.
Графиня Анна мысленно укоряла себя в том, что связывала себя брачными узами с человеком, которого она не только не любила, но который ей даже вовсе не нравился. Согласие ее отдать свою руку и свое сердце такому человеку не примирялось с ее прямодушием, и она оправдывала себя только тем, что пожертвовала собою для облегчения тяжелой участи так горячо любимого ею брата. Ягужинская рассчитывала, что Алексей Бестужев, все сильнее и сильнее становившийся при императрице, вскоре, по всей вероятности, приобретет на нее непреодолимое влияние и что тогда он в качестве родственника графа Михайла Гавриловича Головкина явится усердным за него ходатаем. Она ничего не знала о происшедшей между братьями размолвке по поводу брака и упускала из виду, что Алексей Бестужев был настолько осторожен и себялюбив, что ни за что не стал бы хлопотать не только о совершенном помиловании, но даже хоть о некотором снисхождении к человеку, имя которого государыня не могла слышать равнодушно. Для Елизаветы, кипевшей жизнью, не представлялось ничего ужаснее, как вместо пышных и разноцветных нарядов надеть на себя черную рясу и клобук с таким же покрывалом и из обширных золоченых зал дворца перебраться в тесную простую келью. Между тем Головкин, стараясь сделать Анну Леопольдовну императрицею, готовил цесаревне Елизавете такой неприглядный наряд и такое неудобное и томительное помещение, и, разумеется, ей нелегко было забыть такую «конспирацию» вице-канцлера.
Последствия неохотного и плохо рассчитанного брака Ягужинской с Бестужевым не замедлили обнаружиться.
Она с первых же дней после свадьбы стала тяготиться ласками своего пожилого супруга, который и с своей стороны, проведя всю свою жизнь на свободе, как холостяк, начал тяготиться своим положением и обязанностями мужа. Между молодыми возникли размолвки, которые, может быть, и окончились бы со временем благополучно, если бы Анна Гавриловна не убедилась, что все ее расчеты на спасение брата через Бестужевых были напрасными.
При первом заявлении Анны Гавриловны насчет этого она выслушала от своего супруга резкий отказ. Он объявил, что из-за свадьбы с нею он разошелся с своим братом. «Впрочем, — добавил супруг, — и помимо этого брат мой никогда не согласился бы своею просьбою за такого тяжкого преступника навлечь на себя неудовольствие государыни или — что для него было бы еще хуже — подозрение в сочувствии к образу действий бывшего вице-канцлера, которому уже и так ее величество явила знак своего милосердия, даровав ему жизнь, тогда как столь презренный злодей, — заметил Бестужев, — не заслуживал бы такого милосердия за совершенные им факции».
Таким образом, прежняя графиня Ягужинская, а ныне графиня Бестужева-Рюмина вместо участия и утешения встретила не только полную холодность, но и резкое порицание любимого ею брата. Вскоре начавшиеся между супругами размолвки перешли во взаимную вражду, с той и с другой стороны начали слышаться укоры и упреки; но муж и жена, боясь сделаться предметом насмешек со стороны общества, таили происходившие между ними несогласия так искусно, что все считали их счастливою супружескою четою, жившею душа в душу.
Узнав о том, что императрица отнеслась благосклонно к браку Ягужинской с Бестужевым, Бергер нашел, что теперь наступила благоприятная пора, чтобы попросить руки ее падчерицы. С неудовольствием проведал об этом дерзком намерении граф Михайла Петрович. Он, не стесняясь нисколько, заявил своей жене, что, вступая с нею в брак — не как уже с Головкиною, которая была ему равная, но как с Ягужинскою, вдовою какого-то проходимца, чуть ли не жидовской породы, — до некоторой степени унизил фамилию Бестужевых. Он стал хвалиться тем, что Бестужевы служили русским государям разные дворянские службы уже в десяти поколениях; что фамилия его происходит от знатного английского рода Бестюров, как в том удостоверяла присланная из Англии братьям Бестужевым-Рюминым королевская грамота. Граф Михайла полагал, что принять в свое, хотя и отдаленное, свойство сына какого-то безвестного лифляндского мызника он считает крайним позором как для самого себя, так и для всех своих фамилиантов.
Пронырливый кирасир проведал о таких рассуждениях нового вотчима Настеньки и понял, что всякие относительно ее искания при таких неблагоприятных условиях будут напрасны. Такому отзыву обер-гофмаршала вторил и его брат, Алексей.
«Хорошо же, — думал Бергер, злобясь на Бестужевых, — я когда-нибудь покажу таким зазнающимся господам, что Бергер может быть не хуже их по своему положению в их обществе. Я выйду в люди во что бы то ни стало!»
XVI
Предания о красоте некоторых женщин, как и народные предания, бывают иногда очень живучи. Такие предания и даже письменные свидетельства сохранились и о красоте Натальи Федоровны Лопухиной. Хотя такого рода предания обыкновенно преувеличиваются и приукрашиваются, но в основании они бывают верны, и нельзя сомневаться, чтобы современники Лопухиной не восхищались ее прелестями, как молодой женщины. Годы, однако, брали свое, и как роскошно распустившийся цветок, просуществовав в своей красоте короткий срок, начинает увядать, так, конечно, стала увядать и Лопухина. Ей ко времени настоящего рассказа шел уже сороковой год. Она имела несколько человек детей, в числе которых был старший сын Иван Васильевич и старшая дочь Анастасия, очень миловидная, лет семнадцати, девушка, не обещавшая, однако, быть такой роскошной красавицей, какою была ее мать. Женственные свои прелести Наталья Лопухина, рожденная Балк, получила в наследство от своей матери, происходившей из семейства Монс, известного своею красотой, а также и постигшими его бедствиями.
Хотя Наталья Федоровна и увядала, но время до известной степени щадило ее и не налагало на нее отпечатка ее возраста, так что она казалась, по отзывам современников, слишком моложавою для своих лет, и молва о том, что она первая красавица, поддерживалась по старой привычке. Так называет ее в своих записках леди Рондо, а, конечно, такому отзыву женщины о женщине можно поверить. Но замечательная красота Лопухиной в соединении со счастливою для женщины моложавостью и вдобавок заносчивость красавицы, привыкшей к поклонению обожателей, возбуждали в представительницах женского пола в Петербурге враждебное к ней чувство, и в числе таких женщин была цесаревна Елизавета Петровна.
Повод к вражде со стороны Елизаветы подавала отчасти и сама Лопухина, желая соперничать с нею в красоте, а Елизавета — в особенности с летами — стала очень щекотлива в этом отношении. Соперничая с Елизаветой, как женщина с женщиной, Лопухина хотела уподобиться ей и по своим нарядам и, проведав, — что тогда в Петербурге было не трудно, — в каком платье цесаревна собирается быть на куртаге или на балу, заказывала себе такое же платье и являлась в нем в общество, раздражая тем цесаревну. При Анне Ивановне и в особенности при правительнице такие весьма чувствительные уколы, наносимые Елизавете Лопухиною, совершенно безнаказанно сходили с рук легкомысленной Наталье Федоровне. Мало того, такие проделки вызывали при дворе Анны Леопольдовны веселый говор и насмешки над Елизаветой, которая не пользовалась тогда не только никаким почетом, но даже и вниманием, и с затаенным раздражением должна была переносить те мелкие обиды, какие позволяли себе наносить ей лица, приближенные к Анне Леопольдовне.
У Лопухиной был неизменный друг и любовник — гофмаршал граф Рейнгольд Иванович Левенвольд. Она страстно его любила и была предана ему беспредельно.
В свою очередь и Левенвольд, желая угодить обожаемой им женщине, старался при каждом удобном случае чем-нибудь кольнуть и раздражить цесаревну Елизавету, а по его должности, как гофмаршала, таких случаев представлялось немало. Он то как будто забывал или опаздывал пригласить цесаревну на какое-нибудь придворное торжество или празднество или делал подобного рода приглашения не с той почтительностью, на какую имела право Елизавета по своему положению в императорском семействе. Елизавете внушали, да и сама она понимала, что в таком оказываемом ей неуважении со стороны гофмаршала, человека, отличавшегося вежливою и даже изысканною утонченностью в обращении с женщинами, был виноват не столько он сам, сколько действовало на него постороннее влияние.
— Левенвольд настолько любезен и предупредителен с дамами вообще, что он никогда не позволил бы себе оказать мне какую-нибудь невежливость, — говорила в своем кружке Елизавета.
— В особенности с молодыми и прекрасными дамами, — добавлял кто-нибудь из присутствовавших, — и чрезвычайно странно, что он дает вашему высочеству повод жаловаться на него.
— Нисколько не странно, — перебивала с досадой Елизавета, — он в руках у Натальи, а она подбивает его против меня. Чтобы угодить ей, он все готов сделать.
Когда Елизавета вступила на престол, то Левенвольда, независимо от возведенных против него обвинений в зловредном политическом умысле, обвиняли еще и в том, что «в торжество дня рождения принца Ивана для ее императорского высочества цесаревны Елизаветы был поставлен стол с прочими дамами в ряд». Левенвольд на такое обвинение отвечал, что «сие учинено было по приказанию бывшей правительницы, а не по его рассуждению».
— Я, — объяснялся бывший гофмаршал перед своими судьями, — возражал, не будет ли то для ее высочества обидно. «Положи тарелку так, как я приказываю, — сказала мне правительница, — а как я войду, то сама сделаю, как надобно».
Такое оправдательное объяснение Левенвольда, как и объяснение его против обвинения в «злокачественной конспирации», уважены не были. Захваченный в каземат Петропавловской крепости в полной силе, статным и красивым мужчиной, Левенвольд вышел оттуда, чтобы идти на плаху, изможденным, дряхлым старцем, еле передвигавшем ноги, с седыми космами волос, беспорядочно спускавшимися на лицо и на плечи, худой, бледный, с отросшею растрепанною бородою, — и, конечно, никто бы не мог узнать в этом жалком колоднике блестящего гофмаршала, щеголявшего еще не так давно в великолепном модном парике, в бархате, шелку, кружевах, лентах и бантах.
Несмотря, однако, на ту перемену, которая произошла в Левенвольде в короткое время, чувство пылкой к нему страсти нисколько не изменилось у Натальи Федоровны. В день, назначенный для совершения казни над ее любовником, она сходила с ума и в припадках отчаяния хотела наложить на себя руки, но когда дошла до нее весть, что Рейнгольд избавлен от смерти, она пришла в какой-то дикий восторг и дала обещание быть мстительницей за него, если ей не удастся быть его спасительницей. Эта последняя задача оказалась, однако, неосуществимою, и потому Наталья Федоровна решилась взяться за первую, но мщение это проявлялось уже слишком по-женски.
Живя с Рейнгольдом, как с мужем, Лопухина до его ссылки вполне довольствовалась домашнею жизнью и редко являлась в обществе. Теперь чувство мщения подсказывало ей иное… Ей казалось, что она должна как можно чаще показываться на глазах у государыни, представляясь веселой, и тем самым показывать Елизавете, что она равнодушно переносит изгнание своего любовника.
С своей стороны, Елизавета, по-видимому, совершенно равнодушно отнеслась к демонстрации, задуманной Лопухиной). Государыня делала вид, будто она вовсе не замечает свою статс-даму. Императрица не удостаивала ее своим разговором и только легким, почти пренебрежительным кивком отвечала на почтительные и обязательные для Лопухиной придворные реверансы.
Такое хладнокровие Елизаветы еще сильнее возбуждало чувство злобы в сердце Натальи Федоровны.
«Не постою я ни за чем, — думала она, — я выведу ее из терпения».
И недолго пришлось ей ждать.
Был назначен большой бал во дворце.
Балы эти были обыкновенно костюмированные и представляли не только пестрое и странное, но и забавное зрелище. Классическая мифология была тогда при всех дворах в большом ходу, но богов и богинь Древней Греции и Древнего Рима даже на Западе, кроме ученых и поэтов, все прочие знали очень плохо. Так, например, в Париже на театральных сценах вместо насколько возможно более обнаженной Венеры являлась актриса, затянутая в корсет, в огромных фижмах[74], с напудренной головой, с черными мушками на лице, в перчатках и с веером в руках. Ахиллес выходил на сцену в мундире тогдашних французских кирасиров, имея на латах лилии как знаки королевского герба дома Бурбонов. Понятно, что в подобных случаях Петербург вдавался в еще большие несообразности. Хотя ученые классики, члены тогдашней Петербургской академии наук, и принимали деятельное участие в составлении рисунков для фейерверков и транспарантов для «илуминаций» и заготовляли все это в классическом вкусе, но почему-то не требовалось их мнений относительно богов, богинь, полубогов, полубогинь и героев, появлявшихся с того света на придворные костюмированные балы.
Балы эти при Елизавете отличались роскошною и разнообразною обстановкой. На них являлась в лицах вся греческая мифология. Кавалер, прибирая себе имя языческого божества или прославившегося в древности героя, прицеплял или пришпиливал какой-нибудь отличительный его признак и затем оставался во всех принадлежностях своего повседневного костюма. Общим же убранством для всех богов и богинь были обыкновенные белые тоги, из-под которых у мужчин были видны шелковые, плотно охватывающие икры чулки и выставлялись башмаки с пряжками, а на головах были громадных размеров парики; с левого бока у богов болтались шпаги, а распахнувшаяся тога обнаруживала иногда андреевскую или александровскую звезду или ленту, а у некоторых дам знаки ордена великомученицы Екатерины. Носы у иных богов были оседланы очками, а богини употребляли лорнетки. Все русские дамы той поры сильно румянились, и обычай этот был не наносный с Запада, но коренной московский, перебравшийся и в Петербург.
Кроме представителей древнего языческого мира на придворные балы Елизаветы являлись также представители всех национальностей, преимущественно же были тут турки, персиане и венециане. От обязанности быть в каком-нибудь характерном костюме освобождались, по особому разрешению государыни, только высшие сановники, а также все без исключения иностранные дипломаты, которые, являясь на придворный маскарад, обязаны были накидывать только домино поверх обыкновенно носимой ими одежды.
Были также заведены при дворе Елизаветы так называемые «метаморфозы», то есть такие маскарады, на которые дамы являлись в мужском, а кавалеры в женском платье.
Тот бал, на который собиралась выехать Лопухина и раздражать, сколь возможно более, императрицу, не был, однако, костюмированным балом.
Надобно сказать, что императрица Елизавета сделала запрет, чтобы ни одна из дам не смела являться на балы в таком платье, какое будет надето на государыне. Требовательность эта была гораздо обширнее, нежели те средства, какие представлялись для ее исполнения. Даже перед самым выходом на бал государыни трудно было, хотя бы и через камер-фрау, узнать, во что оденется императрица. Для нее бывало приготовлено в уборной несколько нарядов, так что только какая-нибудь случайность решала окончательный выбор одного из них. Очень часто случалось, что приехавшая на бал дама, увидев или узнав заранее, что наряд или головной убор императрицы близко подходит к ее наряду, спешила уехать поскорей с бала, чтобы переменить платье или изменить прическу.
Разумеется, что Лопухина, как статс-дама, более чем все другие придворные и так называемые городские дамы должна была соображаться с таким распоряжением императрицы. Но легкомыслие и задор брали у Лопухиной перевес над благоразумием, и она, узнав, что императрица собирается быть на предстоящем бале одетой очень просто, в шелковой робе светло-розового цвета, с приколотою в волосы только розою, сама оделась точно так же.
Собравшиеся в большой дворцовой бальной зале кавалеры и дамы стояли на местах, указанных им церемониймейстером, или «конфузионмейстером», как титуловался граф Санти, заведовавший порядком на придворных балах. Все ожидали выхода императрицы, которая, делая свой туалет медленно и заботливо, заставляла подолгу ждать своего выхода. Прошло уже более часа в напрасном ожидании; но вот по знаку, поданному «конфузионмейстером», в зале все смолкло: широко распахнулись двери из внутренних апартаментов императрицы, и она, предшествуемая обер-гофмаршалом графом Бестужевым-Рюминым и сопровождаемая дежурною статс-дамою, женою обер-гофмаршала, и фрейлинами, вступила торжественно в залу «при игрании на трубах и при битии в литавры».
У Лопухиной, стоявшей между дамами на самом видном месте, радостно забилось сердце при появлении императрицы: на ослушнице статс-даме было надето платье такое, что его трудно было отличить и по цвету, и по качеству материала, и по покрою, и даже по разным мелким принадлежностям дополнительной отделки от того платья, какое было на императрице. Мало того, в волосах как той, так и другой было по одной только розе. Ничем нельзя было оказать более неуважения к государыне и выразить сильнее полного пренебрежения к ее запрету, как, заметив такое сходство нарядов, все-таки явиться перед нею. Лопухина же, напротив, постаралась попасть поскорее на глаза государыне, которая, опираясь на руку канцлера князя Черкасского,[75] торжественно стала обходить залу.
Увидев наряд Лопухиной, императрица быстро выхватила свою руку из руки своего кавалера. Лицо ее приняло гневное выражение, и, тяжело дыша, она скорыми шагами вышла одна на середину залы. Все в изумлении обратили на нее свои взгляды, не понимая, что такое случилось. Растерянный Черкасский остановился, как вкопанный, на том месте, где так неожиданно удалилась от него Елизавета, и с ужасом думал, не оказал ли он какой-нибудь невежливости или неловкости перед ее величеством.
— Настя! — сказала императрица, обращаясь к бывшей при ней в тот вечер дежурной фрейлине Ягужинской, — подай мне ножницы.
Молодая девушка поспешно запустила руку в карман своей робы и вынула оттуда небольшой несессер, в котором были потребованные государыней ножницы, а также булавки, иголки и шелк. Такой несессер обязаны были иметь при себе дежурные фрейлины на случай, если бы пришлось привести в порядок туалет государыни.
— А ты, Наталья, поди сюда! — гневно крикнула Елизавета, подзывая к себе напроказившую статс-даму повелительным движением руки. — Становись здесь на колена! — грозно крикнула государыня, топнув ногой и указывая пальцем на пол.
Побледневшая, несмотря на румяна, Лопухина исполнила это приказание, а Елизавета, взявши от фрейлины ножницы, срезала розу, бывшую на голове Лопухиной, и растрепала ее прическу. Из глаз Лопухиной выступили слезы.
С трудом в своем бальном наряде поднялась Лопухина на ноги. Никто из окружавших кавалеров не решился помочь ей, и она, шатаясь, вышла из залы и упала в обморок, разразившись громкими рыданиями.
— Это что такое? — спросила императрица окружавших ее.
— Лопухиной сделалось дурно, — отвечали ей.
— И поделом ей, другой раз не посмеет издеваться надо мной! — проговорила Елизавета.
XVII
Лопухина не была лишена звания статс-дамы и стала по-прежнему являться при дворе, имея на плече осыпанный бриллиантами медальон с портретом государыни. Прискорбное событие начало мало-помалу забываться.
Не могла, однако, она не сокрушаться, вспоминая недавнюю еще пору, когда правительница Анна постоянно встречала ее ласково и приветливо и когда Наталья Федоровна была желанною ее гостьей.
— Совсем теперь не та пора, — говаривала очень часто Лопухина, и в словах ее с близкими к ней людьми выражались сетования на настоящее и сожаление о минувшем.
Но если личное раздражение Лопухиной стало утихать мало-помалу, то мучительная тоска о сосланном в Соликамск Левенвольде не только не ослаблялась, но даже напротив усиливалась все более и более. С трудом и изредка доходили в Петербург вести о бывшем гофмаршале. Рассказывали, что бароны Строгановы[76], имевшие в Соликамске свои варницы, заводы и по временам наезжавшие туда сами, оказали ему самое радушное участие, облегчая печальное положение бывшего знатного царедворца всеми средствами, которыми они могли располагать. Преувеличивая участие, оказываемое Строгановыми Левенвольду, досужие языки болтали, будто бы он жил в доме Строгановых, но на деле это было неверно. Первое время по приезде в Соликамск Левенвольда держали в простой избе под неотступным присмотром приставленных к нему офицера и нескольких солдат, доставивших его из Петербурга в место его ссылки. В это время для него, как это делалось и для других знатных ссыльных, строились около Соликамска хоромы, которые должны были быть огорожены острогом и тыном с высокими и крепкими палисадами из проигленных, то есть заостренных на конце, брусьев. Каждая стена острога должна была быть во сто сажен длины, с одними только воротами; по углам стены для караульных солдат должны быть устроены будки. Хоромы для заключенного строили посреди острога, а перед острогом у ворот надлежало выстроить покои для офицера и светлицы для солдат. По смете такая постройка обходилась до 1300 рублей.
Достоверные известия о житье-бытье Левенвольда Лопухиной было очень трудно получить, так как даже граф Алексей Петрович Бестужев не имел никаких сведений о дальнейшей судьбе сосланных, и ими исключительно заведовал граф Андрей Иванович Ушаков, управлявший тогда тайною канцелярией, но трудно было добиться чего-нибудь от него: по вверенным ему секретным делам он был всегда нем как рыба.
Правительство императрицы Елизаветы опасалось происков и даже явных действий правительницы Анны Леопольдовны. Маркиз Шетарди хвалился, что он легко может произвести новый переворот, если того потребуют интересы его двора. При русском дворе и в войске было немало сторонников Анны Леопольдовны, и они могли найти себе пособников между иностранными дипломатами. Как против правительницы задумал действовать французский посол маркиз Шетарди, так против Елизаветы начал строить козни австрийский посланник маркиз Ботта д’Адорно[77]. Если для Франции представлялось выгодным свергнуть с русского престола Брауншвейгскую династию, родственную Габсбургскому дому, то теперь интересы Австрии требовали восстановления этой династии, а такое восстановление могло быть только последствием низвержения Елизаветы. Между тем сторонником Франции в Петербурге был граф Арман, или по-русски Иван Иванович Лесток, а сторонником Австрии — граф Алексей Бестужев, и между ними шла решительная борьба не только по вопросу о том, кто из них окончательно и безраздельно утвердит свое личное влияние при дворе, но и по вопросу о том, чьей союзницей должна быть Россия — Австрии или Франции.
И тот и другой не упускали ни малейшего случая, чтобы повредить один другому, а версальский и венский кабинеты, или, как сообщалось в депешах иностранных агентов, бывших в Петербурге, «вся Европа», с напряженным любопытством ожидала, чем кончатся взаимные препирательства и обоюдные козни Лестока и Бестужева — двух людей, считавшихся самыми близкими к русской государыне.
XVIII
В одном из апартаментов государыни были поставлены на мольбертах три больших ее портрета, написанных масляными красками. По окончании одного из министерских заседаний государыня вошла в этот апартамент с Лестоком, канцлером Черкасским, вице-канцлером Бестужевым, братом его — гофмаршалом, Воронцовым и Разумовским. Она желала услышать их отзывы о выставленных портретах, чтобы обсудить, в каком роде будет лучше всего заказать свой новый портрет приехавшему в Петербург из Италии художнику, вызывавшемуся написать персону императрицы с поразительным сходством. Сметливый итальянец, желавший получить такой заказ, говорил тем, через кого могли дойти его слова до императрицы, что писать портрет Елизаветы будет для него не работой, а наслаждением, что он, художник, не только бы ничего не желал получить за свой труд, но что сам отдал бы последнее, чтобы только иметь возможность в продолжение некоторого времени любоваться такою чудною женщиною, как ее величество.
Хотя Елизавете и не были в диковинку самые восторженные похвалы насчет ее красоты и такие похвалы в прежние времена принимались ею равнодушно, как не подлежавшая сомнению истина, но теперь, когда первая молодость миновала, они ценились ею уже дороже. Художник насказал императрице столько любезностей, что расположил ее окончательно в свою пользу, и государыня составила особое совещание из близких ей людей, чтобы посоветоваться с ними о том, какие неверности и недостатки следует устранить из прежних портретов. Государыня думала, что ее сановники и царедворцы будут в этом случае отличными знатоками дела и укажут на то, в чем ошибались живописцы.
Из всех выставленных портретов государыни особым художественным пошибом и грациозною фантазией отличался ее портрет, написанный Караваком[78] в то время, когда ей было шестнадцать лет. Портрет этот был, собственно, картина, на которой Елизавета и старшая ее сестра Анна были представлены в виде гениев с крылышками бабочки за спиною и с развевающейся сзади драпировкою. Другой портрет, написанный также Караваком, относился к позднейшему времени, когда Елизавета, утратив в лице своем игривую миловидность девушки, обратилась в пышную красавицу. На третьем портрете, написанном русским художником Соколовым[79], императрица была изображена в коронационном наряде, с императорскою короною на голове. В правой руке она держала скипетр, а в левой — державу, и на ее полные белые плечи слегка была наброшена золотистая парчовая мантия, усеянная черными двуглавыми орлами и опушенная горностаем. Этот белый нежный мех, по сделанным на нем художником теням, далеко уступал по своей белизне ее плечам и шее.
Начались суждения об этом портрете, и говорун Лесток овладел всем разговором. Не будучи знатоком живописи, он умел, однако, быть очень бойким и остроумным судьею и по этой части, как и по всем другим предметам, не затрудняясь нисколько высказывать все, что только приходило ему на ум и подходило к тому, что хотел он сказать приятного и любезного.
Великий канцлер, не понимавший ни слова по-французски, слушал толки Лестока, лишь моргая своими подслеповатыми глазами. В таком же положении находился и Алексей Разумовский. Желая быть любезным и с тем, и с другим, Лесток заговаривал с ними по-русски.
— Посмотрите, ваше сиятельство, на эту руку. Не правда ли, она совсем не соответствует по своему размеру другой руке? — говорил Лесток, подводя князя Черкасского к одному из портретов.
— Плохо, граф Иван Иванович, я вижу, а очков с собою на этот раз не захватил, — уклонился великий канцлер от суждения о портрете императрицы.
С таким же замечанием обратился по-русски Лесток к Разумовскому.
— Что о том и толковать, — сказал своим хохлацким выговором Алексей Григорьевич, полусмотря на государыню. — Разве кто-нибудь намалюет нашу красавицу так, какова она есть на деле, — отозвался Разумовский и с пренебрежением махнул рукой на все портреты.
Воронцов и Шувалов поддерживали разговор с Лестоком, отчасти соглашаясь с его замечаниями, отчасти опровергая их. Обер-гофмаршал только поддакивал и тем и другим, делая утвердительные знаки головой.
Совсем иначе держал себя вице-канцлер. Заметно было по выражению его лица, что ему не нравилось то первенство, какое и в настоящем случае успел взять болтливый и самоуверенный Лесток. Алексей Петрович молчал все то время, когда лейб-медикус рассуждал о достоинствах и недостатках портретов. Когда же наконец Лесток стал истощаться и Алексей Петрович заметил, что государыня начала уже скучать болтливостью Лестока, он обратился к императрице, сидевшей в креслах перед портретами, и в коротких словах высказал свое мнение о достоинствах и недостатках того или другого портрета, а из его объяснений даже и в этом случае можно было заметить делового человека, не любившего тратить время попусту.
Лесток несколько раз пытался вмешаться в разговор вице-канцлера с государыней, но Бестужев своим взглядом, уставленным в упор, высказывал графу, что императрице угодно говорить с ним, Бестужевым, а не с Лестоком. Государыня в свою очередь делала вид, что она внимательно слушает Бестужева, и Лесток с явным выражением досады на лице и в движениях отступил за спинку кресел, занятых императрицею.
Наконец, Бестужев почтительно поклонился государыне, желая показать своим поклоном, что он высказал все, что хотел сказать.
— Однако, — развязно и насмешливо заговорил теперь Лесток, — граф Алексей Петрович, как я вижу, такой же большой знаток в живописи, как и в медицине.
— А что ж ты думаешь, Иван Иванович, разве капли, приготовляемые Алексеем Петровичем, не помогают? — спросила императрица.
— Шарлатанство не медицина, — пробормотал сквозь зубы побледневший с досады Лесток, но пробормотал так неясно, что если бы кто-нибудь потребовал от него повторения его слов, то он мог бы отпереться от них.
— Намедни как-то, — продолжала императрица, — у меня закружилась голова и подхватило под ложечкой, я приняла несколько его капель на кусочке сахара, и мне тотчас полегчало. Я и забыла сказать тебе об этом, Иван Иванович, — сказала императрица, обращаясь к Лестоку.
Лестока передернуло с досады.
— Позволю себе всепочтительнейше заметить вашему величеству, — начал Бестужев, — что, имея при своей высочайшей особе такого ученого и опытного врача, как его сиятельство граф Иван Иванович, вы напрасно благоволите употреблять сочиненные мною капли.
— Да если они мне помогают, так отчего же не употреблять их? Ведь вреда от них не может быть?
— Ни малейшего, ваше величество, но я никак не смел предполагать, чтобы… — говорил Бестужев.
— Унижение паче гордости, — вмешался Разумовский, дружески ударив по плечу Бестужева и желая досадить Лестоку, — и я, отец родной и добродей, твои капли по временам хлебаю и низко тебе за них кланяюсь. Ведь как они освежают! Проглотишь их, а потом потянешь в себя воздух, так и чувствуешь, что в тебя вливается какая-то прохладительная струйка. Особенно легко от них делается, как их пропустишь в глотку после хорошей выпивки венгерского. Нешто я неправду говорю? — обратился Разумовский к Петру Ивановичу Шувалову, участвовавшему поневоле в попойках фаворита.
Все, кроме Лестока, засмеялись при этом отзыве казака о пригодности капель, которые очень долго пользовались громкою известностью под названием «бестужевских». Изобретатель их сообразил, что теперь самая удобная пора заговорить о своем врачебном средстве, тем более что возраставший успех его капель может подорвать у императрицы значение ненавистного ему Лестока как врача, к которому государыня имела с давних пор исключительное доверие и который прежде лечил ее от всех действительных и мнимых недугов.
— Мне удалось, — с уместною в данном случае хвастливостью начал вице-канцлер, — изобрести этот поистине спасительный медикамент. В состав его входят самые простые ингредиенты, подвергнутые предварительной химической переделке. Приятны мне в особенности те похвальные отзывы, которых я все чаще и чаще удостаиваюсь от заграничных знаменитейших врачей. Из Германии, Франции и Англии мне делают самые выгодные предложения продать мой секрет. Пользительность моих капель не подлежит теперь никакому сомнению…
— Вы, чего доброго, — с нескрываемою злобою, нахально и едко перебил Лесток, — изобретете эликсир молодости, и тогда вы получите желаемое вами значение, тогда…
Лесток призамялся.
— Для получения мною желаемого значения, — с колкостью отвечал Бестужев, — я употребляю иные, а не врачебные средства.
Елизавета поняла смысл намека, сделанного Лестоком, беспрестанно раздражавшим императрицу своими дерзкими выходками. Елизавета могла переносить их, когда она была цесаревной и жила как частное лицо; но когда она стала самодержавной государыней, такие нахалы и хвастуны, каким оставался Лесток, привыкший не стесняться с нею в обращении, не только как близкий человек, но и как домашний врач, не могли быть уже терпимы ею. Он делался ей все более и более в тягость, и очень часто она подумывала о том, как бы поскорее избавиться от него.
Алексей Петрович поспешил прекратить начавшийся разговор, который при запальчивости Лестока мог кончиться крайне неприятно.
— Какое же вашему величеству угодно сделать распоряжение относительно портретов? — почтительно спросил он государыню.
Елизавета встала с кресел, осмотрела чрезвычайно внимательно еще раз портреты и подозвала к себе обер-гофмаршала.
— Ты, Михайла Петрович, напиши кому следует, — сказала она, указывая веером на портрет, написанный Соколовым, — что я опробую этот портрет для «градирования» (то есть для гравирования). Пусть повелено будет от меня и прочим мастерам, чтобы они делали и писали наподобие вышенаписанного портрета, под опасением строжайшего наказания за какое-либо отступление. Так и напиши; а то теперь мою персону изображают иногда в самом безобразном виде, в каком я никогда не бывала, да и надеюсь, что, по милости Божией, никогда и не буду.
Обер-гофмаршал низко поклонился в ответ на такое строгое распоряжение ее величества.
Затем государыня подошла к другому портрету, написанному Караваком. Она то приближалась к нему, то отступала и после тщательного осмотра подозвала к нему обер-гофмаршала.
— Объяви Караваку, — сказала она, проводя пальцем по полотну, — что правая рука написана здесь очень дебела, а особливо в запястье, и чтоб он вперед на прочих портретах, кои велено ему писать, в том имел осторожность, чтоб одна рука против другой препорцию имела.
И на это замечание ответом был почтительный поклон обер-гофмаршала, который в точности исполнил повеления государыни, сохранившиеся на бумаге до наших дней.
Затем императрица взглянула только на тот портрет Каравака, где она была изображена в виде крылатого гения, и не сказала ни слова.
«Увы, — вздохнув, с грустью подумала она, — пора таких портретов для меня безвозвратно миновала…»
— Ты, Михайла Петрович, — сказала она гофмаршалу, — не вели пока убирать отсюда этих портретов. Я приду сюда еще с моими дамами посмотреть их. Желательно мне знать, что они наболтают. После того ты вели этому приезжему мастеру явиться ко мне в назначенный час, и уже я сама скажу ему, как следует писать мою персону, и прикажу ему, когда он должен будет приходить на работу.
Поклонившись слегка всем присутствовавшим и с выражением особой благосклонности вице-канцлеру, государыня вышла из апартаментов. Следом за нею стали выходить и другие, а во главе их и Лесток, но Бестужев слегка удержал его за руку.
— Мне нужно сказать вашему сиятельству несколько слов, — проговорил вице-канцлер взглянувшему на него свысока, через плечо лейб-медикусу.
Алексей Петрович рассчитывал на то, что после особого внимания, оказанного ему императрицей, и преимущественно после похвалы его капель Лесток увидит в нем своего сильного соперника и сделается несколько уступчивее, но вице-канцлер чрезвычайно ошибся. Самомнивший француз-ганноверец был вовсе не такой человек, чтобы пойти на уступки перед своим противником.
— Я хотел доложить вашему сиятельству, — начал мягким голосом вице-канцлер, — по делу о Брауншвейгской фамилии. Венский двор убедительно, можно даже сказать — слезно просит об освобождении принцессы Анны Леопольдовны, но, к сожалению, ваше сиятельство изволите такой просьбе неодолимую помеху делать. Не соблаговолите ли вы принять по этому делу несколько иные рассуждения?
Лесток нагло смерил Бестужева с головы до пяток и только отрицательно покачал головой.
— Я несколько раз предлагал в совете, — продолжал Алексей Петрович, — отпустить Брауншвейгское семейство за границу на тех основаниях, что, во-первых, обещание, данное государыней в ее торжественном и всенародном манифесте, должно быть свято исполнено, иначе мы дискредитируем себя перед целым светом, и, во-вторых, потому, что для Российского государства будет гораздо безопаснее, если принц Иван Антонович будет жить вне его пределов, так как о нем в России все скоро забыли бы.
— Нет! Нет! — замахав рукою, вскричал Лесток, — я только одно скажу на это в ответ вашему сиятельству: пока я жив и пока я что-нибудь значу при дворе, Брауншвейгской фамилии на свободе никогда не бывать. Россия может быть спокойна только до тех пор, пока Анна и ее семейство находятся в тюрьме, а если выпустить их на свободу, то тотчас же начнутся и факции, и конспирации. Об этом я твержу императрице чуть ли не ежечасно, да и должен твердить это, охраняя ее спокойствие, а быть может, и самую жизнь. Теперь постоянно обнаруживаются замыслы восстановить Брауншвейгскую фамилию. Да, наконец, должен же я позаботиться и о себе: ведь мне было бы куда как неприятно прогуляться в Сибирь!
Бестужев хотел что-то возразить Лестоку, но лейб-медикус не дал сказать ему ни полслова.
— Каждый, кто только желает добра России, — горячился он, — не станет давать таких — скажу прямо — глупых советов государыне. Да и чего тебе, Алексей Петрович, хлопотать о принцессе, разве теперь тебе худо живется? Верно, тебя подбивает к этому венский кабинет через маркиза Ботта? — с дерзостью спросил лейб-медикус вице-канцлера.
— Точно так же, как тебя к противному подбивает Версальский двор через маркиза Шетарди, — резко отозвался, в свою очередь, Бестужев.
— Не забывай, что мне ты обязан тем, чем ты теперь сделался! — гневно крикнул Лесток, топнув об пол ногою.
— Если бы я не предложил государыне оставить тебя на месте, ты теперь валялся бы в грязи.
Бестужев затрясся от злобы.
— Это правда, что ты просил обо мне у государыни, но сам я не просил тебя об этом. Я был вам нужен, и если остался на службе, то затем, чтобы служить моей всемилостивейшей государыне, а не раболепствовать перед иноземным проходимцем.
Сказав это, Бестужев вышел из комнаты, сильно хлопнув за собой дверью.
Лесток рванулся было вслед за ним, схватившись за рукоятку своей шпаги, но вдруг остановился и громко расхохотался.
— Раболепствовать перед иноземным проходимцем! — повторил он, передразнивая Бестужева. — Скоро же ты, братец, забыл, как сам пресмыкался перед Бироном!.. Ха-ха-ха!..
XIX
В Западной Европе XVIII век, несмотря на все его стремления к просвещению, был веком заблуждений среди так называемого образованного общества. Едва ли когда-нибудь являлось наряду с философией и научными трудами столько шарлатанства, сколько являлось его в ту пору. Главными обманщиками, умевшими морочить и наводить туман даже на людей умных и образованных, могут считаться граф Сен-Жермен[80] и граф Калиостро[81]. И тот и другой, чуждые мистицизма средних веков, не выдавали себя за людей, имевших сношения с нечистой силой. Такая похвальба была для той поры, когда они жили, слишком наглою ложью, которой поверили бы только очень темные люди. Тем не менее они облекали таинственностью и свою жизнь, и свои действия и приводили в изумление обширными денежными средствами, какими они, по-видимому, могли располагать. Изобилие у них таких средств заставляло думать, что они владели «философским камнем», имевшим силу обращать медь в золото. Но если те богатства, которые можно было приобретать таким способом, служили сильною приманкою, то еще с большим уважением относились к тем шарлатанам, которые без малейшей застенчивости уверяли людей легковерных, что они изобрели «жизненный эликсир» — такое средство, при употреблении которого можно прожить несколько веков не только без упадка сил, но даже не утрачивая нискольких внешних принадлежностей среднего человеческого возраста.
Понятно, что всякому и всякой желательно было и пожить подольше, и не стариться, и в числе таких лиц была императрица Елизавета Петровна, жизнь которой была обставлена и роскошью, и пышностью, и всевозможными земными благами. В сказаниях о ней, дошедших до нас, не сохранилось никаких известий о том, что она имела сношения с какими-либо чудодеями по этой части, но на основании многих данных можно заключить об ее веровании, что Лесток, неусыпно заботясь об ее здоровье, мог поддержать ее красоту и молодость, а вместе с тем и прибавить ей жизни, хотя и в очень скромных размерах.
Ничтожною личностью явился в Россию Арман Лесток. Бог весть как прослушавший, по словам его, медицинский курс, кажется, в Страсбургском университете, славившемся тогда по всей Европе по заготовке ученых мужей вообще, и преимущественно эскулапов. Неважную должность занял он на первый раз в России: он пошел лекарем в какой-то пехотный полевой полк, и на обязанности всех его коллег лежало, между прочим, бритье штаб- и обер-офицеров, состоявших при полку.
Молодому, честолюбивому и сметливому человеку такая должность приходилась не по душе, и он сумел из полка пробраться в Петербург и поступить на службу при дворе; но тут ему что-то не повезло, так как он «за неосторожное обращение» с дочерью какого-то придворного служителя был спроважен Петром Великим на житье в Казань. Неизвестно, к чему Лесток применил свое «неосторожное обращение» с молодой девушкой: при любовных ли своих похождениях, при какой ли хирургической операции или при прописке своей пациентке какого-нибудь сильнодействующего лекарства.
После побывки в Казани он вернулся в Петербург, попал в качестве хирурга ко двору цесаревны Елизаветы и здесь оказался как нельзя более на своем месте. Как разбитной малый, гуляка и весельчак, он составил себе обширное знакомство во всех петербургских кружках и потому хорошо знал все, что говорилось и делалось в Петербурге. Забирался он то в качестве врача, то в качестве гостя в дома иностранных дипломатов, приезжавших в Петербург, и в особенности сдружился с французским посланником маркизом Шетарди. Они видались друг с другом ежедневно, и Лесток задумал сместить с престола малютку-императора, чтобы посадить на его место благоволившую к нему его пациентку.
Правительница с мужем и со всем своим семейством, Миних, Остерман, Головкин и Левенвольд оказались его политическими пациентами и были отправлены в места пользования по рецептам, прописанным им лейб-хирургом Лестоком, сделавшимся всемогущим лицом в первое время по воцарении Елизаветы. Теперь ему казалось, что он уже избавился от всех своих прежних недругов, из которых в особенности был страшен Миних, собиравшийся если не произвести операцию над головой хирурга, положив ее на плаху, то по крайней мере прописать ему хорошее прохладительное врачевание в отдаленнейших местах Сибири. Лесток, однако, увернулся от таких предприятий сурового фельдмаршала и даже сам имел удовольствие спровадить очаковского героя туда, куда Миних собирался препроводить его.
Но вдруг у него явился неожиданный соперник, и кто же — Алексей Бестужев, которому он оказал прежде свое покровительство, да и какой еще соперник — не только по делам политическим, но и но медицинской части. Бывший полковой эскулап, сделавшийся теперь «архиатером», президентом медицинской коллегии, действительным тайным советником, графом и андреевским кавалером, никак не мог примириться с мыслью, что человек, не посвященный в таинства врачебной науки, стал брать над ним верх даже у императрицы только своими какими-то каплями. Между тем он, Лесток, мог предложить своей державной пациентке бесчисленное количество разных снадобий, о которых, как говорил он с досадою, Бестужев не имел ни малейшего понятия и был в сравнении с ним, Лестоком, круглым невеждою.
Забывая по временам вражду с вице-канцлером по политическим вопросам, Лесток с ожесточением против Бестужева вспомнил свою деятельность около Елизаветы в качестве врача, пользовавшегося ее полным доверием.
Его сильно огорчало, что в последнее время императрица не так уж часто обращалась к нему за советами и за его лекарственными снадобьями.
— Это ничего, Иван Иванович, само по себе пройдет, — начинала говорить она все чаще и чаще в ответ на предложения Лестока воспользоваться его медицинскими познаниями.
Хотя такие отказы и были ему не по душе, но сильнее всего его раздражало то, что он, входя к государыне, чувствовал бивший ему в нос освежающий запах «бестужевских» капель.
«Она, значит, принимает их и верит в медицинские познания этого неуча. Ну, как эта каналья возьмется лечить ее? — тревожно думал Лесток. — Ведь в самом деле его капли могут в известном приеме возбуждать деятельность нервов, а с примесью других веществ, наоборот, успокаивать их. Между тем в том возрасте, к которому подходит теперь государыня, такое лечение может считаться лучшим пальятивным средством».
Лесток, зная, что медицинское шарлатанство было самою главною причиною его успехов как врача у Елизаветы, побаивался, что, чего доброго, Бестужев начнет предлагать ей разные изобретаемые им средства, а она, убедившись уже в целебной силе его капель, поверит и в силу других предлагаемых им средств.
Он, однако, жестоко ошибался, думая так о вице-канцлере, который, чуждаясь всякого шарлатанства, был ученым химиком, превосходно знал физиологию — в тогдашнем ее, весьма ограниченном сравнительно с нынешним, развитии — и изучал медицину, как человек в высшей степени любознательный, не имея при этом в виду, как Лесток, никаких корыстных целей. Правда, он начал действовать против «архиатера» и как против врача, но только в совершенно ином направлении.
— Ваше величество, — говорил императрице иногда в своих беседах Бестужев, — медицина как наука — занятие, заслуживающее высокого уважения, но в руках шарлатанов она обращается в черную магию.
Бестужев без намерения, но чрезвычайно удачно вставил слова «черная магия». Такое название медицины привело в ужас императрицу и подействовало на нее гораздо сильнее, нежели все рассудительные и научные доводы вице-канцлера.
— В настоящее время, — продолжал Бестужев, — медицина делает беспрестанно новые открытия или новые применения существующих уже у нее средств. Но может ли знакомиться со всем этим человек, который, когда-то подучившись кое-чему, не только не следит за тем, что теперь делается учеными, но даже забывает и то, что он знал прежде?
Другие приближенные к императрице лица уясняли смысл подобных речей Бестужева, и государыня мало-помалу убеждалась, что ей нельзя доверяться такому ветрогону, каким Лесток был в молодости, и что теперь он должен быть сущим невеждой по своей части.
Повел Бестужев свою «злокозненную интригу» против Лестока и другим путем. Через Мавру Ивановну Шувалову, рожденную Шепелеву, бывшую любимой камер-юнгферой императрицы, он стал внушать императрице, что она, пользуясь превосходным здоровьем, напрасно лечится, что лечение только попусту изнуряет ее силы. Через нее же довел он до государыни, что всякие притирания и мази бывают чрезвычайно вредны, что они обыкновенно, уничтожая какой-нибудь прыщик, порождают упорные накожные болезни, которые или излечиваются с трудом, или иногда вовсе не излечиваются. Все эти суждения о врачевании, передаваемые императрице, были направлены собственно на Лестока. Он вскоре потерял у императрицы всякий кредит как врач, а потеря такого кредита была первым шагом и к падению его как государственного человека, пользовавшегося особым доверием государыни.
XX
В десятых годах прошлого столетия в императорско-австрийских войсках находился молодой офицер маркиз Антоний Ботта д’Адорно, итальянец, родом из Павии. Он считался не только сведущим и храбрым офицером, но и чрезвычайно ловким и тонким человеком, почему венский кабинет стал употреблять его и по делам дипломатическим, и в 1737 году маркиз был назначен австрийским посланником в Петербург. В это время он уже был фельдмаршалом-лейтенантом, гофкригсратом и камергером. В Петербурге он устроил, к большому удовольствию своего двора, брак принцессы Мекленбургской Анны Леопольдовны с принцем Брауншвейгским, родственником жены императора Карла VI[82]. Хотя маркиз и пользовался на своем посту, как и все вообще австрийские и цесарские послы, особым почетом, но, чувствуя себя более воином, нежели дипломатом, он при открытии войны Австрии с Турцией просил венский кабинет отозвать его из Петербурга, так как очень желал участвовать в начавшейся войне. Воинственный азарт маркиза был удовлетворен, и он, повоевав с турками, возвратился в 1740 году в Петербург на прежнее свое место.
Хотя по расчету австрийской политики маркизу следовало поддерживать Брауншвейгскую династию на русском престоле, но он дал маху, допустив своего противника, французского посла маркиза Шетарди, самым деятельным образом участвовать в перевороте, произведенном в пользу цесаревны Елизаветы и клонившемся во вред Австрии. Новая русская государыня была отъявленной сторонницей Франции, враждовавшей с Австрией. Надобно, впрочем, сказать, что Ботта снял с себя предварительно всякую ответственность, сообщая венскому кабинету о предстоящей в России перемене и испрашивая в гофбурге, что ему делать. Но на такой запрос ему никакого ответа дано не было, а когда воцарилась Елизавета, то он получил из Вены инструкцию: держать себя в стороне от всякого вмешательства во внутренние дела России.
— Так как я пользовался особым расположением бывшей правительницы, то я желал бы знать: будет ли приятно ее величеству императрице мое дальнейшее пребывание при ее дворе? — обратился Ботта с запросом к великому канцлеру князю Черкасскому, и на этот запрос императрица приказала объявить маркизу, что «он ей наиболее угодный министр».
По наружности Елизавета относилась к нему чрезвычайно благосклонно, приглашала его к себе на вечера и играла с ним постоянно в карты. Во время игры маркиз не раз сетовал, что петербургский климат для него вреден. Говорил он также, что хотя и считает за особенную честь быть представителем римско-немецкого императора при дворе ее величества, но, прослужив так долго в военной службе, он до такой степени свыкся с нею, что желал бы снова вступить в нее. Разумеется, что императрица выражала свое сожаление, что ей придется расстаться с человеком, который приобрел и ее любовь, и ее уважение. Маркиз настаивал, однако, на своем отзыве, который, наконец, и состоялся, и он в декабре 1742 года, в бытность государыни в Москве, имел у нее прощальную аудиенцию. На этой аудиенции государыня рассталась с маркизом дружественным образом.
Думала, однако, Елизавета о хитром итальянце совершенно иначе. Она была уверена, что Ботта жил в России, надеясь улучить благоприятную пору, чтобы произвести новый переворот для восстановления павшей правительницы. Не забывала Елизавета и о тесной дружбе Ботта с Левенвольдом. Маркиз жил с ним в Петербурге по соседству и видался ежедневно. Она была почему-то уверена, что венский кабинет назначил в распоряжение маркиза 300 000 рублей для подкупа министров, и, подметив, что вице-канцлер мешался, бледнел и краснел, когда при нем говорили о маркизе, была уверена, что Ботта дал ему 20 000 рублей, о чем подшепнул ей ловко Лесток.
В особенности же раздражало государыню то, что Ботта, исполняя полученные им из Вены инструкции, настойчиво ходатайствовал о скорейшем отъезде бывшей правительницы из Риги за границу.
— Ботта, — говорила однажды Елизавета вице-канцлеру, — не имеет никаких причин, чтобы так много думать о себе, и если он будет важничать, то может отправиться куда ему угодно. Мне дороже дружба людей, которые не оставили меня в тяжелую пору, чем расположение нищей королевы венгерской.
Не нравилось также Елизавете, что Ботта вел дружбу с приверженцами прежнего правительства: с Лопухиным, с графиней Ягужинской (сестрою Головкина), Лилиенфельдами, которые хотя и не были привлечены к делу Миниха, Остермана, Левенвольда и Головкина, но считались так называвшимися в ту пору «намеченными» людьми, то есть такими, за которых следовало взяться при первом же на них указании или ввиду обстоятельств, наводящих на них какое-либо подозрение.
Часто собиравшийся небольшой кружок из этих лиц с грустью вспоминал о временах правительницы, когда было для них не то, что теперь, и высказывал желание, чтобы принцесса Анна, если уж нельзя восстановить ее во власти, по крайней мере, не томилась бы в тяжелом заточении.
Среди этих лиц, роптавших на правительство, Ботта, поборник интересов Брауншвейгского дома, был как нельзя более кстати. Он горевал вместе с ними, а порою с дипломатическою двусмысленностью делал намеки, что в скором времени все должно будет перемениться, давая тем разуметь, что царствование Елизаветы, при пособии ее недругам со стороны венского кабинета, должно будет прекратиться.
Такие намеки хотя и утешали Бестужеву и Лопухину, но им становилось страшно при мысли, что Ботта затевает в подражание маркизу Шетарди какое-нибудь отважное дело. Они предвидели, что при неудачном исходе такой затеи должны будут жестоко поплатиться все не только близкие к нему лица, но и те, которые были с ним в хороших отношениях и только вели с ним обыкновенное знакомство.
— Нет, господин маркиз, «не заваривайте каши», — просили его испуганные дамы. — Бог знает, удастся ли вам сделать то, что сделал Шетарди. Сообразите только, что в случае неудачи, кроме вновь захваченных ваших единомышленников, будут в ответе и бывшая правительница, и все прежние ее доброжелатели.
— Снова возьмутся за Левенвольда, — с ужасом проговорила Лопухина.
— И за моего несчастного брата, — со слезами на глазах добавила Бестужева. — Начнутся страшные пытки, и их, теперь ничему уже не причастных, обвинят во что бы то ни стало. Я вся дрожу при одной только мысли о той ужаснейшей казни, какая неизбежно постигнет их.
— Нет, маркиз, Бога ради, не затевайте ничего. Это будет бесполезно, — упрашивали обе дамы самодовольно улыбавшегося Ботта.
Опасения, внушаемые им австрийским посланником, были, однако, напрасны. Развязный с ними на словах, Ботта не думал предпринимать ничего решительного на деле, тем более что, ожидая отзывных грамот, готовился уехать из России, предоставляя заступившему его барону Нейгаузу действовать в пользу Брауншвейгской фамилии так, как сам барон найдет нужным.
Впрочем, не только Нейгаузу, но и маркизу Ботта д’Адорно трудно было тягаться с влиянием французской политики, бравшей при Елизавете заметный перевес над австрийскою, сторонником которой был вице-канцлер Бестужев. При неспособности канцлера князя Черкасского к ведению дел он имел в своих руках всю дипломатическую переписку. Кроме того, так как Черкасский не говорил ни на каком другом языке, кроме русского, то иностранные послы не могли вести с ним непосредственно словесных переговоров.
Французская дипломатия употребляла все усилия, чтобы уронить вице-канцлера во мнении государыни. Старательно работал над этим Шетарди, но без успеха. Он, вследствие упорства Бестужева, не мог добиться тех уступок, какие требовала Франция от России в пользу своей союзницы Швеции, начавшей при правительнице Анне войну с Россией в угоду Франции. Видя, что Шетарди не мог ничего сделать в Петербурге, версальский кабинет отозвал его, поручив д’Альону «погубить» Бестужева; но и происки этого нового губителя не привели ни к чему, и французский государственный секретарь д’Амло, узнав о желании императрицы видеть при ее дворе опять Шетарди, снова отправил маркиза в Петербург.
Императрица любила Шетарди не только за оказанные им ей услуги, но еще и за любезность и остроумие.
— Никто не умеет так мило шутить, как мой дорогой маркиз, — говаривала Елизавета, вспоминая о том времени, которое она так приятно приводила в его всегда игривой и находчивой беседе.
Не дремали, однако, главный противник Франции и его «адгеренты». Они подготовили маркизу не ту встречу, какую он ожидал у императрицы. Он ехал к ней как деятельный дипломат, надеявшийся направлять политику русского кабинета, но когда весною 1742 года он явился в Москву, то там был встречен не более как только приятный гость. Попытался было он вмешаться в мирные переговоры России с Швецией, но вице-канцлер очень вежливо попросил его не утруждать себя этого рода хлопотами, заявив, что русский кабинет твердо решился помириться с Швецией без всякого постороннего вмешательства.
Еще больший удар, по внушению Бестужева, был нанесен самолюбию маркиза, когда он, испросив у государыни аудиенцию для объяснений по делам, получил на то разрешение. Но как сильно был раздражен он, когда, приехав во дворец в назначенный час, не тотчас же был принят государыней. Его попросили пообождать, и ждать ему пришлось несколько часов. Правда, что он в это время не скучал нисколько, так как в том апартаменте, где он ожидал, находились фрейлины, с которыми он шутил и балагурил. Но и в этой чрезвычайно приятной для него беседе он терзался мыслью, что государыня не оказывает ему прежнего внимания, что теперь не та пора, когда она при докладе о нем во всякое время спешила к нему навстречу, говоря, что с нетерпением ожидала его.
Обиженный настоящим, далеко не ласковым приемом, маркиз тревожился вопросом о том, что заговорят придворные, узнав, что государыня, назначив ему определенный час и будучи дома, заставила его ждать так долго. И маркиз с худо скрываемым волнением вынимал беспрестанно часы из кармана своего камзола и, казалось, отсчитывал по ним каждую минуту.
— Верно вам, господин маркиз, с нами очень скучно, что вы так смотрите на часы? Как жаль, что мы не умеем занять вас, — сказала шутливо одна из фрейлин.
— Может ли мне, простому смертному, — восторженно отвечал Шетарди, — быть скучно среди таких прелестных нимф? Но напрасно я стал бы скрывать перед вами мое нетерпение предстать поскорее пред вашей богиней; это не только мое желание, но и моя обязанность. О, не будь у меня этой обязанности, я никогда и ни за что не вышел бы из этого прекрасного цветника, — любезничал маркиз, добавляя свои комплименты такими изящными поклонами, которым позавидовал бы балетмейстер Фузано, обучавший фрейлин танцам.
Вошедший в это время в приемную залу камердинер императрицы пригласил его превосходительство пожаловать к государыне.
Императрица встретила Шетарди очень приветливо, но без тех дружеских заявлений, на которые он рассчитывал, и не извинилась даже, что так долго заставила его ждать. Теперь, очевидно, было не то, что прежде, и Шетарди заметил, что после первого приветствия императрица в обращении с ним сделалась холодна и сдержанна.
Разбитной француз по старой привычке позволил себе спросить императрицу о причинах той перемены, какую он замечает со стороны ее величества в отношении к нему. В ответ на этот вопрос императрица произнесла несколько невнятных слов, которые никак не могли быть приняты за откровенное объяснение. При этом она, заговорив о своем нездоровье, сетовала на Лестока, не умевшего врачевать ее недуги.
Намек этот был вполне ясен для Шетарди, находившегося в самой тесной дружбе с лейб-хирургом. Маркиз, однако, нисколько не смутился и стал с горячностью защищать своего друга, который был так необходим ему для исполнения его политических планов.
— Я согласен с вашим величеством, что теперь граф Лесток не может уже врачевать с прежним успехом, так как он среди забот о государственных делах неизбежно должен был отстать от своей прежней специальности. Но соблаговолите, государыня, согласиться со мной, что если вы, благодаря вашей превосходной натуре, вашему цветущему возрасту, и можете обходиться без господина Лестока, то, во всяком случае, вы не захотите забыть те услуги, которые вам оказал он — не смею сказать — как ваш друг, но как безгранично преданный вам доброжелатель и один из вернейших ваших слуг…
Императрица сделала вид, что не обращает внимания на заступничество Шетарди, и подумала, что капли, изобретенные Бестужевым, помогают ей гораздо лучше, нежели все лекарственные снадобья, прописываемые ей президентом медицинской коллегии.
— Впрочем, — продолжал маркиз, — статься может, и я утратил прежнее ваше милостивое ко мне внимание. Как мне тяжело, особенно если вспомню те счастливые дни, когда я имел счастие пользоваться такою близостью к особе вашей. Вспомните, государыня, сколько тревог, сколько опасностей пришлось тогда пережить преданным вам людям, а в число их ваше величество не откажетесь, конечно, включить и Шетарди. Могу смело сказать, что он готов был отдать свою жизнь за ваше благоденствие…
— О, я в этом никогда не сомневалась, да и теперь не сомневаюсь, любезный господин Шетарди, — ласково глядя на маркиза, проговорила Елизавета.
— Так неужели, ваше величество, в память всего прошедшего вы не соблаговолите удостоить меня прежнего вашего доверия и не позволите мне с полною откровенностью беседовать с вами о делах политических? Я вполне уверен, что такие беседы послужили бы в пользу и России, и Франции…
— О, господин маркиз, — торопливо прервала государыня, — что касается дипломатических вопросов, то я решительно отказалась от всякого участия в этой путанице, и если вам что-нибудь нужно сообщить относительно политических дел, то потрудитесь обратиться к моим министрам, и когда между вами и ими состоится какое-либо соглашение, мне останется только утвердить то, что постановите вы и они.
Шетарди пожал плечами.
— Но я надеялся, государыня, иметь счастье вести переговоры непосредственно с вашим величеством; так понял и версальский кабинет желание ваше видеть меня снова при вашем дворе.
— Для меня всегда приятно видеть вас в числе самых избранных моих гостей, но повторяю еще раз вашему превосходительству, что по всем делам вам, как и представителям всех других держав, аккредитованным при мне, следует обращаться к моим министрам, и я не считаю себя вправе делать какое-либо исключение из этого порядка.
Видя упорство императрицы, Шетарди, скрыв свою досаду, перевел разговор на другие предметы и рассыпался, как всегда, в блестках красноречия, остроумия и любезности.
XXI
Прямо из дворца Шетарди отправился к Лестоку, который переехав с императрицей в Москву, успел уже и там обставиться превосходно. Он купил себе в Москве дом, отделал его великолепно и попросил государыню почтить его новоселье своим посещением. По этому случаю императрица, вместо хлеба-соли, подарила Лестоку драгоценный перстень в десять тысяч рублей и превосходный серебряный сервиз, стоивший, по крайней мере, двенадцать тысяч рублей, а жене его — золотой головной убор, осыпанный рубинами и бриллиантами. В ту пору у Лестока было много друзей и приятелей, и все они, воспользовавшись тем, что он праздновал свое московское новоселье, сделали ему множество разных дорогих подарков.
В этом доме Лесток и поджидал теперь приезда Шетарди из Головинского дворца. Так как и Лесток, и Шетарди любили побеседовать за хорошим завтраком, обедом или ужином, то сообразно с тем временем, когда должен был приехать маркиз, в столовой у Лестока был приготовлен для дорогого гостя роскошный завтрак. Все, что только мог придумать и достать в Москве самый прихотливый вкус по съестной части, должно было быть предложено маркизу, который и сам любил и умел принимать своих гостей, восхищавшихся изысканностью его обедов и ужинов и тонкостью подаваемых у него вин.
Хозяин, подстрекаемый не только желанием поскорее побеседовать со своим приятелем, но вдобавок к тому и все более разыгрывавшимся аппетитом, нетерпеливо ожидал приезда маркиза и терялся в догадках насчет причин, которые могли бы задержать Шетарди.
«Вероятно, государыня задерживает его у себя», — думал Лесток в то время, когда маркиз беседовал с фрейлинами и волновался от досады, что императрица так долго не принимает его.
— Это хорошая примета, — проговорил Лесток, потирая от удовольствия руки. — Вдвоем мы отлично сладим с Бестужевым.
В это время на дворе, на который выходил главный фасад дома Лестока, послышался грохот кареты, и Лесток, взглянув в окно, увидал подъезжавшего к крыльцу маркиза. Обрадованный лейб-хирург побежал на лестницу, чтобы встретить давно ожидаемого гостя.
Ну, что? Как дела? — заторопился Лесток, почти столкнувшись с Шетарди на лестнице.
— Нельзя ничего предвидеть хорошего, мой дорогой друг! — проговорил печальным голосом гость.
— В таком случае мы сядем поскорее завтракать, и за бутылкой хорошего вина ты расскажешь мне свое горе. По крайней мере, тогда вино развеселит нас, — болтал по-французски Лесток.
— Прежде всего я должен сказать тебе, мой милый хозяин, что я ужасно проголодался. Государыня заставила меня ждать почти три часа, — сказал маркиз, бросая на стол свою треуголку с белым как снег плюмажем и радужно блестевшею на ней бриллиантовой петлицей.
При этом известии на лице лейб-медика появилось выражение неприятного изумления.
Разговаривая между собою, гость и хозяин сели за завтрак, который по слишком позднему для тогдашнего распределению времени дня мог считаться уже обедом.
— Я не нашел в ней, — с раздражением продолжал Шетарди, — ни прежнего внимания, ни прежнего расположения ко мне. Она, кажется, стала совсем иная. В ней я не заметил ни малейших следов признательности, а кажется, ей не следовало бы забывать, что я для нее сделал.
— Да и я, — подхватил Лесток, — тоже поработал в ее пользу: голова едва уцелела на моих плечах. Между тем я ясно вижу, что и ко мне она относится совсем уже не так, как относилась в первые дни ее воцарения, когда слова благодарности не сходили с ее губ. Теперь же, скажу тебе откровенно, мой добрый и старый друг, что я, сам не знаю почему, начинаю побаиваться, на меня начинает веять от нее каким-то необъяснимым страхом, и это чувствую не я один, но и другие. Кто поверит, что я вхожу к ней с замиранием сердца, и точно какой-то тайный голос подсказывает мне, что она будет если не виною, то причиною моей пагубы.
Лесток призадумался, а Шетарди расхохотался снова, и, принявшись за закуску, запивал с большим удовольствием съедаемое превосходным бургонским.
— Что ж, однако, могло расстроить твою прежнюю к ней близость? — спросил маркиз, ставя на стол опорожненный им стакан.
— Смешно сказать, «бестужевские капли», — и Лесток принялся рассказывать, как ловко был подорван у императрицы его кредит как врача.
— Да ведь ты, мой друг, — засмеялся Шетарди, — уже не медик. Ты стал государственным человеком и, следовательно, мог и должен был поддерживать свой кредит не рецептами, а другими способами, соответствующими твоему высокому положению. Что же подорвало твой кредит в этом отношении?
— Бестужевская политика. Тебе известно, что он непримиримый враг Франции и сторонник Австрии, то есть составляет совершенную противоположность тому, чем был и будет всегда ваш покорнейший слуга…
— А, те

