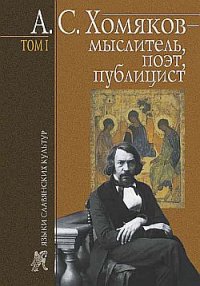
Читать онлайн А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 1 бесплатно
- Все книги автора: Б. Н. Тарасов
В оформлении переплета использована фотография А. С. Хомякова и «Троица» А. Рублева.
На фронтисписе автопортрет А. С. Хомякова (2-я пол. 1830-х гг.).
Предисловие
В предлагаемом вниманию читателя двухтомнике публикуются доклады международной конференции, посвященной двухсотлетию А. С. Хомякова. 14–17 апреля 2004 года представители многих ведущих академических институтов и вузов, священники и философы, историки и социологи, политологи и экономисты, литературоведы и лингвисты, сотрудники музеев и библиотек из разных городов России, а также из Украины, Латвии, Литвы, Сербии, Хорватии, Франции, Италии, Германии, Финляндии собрались в Москве, в Литературном институте им. А. М. Горького, чтобы отдать дань памяти этому замечательному мыслителю, поэту и публицисту, по словам о. Павла Флоренского, «самому чистому и самому благородному из великих людей новой русской истории», рассмотреть разнообразные грани и подчеркнуть непреходящее актуальное значение его творчества. Проблемы глобализации и национального культурно-исторического самосознания в свете духовного опыта Хомякова и славянофильской традиции, соборность и текучая политика и геополитика, неославянофильство и неозападничество в сегодняшнем контексте, православное и протестантское отношение к хозяйству, воспитание книгой и образовательная концепция Хомякова, формирование под его влиянием тенденций изобразительного искусства, хомяковское наследие в идеях русских религиозных философов XX века и его восприятие на Западе, богословская и историософская полемика вокруг его сочинений, Хомяков и славянский мир, Хомяков и современная отечественная литература, новые разыскания о предках Хомякова и его окружении – с обсуждением этих и многих других вопросов на конференции теперь могут ознакомиться и читатели. Не все печатаемые материалы равноценны по своему содержанию, глубине и адекватности в истолковании многосторонней, сложной и объемной проблематики творчества Хомякова и ее противоречивых отражений. Мы не производили никакого отбора (предоставляя возможность высказаться как авторитетным, так и начинающим исследователям), специально не сокращали и не правили тексты, дабы читатель сам мог оценить теперешнюю панораму взглядов на его личность и деятельность. Эти взгляды порою не совпадают друг с другом, а иногда и не соответствуют духу и смыслу произведений Хомякова, страдают избыточным стремлением «осовременить» его мысль. В любом случае конференция подтвердила живую преемственность традиции, без которой невозможны подлинно плодотворное настоящее и будущее отечественной истории и культуры.
Б. Н. Тарасов
Раздел 1
А. С. Хомяков как личность и как мыслитель
Б. Н. Тарасов
А. С. Хомяков как личность и как мыслитель
Хомякова по праву можно считать главой, «гранитной скалой» и «камнем», по определению Н. А. Бердяева, славянофильства или «корифеем национальной школы», по определению П. Я. Чаадаева. И не только потому, что он стоит у истоков этого направления общественно-литературной мысли, зачастую неправомерно отождествляемой по терминологическому недоразумению с любовью к славянам. Само значение его личности и творчества наиболее раскрывается в постановке самых разных вопросов «о нашей умственной и нравственной самостоятельности» (А. Григорьев), понимаемой не только в этническом, но и – прежде всего – в самом широком историософском и антропологическом контексте. С Хомякова, по существу, начинается самобытная русская мысль, философское самосознание нации, основная и постоянная задача которой, с его точки зрения, заключается в поиске жизненного воплощения ее сокровенных возможностей, когда разумное развитие народа возводится до общечеловеческого значения того типа, который скрывается в самом корне народного бытия.
Религиозные, исторические, общественные, эстетические воззрения и предпочтения Хомякова складывались на основе энциклопедических познаний едва ли не всех областей человеческой деятельности и науки. Как и многие славянофилы, он был блестяще образованным человеком, знал множество языков, мировые религии, лингвистику, писал по-французски богословские трактаты. Хомяков хорошо разбирался в экономике, разрабатывал проекты освобождения крестьян и усовершенствования сельскохозяйственного производства, изобрел дальнобойное ружье и новую паровую машину, получившую патент в Англии, занимался винокурением, сахароварением и гомеопатическим лечением, успешными поисками полезных ископаемых в Тульской губернии, проектами улучшения благосостояния жителей Алеутских островов и созданием хитроумных артиллерийских снарядов в период Крымской войны. Одаренный художник, портретист и иконописец, известный поэт и драматург – таковы еще ипостаси личности Хомякова, о котором его единомышленник А. И. Кошелев писал: «Он не был специалистом ни по какой части, но все его интересовало, всем он занимался, все ему было более или менее известно и встречало искреннее сочувствие. Обширности его сведений особенно помогала, кроме необходимой живости ума, способность читать чрезвычайно быстро и сохранять в памяти навсегда им прочитанное»[1]. Об умении Хомякова с ходу впитывать новые знания и уместно пользоваться ими в полемических целях есть много свидетельств его современников. Например, известный юрист-западник Б. Н. Чичерин вспоминал, что Хомякову, глотавшему книги, «как пилюли», достаточно было одной ночи для усвоения самого глубокомысленного сочинения и точной передачи наутро его основной сути или, как отмечала А. Ф. Тютчева, его юмористической стороны.
Идейная страстность и дискуссионный талант заставляли неутомимого спорщика всегда быть наготове и вмешиваться во все спорные вопросы времени. А. И. Герцен называл его «бретером диалектики», который, подобно средневековым рыцарям, стерегущим храм Богородицы, «спал вооруженным».
И здесь следует подчеркнуть другую, в каком-то смысле противоположную и главную сторону естественного характера и умственного склада Хомякова, не растекавшегося мыслию в разных областях знания и в интеллектуальном остроумии. За многообразными проявлениями его живого искристого ума таилась глубокая духовная и нравственная сосредоточенность, нерасторжимое единство идей, чувств и воли, незамутненная ясность самых серьезных задач.
- «Поэт, механик и филолог,
- Врач, живописец и теолог,
- Общины русской публицист,
- Ты мудр, как змий, как голубь чист», —
писал о нем мемуарист Д. И. Свербеев.
Для понимания не только личности, но и всего духа и смысла творчества Хомякова уместно будет вспомнить роман И. А. Гончарова «Обрыв», где встречается рассуждение о гармонии умственного и нравственного развития, мощи ума и способности «иметь сердце и дорожить этой силой, если не выше силы ума, то хоть наравне с нею. А пока люди стыдятся этой силы, дорожа “змеиной мудростью” и краснея “голубиной простоты” <…> пока умственную высоту будут предпочитать нравственной, до тех пор и достижение этой высоты немыслимо, следовательно, немыслим и истинный, прочный, человеческий прогресс»[2].
Если мы обратимся к Хомякову, то и у него встретим сходное понимание прогресса, уяснение которого чрезвычайно актуально и в наши дни. Необходимо, подчеркивал он, задавать себе вопрос, «чей прогресс, прогресс чего именно… Может усовершенствоваться наука, а нравы могут упадать и страна опять-таки гибнуть. Где же тут прогресс страны? Прогресс есть слово, требующее субъекта. Без этого субъекта прогресс есть отвлеченность или, лучше сказать, чистая бессмыслица»[3].
Двадцатый век, а вслед за ним и XXI являются, несомненно, временем наибольшего разрыва между развитием научно-технической мощи человека и утратой нравственного «субъекта» прогресса. Становится все более очевидно, что если жизнь отдельного человека и целой нации ограничивается материальными интересами и диктуется сиюминутными претензиями, а не освящается абсолютными идеалами и не опирается на многовековые традиции, то она подвергается опасности загнивания и уничтожения.
В таком контексте личностный и творческий опыт Хомякова, «самого чистого и самого благородного из великих людей новой русской истории», по словам П. А. Флоренского, трудно переоценить. Именно соединение змеиной мудрости и голубиной простоты позволяло ему отличать мнимое просвещение от истинного, определять содержание подлинного прогресса.
Многие современники отмечали изначальную цельность мировоззрения Хомякова, отсутствие даже в юности сомнений и исканий. Ю. Ф. Самарин, испытавший в молодости его решающее воздействие, писал: «Для людей, сохранивших в себе чуткость неповрежденного религиозного смысла, но запутавшихся в противоречиях и раздвоившихся душою, Хомяков был своего рода эмансипатором; он выводил их на простор, на свет Божий, возвращал им цельность религиозного сознания»[4]. Главную причину такого состояния личности своего старшего друга, ее воздействия на окружающих Самарин видел в том, что тот с раннего детства до последней минуты «жил в Церкви», составлял ее живую частицу. Именно жизнь в Церкви придавала вселенский богословский и историософский масштаб и одновременно насущную мудрость и трезвость мысли Хомякова, что позволяло ему верно оценивать не только разные явления в окружающем мире, но и их возможные перспективы и судьбы.
Искреннему и последовательному воцерковлению Хомякова во многом способствовала его мать Мария Алексеевна, которой он, по собственным словам, был обязан «своим направлением и своей неуклонностью в этом направлении». Он говорил, что ее духовное существо не было ни разварено (от 1800 до 1825 года), ни придавлено (от 1825 до 1855 года). Мать воспитывала сына в строгой преданности основам Православной Церкви и национальным началам жизни. Она происходила из рода Киреевских. Отдаленные или близкие родственные отношения связывали между собой и весь круг будущих славянофилов. Кстати, сам Хомяков был женат на сестре славянофильского поэта Н. М. Языкова. Укорененность в гуще «семейственных» отношений культурной дворянской среды накладывала неповторимый отпечаток на быт и идеи славянофилов, что с легкой иронией отмечал П. А. Флоренский: «Они хотели бы и весь мир видеть устроенным по-родственному, как одно огромное чаепитие дружных родственников, собравшихся вечером поговорить о каком-нибудь хорошем вопросе»[5].
Верно отмечая «домашнее» влияние на формирование философских воззрений славянофилов, Флоренский, тем не менее, преувеличивает его значение. Да и выразительные факты биографии Хомякова показывают, что не только семейные ценности руководили его поведением. Когда в 1821 году началось восстание против турецкого ига в Греции, юный Хомяков, учившийся в Московском университете и получивший там степень кандидата математики, обзавелся фальшивым паспортом, накопил денег, купил нож и отправился на помощь угнетенным, однако был вскоре задержан и возвращен домой. Характерно, что через несколько лет чувство справедливости и высшей свободы заставило Хомякова поступать иначе, когда он оказался в самом центре декабристских замыслов и протестовал против революционного насилия, говоря о безнравственности всякого военного бунта. Один из современников вспоминал:
Рылеев являлся в этом обществе оракулом. Его проповеди слушались с жадностью и доверием. Тема была одна – необходимость конституции и переворота посредством войска. Посреди этих людей нередко являлся молодой офицер, необыкновенно живого ума. Он никак не хотел согласиться с мнениями, господствовавшими в этом обществе, и постоянно твердил, что из всех революций самая беззаконная есть революция военная. Однажды, поздним осенним вечером, по этому предмету у него был жаркий спор с Рылеевым. Смысл слов молодого офицера был таков: «Вы хотите военной революции. Но что такое войско? Это собрание людей, которых народ вооружал на свой счет и которым он поручил защищать себя. Какая же тут будет правда, если эти люди, в противность своему назначению, станут распоряжаться народом по произволу и сделаются выше его?» Рассерженный Рылеев убежал с вечера домой. Князю Одоевскому этот противник революции надоедал, уверяя его, что он вовсе не либерал и только хочет заменить единодержавие тиранством вооруженного меньшинства. Человек этот – А. C. Хомяков[6].
Из приведенных строк видно, что у молодого человека, к тому времени офицера лейб-гвардии Конного полка, уже созрело стойкое неприятие искусственных разрывов органического развития русской истории и ее насильственных преобразований «сверху», без учета соборного мнения народа, его коренных традиций и основных ценностей – будь то петровские реформы, декабристские планы или грядущие революционно-демократические теории. Что же касается конкретного контекста, то «живой ум» Хомякова не мог, конечно, переломить господствовавшего настроения. Его полк принял участие в восстании на Сенатской площади, а сам он в это время находился в двухгодичном путешествии за границей и внимательно изучал западную жизнь.
После русско-турецкой войны 1828–1829 годов, в которой он проявил геройство и мужество, Хомяков постепенно все больше погружается в философские раздумья и научные занятия. В них огромное место занимают вопросы соотношения и взаимодействия русской и европейской культур. Своеобразным толчком для кристаллизации его мыслей послужила публикация в 1836 году в журнале «Телескоп» первого философического письма П. Я. Чаадаева, резко критиковавшего историческое прошлое России и призывавшего к всецелому копированию европейского пути.
Для опровержения необходимости безусловной подражательности и обоснования возможности самостоятельного развития Хомяков написал оставшуюся неопубликованной статью, где возражал Чаадаеву и подчеркивал: «Мы принимали от умирающей Греции святое наследие, символ искупления, и учились слову; мы отстаивали его от нашествия Корана и не отдали во власть папы; сохраняли непорочную голубицу, перелетевшую из Византии на берега Днепра и припавшую на грудь Владимира»[7]. А через три года, в один из вечеров у А. П. Елагиной, матери братьев Киреевских, Хомяков огласил положения своей статьи «О старом и новом» (1839), ставшей первоначальным программным документом нарождавшегося славянофильства: «Если ничего доброго и плодотворного не существовало в прежней жизни России, то нам приходится все черпать из жизни других народов, из собственных теорий, из примеров и трудов племен просвещенных эпох и из стремлений современных»[8]. Но такова ли в действительности прежняя жизнь России? Да, рассуждал оратор, в ней есть много примеров неграмотности и взяток, вражды и междоусобиц. Но не меньше в ней и обратных примеров. В основании нашей истории, продолжал он свою мысль, нет пятен крови и завоевания, а в преданиях и традициях нет уроков неправедности и насилия. «Эти-то лучшие инстинкты души русской, образованной и облагороженной христианством, эти-то воспоминания древности неизвестной, но живущей в нас тайно, произвели все хорошее, чем мы можем гордиться»[9].
Хомяков призывал объективно разобраться в разных «плодах просвещения» и определить, нет ли в русском «старом» чего-либо такого, что утеряно в «новом» и что могло бы помочь сделать человеческие отношения более добрыми и разумными. В дальнейшем он посвятил немало страниц раскрытию нелепых и одновременно драматических страниц бездумного подражательства Европе, когда она сделалась для русских, как ни для какой другой большой нации, второй родиной, источником не только приемов и методов внешнего прогресса, но и жизненных целей и задач. При этом, подчеркивал Хомяков, безоглядно осваивались деизм, вольтерьянство, масонство, политический радикализм и другие модные идеи с иностранной этикеткой, а желанными наставниками и учителями становились подчас весьма далекие от духовной культуры люди.
Принимая все без разбора, – писал он, – добродушно признавая просвещением всякое явление западного мира, всякую новую моду и оттенок моды, всякий плод досуга немецких философов и французских портных, всякое изменение в мысли или в быте, мы еще не осмелились ни разу хоть вежливо, хоть робко, хоть в полусомнении спросить у Запада, все ли то правда, что он говорит? Все ли то прекрасно, что он делает? Ежедневно, в своем беспрестанном волнении, называет он свои мысли ложью, заменяя старую ложь, может быть, новою, и старое безобразие, может быть, новым, и при всякой перемене мы с ним вместе осуждаем прошедшее, хвалим настоящее и ждем от него нового приговора, чтобы снова переменить наши мысли[10].
Жадное и некритическое восприятие европейских уроков в отрыве от проникновения в сущность собственного национального опыта увеличивало, показывает Хомяков, разрыв между самобытной жизнью и заимствованным просвещением, усиливало отделение высших слоев общества от народа, приводило к забвению духовной сущности родной земли и ее истории. Редкая семья, пишет он, располагает какими-то знаниями о своем прапрадеде, думая, что «он был чем-то вроде дикаря в глазах своих образованных правнуков». При этом отрицание всего русского, от названий до обычаев, от мелочей одежды до существенных основ жизни доходило порою до нелепой страсти и комической восторженности.
Хомяков подчеркивает, что не является противником западного просвещения, признает неотразимое обаяние, весомость и нужность его многочисленных плодов, которыми и сам каждодневно с удовольствием пользуется. Речь идет лишь о том, чтобы различать пригодные для всех, универсальные научно-технические сведения и методы и гуманитарные знания и общественные идеалы, которые в России и Европе органически формировались в разных исторических условиях и заимствование которых, следовательно, не может проходить безболезненно. К тому же в основных идеях западного просвещения мыслитель обнаруживал определенные ограничения, которые не следовало бы переносить на русскую почву.
Рассматривая, в каком направлении и до каких пределов изменяется под воздействием основополагающих результатов и исходных начал европейской культуры логика внутреннего развития отдельной личности, определяющая своеобразие ее связи с другими такими же личностями, со всеми людьми, Хомяков обращается к идее права и юридического закона. Эта идея, организующая человеческие отношения в западном обществе, обнаруживает в его представлении свою односторонность и отвлеченность, когда внешняя формальность «съедает» внутреннюю справедливость. Ибо в букве закона человек покровительствует эгоистической выгоде, хотя и ограждаемой условным договором. С его точки зрения, абстрактное понимание права получает конкретное положительное содержание и подлинность лишь при зависимости от нравственных обязанностей, находящихся в прямой связи с «всечеловеческой или всемирной нравственной истиной».
Идеал свободы, если она не определена этой истиной, не имеет достаточно положительного внутреннего содержания и раскрывается Хомяковым как неразборчивая воля к недосознаваемой смене разных форм практической деятельности.
Отсюда презрение к бескорыстному поведению, накопление богатства как чувственного раздражителя для бесконечного материального потребления. Отсюда дух соперничества оригинальных индивидуальностей и партийных интересов, раздробляющих всякое желание общего блага в конкуренции частных достижений.
По логике Хомякова, внутренняя противоречивость и неполнота основных европейских достижений являются результатом исторического развития католичества, односторонне понявшего христианство как внешнее принудительное единство по государственному образу и вызвавшего столь же односторонний и опять-таки внешне определяемый пиетет перед отрицательной индивидуалистической свободой в протестантизме. По его убеждению, в этом раздвоении и установке на внешнее бессознательно сказался всеокрашивающий антропоцентризм античного элемента, подчинявший «небо» «земле» и безуспешно пытавшийся воплотить «христианскую истину» в знакомых исторических формах (юридических, политических, государственных).
Другими путями, в представлении Хомякова, просвещалось сознание и создавалась культура в России, где восточное христианство не смешивалось с древнеримским наследием и в чистоте святоотеческого предания воздействовало на национальные начала. Поэтому Православие, в котором христианство отразилось «в полноте, то есть в тождестве единства и свободы, проявляемом в законе духовной любви», он считал подлинным источником истинного просвещения. Такое просвещение не является только сводом общественных договоренностей или научных знаний, а «есть разумное просветление всего духовного состава в человеке или народе. Оно может соединяться с наукою, ибо наука есть одно из его явлений, но оно сильно и без наукообразного знания; наука же (одностороннее его развитие) бессильна и ничтожна без него… Разумное просветление духа человеческого есть тот живой корень, из которого развиваются и наукообразное знание, и так называемая цивилизация или образованность»[11].
Просвещение и просветление человеческого духа законом любви собирает все силы личности и направляет ее волю и разум к высокой простоте целостного знания, водворяющего в душе непосредственное и живое согласие с истинами веры и откровения. Такое знание и согласие поддерживают в свою очередь искреннюю любовь, которая, пишет Хомяков, есть «приобретение, и чем шире ее область, тем полнее она выносит человека из его пределов, тем богаче он становится внутри себя. В жертве, в самозабвении находит он преизбыток расширяющейся жизни, и в этом преизбытке сам светлеет, торжествует и радуется. Останавливается ли его стремление, он скудеет, все более сжимается в тесные пределы, в самого себя, как в гроб, который ему противен и из которого он выйти не может, потому что не хочет»[12]. Без преображения внутреннего мира человека подвигом жертвенного самоотречения нет и подлинной любви, а без подлинной любви нет ни истинного познания, ни настоящего облагораживания человеческих отношений, ни действительной свободы.
По мысли Хомякова, жизнь в Церкви и любви и есть свобода – свобода от поврежденных первородным грехом темных начал человеческой природы, от принудительно рассудочного позитивизма, прагматизма и утилитаризма в поведении людей. С другой стороны, человеку, выходящему из эгоистического «гроба», открывается «высшая правда вольного стремления», становятся доступными сверхлогические «тайны вещей божественных и человеческих», хотя окончательная конкретность их разрешения непостижима человеческому уму. «Выходя из себя» в любви, человек перестает рассматривать окружающий мир лишь как предмет своей пользы и выгоды, видит в других людях такие же уникальные личности.
Сравнивая оба типа европейско-католического и русско-православного просвещения, Хомяков не превозносил второе над первым. Не самодовольство в мнимом превосходстве, не важное похваливание русского народа, не щегольство знанием русского быта и духа, не выдумывание чувств и мыслей, которых не знал русский народ, не искусственное и натянутое возвращение к погибшим формам и случайностям старины, но искренний возврат к общительной любви, к принципам истинного просвещения, к корням православной культуры, хотя они в конкретно-исторических условиях и подвергались всевозможным искажениям.
В одном из писем Хомяков призывал отстранить «всякую мысль о том, будто возвращение к старине сделалось нашей мечтою… Но путь пройденный должен определять и будущее направление. Если с дороги сбились, первая задача – воротиться на дорогу»[13]. Глубинное течение мысли Хомякова определяется не самочинным поклонением старине, тем более не заимствованием любого «нового». «Старое», а точнее, вечное необходимо для сохранения серьезного душевного лада, лучших духовных традиций, той столбовой дороги, которая определяет нравственное состояние личности и общества. Ведь равнодушие к правде и нравственному добру способно «отравить целое поколение и погубить многие, за ним следующие», разложить государственную и общественную жизнь. Поэтому нравственное достоинство должно определять решение всяких гражданских вопросов. Макиавеллистскому политиканству Хомяков противопоставляет нравственный историзм, обеспечивающий жизнеспособность человеческого существования:
Безнаказанно нельзя смешивать общественную задачу с политикой… Со времен революции существует (хотя, разумеется, существует издавна) нелепое учение, смешивающее жизнь общества государственного с его формальным образом, это учение так глубоко пустило свои корни, что оно служит основанием самому протестантству политическому (коммунизму или социализму), разрастающему задачу общества только новою формою, враждебною прежним формам, но в сущности тождественное с ними… Перевоспитать общество, оторвать его совершенно от вопроса политического и заставить его заняться самим собой, понять свою пустоту, свой эгоизм и свою слабость – вот дело истинного просвещения[14].
В решении насущных задач такого просвещения Хомяков отводит большую роль мудрому консерватизму, устойчивым традициям, непреходящим национальным ценностям, на основе которых только и могут получить успешное развитие новые достижения и прогрессивные изменения. Для сопоставления животворного традиционализма и нигилистического новаторства он использовал значительно расширенное истолкование деятельности английских партий ториев и вигов как двух сил, по-разному ориентирующих общество. Вигизм для него есть «одностороннее развитие личного ума, отрешающегося от преданий и исторической жизни общества», от характерной для торизма опоры на религию, древние обычаи, семейное воспитание, классическое образование и берущего за основу эгоистические стимулы поведения, материальную выгоду, чисто внешний, технический прогресс. Между тем без гармонического сочетания «старого» и «нового», их органического врастания друг в друга невозможно подлинно нравственное и прочное преуспеяние народа:
Всякое государство или общество гражданское состоит из двух начал: из живого, исторического, в котором заключается вся жизненность общества, и из рассудочного, умозрительного, которое само по себе ничего создать не может, но мало-помалу приводит в порядок, иногда отстраняет, иногда развивает основное, то есть живое начало. Это англичане назвали, впрочем, без сознания, торизмом и вигизмом. Беда, когда земля делает из себя tabula rasa и выкидывает все корни и отпрыски своего исторического дерева[15].
По убеждению Хомякова, русские виги в лице Петра Великого и его последователей опрометчиво отбросили корневые ценности отечественного торизма – «Кремль, Киев, Саровскую пустынь, народный быт с его песнями и обрядами и по преимуществу общину сельскую»[16]. А это в перспективе грозило социальными напряжениями и кровавыми катастрофами, что и было подтверждено дальнейшей историей.
Философско-исторические и социально-нравственные выводы Хомякова органично сочетались с рассмотрением литературно-эстетической проблематики. Постоянное подавление самобытного начала в искусстве ведет, подчеркивается им, к своеобразному формализму – «подражанию чужеземным образцам, понятым в виде готового результата, независимо от умственного и нравственного движения, которым они произведены». Оторванность от животворных исторических корней, господство «полицейской симметрии» заимствований над «жизненной гармонией» естественного развития, заостряет он проблему, могут оказаться губительными для национальной культуры. Поэтому и вопрос о русской художественной школе «есть для нас вопрос жизни и смерти в смысле деятельности нравственной и духовной»[17].
Хомяков понимал свободу художественного творчества не как неразборчивый выбор готовых форм для отображения любых прихотливых движений человеческих чувств и ума, а как вольное выражение «идеалов красоты, таящихся в душе народной; ибо корень искусства есть любовь. Формальное же изучение его есть не что иное, как приобретение материальных средств для успешнейшего выражения любимого идеала, но без этого идеала и без любви к нему искусство есть только ремесло»[18]. В своих построениях Хомяков стремился дополнить индивидуалистическую «теорию о свободе художества теориею отношений художества к народу и самого художника к своим произведениям». Причем утверждаемая им в разных аспектах народность искусства заключалась не только и не столько в его тематической или функциональной связи с жизнью так называемых простых людей, хотя и это имело свое значение, сколько в расширении художественного мировоззрения, в осознанном освоении глубинных основ непреходящих ценностей народного бытия. Проникновение в нравственно-историческую глубину коренных традиций обогащает уникальное самовыражение писателя, живописца или музыканта «сокрытым» воспроизведением сущностных связей всех поколений. «Не из ума одного возникает искусство, – пишет Хомяков – Оно не есть произведение одинокой личности и ее эгоистической рассудочности, в нем сосредоточивается и выражается полнота человеческой жизни с ее просвещением, волею и верованием. Художник не творит собственною своею силою, духовная сила народа творит в художнике. Поэтому, очевидно, всякое художество должно быть и не может не быть народным»[19].
Открывая в своем внутреннем мире и в окружающей жизни духовную полноту, преображая индивидуальные черты своего творчества лучшими народными традициями и идеалами, художник может создать действительно общезначимое произведение искусства, ибо, чем он «полнее принадлежит своему народу, тем более доступен он и дорог всему человечеству».
Образцовым примером такого всечеловеческого искусства, как бы «растворившего» личность своего творца, являются для Хомякова иконы и церковная музыка: «Произведения одного лица, они не служат его выражением – они выражают всех людей, живущих одним духовным началом, это художество в высшем его значении». Икона представляет собой вершину собирательности и сосредоточенности художественного образа, ибо она «есть выражение чувства общинного, а не личного» и органично воплощает единство со всем бытовым и художественным строем народа и народного сознания.
Поставленные Хомяковым вопросы о сверхиндивидуалистических основах творчества, национальном своеобразии и объединяющем значении искусства, о духовной связи художника и народа не потеряли своей актуальности и сегодня, равно как и многие другие его философско-исторические и социально-нравственные выводы. Мысли Хомякова о соборности как о «свободной и разумной любви», о любви как должном состоянии личности и высшем законе во взаимоотношениях людей, о нигилизме умственной жизни без нравственного основания, о юриспруденции без оживляющей ее совести, о противопоставленности зиждущегося на вере «цельного знания» («живознания», «зрячего разума») и разлагающе-раздробляющего позитивизма отвлеченного рассудка, об иранстве и кушитстве как двух противоположных принципах (духовного и вещественного) мировой истории, о росте «мерзости административности» при снижении роли соборного и земского начал и подобные им дают возможность задуматься над системным направлением разрешения кажущихся неразрешимыми проблем. Он сформулировал ряд законов духовной жизни вроде нижеследующих: «Высшее начало, искаженное, становится ниже низшего, выражающегося в целости и стройной последовательности»; «простота есть степень высшая в общественной жизни, чем искусственность и хитрость, и всякое начало, истекающее из духа и совести, далеко выше всякой формальности и бумажной административности. Одно живо и живит, другое мертво и мертвит»; «та частная польза, которую мог бы принести ум человека порочного в должности общественной, гораздо ниже того соблазна, который истекает из его возвышения»[20]. Реальное постижение и практическое осуществление хотя бы одного из таких законов нынешними властителями дум, почти с религиозным трепетом и неофитским усердием твердящими об общечеловеческих ценностях, цивилизованном обществе, правовом государстве, демократии или рынке, были бы способны просветлить и оздоровить их же собственные «святыни», без того неизбежно оказывающиеся, говоря словами Хомякова, в гробу сплошной материализации и эгоизации человеческой свободы.
В. Н. Катасонов
A. С. Хомяков: целая цивилизация
Читая и перечитывая многочисленные и многообразные труды А. С. Хомякова, невольно пытаешься найти принцип единства, некий общий знаменатель мысли этого замечательного русского человека. Гоголь сказал о Пушкине: «<…> это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». Двести лет с того момента уже почти прошло, но русский человек, к сожалению, скорее, обманывает ожидания великого писателя. Однако Хомяков, друг Гоголя, в это же время уже показал, как православный русский человек может проявить себя, – как он должен проявлять себя! – в культуре. Постоянно чувствуется некий единый центр, из которого действует Хомяков, с которым соотносится все его творчество. Конечно, это пример православного христианского персонализма: все поверяется здесь личностью, всякая правда, всякое познание должны не просто коснуться ума, а «пройти через сердце», соотнестись с высшим идеалом личности, исповедуемым христианством. Все поверено у него христианской совестью: познание богословское, философское, научное, вся гамма социальных взаимоотношений, правовые нормы, отношения между народами. Все соотнесено с вертикалью человеческого бытия, открытой по направлению к Богу, все оценивается в свете встречи личности человеческой и божественной.
Однако не только иностранное слово «персонализм», примененное к Хомякову, вызывает чувство неудобства, но и недостаточная адекватность его смысла. В персонализме слишком много индивидуализма, чтобы применить его к Хомякову, и действительные примеры русского персонализма (например, творчество Н. А. Бердяева) показывают яркий контраст с образом Хомякова, этого философствующего «русского барина». В Хомякове, любящем муже и отце, отзывчивом и заботливом друге, по зову сердца отправляющемся на войну защищать свободу братьев-славян, человеке, не щадящем своей жизни ради спасения ближних во время эпидемии холеры и в конце концов потерявшем свою жизнь в борьбе с этой болезнью, было слишком много любви, чтобы покрыть все это словом «персонализм». Речь идет не о любви-восхищении, снизу вверх, от человека к Богу, от дольнего к горнему, к Святыне, а о любви к ближнему, любви-милосердии, любви, так сказать, «по горизонтали». Эти два тока любви, образующие крест, явно чувствуются в жизни русского мыслителя. Если вертикаль этого креста, свои отношения с Богом, Хомяков целомудренно прикрывал от чужих взоров, прятал за безличными философскими формулировками, за своей пресловутой веселостью, – и только редкие свидетельства намекают нам на всю глубину внутренней жизни русского мыслителя (например, рассказ Ю. Ф. Самарина о Хомякове, плачущем ночью перед иконой, или отдельные фрагменты хомяковской поэзии и переписки с друзьями), – то горизонталь этого креста – любовь к ближнему, он сделал одной из основных тем своего творчества. В богословии, философии, историософии, в понимании права, философии образования любовь становится для Хомякова термином познания и его самоконтроля. «Только любовью укрепляется само понимание, – пишет Хомяков в “Разговоре в Подмосковной”, – только в любви жизнь, огонь, энергия самого ума». Эта центрированность хомяковского мировоззрения на любви, может быть, в особенности важна и поучительна для нашего гнилого и смутного времени, когда, как кажется, сбывается пророчество о конце времен: «… и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Мф. 24: 12). Любовь становится в определенном смысле основным термином хомяковского богословия, философии, историософии. Рассмотрим это подробнее.
Богословие
Основной нерв полемических богословских сочинений Хомякова, критика рационализма в западном богословии, связан с его пониманием веры. Вера христианская, подчеркивал русский мыслитель, не сводится к умозрению, она связана с волей и представляет собой их определенный синтез. Вера есть «познание и жизнь» одновременно, но жизнь, как она актуализируется именно в Церкви Христовой, в которой воплотилась сама Божественная Жизнь. В связи с этим интересно хомяковское определение Церкви: «Церковь есть не множество лиц в их личной отдельности, но единство Божьей благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати». Церковь есть «единство Божьей благодати», но благодать Божия есть сам Бог, другими словами: Церковь есть сам Бог, воплотившийся на Земле в своей Церкви. Церковь есть богочеловеческий организм, а не просто человеческая организация. В полном сознании этого факта и начинаются оросы Вселенских соборов дерзновенными словами: «Изволися Духу Святому и нам…» Церковь осознает себя гласом Божиим и говорит от имени самого Бога!..
Чтобы быть Церковью, жизнь в ней должна быть организована по воле Божией, по Его заповедям. Без добродетелей христианских – веры, надежды, любви, смирения, терпения – невозможно войти в Церковь Божию. Хомяков не устает напоминать об онтологическом характере этих добродетелей, особенно любви: без них невозможно пребывание в теле Христовом. От этого зависят и возможности нашего познания: познание высших истин дается не отдельному человеку, a всей Церкви, именно потому, что оно неотделимо от любви. «Познание Божественных истин дано взаимной любви христиан и не имеет другого блюстителя, кроме этой любви». Конечно, эти знаменитые слова Хомякова не были каким-то его изобретением, да и сама идея подобных «новаций» чужда Православию. Русский богослов постоянно ссылается в своих полемических брошюрах на «Окружное послание восточных патриархов 1848 года», еще раз засвидетельствовавшее истину Православия перед всем христианским миром. Однако усилия Хомякова в этом вопросе были отнюдь не напрасными. В середине XIX века христианской истории, когда, казалось, заповедь о любви к ближнему уже давно стала общим местом христианской культуры, русский богослов вновь свидетельствовал об этой добродетели, но не нормативно, а позитивно, показав тем самым еще раз полноту христианской жизни в Православной Церкви: «Витии, мудрецы, испытатели закона Господня и проповедники Его учения говорили часто о законе любви, но никто не говорил о силе любви. Народы слышали проповедь о любви, как о долге; но они забыли о любви как о Божественном даре, которым обеспечивается за людьми познание безусловной истины. Чего не познала мудрость Запада, тому поучает ее юродство Востока». Любовь, помимо прочего, есть инструмент познания, и инструмент уникальный: любовь объединяет Церковь, и только любовь может «контролировать» построения богословского разума. Вся эта хомяковская гносеология в своей основе просто свидетельство истории Церкви, ее Духа.
Тезис о любви как основе церковного единства и одновременно основе христианского любомудрия был главным в богословии Хомякова, который неустанно возвращался к нему и показывал, что сама предпосылка церковной схизмы и рационалистического соблазна западного христианства есть как раз нарушение заповеди о любви. Понятна, конечно, связь нарушения заповеди о любви и разрыва отношений между западной и восточной частями прежде единой Церкви. Но Хомяков сумел показать, что и дальнейшая деформация христианской жизни и учения на Западе, в частности введение новых положений в Символ веры, есть прямое следствие нарушения этого догмата Церкви: заповеди о любви. Все происходит согласно законам жизни личности: тот, кто заявляет: «Или – по-моему, или – как хотите!», кто «хлопает за собой дверью» и отказывается от ведения диалога, от попытки понять другого и примириться с ним, тот сам выходит за пределы Истины. Истина требует любви, она соборна и не дается одному горделиво отмежевывающемуся сознанию, или сознанию отделившейся части – партии. Истина требует церковной полноты. В Церкви не может быть партий, и тот, кто пытается создать их, автоматически выводит себя за ее пределы. Характеризуя схизму, Хомяков произносит резкие слова: «Западный раскол есть произвольное, ничем не заслуженное отлучение всего Востока, захват монополии Божественного вдохновения – словом, нравственное братоубийство. Таков смысл великой ереси против вселенской Церкви, – ереси, отнимающей у веры ее нравственную основу и потому самому делающей веру невозможною». Русский богослов показывает логику развития рационализма из исходного злого и своевольного импульса. Нарушение единства в любви поражает прежде всего самого нарушителя: этой любви катастрофически не хватает как раз ему самому. То единство, которое держалось во вселенской Церкви христианской любовью, приходится теперь утверждать силой, силой «авторитета» Римского престола и голой логики. Вместе с насилием над совестью приходят ложь и подтасовки в богословии, утверждающие себя в качестве «доказательств», постоянное давление в умственной сфере, самая невыносимая из возможных несвобод. Поэтому и столь естественна была реакция на это насилие – протестантская Реформация: без свободы не может быть и веры. Однако эта свобода была завоевана ценой утраты единства. Само протестантство вскоре раскололось на множество толков, ожесточенно спорящих между собой. Если католицизм представлял собой, по формуле Хомякова, единство без свободы, то протестантство реализовало другую односторонность: свободу без единства. Но самое главное, не переставал подчеркивать Хомяков, оба течения западного христианства в богословии были одинаково поражены рационалистической ересью. Это была плата за своевольный разрыв со вселенской Церковью в XI столетии, и импульс к рационализму шел именно от папизма: «Рим разорвал всякую связь между познанием и внутренним совершенством духа; он пустил разум на волю, хотя, по-видимому, и попирал его ногами». Это была принципиальная духовная ошибка, о-грех, за которым скрывался грех настоящий – болезнь воли и ума… «Когда преступная гордость, разорвавшая единство Церкви, присвоила себе монополию Св. Духа и задумала низвести восточные Церкви в положение илотов, конечно, она не предугадывала, к чему придет сама; но таков Божественный закон: испорченность сердца порождает ослепление ума и нарушение первой из евангельских заповедей (т. е. заповеди о любви. – В. К.) не могло пройти безнаказанно».
Философия истории
Хомяков, создавший трехтомную «Семирамиду» («Записки по всемирной истории»), писавший специальные статьи по русской истории, имел, конечно, особый вкус к историческим исследованиям. Эта его склонность была и отражением общего духа времени, в которое он жил, влияния Гегеля, Шеллинга. «В философии Хомякова, – писал Н. А. Бердяев, – больше всего места отведено философии истории». Тем интереснее рефлексия Хомякова в этом вопросе, методология его подхода к истории. Основатель славянофильства был в этом, как и во всем другом, самостоятелен и оригинален. Исходная позиция Хомякова – критика самодостаточного научного педантизма в исторических исследованиях, т. е. по существу все того же рационализма, но уже в методологии истории. «Познания человека увеличились, книжная мудрость распространилась, с ними возросла самоуверенность ученых. Они начали презирать мысли, предания, догадки невежд; они стали верить безусловно своим догадкам, своим мыслям, своим знаниям. В бесконечном множестве подробностей пропало всякое единство. Глаз, привыкший всматриваться во все мелочи, утратил чувство общей гармонии. Картину разложили на линии и краски, симфонию на такты и ноты. Инстинкты глубоко человеческие, поэтическая способность угадывать истину исчезли под тяжестью учености односторонней и сухой. Из-под вольного неба, из жизни на Божьем мире, среди волнения братьев-людей, книжники гордо ушли в душное одиночество своих библиотек, окружая себя видениями собственного самолюбия и заграждая доступ великим урокам существенности и правды». Не книжная мудрость, конечно, и не профессионализм историка сами по себе страшны – страшно, что заграждается доступ к «великим урокам существенности и правды», что наука теряет свои высокие цели и становится институтом, обслуживающим самого себя… Необходимо вернуться к этой «жизни на Божьем мире, среди волнения братьев-людей». Отсюда первое методологическое требование: помимо особенностей политической и экономической жизни изучаемого периода, юридических форм, в которых эта жизнь мыслит себя, для историка «важнее <…> преданья и поверья самого народа». В них народ сохранил следы своей истории нередко лучше, чем в памятниках письменных и материальных. Порой и сама память о прошедших событиях уже стерлась, однако в своих преданиях, сказках, а то и предрассудках народ бессознательно сохраняет следы прежней жизни иногда вернее, чем любая писаная история.
Еще важнее для историка понимать сам дух.народа. Еще сложнее определить и выразить его. «Его можно чувствовать, угадывать, глубоко сознавать, но нельзя заключить в определения, нельзя доказать тому, кто не сочувствует. В нем можно иногда отыскать признаки отрицательные и даже назвать их; признаков положительных отыскать нельзя». Эти мысли Хомякова важны и для сегодняшнего дня. Характеристики особенностей национальных культур могут выражаться и количественно – в особенностях экономической деятельности, научной, – об особенностях религиозной жизни народа можно также говорить в определенной степени на языке цифр. Однако ничто из этого не передает то, что открыто нашему целостному восприятию духовной физиономии народа. Но как выразить это восприятие, на каком языке здесь говорить? Несмотря на всю сложность вопроса, Хомяков уверен, что наука должна продвинуться и в эту сферу. Хомякову тесно в тех рамках научной методологии, которые, возникнув в основном в Западной Европе, навязывают себя в качестве универсальных всему человечеству. Как раз общечеловеческий опыт постижения истины и свидетельствует, что есть и иные – не менее убедительные! – измерения человеческого познания, чем только рассудочно-принудительные.
Цивилизация столько же помогает человеку, сколько создает проблем, среди которых одна из главных – это отчуждение человека от самой реальности. Хомяков говорит об этой столь современной теме уже в середине XIX века. Сразу выдвигает особое методологическое требование к работе историка. Ученому-историку нужно не только обладать трудолюбием, тщательностью в описании фактов, беспристрастностью, «лейбницевской способностью сближать самые далекие предметы и происшествия», «гриммовым терпением в разборе самых мелких подробностей». Это все как бы само собой разумеется. Но для проникновения в тайны истории нужно еще обладать чувством поэта и художника. «Выше и полезнее всех этих достоинств (историка. – В. К.) – чувство поэта и художника. Ученость может обмануть, остроумие склоняет к парадоксам: чувство художника есть внутреннее чутье истины человеческой, которое ни обмануть, ни обмануться не может». Как при встрече с произведением искусства, в истории истину, прежде чем доказывать, нужно сначала угадать. Ha самом деле это во многом верно и для естественных наук: исследования по философии и истории науки в XX столетии убедительно показали, что пафос индуктивизма в них имел во многом идеологическую природу, больше выражал желаемое, чем отражал суть дела. Тем более это относится к истории. Хомяков верит в то, что научный прогресс неизбежно приведет к легализации «эвристических» методов познания: «Всякая односторонность должна исчезнуть при дальнейшем развитии разума, и новые убеждения в исторической науке, убеждения, основанные на гармонии и объеме мысли, вытеснят дух тесных систем и мелочной критики». «Объем мысли», – говорит Хомяков. Другими словами, обычное использование мысли в исторических исследованиях, логика, доказательства слишком плоски, чтобы не сказать одномерны, для того чтобы отразить реальность. Но у мысли есть иные измерения, например, те, которые обычны для художника и поэта, и Хомяков призывает использовать этот полный объем мысли для познания в науке. Или чувство гармонии, которое несомненно для тренированного уха или глаза, но которое так трудно выразить логически. Идеи русского мыслителя в высшей степени интересны и сегодня. Несмотря на то что методология холистического познания часто обсуждалась в XX столетии, речь чаще велась о целостности предмета постижения, а не о новом языке науки. Хомяков же смело касается темы внутренней границы науки, зафиксированной в ее собственном языке, и предлагает новое направление развития научного знания.
Угадывание исторической истины, осознание ее во всем объеме ее существа невозможно без особого экзистенциального проникновения в души людей прошлых эпох, без угадывания глубинных движений духовной жизни изучаемого времени. Именно любовь к человеку, который во все времена остается одним и тем же и который преднаходит перед собой все те же «проклятые вопросы» жизни, смерти, спасения, – любовь, и только она, позволяет исследователю проникнуть в сердцевину изучаемой культуры: религиозную жизнь народа. В рамках своей историософии Хомяков сформулировал учение о кушитских и иранских культурах: яркий пример торжества его исторической методологии, вскрывающей самые глубокие слои изучаемой культуры, ставящей нас как бы лицом к лицу с человеком прошлого. Здесь не место подробно обсуждать это учение. Отметим только, что линия водораздела иранства и кушитства идет как раз через опыт любви: или подчинение безличному закону (эманации), как бы совершенен он ни был, или свободное подчинение сотворенной личности– Личности Творца.
Христианизация школы
Сегодня православной общественностью России активно обсуждается вопрос о христианизации образования. Вопрос этот и внутренний — для христиан, для православных школ и университетов, и общероссийский, так как невозможно понять ни русскую, ни мировую литературу, ни искусство, ни европейскую историю без элементарных представлений о христианстве. Как известно, споры вокруг курса «Основы православной культуры» привели к судебным разбирательствам… В связи с этим интересна точка зрения Хомякова на вопрос о соотношении вероучительного и общеобразовательного компонентов в школе и университете. Его работа «Об общественном воспитании в России» написана около 1858 года. Конечно, время тогда было другое, Православие было государственной религией России. Однако Хомяков все равно подчеркивал тот политический принцип, из которого следует исходить в этом вопросе: государство не имеет права изобретать какую-то свою особую политику в образовании, а должно руководствоваться голосом общества и земства. «Внутренняя задача Русской земли есть проявление общества Христианского, Православного, скрепленного в своей вершине законом живого единства и стоящего на твердых основах общины и семьи. Этим определением определяется и самый характер воспитания; ибо воспитание, естественно даваемое поколением, предшествующим поколению последующему, по необходимости заключает и должно заключать в себе те начала, которыми живет и развивается историческое общество». Что же касается непосредственно христианского воспитания, то здесь основатель славянофильства настойчиво рекомендовал делать упор прежде всего на реальную церковную жизнь Православия, а во вторую очередь – на преподавание богословия. Основа веры есть именно жизнь в Церкви, а не выучивание богословских формул, которое само по себе нередко может даже и оттолкнуть от веры и Церкви. Школе следует больше опираться на православие семьи учащегося, а университет должен иметь свой храм и организовать участие студентов в богослужении, подчеркивал Хомяков. Студент должен сначала полюбить Православие – эту любовь внушает, дарует Сам Бог! Этого требует сама природа христианской истины, которая есть не просто богословская теория, а истинное бытие. Православный приобщается истинному бытию именно в Церкви, в ее культе, в ее таинствах. Сначала культ, а потом уже объяснения и богословские рассуждения. Говоря о преподавании богословия, Хомяков писал: «Оно необходимо, но не в нем заключается основа Христианского и Православного развития душевных способностей в юношестве. Эта основа заключается в чувствах сердца, укрепленных постоянной привычкою к внешнему обряду Православия». Подобную мысль прекрасно выразил в ХХ веке священник Павел Флоренский: «Если культ должен говорить и чему-то научать (типично протестантское воззрение на культ как на сплошную проповедь-лекцию, а не как на тайнодействие!) и сам по себе, без толмача, не может научать, то все дело тогда в толмаче, а не в культе. Зачем же этот паллиатив? Если же культ воистину нужен и незаменим никаким разговором о нем, если воистину необходимо именно жить в культе (но отнюдь не просто глазеть — “созерцать” по Тиле – обряды), то, очевидно, самое толмачество есть тогда уже лишь момент культа же, но отнюдь не главное и не первое». Любопытно, что о. Павел Флоренский много критиковал Хомякова, порой достаточно несправедливо. Однако в понимании христианской жизни он идет здесь тем же путем, что и основатель славянофильства.
* * *
Тайна мысли Хомякова, по нашему разумению, есть исполненность любовью, – неважно, превозносит ли он то, что любит, или укоряет, как, например, в стихотворении «Не говорите, то былое…» Мысль Хомякова крещена любовью, сходящей к нам со сфер небесных, хранимой в Церкви Христовой и расходящейся через верных христиан, таких, например, каким был Хомяков, по всему миру. Но вспомним еще раз: «Только в любви жизнь, огонь, энергия самого ума. Она дает ему побуждения к деятельности и труду, крепость в преодолении препон, проницательность и объем его взглядам, она созидает человека». В любви тайна мысли и жизни Хомякова, его продуктивности и столь ощутимого влияния на всю русскую культуру, тайна дела Хомякова. Можно произнести только имя «Алексей Степанович Хомяков» – и сразу же расширяется душа, становится радостно и светло!
На любви же Хомяков хотел строить и Россию. Все его творчество есть как бы один большой набросок нового направления русской жизни, новой цивилизации, не сочиненной, не выдуманной Хомяковым, а найденной, «вычитанной» в душе русского народа и артикулированной им, основанной на науке, трезво осознающей условность своих методов, таящихся в них опасностей, свои границы, цивилизации без экологических кризисов, строящей себя в равновесии с природой, постоянно учащейся у природы, берущей из нее бесчисленные и поражающие своей хитроумностью примеры самоорганизации и саморегуляции, цивилизации с крепким семейным бытом и развитой структурой общественных организаций, активно участвующих в решении всех общественных вопросов («община» – только символ!), цивилизации, укорененной в духовном опыте православия, построенной по законам совести, видящей свою цель в хождении перед Богом и рассматривающей природу как воплощение божественных логосов. Над всей русской культурой реет этот идеал другой цивилизации, Града Китежа, устроенного по Божьей воле преображенным человеком. У некоторых мыслителей, и прежде всего у Хомякова, контуры этого идеала проступают яснее и рельефнее. Вся русская мысль, в особенности русская религиозная философия, пыталась уяснить программу построения цивилизации на христианских началах, ориентировалась на этот идеал и российская общественно-политическая действительность, пока не произошла великая трагедия XX столетия. Однако идеал хомяковский, народный не поблек для тех, кто сохранил силы верить и трудиться. Сегодня он остается единственной легитимной «русской идеей» среди множества соблазнов, подделок и обманов. В 1858 году в статье «О юридических вопросах», опубликованной в «Русской беседе», Хомяков писал:
Для России возможна одна только задача: сделаться самым христианским из человеческих обществ. <…> Эта цель ею сознана и высказана сначала; она высказывалась всегда, даже в самые дикие эпохи ее исторических смут. <…> Задача, издревле нам определенная, не легка: историческая судьба налагает труд по мере почести. Путь нам должен был быть тяжелым. Легко размножение инфузорий и зоофитов: болезненно рождение человека. Но отрекаться от своей задачи мы не можем, потому что такое отречение не обошлось бы без наказания. Вздумали бы мы быть самым могучим, самым материально-сильным обществом!? Испробовано. Или самым богатым, или самым грамотным, или даже самым умственно-развитым обществом? Все равно: успеха бы не было ни в чем. Почему? Тут нет мистицизма, скажу я тем, которым, по некоторой слабости понимания, всюду мерещится мистицизм, – просто потому, что никакая низшая задача не получит всенародного сознания и не привлечет всенародного сочувствия, а без того успех невозможен. Нечего делать: России надобно быть или самым нравственным, т. е. самым христианским из всех человеческих обществ, или ничем, но ей легче вовсе не быть, чем быть ничем. Итак всяк да приложит свой частный труд к разрешению общей задачи. Братолюбия не забывайте.
На этой длинной цитате, содержащей целую историософию России, следует и закончить мое сообщение.
Ю. П. Буданцев
Парадигма А. С. Хомякова
В отечественном социознании, прежде всего в социологии, четко прослеживается тенденция недооценки научного творчества А. С. Хомякова, его исследовательской методологии, категориально-понятийного аппарата – словом, всего того, что называется «научной парадигмой». Во всех академических энциклопедических социологических изданиях А. С. Хомяков упоминается либо как «спутник» неких «крупных фигурантов» (в том числе и довольно сомнительных), либо как масштабная, но опять же сопутствующая величина из далекого прошлого, в настоящем представляющая лишь исторический интерес и в эволюции науки перекрытая другими масштабными величинами (зачастую также довольно сомнительными).
В «Энциклопедическом социологическом словаре» 1995 года, как и в двух томах изданной в 2003 году «Социологической энциклопедии», А. С. Хомякову самодостаточного места совсем не отведено, зато Огюсту Конту, его современнику, или Питириму Сорокину, «амер. социологу рус. происхождения», нашлось. Есть «места» у Н. Я. Данилевского и Н. А. Бердяева, а гениальный А. С. Хомяков, как говорится, не удосужился.
Недооценка связана с тем, что парадигма А. С. Хомякова полностью неприемлема как для западного социознания, так и почти полностью для отечественного, которое в основе своей остается прозападным.
Это во многом объясняет, почему социознание, как и наука в целом, переживает кризис. По общему мнению ведущих представителей социознания, оно оказалось несостоятельным в прогностических оценках, не смогло предвидеть ряд мощных общественных движений, изменивших ход человеческой истории в ХХ веке, в частности кризисные явления 1960–1970-х годов в Европе и США, экономический взлет Японии и новых индустриальных восточно-азиатских стран, возрождение религиозных движений, таких как исламский и протестантский фундаментализм, шоковые изменения в СССР, развал Югославии. В этот перечень нужно включить и трагическое начало нового тысячелетия в США, Ираке. Основой прогностической несостоятельности является то, что социознание рассматривало историю человечества только как социальный, а не целостный социально-природный процесс. По А. С. Хомякову, в научном познании категорически неверно отрывать законы общественного развития от законов развития природы, дробить соразвитие общества и природы.
Сравнительный анализ научной парадигмы А. С. Хомякова и самого известного представителя западного социознания М. Вебера («буржуазного Макса», сменившего «пролетарского Маркса», западника на западника) как раз показывает не только их крайнюю степень расхождения, но и исследовательское превосходство парадигмы А. С. Хомякова. Сравнивались образы парадигм, состоящих из системообразующих элементов (методы изучения, главные и основные понятия) и ядер (вера, догматы, отношения «религия и история», «религия и политика»), а также работающих в пределах парадигм «картин мира», то есть наиболее общих представлений о действительности. Количество всех позиций сравнения (их сорок две) в отношении к общим (их пять) свидетельствует об отрицательном коэффициенте образов парадигм. Совпадают позиции «Христианство», «Религия – главный фактор исторического развития», «Социознание – подсобное средство истории», «Человечество», «Государство». Но качество содержания ниш, связанных с этими позициями, разное: у А. С. Хомякова «отрицательная оценка раскола христианской Церкви», а у М. Вебера «положительная оценка раскола христианской Церкви»; противоположности прослеживаются далее: «осужение Реформации» – «одобрение Реформации», «утверждение православия» – «утверждение протестантизма (кальвинизма)»; «Православная Церковь как хранительница Божественного откровения» – «протестантская церковь – формальная хранительница библейских текстов»; «постоянное общение небесной и земной Церкви как соборной целостности» – «противопоставление абсолютно запредельного Бога и “безбожного” мира»; «Святая праведная жизнь во всем как идеал бескорыстной любви к Богу, миру небесному и земному» – «Рациональный труд и вознаграждение за него как свидетельство избранности и будущего спасения»; «последовательная критика и отрицание протестантизма как положительной тенденции в развитии человечества» – «последовательная апология протестантизма как положительной тенденции в развитии человечества»; «размежевание Церкви и политики» – «союз Церкви и политики»; «духовный смысл и народная вера как одно великое начало истории» – «потребность в спасении, культивируемая в качестве содержания религиозности, как великое начало истории»; «борьба религий нравственной свободы с религиями вещественной необходимости как содержание всемирно-исторического развития» – «систематическая рационализация социальных действий как ведущая тенденция всемирно-исторического развития»; «постоянное взаимодействие (от мира до войны) между “земледельческими” и “завоевательными” народами, воплощающими разные культурно-религиозные архетипы» – «спорадическое взаимодействие между “западным” и “восточным” обществами, воплощающими разные культурно-религиозные архетипы»; «неопределенность конечного результата исторического развития как взаимодействия между народами» – «определенность конечного результата исторического развития как результата рационализации»; «отрицательная оценка процесса отождествления западного христианства со всей системой рационализма» – «положительная оценка процесса отождествления западного христианства со всей системой рационализма»; «историческое неприятие капитализма как соответствующего протестантизму явления»; «будущее православной России как самого христианского из всех человеческих обществ» – «будущее протестантской Германии как самой богатой и могущественной страны».
Парадигмы А. С. Хомякова и М. Вебера принципиально несовместимы. Если сравнить их с царствами-государствами, то их границы будут между «Белым царством» и «Черным царством»: по ту сторону все наоборот, хотя и о том же. Когда рассматриваются парадигмы таких ученых, как А. С. Хомяков и М. Вебер, то в конечном счете сопоставляются две личности, разные по своей сути, прежде всего из-за несовпадения их «смыслов жизни».
Многие параметры А. С. Хомякова были пионерскими и по меркам западной науки. Современник «отца социологии» О. Конта, «отец живознания» А. C. Хомяков намного раньше М. Вебера плодотворно разрабатывал положение о том, что религия является решающим фактором общественного развития и что протестантство оказывает соответствующее влияние на развитие именно западного общества.
Все научное творчество А. С. Хомякова на живознании основано и пронизано им, а также «чувствознанием», «внутренним знанием», «разумной зрячестью», «цельным знанием». Именно «живознание» – антипод рационализма, «безмерной страсти» западной науки «к отвлеченностям, перед которой все сущее, все живое теряет значение и важность и мало-помалу иссушается до мертвого логического закона»[21]. Не ученым людям с их «мертвыми логическими законами», не науке, порвавшей с нравственной основой, с религией, а «простому воззрению на предмет» народа обязано, по подсчетам В. И. Вернадского, большинство важных открытий и изобретений.
У А. С. Хомякова общечеловеческие ценности имеют конкретную предметно-бытовую основу. Человек, придумавший коромысло и ведра, чувствует и понимает изначальную гармонию мира. Такая же неразрывная связь между образом топора, витающим над землей (у Ф. М. Достоевского), и космической, глобалистской смертельной дисгармонией сегодняшнего дня.
Познавательные образы, соответствующие живознанию, имеют определяющее целостное значение в равной мере как в научной, так и в педагогической и практической поведенческой сферах. Сама парадигма А. С. Хомякова имеет свою предметно-бытовую основу. Это «колодец», где верхняя часть устоя «сруба» – «Православная вера», нижняя – «язык», правая – наши «традиции», левая – «Родина», Россия-матушка. Светится, сияет в глубочайшей низине – высочайшей высоте наша соборность. Вся «Семирамида» А. С. Хомякова выстояна на этом образе. Следуя парадигме А. С. Хомякова, среди ойкумены познавательных образов следует остановиться на образе «колодца».
А. С. Хомяков первым в истории науки, на полвека раньше М. Вебера, назвал подлинный базис мирового исторического процесса – религию. Именно она помогла ему «раскрыть историческое значение народов»[22]. У него история показана как история всего человечества, что позже, уже у другого конца соборной научной мысли выразил В. И. Вернадский. В своем взгляде на все человечество и на каждого человека А. С. Хомяков восстанавливает нравственную меру как главный критерий оценки и всего человечества, и «личности народа», и каждой индивидуальной личности, и самого ученого.
А. С. Хомяков считает оправданными только такое историческое движение и такую деятельность отдельного человека, которые являются выражением высокой духовности, нравственной стойкости, их проявлением. «Нравственное усовершенствование или искажение» важно и как «изменение законов общественных», и как «расширение или стеснение круга знаний положительных», и как «увеличение или упадок сил физических»[23]. Нарушение «устава вечной правды» привели и к Хиросиме, и к Чернобылю, и к прозападно ориентированной «катастройке», по выражению А. А. Зиновьева.
Методологические особенности анализа истории А. С. Хомяковым являются новаторскими по сей день. Дело, конечно же, не в том, что он противопоставляет свою методологию принципам изучения истории Н. М. Карамзиным, начиная исследовать прошлое… с современности. А. С. Хомяков внимательно, основательно оглядывает прежде всего нынешнюю жизнь, отсюда, с грешной земли, заглядывает в прошлое. Это особенная «география», когда изучается не просто поверхность земли, ее ландшафты, климатические особенности, но и народы с их верами и культурами. «Видимым настоящим» при таком подходе является язык – второй устой хомяковского колодца после религии.
Язык – «живой памятник», хранилище исторического опыта. «География» A. С. Хомякова – это в первую очередь сравнительное языкознание. Он делает важный вывод: «…племена славянские и санскритские не только ветви одного корня, но отделились из одного узла, в одном и том же возрасте великого древа»[24]. Разве не эти проблемы волновали выдающегося представителя сравнительно-исторического языкознания О. Н. Трубачева?
Как обращение к господам космополитам и националистам всех славянских стран звучат слова А. C. Хомякова: «<…> из всех славянских наречий самым славянским считаю я русское». Основание – оценка «полногласия», «гармонии», «роскоши» и «мягкости», «музыкальности» и «певучести»[25].
«Подсчитывая» слова «по их этимологиям», «обороты по их коренному началу синтаксическому и мысли по их характеристическим источникам», то есть применяя контент-анализ, А. С. Хомяков сравнивает разные исторические эпохи и определяет ведущее влияние одного народа на другой[26].
Даже «мысль приложить к истории человечества ход геологический» чудесным образом нашла воплощение в создании биосферно-ноосферной концепции B. И. Вернадского: от геологии к геохимии, от геохимии к биогеохимии и, наконец, к самой концепции с ее органичной связью с религией, культурой в целом, «научной мыслию как планетным явлением», «полем жизни», «вселенскостью» к самой ноосфере как суперсистеме, созданной человечеством, куда входит человечество и каждый народ, вся эта новая мощная геологическая сила земли, с ее добром и злом. Конечно же, такие парадигмы не могут устраивать «космополитических патриотов» (словесная «находка» постыдно известного «гласа народа»). Космополитические патриоты по тому и узнаются, что, выступая в обличии патриотов, на самом деле являются глобалистами, утверждающими постулаты известных манифестов М. С. Горбачева и Э. А. Шеварднадзе об «общечеловеческих ценностях», «ради всего человечества, а значит, и России». Расчет простой: объявив себя первопроходцами в утверждении общечеловеческих ценностей, можно подменить реально существующие общечеловеческие ценности надуманными, искусственными ценностями североамериканского образца из США.
Однако раньше космополитических патриотов А. С. Хомяков решал проблему единства человечества и общечеловеческих ценностей. По его мнению, единство человечества – единство разнообразия, а общечеловеческие ценности – национальные традиции, культура каждого народа.
В. К. Егоров
А. С. Хомяков – русский европеец
Как это ни парадоксально, но в обширной литературе, посвященной творчеству выдающихся отечественных мыслителей, пожалуй, прежде всего о взглядах Хомякова на российский культурно-цивилизационный процесс, на судьбы страны, перспективы ее развития, сложилось одностороннее видение. Речь идет не о недостаточном внимании, а именно об отсутствии многомерного толкования его наследия. Мы, кажется, попали в какие-то капканы, в том числе творческие, расставленные нашими предшественниками: чуть ли не вся идейная борьба в русской философии, историографии, культурологии так или иначе сводится к противостоянию славянофилов и западников, неославянофилов и неозападников, можно сказать, постоянно модернизирующихся западников и славянофилов. Жертвой этой традиции и подобных «научно»-идеологических клише стал, к сожалению, и Алексей Степанович Хомяков. Если же посмотреть на его творчество через призму всего, что пережила Россия после ухода мыслителя в мир иной, внимательно всмотреться в то, что происходит с нами сегодня, мне представляется, что мы просто обязаны в чем-то и по-новому прочесть хомяковское наследие.
А. С. Хомякову принадлежит, на мой взгляд, удивительно глубокая мысль о том, что «всякий путь ведет дальше цели». Казалось бы, за этой формулой трудно найти что-то конкретно сплетающееся с культурно-цивилизационным процессом. Вроде бы это общефилософское, отвлеченное и даже расхожее прочтение. Однако это далеко не так. Если посмотреть на судьбы того же славянофильства, одним из вождей и теоретиков которого был Хомяков, если посмотреть на судьбы оппонентов славянофилов и в XIX, и в ХХ, и в нынешнем веке, то становится понятно, что цели и задачи, которые ставят теоретики различных идейно-политических течений, а особенно политики, действительно меркнут перед тем, что называется исторической дорогой нации, страны. При этом хочу подчеркнуть – отнюдь не только России, но и любой страны, любого народа.
Именно не детерминированность, а задетерминированность формирует вседовлеющую логику: формулирование цели, определение пути к ней и затем последовательное настойчивое продвижение к ее достижению приводят в конечном счете к тому, что каждый раз, то ли достигая цели, то ли якобы достигая ее и затем разочаровываясь, мы вновь оказываемся на перепутье. Часто наступает даже общенациональная растерянность. Хомяков же призывал к тому, чтобы историческая судьба народа рассматривалась в контексте действительно беспрерывного всемирно-исторического и национального культурно-исторического процесса, не замыкаясь на какой-то отдельной цели. Здесь можно говорить о целях разных, и о том, к чему стремились лучшие умы России в XIX веке, и о том, чего хотели русские марксисты, и о том, что мы ищем сегодня. Действительно, всякий путь дальше цели, и из этого следует исходить.
Достаточно хорошо известно противостояние Хомякова многим идеям Гегеля. Причем в этом противостоянии выделяется хомяковская критика не столько гегелевских, сколько в целом европейских взглядов на роль государства в исторической жизни, на преувеличенную его роль в жизни народа. То, что было для Гегеля безусловным (этатизм), было неприемлемым для Хомякова, который, отнюдь не будучи анархистом, видел в государстве в значительной мере, а может быть, и прежде всего неизбежное зло, которое ведет к разъединению народа.
При этом не следует и незачем преувеличивать степень свободы Хомякова от философско-исторических идей Европы. Сегодня мы, возможно, лучше, чем когда бы то ни было, понимаем значение его утверждений того, что абсолютно равные права на историю, на свое место в культурно-историческом процессе человечества имеют все народы – и азиатские, и африканские, и любые иные. Европоцентризм уже сыграл и продолжает играть над цивилизацией злые шутки.
У А. С. Хомякова идея того, что все народы – без исключения – исторические, является, по сути, одним из стержней всех его историософских построений. Не об этом ли мы сегодня спорим, не это ли ныне является одним из самых сложных поворотов разнообразных дискуссий вокруг многочисленных проблем современной глобализации?
А. С. Хомяков, может быть, одним из первых не только в российской, но и в европейской философии и историографии, пусть не прямо, но все-таки поставил вопрос о том, что мы, как правило, пишем политическую историю народов. Собственно история народа, его культуры, развитие его психики, психологии хозяйствования, быта и т. д., в конце концов, изменения, которые происходят в менталитете нации, остаются как бы за скобками, отодвигаются на задний план. И получается, что мы имеем не историю народов и культур, а историю государственного строительства, столкновения между странами и народами, историю монархов и президентов. А это, в конечном итоге, отнюдь не история развития человека.
В основании философии истории (как ее понимал А. С. Хомяков) лежит немало неустаревших идей, из которых следовало бы выделить две. Это прежде всего идея того, что историю любого народа пронизывает борьба свободы и необходимости. Существенны отнюдь не политизированные и не идеологизированные формулы и теории, а именно такие фундаментальные человеческие ценности, как свобода и необходимость.
Вторая идея – в культуре и психологии, в исторической жизни каждого народа особое значение имеет Вера. Хомяков прекрасно понимал, что, несмотря на единство Веры, скажем, христианских народов, у них самобытные и отличающиеся друг от друга исторические судьбы. Подчеркну, что это было сказано намного раньше Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера и Хантингтона – и о противостоянии миров и культур, и о противостоянии локальных цивилизаций во всемирной истории, и о назревшем или грядущем столкновении цивилизаций. Важно подчеркнуть, что А. С. Хомяков не был болен историческим, культурно-историческим нигилизмом, хотя боли Истории чувствовал хорошо.
На мой взгляд, требуется корректировка и всего того, что стоит за вольными или невольными обвинениями, которые звучали, особенно в советские годы, в адрес Хомякова, якобы преувеличенно комплиментарно смотревшего на историю русского народа, на его культуру как таковую. Вместе с тем Хомякова нельзя отнести даже к образованным националистам. Он бросал, возможно, самый большой упрек в адрес своего народа, утверждая, что народ сохранил «истину», но пока мало что сделал для доказательства своей истинности в истории, для проповеди ее, для приобщения к открывшейся именно русскому народу истине других народов.
Констатация того, что именно русский народ открыл своей историей и культурой некую сокрытую для других народов истину, с одновременным утверждением, что в реальной практике наш – любимый Хомяковым – народ мало что сделал для того, чтобы эта истина стала привлекательной для других и была бы ими принята, – это, возможно, самый большой упрек исторического порядка, который может быть брошен своему народу. Впрочем, и сам Хомяков в письме английскому богослову Вильяму Пальмеру писал о том, что это и для него горький упрек. Признание говорит само за себя.
Конечно, все прекрасно знают о том, как Хомяков серьезно критиковал римско-католическую церковь, что он яростно говорил о «материалистических» недостатках протестантизма и талантливо – не только в философских сочинениях, письмах, но и в произведениях поэтических – утверждал величие православия. Но нельзя забывать о том, что это был мыслитель, предельно трезво и требовательно оценивавший русскую историю и культуру, а также вклад России в мировую цивилизацию. В этом сомневаться не приходится.
Как истинный патриот Хомяков любил Россию, но его отличает от многих прошлых и нынешних «патриотов» одновременная приверженность как пророссийским, так и европейским ценностям. Это был один из самых образованных, эрудированных людей своего времени. Он получил блестящее европейское образование и страстно любил Европу. Что не мешало ему видеть в Европе, в судьбах Запада недостатки, своеобразно оценивать различные национальные истории и культуры и утверждать, что западные историки увлеклись политической историей народов и встали на путь европейского эгоизма, не замечая вклада народов других стран и континентов в общечеловеческую культуру.
Хомяков много внимания уделял взаимоотношению славянских стран с германскими народами, с англосаксами, французами. Достаточно почитать все, что было им написано об Англии и английской культуре, чтобы сказать: величие фигуры Хомякова в том, что, будучи последовательно русским философом и литератором, он был пронзительно европейского склада мыслителем. Может быть, этого и недостает нам, когда мы спорим о судьбах России и Европы, размышляем над темами «Россия и Запад», «Россия и Восток». «Да будет наш пример уроком для вас, – писал Хомяков обращаясь к сербам, – учитесь у западных народов, это необходимо; но не подражайте им, не веруйте в них, как мы в своей слепоте им подражали и веровали. Да избавит вас Бог от такой страшной напасти… Никто не может петь чужим голосом или красиво ходить чужою походкою».
Прекрасно понимая, сколь пагубны могут быть неразумное заимствование зарубежных стандартов жизни и забвение национальных традиций, А. С. Хомяков знал, что никакие охранительные, запретительные меры не могут защитить культуру, ее национальное своеобразие. Для него, в отличие от некоторых наших современных идеологов, а тем более от советских государственных политиков, запрет на чтение иностранных книг, ограничение или отказ в выезде за рубеж представлялся просто диким. Он был убежден, что национальная культура может развиваться только в русле общечеловеческой и европейской культуры. Только достигнув высот в национальном культурном творчестве, можно на равных разговаривать с другими народами и претендовать на утверждение высокого значения культуры своего народа для культуры всего человечества.
При этом А. С. Хомяков мыслил, действительно, очень широко. Желание не подражать, а учиться у других народов проходит у него не только через то, что касается национально-культурных ценностей в общепринятом понимании. Это же он утверждал, обращаясь к вопросам юриспруденции, судопроизводства, писал, что «издавна у нас на земле Русской смертная казнь была отменена, и теперь она нам всем противна и в общем ходе уголовного дела не допускается. Такое милосердие есть слава… От татар да ученых немцев появилась у нас жестокость в наказаниях». Именно главенство государства, пренебрежение человеческой личностью, примат политических интересов над интересами культуры и быта Хомяков считал тем сомнительным даром, который можно принять от современной ему Европы.
У А. С. Хомякова можно отыскать немало иных утверждений об особой роли России, русских и русской культуры. Иногда, как показала история, и не без перебора. Но чего у него нет, так это некритичного самолюбования русскостью, неуважения к истории и культуре любого другого народа, пусть даже самого малого.
И. А. Воронин
Личность и мировоззрение А. С. Хомякова в отечественной и зарубежной историографии
Научная литература о славянофильстве поистине огромна, и, видимо, нет ни одной посвященной «московскому направлению» работы, где бы не уделялось должного внимания личности и мировоззрению А. С. Хомякова. Вокруг незаурядной фигуры этого человека еще при его жизни постоянно велись ожесточенные споры. Продолжаются они в научной литературе и поныне. Осветить все проблемы, связанные с личностью и мировоззрением Хомякова, в довольно коротком сообщении представляется делом чрезвычайно сложным и даже малореальным, поэтому постараюсь рассмотреть заявленную тему в узком смысле: проанализировать оценки личности и взглядов Хомякова в контексте его взаимоотношений с другими членами славянофильского кружка.
Первая и, пожалуй, основная проблема, которая при этом возникает, – руководство и идейное влияние Хомякова внутри «московского направления». С одной стороны, большинство исследователей традиционно считали именно его наиболее авторитетным и влиятельным членом славянофильского течения, идейным лидером, воздействие которого на формирование и развитие учения «московского направления» было преобладающим. С другой – именно Хомяков воспринимался как наиболее репрезентативная, характерная для славянофильства фигура, целостно воплотившая в своем мировоззрении все стороны идейной концепции течения. Подобной точки зрения придерживались Н. А. Бердяев, В. З. Завитневич, Аф. Васильев, Ф. Таубе, Г. А. Максимович, Л. Е. Васильев. Однако существуют и иные точки зрения. Одна из них была высказана А. Яновым в работе «Русская идея и 2000 год», где к характерным представителям славянофильства отнесен К. Аксаков, взгляды которого фактически были приписаны другим членам московского кружка. Работы А. Янова, посвященные славянофильству, всегда были остро полемичны и политически заострены. Многочисленные передержки и сознательные искажения делают их не всегда научными. Может быть, и не стоило бы специально останавливаться на них, однако широкое их распространение в нашей стране делает критику их необходимой. К тому же далеко не один Янов подвергает сомнению устоявшуюся в науке точку зрения на место и роль Хомякова в славянофильском кружке. Еще в начале ХХ века известный исследователь славянофильства М. О. Гершензон утверждал, что ведущую идейную роль в нем играл не Хомяков, а И. В. Киреевский. В работе «Исторические записки» он утверждал: «Вся метафизика и историческая философия славянофильства представляют собой лишь дальнейшее развитие идей, формулированных Киреевским»[27]. Точку зрения Гершензона разделяли Масарик и Койре. Особенно активно ее отстаивал польский исследователь Анджей Валицкий, заявлявший в работе «В кругу консервативной утопии», что «первое и решающее слово славянофильства было сказано не Хомяковым, но Киреевским». А. Валицкий утверждал также, «что в области философии и историософии Хомяков лишь развивал взгляды Киреевского, считал себя его учеником»[28]. Чтобы понять, какие выводы стоят за данным утверждением, необходимо сказать несколько слов в целом об интерпретации славянофильства, которую предлагает польский исследователь. Согласно А. Валицкому, учение «московского направления» является русской разновидностью немецкого консервативного романтизма. Сопоставляя взгляды славянофилов, в первую очередь И. В. Киреевского, и немецких консервативных романтиков, таких как Якоби, Баадер, Шлегель, польский исследователь приходит к выводу о том, что основные его идеи были целиком заимствованы из западноевропейской философии. То есть фактически отказывает славянофильству в философской оригинальности. Не касаясь в настоящий момент идеологической составляющей подобного вывода (она, кажется, и так вполне понятна и определенна), хотелось бы сделать несколько замечаний по поводу концепции польского историка. А. Валицкий не учел в своей работе степень идейных расхождений, существовавших между двумя ведущими членами славянофильского кружка – Киреевским и Хомяковым: в вопросах богопознания (соборное у Хомякова и индивидуально-мистическое у Киреевского[29]), в интерпретации древнерусской истории и конструировании социального идеала, в рассуждениях о месте и роли крестьянской общины для русской цивилизации[30], в подходе к крепостному праву в России. То, что по многим вопросам взгляды Киреевского отличаются от взглядов не только Хомякова, но и других членов славянофильского кружка, отмечали и некоторые современники «великого спора» 1840-х годов. А. И. Кошелев, близко знавший обоих славянофильских мыслителей, утверждал в своих записках: «С Хомяковым у Киреевского были всегдашние нескончаемые споры: сперва Киреевский находил, что Хомяков чересчур церковен, что он недостаточно ценил европейскую цивилизацию и что он хотел нас нарядить в зипуны и обуть в лапти; впоследствии Киреевский упрекал Хомякова в излишнем рационализме и в недостатке чувства в делах веры», при этом «они оба друг друга высоко ценили, глубоко уважали и горячо любили»[31]. Особое положение, которое занимал И. В. Киреевский в славянофильском кружке, отмечал и А. И. Герцен в своем дневнике[32] и в «Былом и думах»[33]. Наконец, сам Иван Васильевич неоднократно говорил о несогласии с рядом идей славянофильского круга[34]. Особенно явственно противоречия внутри «московского направления» отразились в послании И. В. Киреевского московским друзьям, написанном в марте-апреле 1847 года. В нем славянофильский мыслитель констатировал наличие существенных идейных разногласий внутри кружка своих единомышленников и призывал к усиленному обмену мнениями в целях изживания этих противоречий. Киреевский выделял три основных пункта, по которым, с его точки зрения, славянофилы не могли выработать единой позиции: толкование «славянизма», народности, и «понятие об отношении народа к государственности»[35]. Как явствует из контекста письма, главными своими «оппонентами» Киреевский видел А. С. Хомякова и К. С. Аксакова.
Все это свидетельствует о достаточно существенных разногласиях внутри «московского направления» и об особом положении И. В. Киреевского, являвшегося своего рода внутренним оппонентом большинства членов кружка. Между тем А. Валицкий, сопоставив мировоззрение И. В. Киреевского со взглядами немецких консервативных романтиков, приходит к достаточно обоснованному выводу об их сходстве. Поскольку в концепции польского ученого Киреевскому отведено место ведущего мыслителя славянофильства, вывод о его заимствовании идей у немцев переносится и на представления других членов кружка.
Действительно, Киреевский был хорошо знаком с немецкой романтической философией. Еще в 1830-х годах, будучи в Германии, он слушал лекции Ф. Шлегеля, Шлейермахера, а в Мюнхене – позднего Шеллинга. Затем читал много западной философской литературы, многочисленные ссылки на которую встречаются в его работах. Значительное влияние иностранной философии на славянофильского мыслителя подтверждают и его современники. «Он был очень умен и даровит, – пишет о Киреевском в своих записках А. И. Кошелев, – но самобытности и самостоятельности было в нем мало, и он легко увлекался то в ту, то в другую сторону. Он пребывал локкистом, спинозистом, кантистом, шеллингистом, даже гегельянцем; он доходил в своем неверии даже до отрицания необходимости существования Бога; а впоследствии он сделался не только православным, но даже приверженцем “Добротолюбия”»[36].
Ошибка А. Валицкого заключается, на мой взгляд, в том, что доказанный в случае Киреевского вывод он пытается автоматически перенести и на других славянофилов. Между тем в отношении Хомякова, Аксакова, Самарина это обобщение представляется неверным. А. С. Хомяков неизменно скептически относился к европейской романтической философии. В его текстах неоднократно критикуются взгляды де Местра и других романтиков. Сходство историософских взглядов Хомякова и Ф. Шлегеля, на которое указывает в своей монографии А. Валицкий[37], по ближайшем рассмотрении оказывается весьма туманным, да и влияние на него позднего Шеллинга далеко не так определенно и однозначно, как кажется некоторым современным исследователям. При этом более четко прослеживается влияние Гегеля, но, так сказать, «от противного». Всю свою философскую концепцию Алексей Степанович строил как опровержение гегельянства, но в то же время испытывал и воздействие последнего. Влияния консервативного романтизма не заметно в работах К. Аксакова и Ю. Самарина, традиционно считавших себя именно учениками Хомякова, однако Гегель на них повлиял гораздо сильнее, чем на учителя. Не случайно в свое время их называли «православными гегельянцами».
Показателен в этом отношении конспект Ю. Ф. Самариным книги Баадера, составленный в начале 1840-х годов. «Эта книга, – скептически отмечал Юрий Федорович, – представляет самую нестройную массу фактов и мыслей разнородных, произвольно связанных или лучше вовсе не связанных, а как-то цепляющихся одна за другую <…> Только некоторые точки освещены автором, – пиcал далее славянофильский идеолог, – остальное остается в глубоком мраке»[38]. Далее Самарин упрекает Баадера в схоластичности, в том, что он создал «нечто среднее между религией и философией, отрицание той и другой в их особенностях»[39]. Философские построения Хомякова, Самарина и Аксакова были более независимы от иностранных влияний, нежели взгляды Киреевского. Используя главным образом диалектический метод немецкой классической философии для анализа российской истории и действительности, они приходили к совершенно оригинальным выводам, создавали, по сути дела, новую философскую интерпретацию цивилизационного пути России. При этом именно Хомяков воспринимался ими как лидер и идейный вождь славянофильского направления. По объему и значимости написанного, по широте охвата проблем, наконец, по глубине их осмысления Хомяков всегда занимал в славянофильском кружке ведущие позиции.
А. Валицкий доказывает идейное первенство И. В. Киреевского, ссылаясь на то, что именно он первым сформулировал антитезу «Россия – Запад». Однако польский исследователь не пишет о том, что противопоставление России и Запада было далеко не самым главным в учении славянофилов. Да и тому факту, что историософские взгляды Хомякова (его концепция противоборства иранского и кушитского начал во всемирной истории) были неизмеримо масштабнее и глубже, чем построения Киреевского, не уделяется должного внимания. Между тем если и можно говорить о репрезентативности идей кого-либо из славянофилов, о приятии большинства его суждений всеми членами кружка, то это можно сказать только о взглядах Хомякова.
Попытка А. Янова показать взгляды К. Аксакова в качестве образца классического славянофильства является абсолютно неверной с научной точки зрения. К. Аксаков – один из наиболее популярных и радикальных славянофилов, но он был представителем младшего поколения кружка, воспитанного Хомяковым и Киреевским. При этом большинство его идей сформировались под непосредственным влиянием А. С. Хомякова. Сам Алексей Степанович очень уважал и горячо любил своего ученика и единомышленника. Однако он далеко не всегда одобрял мировоззренческие крайности К. Аксакова. Например, в письме к славянофилу А. Н. Попову от 28 июля 1846 года Хомяков отмечал: «Важнее и досаднее то, что строгость цензуры, вероятно, будет пробуждена статьями Аксакова. Его неосторожность, которую можно уважать потому, что она отчасти происходит от его смелой откровенности, приобретает ему бесконечные похвалы наших западников. Если бы было в нем побольше рассуждения, он понял бы, что его хвалят особенно за тот вред, который он нам делает и сделать может, и за то, что он действует в смысле современности страстной, разумеется, почти бессознательно, а не в смысле бесстрастной истины и доброго нашего дела»[40]. Не одобряли аксаковских крайностей и другие славянофилы. Вот почему его радикальные взгляды никак не могут рассматриваться в качестве характерных для «московского направления» в целом.
Рассматривая проблему места и роли А. С. Хомякова в славянофильском кружке и ее освещение в историографии, можно сделать следующие выводы. Наряду с преобладающей точкой зрения о приоритетной роли Хомякова в кругу славянофилов существуют и альтернативные трактовки, которые по ближайшем рассмотрении представляются малообоснованными. Алексей Степанович Хомяков играл роль не только признанного лидера, но и главного идейного вдохновителя славянофильского кружка. Большая часть «московского направления» считала себя его учениками и солидаризировалась именно с его взглядами.
Попытка принизить роль А. С. Хомякова представляется следствием не только научных ошибок, но и сознательного стремления доказать несамостоятельность и невысокую ценность славянофильства как направления русской общественной мысли. Каждую такую точку зрения необходимо тщательно рассматривать, анализировать и критиковать, что будет способствовать подлинно научному осмыслению идей московских славянофилов, в том числе и А. С. Хомякова.
Е. А. Солодкая
Русское западничество славянофила А. С. Хомякова: дискурсивный парадокс национальной традиции
Философское наследие А. С. Хомякова, вероятно, одного из самых значительных религиозных философов России, по утверждению Ф. А. Степуна[41], – явление сложное и многоплановое, как следствие, представляющее собой пластичный материал для построения различных интерпретационных стратегий, вплоть до альтернативных. Принимая во внимание возможность таких альтернатив, трудно не согласиться с тем обстоятельством, что независимо от выбранной линии интерпретации рассмотрение творческого наследия А. С. Хомякова вряд ли видится возможным вне истории не только религиозного вопроса в России, но и вопроса о российском национальном самоопределении, самоуважении, как сказал бы Хомяков. Более того, именно вопрос национального самоопределения и выступает, по нашему мнению, той точкой отсчета, той общей системой координат, что делает возможным прочтение разрозненных текстов, писем, заметок, стихотворений А. С. Хомякова как одного вполне продуманного и достаточно последовательно реализованного целого. Это касается как великого множества тем, которые затрагивал Хомяков, так и общего стиля его высказываний, способа выражения, особого строя хомяковской мысли и речи, вызвавшего к жизни разноречивые оценки его наследия, вплоть до известных сетований на отсутствие системы в его воззрениях, внутреннюю незаконченность и даже некоторого рода дилетантизм многоохватных его рассуждений.
Словом, вопрос этот позволит несколько иначе взглянуть на некоторого рода «вторичность» и даже «риторичность» текстуального наследия Хомякова. Как известно, многие его работы написаны по преимуществу «вослед» и «по поводу» других текстов, скажем, в продолжение и развитие уже появившихся статей И. В. Киреевского. Как осторожно отмечает В. В. Зеньковский, подчеркивая «яркую индивидуальность» старших славянофилов, Хомяков обладал особого рода умом, «склонным к диалектике», потому он в известном смысле, скорее, вдохновлялся диалектическим противопоставлением своих взглядов чужим[42]. Однако не будучи профессиональным ученым ни в области богословия, ни в области философии, ни в области литературы или истории, Хомяков оказался не только одним из самых значительных религиозных философов России, но и остался в воспоминаниях современников человеком исключительно образованным, с огромной эрудицией в самых различных областях, универсально начитанным и наделенным даром слова.
Сам Хомяков, судя по его высказываниям, не считал системосозидающий разум идеалом ясности мысли, а страсть – ее препятствием. Если разумом все управляется, то страстью все живет, говорил он, а потому беда не в страстях, а в утрате «внутренней устроенности» в разуме и здоровой цельности в духе. Если наличие системы во взглядах А. С. Хомякова часто ставилось под сомнение, то в здоровой цельности духа ему не могли отказать даже самые ярые его оппоненты. «Внутренняя устроенность» его собственного разума, безусловно, укорененная в целостности самой его личности, глубоко верующего православного человека, определялась вместе с тем и целостностью задачи, которую эта личность перед собой ставила. Для «рыцаря церкви» и «светского богослова» Хомякова задача эта имела «духовную» природу. Вопрос о церкви, бесспорно, исходный, она не разделяла с вопросом о национальном самоопределении России. Последний же для Хомякова носил по преимуществу не политический, но духовный характер. В этом понимании данный вопрос и задавал некую вполне определенную форму всей его мыслительной деятельности, собирая воедино страстное и рациональное, поэта и мыслителя, полемиста и богослова, рыцаря и разумного хозяйственника. Потому он может быть рассмотрен сегодня вполне и как стилизующее начало философских исканий А. С. Хомякова, их основной пафос, и как начало логически собирающее, такой их риторический модус, который в то же время является и модусом логическим.
По замечанию известного «русского неокантианца» Ф. Степуна, национальное самоопределение России началось с выяснения ее отношения к Западу. Причем, как он полагает со всей вытекающей отсюда осторожностью в оценке самобытной русской мысли, началось оно не с «влияния» Запада, естественно предполагавшего весомый перечень заимствованных формул мышления и программ действия, но имело своим истоком «живое общение между Западом и Россией». Общение это дало о себе знать «сразу же после раскрытия Петром окна в закрытый до тех пор заморский мир»[43]. Из этого «общения», пожалуй, только и можно понять, почему в России с течением времени появилась не только «проевропейская атеистическая революционная интеллигенция», на которую сетовали в сердцах Н. Трубецкой и евразийцы, но и «русские европейцы», определившие тот особый горизонт действий российской интеллигенции, который был далеко не тождественен столь неприятным для Трубецкого проевропейским феноменам атеистичности и революционности.
Вследствие «общения» процесс самоопределения осуществлялся не просто через противопоставление России Западу, но и через последовательно проводимую в рамках этого самоопределения «диалектическую» критику Запада, начатую «русскими европейцами». Критика эта была не сводима к неприятию западной цивилизации и порожденного ею абстрактного парламентаризма, неприятию католицизма и порожденного им рационалистического богословия, а впоследствии и реформационного движения, неприятию отвлеченных начал западноевропейской философии и порожденного ими механистического, страдающего редукционизмом типа науки. Скорее, ее можно отнести к тому критическому типу мышления, который был порожден самим Западом и с легкой руки И. Канта вошел в определение европейского Просвещения: «Просвещаться – значит мыслить самому!» Иначе говоря, «диалектическая» критика Запада выражала волю к самостоятельности российского мышления и была во многом следствием опыта, почерпнутого в «общении» с Европой, залогом возможности русских европейцев в том числе.
В процессе критического общения с Западом в России, как известно, образовались две партии: славянофилы и западники. Но расстановка этих сил до сих пор составляет предмет оживленных дискуссий. То, что западники были европейцами, пишет Ф. Степун, доказывать не приходится, однако «не всеми еще освоено то, что в сущности и славянофилы были ими»[44].
В самом деле пафос «критичности» выпал по преимуществу на долю славянофильства. Во всяком случае, именно славянофилы публично продемонстрировали критический настрой, напомнив России о ее самобытности, о «Московии», о допетровской Руси, о ее особой религиозной миссии – словом, о том, что история России не исчерпывается историей салонов. Однако история самого славянофильства мало чем напоминала процесс самобытного движения русского народа к национальному самосознанию. Тем более что нечто подобное в недавнем прошлом пережил и пресловутый Запад, открывший – независимо от России – в глубинах своей истории и мистическую драму Востока и Запада, и критические национальные самоопределения. Как настаивает Ф. Степун, скорее, «славянофильство совершенно тождественно духовному и бытовому патриотизму западных народов», тогда как «западническое отрицание Руси, начатое Петром и законченное Лениным, неизвестное Западу, типично русское явление»[45]. Во всяком случае, типично русским явлением оказалось занятое у Запада, по едкому замечанию Хомякова в адрес автора «Философического письма», неуважение к себе.
Русские европейцы не могли не знать опыта критического превращения «европейцев» в «англичан», «французов», «немцев», «американцев», которому предшествовало не только превращение европейцев в католиков и протестантов, самого Запада в Старый и Новый свет, но и нарастающий пафос просветительской критики западного разума. Кантовская критика разума, как и его формула «Просвещаться – значит мыслить самому!», органично дополняла национальные превращения европейцев. В этом контексте требование мыслить «по-русски», то есть «самостоятельно» и «критично», было столь же естественным, как требование мыслить, скажем, «по-немецки» или «по-французски». Западная критика разума в свою очередь сопровождалась не только последовательной критикой самой западной цивилизации с известной немецкой спецификой противопоставления французскому Civilisation немецкого Kultur-Bildung, но и критикой католицизма как основы западной цивилизации, с последующей легитимацией не просто национально-религиозного своеобразия, но особого народного духа нации. Наконец, западноевропейская критика разума была не только конструированием, но и в некотором роде деконструкцией отвлеченных начал философии, которая подтолкнула западную философию к небезызвестному антропологическому повороту. Не только перечень новых проблем антропологического толка, но и национальный облик западноевропейской философии по праву может быть назван существенной составляющей такого поворота.
В этом контексте оценка славянофильства как «наиболее оригинального философского направления в России, которое сознательно стремилось к созданию русской философии»[46], и в особенности оценка А. С. Хомякова как «одного из самых значительных религиозных философов России», вполне позволяет настаивать на национальном своеобразии, сохраняя при этом пространство «общения» с Западом. Действительно можно сказать, что славянофилы «произошли из того романтического движения, в котором немецкий народ осознал самого себя, они взяли на вооружение органический и исторический методы как необходимые методы всякой философии, особенно национальной»[47], что дух философии Шеллинга и Гегеля неотступно сопровождал тех, кто «первыми выразил внутренний синтез русского народного духа и религиозного опыта восточной ортодоксии»[48]. Добавим к этому, что отсылка к такого рода истокам может быть принята лишь с некоторыми оговорками. Рекомендации В. В. Зеньковского, что надо всячески избегать той или иной стилизации славянофильства, в особенности когда речь идет о «старших» славянофилах – Хомякове, Киреевском, К. Аксакове, Самарине, на наш взгляд, вполне оправданны и в вопросах о западных влияниях, когда говорится об институционально не пережитом Россией кантианстве или о глубоко пережитом шеллингианстве. Теснейшее духовное общение с Западом русских европейцев, как и наличие влияний, отрицать бессмысленно, но при этом заслуживают куда большего внимания индивидуальность российской мысли и особенности истории ее формирования.
На наш взгляд, важно рассмотреть диалектические пристрастия Хомякова как адекватный способ разрешения тех задач, которые делали его полемический талант органичным и востребованным. Вряд ли можно найти лучшее объяснение тому удивительному факту, что именно Хомяков, многие идеи которого, по замечанию Зеньковского, скорее, «кристаллизовались при разборе и критике чужих идей», а «почти все философские (и богословские) статьи и этюды написаны “по поводу” чьих-либо чужих статей или книг», стал органично и востребованно русским философом.
Характеризуя А. С. Хомякова как одного из самых значительных религиозных философов России, необходимо обратить внимание на то, что способность к различению прикладных вопросов религии составляет, на наш взгляд, существо той российской религиозно-философской мысли, перспективы развития которой были им намечены.
Не секрет, что со времен классической античности задачи «апологетические и полемические» относились к тому спорному пространству «свободы слова», в котором философия встречалась с риторическим дискурсом и в котором формировалось предметное поле западной философской традиции. Сократический диалог как одна из возможных точек отсчета западной философии, по сути, впервые демонстрирует опыт различения и рассмотрения «прикладных вопросов» религии. Возможно, потому, вопреки всей неоплатонической традиции, В. С. Соловьев пишет «Жизненную драму Платона» именно так, что блестящий полемист и апологет зрячей веры Сократ выглядит куда более близким ему, нежели философ и человек Платон. Философия и наука рассматриваются при этом не как отвлеченное знание, а как образ и стиль жизни, за которыми стоит зрячая вера Сократа. Последняя и открывает сферу прикладных вопросов.
Трудно не заметить, что дилемма эта в толковании существа философии широко рассматривается и А. С. Хомяковым. Его критический настрой по отношению к западному рационализму подпитывался еще и тем, что иные вопросы выдавались за религиозные. «Религия в борениях Запада была только маской иных человеческих усилий», – замечает он в ответ на «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева[49]. Фигура самого Хомякова – «рыцаря церкви» и «бретера диалектики» – действительно выглядит, почти по Соловьеву, сократовской. Полемический талант Хомякова – подобно сократовскому – нацелен на резонирование в социальном пространстве России, которое не может быть отвлеченной абстракцией богословских экскурсов или ученых штудий, но всегда только вполне определенным, живым, публичным и адресным, а именно российским. Российская адресность русского европейца А. С. Хомякова и обозначила интенции его религиозно-философских размышлений. Мы имеем в виду ироничный парафраз Хомякова «тайна русского умолчания», который создает особую точку отсчета его дискурсивной практики.
Как известно, чаадаевское определение «тайна русского молчания» стало формулой отсутствия «свободы слова», соотносимого с исторической судьбой русского православия, обусловленной отличием апофатического и катафатического богословия, не пережитым опытом схоластики. «Тайна русского молчания» восходила к истокам апофатической традиции греческой патристики, доставшейся Руси в наследство от Византии, «священнобезмолвие» нарекалось существом православной культуры, православным роком России. Отсылка к апофатике, в свою очередь, создавала прецедент, обозначенный противостоянием «Хомяков – Чаадаев», «славянофильство – западничество». Не случайно различие между славянофилами и западниками почти официально проводилось по вопросам религии и понимания веры. Выход из состояния «молчания» потенциально имел своим следствием возможный отказ и от самой традиции, во всяком случае, он зачастую выглядел как ее попирание, как западничество.
Путь различения прикладных вопросов, которым шел, на наш взгляд, А. С. Хомяков, и был альтернативой этому драматическому разрыву, альтернативой апофатическому року, якобы довлевшему над православием. Не случайно Хомяков напоминал о вечных истинах, переданных на славянском языке. То, каким образом византийское наследие было усвоено, какие формы «священнобезмолвие» обрело в русском сознании и русской культуре, каковы особенности преломления апофатики в русском православии, аутентично ли русское апофатическое сознание его византийским истокам, превращалось в вопрос совершенно отдельный. Нельзя отрицать, что вопрос этот и сегодня сохраняет свою исследовательскую значимость[50]. Плодотворной, знаковой для судьбы русской мысли оказалась сама постановка этого вопроса. Она вызвала к жизни ту область «прикладных вопросов», которая спровоцировала рождение русской общественной мысли, и открыла перспективу для особого свойства богословия, не чуждого этой общественной мысли.
Показательной в этом отношении может быть характеристика, данная А. С. Хомякову: «светский богослов». Элемент «светской» иронии проскальзывает у Хомякова уже в определении русской традиции как «тайны русского умолчания». Ирония религиозного мыслителя тем примечательна, что намеченный им «богословский» проект явно не ставит под сомнение ценности апофатической традиции. Тут нет чаадаевских сетований на отсутствие в православии схоластики, как нет и слов о «жалкой Византии». Без сомнения, религиозная мысль Хомякова разворачивается в иной плоскости.
«Светское богословие» Хомякова сродни безусловно религиозной точке зрения, и как таковое оно отсылает нас не к чистому, «беспримесному», по выражению А. Я. Гуревича, богословию, но к некоему смешанному жанру. К такому жанру, например, принадлежала западноевропейская практика проповеди. Последняя, как известно, предполагала и широкую аудиторию, и мирской язык, и отчетливо выраженную социальную ангажированность. Интересно, что в качестве адресата эта практика вычленяет особый тип так называемого «среднего человека» эпохи, тип не богослова и не простеца, но интеллектуала[51].
Разумеется, что словесная культура «светского богословия» в России XIX века не могла быть похожа на западноевропейскую средневековую культуру проповеди, соответствовать ее литературным образцам, исследование которых в самой российской культуре стало достоянием более позднего времени[52]. «Несколько слов о Философическом письме», адресованных г-же Н., мало чем напоминают литературу Exempla или проповедь Бертольда Регенсбургского. Но их роднит артикуляция проблем так называемой «низовой» религиозности, преодоление пропасти между богословами и простецами, установка, близкая традициям западноевропейской христианской антропологии, прежде всего позиции Б. Паскаля[53], что к сути истины принадлежит и искусство убеждения. В этом контексте трудно обойти вниманием «неслучайность» формы «случайного светского разговора», которая так же может принадлежать пространству богословия, как история и культура принадлежат, согласно Хомякову, пространству церкви. На наш взгляд, вслед за Ф. А. Степуном можно называть такой принцип церкви «своеобразной антропологией» и «культурфилософией» именно потому, что у Хомякова этот принцип не ограничивается теоретической выкладкой, но превращается в основу его диалектического бретерства, его постоянного диалогизирования.
Дело не только в личных склонностях Хомякова к полемическому стилю. Традиции сократического диалога далеко не определяются его личными симпатиями. Повышенное внимание к сократической философии здесь некий фигуральный ход, сравнимый с известным поворотом к проблемам диалога в советской философии 1970-x годов. В «Жизненной драме Платона» Соловьева проблема диалога-разговора скорее родственна не античной маевтике, но проекту «общего дела», собирающего воедино всю российскую философию. Даже там, где речь идет непосредственно о «спасении» и «воскресении», «общее дело» – как следствие проективности догмата, на котором настаивал непосредственный автор «Философии общего дела» Н. Ф. Федоров, – требует такого условия своего осуществления, как свободное публичное слово, роль которого и берет на себя российская религиозная философия. Это «слово» и не может быть писательством как личным творчеством, отсутствие склонности к которому отмечал Н. А. Бердяев, например, у Н. Ф. Федорова[54], но именно «общим делом», «братским состоянием», особенным проявлением того, что у А. С. Хомякова получило название «соборности». «Соборность», как и «общее дело», в этом смысле не только предмет рассмотрения, некая идея, но, способ и стиль философствования, нечто, осуществляемое в философском действии.
Из «общего дела» и для Соловьева, и для Федорова, и для Хомякова происходят и вопросы, которые «затрагивают всякого», и способ их разрешения. В свете «общего дела» перестраивается и образ России, русского народа, русского государства, перестраивается как «общее дело» национального самоопределения. Это «общее дело» провоцирует переход и богословского, и научно-исследовательского дискурса в публичное пространство с его особыми артикулятивными законами, которые зачастую кажутся посягательством на строгий понятийный строй мысли. Не случайно вопрос этот с трудом укладывается в последовательно выстраиваемую систему понятий, оставаясь «русской идеей», русской «духовной» идентичностью, загадочной русской душой или даже «русским характером», а не строгой научной формулой. Впрочем, такого рода конфигурации при «решении» вопроса о национальном самоопределении опять-таки трудно назвать сугубо русским явлением.
М. М. Рябий
Алексей Степанович Хомяков в кругу Киреевских-Елагиных
Николай Бердяев на заре минувшего века не случайно подчеркнул в своем труде о творческой личности А. С. Хомякова, что некоторые стороны его славянофильского учения были захвачены нечистыми руками и от прикосновения их были загублены мессианские мечты о высоком призвании русского народа[55].
С другой стороны, отечественные историография и литературоведение не имели возможности для беспристрастного изучения личности такого масштаба, как А. С. Хомяков: безрелигиозное и денационализированное сознание не в силах было это сделать – и не только Хомяков, но и братья Киреевские, Аксаковы, Юрий Самарин, да и все славянофильское учение выпали из поля зрения исследователей, над которыми дамокловым мечом тяготела тогдашняя идеология. Лишь религиозное и национальное возрождение в силах понять славянофильство и оценить его, а вместе с ним и Хомякова. В последнее время к личности Алексея Степановича Хомякова проявляется особый интерес, сбываются его пророческие слова, сказанные по поводу кончины близкого друга и единомышленника И. В. Киреевского, которые в полной мере можно отнести к нему самому: «Конечно, немногие еще оценят вполне И. В. Киреевского, но придет время, когда наука, очищенная строгим анализом и просветленная верою, оценит его достоинство и определит не только его место в поворотном движении Русского просвещения, но еще и заслугу его перед жизнью и мыслью человеческой вообще»[56].
Вот почему сегодня так важны свидетельства современников Хомякова – и особенно из самого близкого круга – Киреевских-Елагиных, знакомство с которыми у Алексея Степановича началось в 1821–1823 годах[57]. Вероятнее всего, с Хомяковым Киреевский познакомился именно в момент посещения занятий в Московском университете. Затем их пути разошлись: Алексей Степанович сдал в Московском университете экзамен на степень кандидата математических наук и с 1823 года поступил служить в кавалерию, а Иван Васильевич выбрал статскую службу, сдав в августе 1823 года экзамен «на случай удачной служебной карьеры» в Московском архиве коллегии иностранных дел[58].
У студентов-вольнослушателей Московского университета Киреевского и Хомякова были возможности познакомиться по нескольким причинам. Первая из них: оба являлись родовитыми дворянами и гордились своими славными предками, которые на протяжении нескольких веков служили российским великим князьям и царям. Один из биографов Хомякова подчеркивал: «Все его предки были коренные русские люди, и история не знает, чтобы Хомяковы когда-нибудь роднились с иноземцами»[59]. В одном из писем к К. С. Аксакову Хомяков рассказывает историю родового гнезда села Богучарова: «Богучарово досталось моему прадеду древнему в начале царствования Елизаветы. Прежний вотчинник Кирилл Иванович Хомяков был современник Петру. Отец моего прадеда Степан Елисеевич был еще стольником. Крестьяне помнят существование церкви, выстроенной будто бы Дмитрием Донским во имя Св. Дмитрия Солунского. Церковь эта разрушена или упразднена прежде Петра»[60].
В половине XVIII века жил под Тулою помещик Кирилл Иванович Хомяков. Схоронив жену и единственную дочь, он под старость остался одиноким владельцем большого состояния: кроме села Богучарова с деревнями в Тульском уезде, было у Кирилла Ивановича еще имение в Рязанской губернии и дом в Петербурге. Все это родовое богатство должно было после него пойти неведомо куда; и вот старик стал думать, кого бы наградить им. Не хотелось ему, чтобы вотчины его вышли из хомяковского рода; не хотелось и крестьян своих оставить во власть плохого человека. И собрал Кирилл Иванович в Богучарове мирскую сходку, и отдал крестьянам на их волю – выбрать себе помещика, какого хотят, только бы он был из рода Хомяковых, а кого изберет мир, тому он обещал отказать по себе все деревни. И вот крестьяне послали ходоков по ближним и дальним местам, на какие указал им Кирилл Иванович, – искать достойного Хомякова. Когда вернулись ходоки, то опять собралась сходка и общим советом выбрала двоюродного племянника своего барина, молодого сержанта гвардии Федора Степановича Хомякова, человека небогатого. Кирилл Иванович пригласил его к себе и, узнав поближе, увидел, что прав был мирской выбор, что нареченный наследник его – добрый и разумный человек. Тогда старик завещал ему все имение и вскоре скончался вполне спокойным, что крестьяне его остаются в верных руках. Так скромный молодой помещик стал владельцем большого состояния. Скоро молва о его домовитости и о порядке, в который привел он свое имение, распространилась по всей губернии[61].
Новый владелец настолько прекрасно вел дела, что когда Екатерина II хотела учредить банк для дворян Тульской губернии, то последние отказались, заявив, что этого не требуется, ибо у них есть Феодор Степанович Хомяков. Когда дела у них плохо идут, они передают ему управление своим имением. Он приводит его в порядок и возвращает владельцу.
С отцом славянофила Ивана Киреевского – Василием Ивановичем произошел несколько иной, но все же похожий случай. Соседствовавшие с долбинским имением Киреевских[62] крестьяне деревни Ретюнь однажды узнали о том, что их владелец выставляет свое имение на продажу. «Выборные из Ретюни пришли к Василию Ивановичу: “Батюшка, купи нас, хотим быть твоими, а не иных чьих каких”»[63]. Василий Иванович отвечал, что, дескать, рад, да денег нет. Крестьяне сами собрали деньги и передали их своему будущему помещику. «По вводе во владение крестьяне пригласили его к себе с молодою барынею на угощение и сделали великолепное, на котором было даже мороженое; повар с посудою был нанят поблизости из г. Белева»[64].
Слава о добродетелях отца Киреевского разнеслась за пределы губернии: он вышел секунд-майором в отставку, знал пять европейских языков, имел свою лабораторию, в которой ставил химические и медицинские опыты, пытаясь найти лечебные средства от повальных болезней. П. И. Бартенев, один из основателей прославленного исторического журнала «Русский архив» и бессменный его редактор, знавший лично семейство Киреевских-Елагиных[65], в статье об Иване Васильевиче Киреевском заметил: «Кажется, что отец Киреевского был единомышленником Новикова по масонству. Он занимался химиею и, умирая, называл ее мальчику-сыну “божественною наукою”. (Слышано от самого И. В. Киреевского)»[66]. Василий Иванович Киреевский после себя оставил черновое прошение на имя императора Александра I, в котором предлагал ряд мер для охраны народного здоровья. Умер он смертью праведника, ставшей венцом его милосердной деятельности. «В 1812 году он приехал в Орел, близ которого у него была деревня, и оба свои дома – городской и деревенский – отдал под больницы для раненых, приютив кроме того многие семейства, бежавшие от неприятеля со смоленской дороги. Он сам ходил за больными, заразился тифом и умер в Орле 1 ноября 1812 года в день памяти бессеребренников, безмездных врачей Космы и Дамиана, исполнив до конца заповедь Христову»[67]. О барине, умершем скоропостижно в расцвете сил, горевали вместе с близкими – молодой женой Авдотьей Петровной, (оставшейся с двумя мальчиками на руках и почти годовалой девочкой), поэтом В. А. Жуковским, приходившимся ей по материнской линии дядей, многие, хорошо знавшие его. Особенно же крестьяне, любившие доброго и справедливого помещика: «Народу жилось весело, телесных наказаний никаких не было, ни батогов, ни розог. <…> Крестьяне были достаточны, многие зажиточны. <…> Но водочной продажи Василий Иванович не допускал у себя»[68]. По воспоминаниям современников, «мужеством и твердостью воли он подчинял себе всех, в том числе и городские власти»[69], мог в глаза высказать чиновнику любого ранга то, что о нем думал, если тот пытался злоупотреблять своим положением. При этом следует подчеркнуть, что отец сыновей-славянофилов не был самодуром, придерживаясь патриархальных правил в воспитании крестьян и своих домочадцев. Вместе с тем Киреевский-старший, будучи патриотом, образцовым христианином, не чуждался влияний западноевропейской культуры. В то время просвещенный помещик в деревенской глуши был редкостью, поскольку не у каждого хватало духа противостоять провинциальной среде и засасывающей суете. Нужна была твердость характера и крепкая духовная убежденность. Связь с Петербургом и Москвою резко обрывалась. Тому было немало причин, но, пожалуй, главная заключалась в следующем: «В эти времена, когда общественная жизнь была еще так слабо развита, когда и речи не было о публичных интересах, помещики, поселившиеся в своих имениях, имели мало сообщения с остальным миром. Газет не получал почти никто в провинциях. Что касается до частных известий, то почта приходила в уездные города лишь раз в неделю, и по неаккуратности почтмейстеров письма частенько пропадали или лежали у них по целым месяцам».
В имении Киреевских, как это часто случалось в родовых помещичьих гнездах, был организован своеобразный театральный кружок. Однако в нем не представляли пьесок и сценок иностранного или собственного сочинения. Артистами часто выступали крестьяне, преимущественно из числа дворовых, их репертуар был, скорее, народного происхождения, нежели авторского, что, впрочем, не исключало актерской импровизации, правда, не всегда успешной.
Рассказы современников донесли до нас черты помещичьего быта Киреевских начала 1810-х годов: «<…> дворовыми в Долбино оставались еще Арапка и гуслит. Гуслит настраивал фортепьяны и игрывал по святочным вечерам, на которые в барскую залу собирались наряженные из дворовых (кто петухом простым или индейским, журавлем, медведем с поводырем балагурным, всадником на коне, бабой-Ягой в ступе с пестом и помелом и пр.).<…> Однажды камердинер Киреевского явился Езопом и рассказывал наизусть басни Хемницера со своими прибаутками. Другой комнатный предстал в обличии архиерея и, поставив перед собою аналой, начал говорить проповедь с шутливым, хотя приличным тоном и содержанием. Но Василий Иванович его остановил и удалил из залы (он был набожным)»[70].
М. О. Гершензон в очерке о младшем брате Ивана Васильевича П. В. Киреевском не случайно подчеркивал роль дворянских родов и родовых гнезд в первоначальном воспитании основателей славянофильского учения:
Совершенно так, только переменив имена и названия, приходится начинать биографию любого из первых славянофилов. Они все вышли из старых и прочных, тепло насиженных гнезд. На тучной почве крепостного права привольно, как дубы, вырастали эти роды, корнями незримо коренясь в народной жизни и питаясь ее соками, вершиной достигая европейского просвещения, по крайней мере в лучших семьях. <…> Это важнейший факт в биографии славянофилов. Он во многом определял и их личный характер, и направление их мысли. Такая старая, уравновешенная, уверенная в себе культура обладает огромной воспитательной силой. <…>Нам, нынешним, трудно понять славянофильство, потому что мы вырастаем совершенно иначе – катастрофически[71].
Второй причиной возможного сближения Хомякова и Киреевского уже в Московском университете могло стать трепетно-почтительное отношение к своим матерям. Вот что Хомяков подчеркивал в облике самого близкого ему человека – Марии Алексеевны: «Она была благородным и чистым образчиком своего времени; и в силе ее характера было что-то, принадлежащее эпохе более крепкой и смелой, чем эпохи последовавшие. Что до меня касается, то знаю, что, во сколько я могу быть полезен, ей обязан я и своим направлением, и своей неуклончивостью в этом направлении, хотя она этого и не думала. Счастлив тот, у кого была такая мать и наставница в детстве, а в то же время какой урок смирения дает такое убеждение!
Как мало из того доброго, что есть в человеке, принадлежит ему? И мысли, по большей части, сборные, и направление мыслей, заимствованное от первоначального воспитания»[72]. Когда сыновья Марии Алексеевны пришли в соответствующий возраст, она призвала их к себе и высказала свой взгляд на то, что мужчина должен, как и девушка, сохранять свое целомудрие до женитьбы. Она взяла клятвы со своих сыновей, что они не вступят в связь ни с одной женщиной до брака. В случае нарушения клятвы она отказывала своим сыновьям в благословении. Клятва была дана и исполнена. Интересно воспоминание Александра Дмитриевича Свербеева, сына Дмитрия Николаевича и Екатерины Александровны Свербеевых. В своих записках, начатых в 1916 году, он, вспоминая детство и юность, немало теплых строк уделил Марии Алексеевне Хомяковой и ее сыну. Хомякова он называет «самым милым, самым увлекательным собеседником». «Я был, – отмечает мемуарист, – постоянным посетителем и поклонником его старушки матери, кот. (слово неразборчиво. – М. Р.) была современницей Екатерины II, что о встречах с ней говорила, будто это было вчера»[73].
С не меньшей теплотой вспоминает А. Д. Свербеев и о матери Киреевского: «Студентом и в более поздние годы я часто бывал у А. П. (Авдотьи Петровны Елагиной. – M. P.) <…> у “божественной старушки”, как назвал ее Вл. Павл. Титов…»[74]. О ней большую статью написал К. Д. Кавелин, подробно рассказывает в своих мемуарах А. И. Кошелев, в «Русском архиве» не раз упоминается в публикациях. Словом, в литературном мире А. П. Елагина (Киреевская – в первом браке) достаточно известна.
Третьей причиной, объединившей Хомякова и Киреевского, была, как это ни парадоксально, лень. Общий их приятель А. И. Кошелев писал в начале 1830-х годов С. П. Шевыреву: «Ты не забыл, надеюсь, любезный друг Шевырев, что мы основали в Женеве общество, коего главною целию долженствовало быть: противодействовать свойственной нам, русским, лености… Теперь мы оба возвратились на родину, оба намерены здесь поселиться и заниматься дельно. К тому же мы в Москве имеем друзей (подразумевались в первую очередь Алексей Хомяков и Иван Киреевский. – М. Р.), которые также желают быть, по мере сил своих, полезными своей отчизне, но которые также страдают терзающей нас болезнью. Если мы не примем решительных мер против… то в удовольствии быть друг с другом мы найдем сильное поощрение к празднолюбию, а потому более, нежели когда-нибудь, необходимо привести в исполнение мысль об обществе трудолюбия, которому мы бросили основание в Женеве»[75]. В письме из Женевы, отосланном Шевыревым и Кошелевым 10 декабря 1831 года в Москву Киреевскому, друзья недоумевали по поводу решимости их адресата издавать журнал европейского уровня. Шевырев: «Итак, ты журналист. Я сначала этому удивился, потом обрадовался. С Богом! Сделаться от лени журналистом – я узнал тебя в этом. Но, чур, быть твердым до конца»[76]; Кошелев: «Узнав, что ты сделался журналистом, я обрадовался за твоих читателей, но пожалел о тебе. Журнал издавать можно только обществом, и даже большим обществом, а одному взвалить на свою шею такую обузу – кажется мне, безрассудно. Если б я мог поверить, что ты можешь развестись со своею возлюбленною женою – ленью, и то бы не понял. Как ты вдруг решился отдать себя в кабалу»[77].
Действительно, основания для беспокойств были. Достаточно только вспомнить деятельность «часовщика» Д. А. Валуева, племянника Хомякова, аккуратно обходившего всех славянофилов в Москве и тем самым побуждавшего их к творчеству, благодаря которому появились на свет многие научные труды, в том числе и хомяковская «Семирамида». Сам Хомяков как-то признавался Киреевскому в письме: «С твоего отъезда не делал я ровно ничего и только читал всякий вздор, да всякий вечер каялся в утраченном дне. Я так часто исповедуюсь в лени без исправления, что готов с лютеранцами полагать, что лучше не исповедаться. Сохраняешь стыд и еще можно исправиться, а когда признался, отложил всякий стыд, того и смотришь, что в грехе погрязнешь»[78].
Однако, пожалуй, более всего сближала Хомякова и Киреевского их горячая любовь к стране, народу, традициям и наукам. Оба сходились в своей любви к Западу как центру сосредоточения научных знаний, но при этом всегда помнили (если перефразировать известные слова Киреевского) о том, что наша философия должна родиться прежде всего из нашей жизни. Киреевского по праву считают одним из основателей христианской отечественной философии, кроме того, он был признанным литературным критиком и в меньшей степени известен как стихотворец и прозаик. Хомяков прославился не только своим учением о Церкви как живом организме истины и любви. Хомяков-литератор – драматург и поэт – был не менее известен, чем Баратынский, Языков, Тютчев и другие его современники-собратья по перу. Обращаясь к западникам, предшественникам нигилистов, разоривших Россию, он в сущности, призывал вернуться назад – от чуждых России принципов в православный отчий дом, преодолеть чувство неуважительного отношения к своей Родине. При этом оба славянофильских мыслителя обрушивались на булгариных и гречей, а также москвофилов, которых П. Я. Чаадаев упрекал в том, что они гордятся теми реликвиями, гордиться которыми вообще-то и не следовало бы:
Царь-пушкой, которая так и не участвовала в сражениях, и Царь-колоколом, так ни разу и не зазвучавшим.
Но Ивану Киреевскому, блестящему публицисту, не повезло, так как ему было запрещено заниматься журналистской деятельностью. С каждым годом все сильнее давал себя знать правительственный курс, направленный на удушение русской печати и литературы. Мысли о соборности Хомякова не разделялись тогдашними иерархами русского православия. Однако неординарность этих двух личностей была такова, что они не могли затеряться в той эпохе.
Интересен первый публичный отзыв молодого критика И. В. Киреевского о своем товарище-поэте в «Обозрении русской словесности 1829 года»: «Между поэтами немецкой школы отличаются имена Шевырева, Хомякова и Тютчева. Последний, однако же, напечатал в прошедшем году только одно стихотворение. Хомяков, которого стихи всегда дышат мыслию и чувством, а иногда блестят докончанностью отделки, отдал на театр своего “Ермака”, но чтобы судить об этой трагедии, подождем ее явления в большой печатный свет; давно уже сказано, что типографский станок есть единственно верный пробный камень для звонкой монеты стихов»[79].
Уже в первых своих поэтических и драматических произведениях Хомяков поставил вопрос о том, что есть для нас Россия, в чем ее сущность, призвание и место в мире.
В деле православия Хомяков не испытывал сомнений и не метался, как Киреевский, от атеизма к религиозному аскетизму. Это дает ему право укорять Киреевского в излишнем пристрастии к православию, когда тот сблизился со старцами Оптиной пустыни: «Не грех предпочитать вино воде и слоеный пирог черствому хлебу, этому служит доказательством чудо в Канне Галилейской и слова Павла об еде и посте; но грех переносить требования и услаждения жизни земной (разумеется, своей, а не чужой) в молитву – Христос обратил воду в вино не для себя, а для других и тем научил нас стараться не только о сытости, но и о комфорте братий наших меньших <…> наперекор нашим псевдоаскетам и отчасти И. В. Киреевскому»[80]. «<…> Я не допускаю, или, лучше сказать, с досадою отвергаю в христианстве все эти периодические чудеса (яйцо Пасхальное, воду Богоявленную и пр.), до которых много охотников. Это все мало-помалу (неразборчиво: придает? – М. Р.) самому христианству характер идолопоклонничества, и как Вы говорите, немало было и есть еще моментов обращать Веру в магию… <…> К этому особенно склонны паписты»[81].
Тем не менее своим православным образом жизни и Хомяков, и Киреевский оказывали влияние на свое ближнее окружение. Вот как об этом вспоминал Кошелев:
В конце этого года (1835) я лишился нежно мною любимой матери, а в начале следующего я был обрадован рождением сына. Летнее и осеннее время мы проводили в деревне, а зимы – в Москве, куда мы приезжали в конце ноября или начале декабря; я же ежемесячно совершал поездки в деревню. В Москве мы мало ездили в так называемый grand monde* (большой свет. – М. Р.) – на балы и вечера; а преимущественно проводили время с добрыми приятелями Киреевскими, Елагиными, Хомяковыми, Свербеевыми, Шевыревыми, Погодиным, Баратынским и пр. По вечерам постоянно три раза в неделю мы собирались у Елагиных, Свербеевых и у нас; и, сверх того, довольно часто съезжались у других наших приятелей. Беседы наши были самые оживленные; тут выказывались первые начатки борьбы между нарождавшимся русским направлением и господствовавшим тогда западничеством. Почти единственным представителем первого был Хомяков. <…> я погрузился в чтение богословских книг. Зимние беседы с Хомяковым и Ив. Киреевским были главною побудительною причиною к этим занятиям. Мне совестно было, что, считавши себя христианином и просвещенным человеком, я всегда менее знал основания моих верований. Чтение святых отцов особенно меня к себе привлекло, и я в одно лето прочел почти все творения Иоанна Златоустого и много из сочинений Василия Великого и Григория Богослова. Эти занятия меня оживляли, поднимали, и я чувствовал себя как бы возрожденным. <…> Здесь считаю уместным поговорить обстоятельно о нашем кружке. Он составился не искусственно – не с предварительно определенною какою-либо целью, а естественно, сам собою, без всяких предвзятых мыслей и видов. Люди, одушевленные одинаковыми чувствами к науке и к своей стране, движимые потребностью не попугаями повторять, что говорится там – где-то на Западе, а мыслить и жить самобытно, и связанные взаимною дружбою и пребыванием в одном и том же городе – в древней столице – в сердце России, – эти люди видались ежедневно, обсуживали сообща возникшие вопросы, делили друг с другом и общественные радости (которых было очень мало), и общественное горе (которого было в избытке), и таким образом незаметно даже для самих участников составился кружок единодушный и единомысленный. Он составился так незаметно, что нельзя даже приблизительно определить года его нарождения. Он имел влияние сперва слабое, а потом все более и более действенное не только в литературе, но и в общественной, даже политической жизни России; а потому некоторые сведения о людях, его составлявших, и вообще о направлении этого кружка будут, думаю, не лишними, и тем более что эти люди, как отдельно, так и в совокупности подвергались разным упрекам, насмешкам, клеветам и обвинениям, которых они нимало не заслуживали и которые главнейше исходили из того, что вообще мало знали эти личности, не понимали или не хотели понять их убеждений и даже нередко умышленно представляли последние в извращенном виде.
Этот кружок, как и многие другие ему подобные, исчез бы бесследно с лица земли, если бы в числе его участников не было одного человека замечательного по своему уму и характеру, по своим разнородным способностям и знаниям, и в особенности по своей самобытности и устойчивости, т. е. если бы не было Хомякова. Он не был специалистом ни по какой части; но все его интересовало; всем он занимался; все было ему более или менее известно и встречало в нем искреннее сочувствие. Всякий специалист, беседуя с ним, мог думать, что его именно часть в особенности изучена Алексеем Степановичем. Хомяков мог с полною справедливостью о себе сказать: «Nihil humanum a me alienum puto» (Ничто человеческое мне не чуждо. – М. Р.). Обширности его сведений особенно помогали, кроме необыкновенной живости ума, способность читать чрезвычайно быстро и сохранять в памяти навсегда все им прочтенное. Весьма замечательное было в Хомякове свойство проникать в сокровенный смысл явлений, схватывать их взаимную связь и их отношения к целому, – к тому единому, которое проявляется в истории человечества; и при этом чрезвычайная последовательность и устойчивость в главных основных убеждениях. Не Хомяковым ли указано нашей интеллигенции действие Православия на развитие русского народа и на великую будущность, православием ему подготовленную? Не Хомяковым ли впервые прочувствованна и ясно осознана связь наша с остальным славянством? Не им ли угаданы в русской истории, в русском человеке и в особенности в нашем крестьянине те задатки или залоги самобытности, которых прежде никто в них не видал, даже не подозревал и которые, однако, должны возвратить нашу отчасти слишком высоко и отчасти слишком униженно о себе мыслящую интеллигенцию на настоящую родную почву? Все товарищи Хомякова проходили через эпоху сомнения маловерия, даже неверия и увлекались то французскою, то английскою, то немецкою философиею; все перебывали более или менее тем, что впоследствии называлось западниками. Хомяков, глубоко изучивший творения главных мировых любомудров, прочитавший почти всех св. отцов и не пренебрегший ни одним существенным произведением католической и протестантской апологетики, никогда не уклонялся в неверие, всегда держался по убеждению учения нашей православной церкви и строго исполнял возлагаемые ею обязанности. С юности и до самой кончины он неуклонно соблюдал церковные установления.
<…> Безусловная преданность Православию, конечно, не такому, каким оно с примесью византийства и католичества являлось у нас в лице и устах некоторых наших иерархов, но Православию св. отцов нашей церкви, основанному на вере с полною свободою разума, высокое о нем мнение и убеждение в том, что изучение его истории и настоящего быта одно может вести нас к самобытности в мышлении и жизни, – составляли главные и отличительные основы и свойства образа мыслей Хомякова. Эти мысли свои он проводил всего больше в наших беседах, где они находили почву самую благодарную, особенно вследствие того, что философия, даже немецкая, далеко не вполне нас удовлетворяла; что мы чувствовали потребность большой жизненности в науке и во всем нашем внутреннем быте и что все мы ощущали и сознавали необходимость прекращения разрыва интеллигенции с народом, – разрыва, вредного для обоих, равно их ослаблявшего и препятствовавшего самостоятельному развитию России. Усиливали влияние Хомякова на нас следующие обстоятельства: полнейшая простота и искренность во всех его словах и действиях, отсутствие в нем всякого самомнения и всякой гордости и снисхождение его к людям, доходившее до того, что он отрицал существование дураков, утверждавши, что в уме самого ограниченного человека есть уголок, в котором он умен и который нужно только отыскать. Еще помогало Хомякову в усилении его на нас влияния то, что он вовсе не был доктринером, безжизненным систематиком, требовавшим безусловного подчинения провозглашенным им догматам. Он охотно подвергал обсуждению самые коренные свои убеждения, вовсе не выдавал себя за непогрешимого или за проглотившего всю науку докторанта и любил вести споры по сократовской методе. Хотя Хомяков никогда не выдавал себя за либерала, но никогда не укорял кого-либо в либерализме. Он уважал и ценил его и сам был отменно либерален как в своих мнениях и действиях вообще, так и в отношениях к собеседникам и даже к противникам, старавшись им доказать несостоятельность их убеждений и не позволявши себе действовать ни на кого, хотя словом, насильственно. Он легко переносился на точку зрения своих противников; иногда даже нарочно защищал крайние мнения в противоположность другим крайним мнениям. Так, не раз случалось ему прикидываться даже скептиком в спорах с людьми формально суеверно-набожными; и напротив того, он выказывал себя чуть-чуть не формалистом или суеверною старухою в спорах с людьми отрицательного направления. Это заставляло некоторых, плохо его понимавших, говорить, что Хомяков любит только спорить и что у него нет твердых постоянных убеждений; кто же хорошо его знал, тот видел в этом только способ, вовсе не предосудительный, часто весьма удачный и Хомяковым особенно любимый, к уяснению и уничтожению заблуждений и утверждению того, что он считал истиною. Хомяков был столько же устойчив в своих основных убеждениях, сколько расположен к изменению второстепенных мнений по требованию обстоятельств и согласно полученным сведениям. В этих последних мнениях он вовсе не коснел: он постоянно развивался и очень охотно принимал все, что наука и жизнь доставляли нового.
<…> Знаю, что заслуги и достоинства Хомякова еще далеко не оценены как следует, что его богословские сочинения, приведшие в трепет и ожесточение иезуитов, заставившие призадуматься некоторых англичан и протестантов и возвратившие к Православию многих колебавшихся и блуждавших сынов нашей церкви, в России еще запрещены и провозятся только в виде контрабанды; и что его творения вообще, по большей части, покоятся на полках в библиотеках и книжных лавках. Думаю, однако, что недалеко то время, когда, наконец, великая польза деятельности Хомякова будет общесознана; и тогда нашему кружку будет поставлено в заслугу, что он содействовал к развитию мыслей Хомякова и что пшеничное зерно пало не на бесплодную землю[82].
С потерей Хомякова круг его единомышленников почувствовал пустоту. Особенно горевала «Республика у Красных ворот» – семейный круг Киреевских-Елагиных. Хомяков был принят здесь как сын старшими и как брат младшими. Вот лишь малая толика воспоминаний о нем Авдотьи Петровны Елагиной из письма С. М. Боратынской от 27 октября 1860 года: «Мы в Москве не собираемся, без моего милого Хомякова так пусто»[83]; из письма к Е. А. Свербеевой и Д. Н. Свербееву от 14 декабря 1860 года: «Мы многого лишились с Хомяковым, возьмем же из его гроба хотя одну из его добродетелей: эту любовь ко всем, которая так радушно никого не отталкивала»[84]; из письма С. М. Боратынской от 15 февраля 1861 года: «Везде только и слышны потери. Наш маленький кружок совсем распался: за Хомяковым ушел Конс. Аксаков»[85]; из письма Е. А. Свербеевой от 6 марта, очевидно, 1864 года: «Наш кружок, веселый, дружный, поэтический, изящный, теперь даже не мог бы понят быть денежным, расчетливым настоящим народом. Кто теперь ищет бескорыстно добра и пользы? Разве один Самарин; Самарин знал и любил моего Ивана Васильевича и Хомякова. – Нет, моя бесценная, будем беречь наши святые воспоминания; не стоят люди теперешние, чугунные, банковые, наших милых вечерних бесед. Бог с ними! Пусть их богатеют!»[86]; из письма Е. А. Свербеевой от 20 декабря, очевидно, 1868 года: «Однажды (1 мая) я дала кошельки моего вязания Хомякову и Кошелеву. Хомяков ласково принял, даже поцеловал, а Кошелев: “На что это? Портмоне гораздо ловчее. Вот открыл, вот закрыл! А это все вздор”. – “Да хоть на медные деньги”. – “И на медные деньги не годится, они у меня на столе” <…> Я не понимаю слишком отвлеченной любви к человечеству в простом смертном человеке. Человечество – удел Искупителя, а мы действовать должны для человека»[87].
И. П. Золотусский
А. С. Хомяков и Н. В. Гоголь
Их могилы на Новодевичьем кладбище в Москве разделяет посыпанная песком дорожка. Рядом с Хомяковым и Гоголем лежат отец и сын Аксаковы, жена Хомякова, поэты Языков и Веневитинов.
Их прах перенесли сюда из Свято-Данилова и Симонова монастырей. И как ни кощунственно это переселение, судьба посмертно соединила тех, кто был близок друг к другу, кто и в жизни и в творениях своих исповедовал одну веру.
Гоголь и Хомяков… Тема огромная, и можно лишь конспективно охватить ее.
Достаточно взять две статьи Хомякова «Мнение иностранцев о России» и «Мнение русских об иностранцах» и книгу Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», чтобы определить их духовное родство. Стоят рядом и их оценки злободневных событий того времени. Кстати, и во времени они так же близки: статьи Хомякова печатались в 1845 и 1846 годах, книга Гоголя вышла в 1847-м.
Что было за время? Уже отодвинулась в глубь истории Отечественная война 1812 года. И хотя со дня ее окончания минула треть века, последствия победы над Наполеоном продолжали ощущаться. Более того, к 1840-м годам они стали нарастать. А в конце сороковых разразились европейские революции, которые неузнаваемо изменили лицо Европы.
И это, конечно, тут же отразилось на отношениях России и Запада. Рухнул Тройственный (или Священный) Союз, созданный Россией, Пруссией и Австрией в 1815 году и много лет являвшийся опорой мира в Европе. Историки считали его искусственным, силой навязанным Россией Европе. Саму Россию при этом называли не иначе как «жандармом», подавлявшим любые проявления свободы.
Уже в начале 1840-х годов западная печать начала антирусскую кампанию, подготавливая обрушение послевоенного мира и устранение России из числа «мировых держав».
Начало этой кампании положила книга маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году», вышедшая в свет в 1843 г. Кюстин подверг в ней критике русский образ правления, личность царя и сам русский народ. Про него в книге было сказано, что он «от мала до велика опьянен своим рабством до потери сознания».
Имя Кюстина не раз поминается в статьях Хомякова и книге Гоголя. Но они оспаривают не столько ее (как и частное мнение частного лица, ее написавшего), а стоящий за нею высокомерный взгляд Запада на русскую жизнь. Хомяков прямо пишет, что в этом взгляде мешаются чувство превосходства, ненависть и страх.
Что же более всего пугает западного человека? Конечно, русская военная мощь. Тиранический режим, употребляющий эту мощь по своему усмотрению. И, конечно, угроза свободе Запада, угроза «правам человека», которые в сознании западного человека всегда стояли выше обязанностей, выше долга.
Еще Гоголь писал о «чудовищном накоплении прав», которые освобождают человека от любви к ближнему, от необходимости делать добро в первую очередь не себе, а другим. В статьях Хомякова мы находим согласие с этим тезисом: «Для того, чтобы сила сделалась правом, надобно, чтобы она получила свои границы от закона, не от закона внешнего, который опять не что иное, как сила (как, например, завоевание), но от закона внутреннего, признанного самим человеком. Этот признанный закон есть признанная им нравственная обязанность. Она, и только она, дает силам человека значение права».
Стало быть, «…идея о праве не может разумно соединиться с идеей общества, основанного единственно на личной пользе… Личная польза имеет только значение силы, употребленной с расчетом на барыш. Она никогда не может взойти до понятия о праве, и употребление слова право в таком обществе есть не что иное, как злоупотребление и перенесение на торговую компанию понятия, принадлежащего только нравственному обществу».
Кажется, это написано в наши дни. Современная западная публицистика не знает другого оружия в борьбе с «несвободой» в России, как «права человека». Она упирается в них как в неизменный догмат, как в кумира, которому можно только поклоняться, но существо которого нельзя обсуждать.
Хомяков и Гоголь считают, что столь благоговейное отношение к абстракции, не требующей от человека никаких жертв, ничего не порождает, кроме опасной «гордости ума», способной излечить человека от сочувствия и сострадания. Западный эгоизм как нигде выразился в этом поклонении «правам» и «праву, освобождающим от простых человеческих чувств, от работы сердца, которая гораздо важней деятельности самовлюбленного ума».
«Духовное начало, – пишет Хомяков, – не вполне проникнутое человеческой любовью, имеет свою гордость, свою исключительность». И гордыня эта – неизменное следствие любви к себе, которой, между прочим, кичится Кюстин, свысока смотрящий на опутанную предрассудками русскую жизнь. А «предрассудки» эти – всего-навсего старые христианские заповеди, от которых мы никуда не уйдем. А если уйдем, то придется возвращаться обратно.
«Строй ума у ребенка, – замечает Хомяков, – которого первые слова были Бог, тятя, мама, – будет не таков, как у ребенка, которого первые слова были: деньги, наряд или выгода… Отец или мать, которые предаются восторгам радости при получении денег или житейских выгод, устраивают духовную жизнь своих детей иначе, чем те, которые при детях позволяют себе умиление и восторг при бескорыстном сочувствии с добром и правдой человеческою».
У Гоголя в главе «Просвещение» находим то же. «Нелепо даже и к мыслям нашим прививать какие бы то ни было европейские идеи, покуда» не окрестим их «светом Христовым». Само просвещение в устах автора «Переписки» Гоголя звучит так же, как у Хомякова. «Мы повторяем теперь, – говорит он, – еще бессмысленно слово “просвещение”. Даже не задумываясь над тем, откуда пришло это слово и что оно значит. Слова этого нет ни на каком языке, оно только у нас.
Просветить не значит научить или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь».
А вот заключение Хомякова: «Просвещение не есть только свод и собрание положительных знаний: оно глубже и шире такого тесного определения. Истинное просвещение есть разумное просветление всего духовного состава в человеке».
Диалог с Западом не может не коснуться различия восточной и западной церквей. Секулярность католической церкви, ее желание «овладеть всем миром» на земных началах (с помощью вполне осязаемой земной власти) не согласуются с принципом святости. Не авторитет властных структур (государства Ватикан), а авторитет слова Божьего – краеугольный камень влияния церкви.
Столь же земная опора для западного человека – всемогущая наука. Но наука, говорит Хомяков, имеет дела с вещественностью и влияет лишь на вещественное. Собственно, есть две науки: «наука положительная или простое изучение законов видимой природы и наука догадочная, или изучение законов духа человеческого и его проявлений». «Прежде же всего надобно узнать, т. е. полюбить ту жизнь, которую хотим обогатить наукою, – поясняет он. – Эта жизнь, полная силы, предания и веры, создала громаду России прежде, чем иностранная наука пришла позолотить ее верхушки».
Положительная наука, конечно, имеет отношение к «просвещению», но к той области его, где скапливаются факты. «Догадочная» ее сестра идет дальше, проникая в невидимое, пророческое, во всеведение духа.
Мы знаем, что эти мысли о науке разовьет потом Достоевский, но предтечами его будут мыслители сороковых годов, в том числе Н. В. Гоголь и А. С. Хомяков.
Их спор с Западом продолжит, в свою очередь, Тютчев, и продолжит очень скоро, уже по завершении катастрофы, ввергнувшей Европу в эпоху революций, междоусобиц и дележа территорий, и сделает это как человек, знающий предмет изнутри, проживший в этой самой Европе треть жизни.
Т. Ф. Пирожкова
А. С. Хомяков и Д. А. Валуев
Алексей Степанович Хомяков и Дмитрий Александрович Валуев (1820–1845) – связь этих имен для современников была очевидной, но для потомков она распалась: исследователи наследия А. С. Хомякова, историки славянофильства порою обходятся без упоминания об этом деятеле, в лучшем случае его фамилия мелькает при перечислении участников славянофильского содружества (только B. А. Кошелев в своем «Жизнеописании» А. С. Хомякова посвятил ему отдельную главу «Митя»).
В этом нет какого-то преднамеренного умысла: Валуев очень рано в 1845 году умер, и 15 полнокровных лет жизнедеятельности славянофильского кружка – до смерти Хомякова в 1860 году – прошли без него, поэтому среди единомышленников Хомякова чаще всего называются фамилии братьев Киреевских, К. С. Аксакова, Ю. Ф. Самарина.
Даже ближайший друг Хомякова А. И. Кошелев в своих воспоминаниях о нем (Русский архив. 1879. № 11) только упомянул Валуева среди молодых людей, сгруппировавшихся около Хомякова, и ни словом не обмолвился о нем в автобиографических «Записках» (1884) при характеристике славянофильского кружка: Кошелев стал славянофилом в конце 1840-х годов, после смерти Валуева, и о его деятельности знал из вторых рук.
Через 15 лет после смерти Валуева, в 1860 году, известный санскритолог К. А. Коссович сокрушался о том, что о Валуеве так мало написано, что о нем «ныне никто не помнит и не вспоминает»[88].
Однако Хомяков никогда не забывал о Валуеве, в его сердце Валуев занимал особое место: он любил его отеческой любовью. Племянник по линии жены Екатерины Михайловны, Валуев был сиротой, в младенчестве лишившись матери Александры Михайловны, урожденной Языковой, от которой унаследовал необыкновенную красоту: в биографическом очерке, посвященном Валуеву (Библиотека для воспитания. 1846. Отд. 1. Ч. 6), Хомяков подробно описывал его внешность: высокий открытый лоб, светлые задумчивые глаза, «прекрасные черты» лица, на котором не было отпечатка дурной страсти, – все это в соединении с благородством и добродушной веселостью обеспечивало Валуеву всеобщее внимание в обществе.
В юности Валуев потерял отца Александра Дмитриевича, который являл прямую противоположность сыну: бывший морской офицер А. Д. Валуев, по отзыву хорошо знавшего его Д. Н. Свербеева, был человеком легкомысленным, болтуном и хвастуном[89], тогда как сына отличали невероятная целеустремленность, фанатичная преданность делу и трудолюбие. В 1845 году, когда возникла необходимость повторной поездки Дмитрия на лечение за границу, Хомяков писал его дяде – поэту Н. М. Языкову: «Валуев не только дорог; но нужен. Он менее всех говорит, он почти один делает»[90]. Хомяков заменил Валуеву отца – одно из писем Хомякова племяннику так и подписано: «Тебя любящий отец А. Хомяков»[91].
Симбирский уроженец, Валуев с двенадцати лет жил в Москве, но постоянного пристанища не имел, обитая то у Киреевских-Елагиных, то у Свербеевых (те и другие приходились ему родственниками), то у Хомяковых, когда в 1836 году Алексей Степанович женился на Екатерине Михайловне Языковой. Благодаря родственным связям с семействами Хомякова и Киреевских-Елагиных Валуев вошел в круг славянофилов значительно раньше К. С. Аксакова, Ю. Ф. Самарина, В. А. Черкасского, Ф. В. Чижова, А. И. Кошелева.
Воспитанник философского факультета Московского университета, окончивший его кандидатом (то есть в числе лучших выпускников), Валуев очень скоро стал авторитетом среди славянофилов в исторических вопросах. С его мнением считались. Осенью 1844 года Хомяков просил жившего в Петербурге Самарина: «Когда кончите свой Новгородский подвиг (статью о князе и вече. – Т. П.), не замедлите прислать и дайте позволение им воспользоваться (то есть напечатать. – Т. П.). Первая просьба моя, вторая Валуева». В начале 1845 года работа была отправлена в Москву, и Хомяков сообщил автору, что согласен с ним полностью, но Валуев – только наполовину[92].
Научные заслуги Валуева в истории нашли признание и за пределами славянофильского кружка: западник Т. Н. Грановский говорил о Валуеве «с умилением», ученик Грановского К. Д. Кавелин, друживший с Валуевым в университетские годы, отмечал его «огромную начитанность», горевал о том, как много потеряла наука с его смертью, А. Н. Пыпин, сотрудник журналов западнической ориентации – «Отечественных записок» и «Современника» – поставил Валуева в один ряд с выдающимися учеными К. Д. Кавелиным, Н. В. Калачевым, С. М. Соловьевым, стремившимися максимально расширить документальную основу исторических исследований[93].
Действительно, после окончания университета Валуев занялся сбором памятников прошлого, начиная с государственных учреждений и кончая домашними архивами. Составленный и отредактированный им «Синбирский сборник» (1845) целиком состоял из впервые публиковавшихся материалов о Древней Руси. Обнаруженную Валуевым Разрядную книгу 1559–1604 годов предваряло написанное им обширное исследование по истории местничества (распределение служебных должностей между высшими родами по наследству). Профессор М. П. Погодин, по словам Валуева, единственный специалист по данному вопросу «на всем пространстве Русского царства», одобрил труд своего ученика, после чего он и был напечатан.
Когда В. А. Панов выпустил «Московский литературный и ученый сборник на 1847 год» с посвященной памяти своего друга Валуева статьей С. М. Соловьева о местничестве, Хомяков сообщил славянофилу А. Н. Попову: «Соловьева статья очень хороша. Она, по правде, содержит только то (или почти только), что сказано было Валуевым; но в ней достоинство ясности, которой у Валуева не все могли доискаться, и для меня это важное достоинство, что Соловьев отдал полную справедливость труду Валуева, чего не сделали те, которым следовало это сделать» (по всей вероятности, намек на Погодина).
Хомяков значится среди издателей «Синбирского сборника» вместе с Валуевым и братьями Языковыми (Петром, Александром и Николаем Михайловичами. – Т. П.). Старший из братьев – П. М. Языков, геолог по специальности, в 1842 году помогал племяннику в сборе материалов: «<…> будем вместе рыться для Синб<ирского> сборника»[94], – писал Валуев Д. Н. Свербееву[95].
Этот сборник увидел свет еще при жизни Валуева, в отличие от «Сборника исторических и статистических сведений о России и народах ей единоверных и единоплеменных», который появился в том же 1845 году, но уже после его кончины (Самарин неизменно называл второй сборник «Славянским»). Имя издателя Валуева стоит на обложке, на титульном листе только его инициалы: «Издал Д. В.». Возможно, в какой-то мере печатание второго сборника субсидировал Н. М. Языков, который летом 1845 года в письме братьям несколько раздраженно характеризовал деятельность племянника как «археографическую машину», а себя – как лицо, постоянно живущее «в самом шуму маховых замашистых и размашистых ее крыльев», а потому принужденное вносить деньги аккуратно, а не «задумчиво»[96].
Хомяков также жил в центре действия этой «машины», поэтому принял участие во всех журнально-издательских предприятиях Валуева. Во втором сборнике Хомяков поместил свою статью «Вместо введения», в которой заявил о различии общественного и духовного путей России и Запада, а также пропагандировал идею славянского единения, прежде декларируемую им в стихотворениях начала 1830-х годов («Ода», «Орел»).
Валуев написал предисловие к сборнику, в котором в полном соответствии со статьей Хомякова высказал мысли о противоположности славянского и европейского миров, о преимуществах русской общины над немецким общественным устройством, славянской и особенно русской науки над западной. Ему принадлежали также статьи «Города немецкие и славянские», «Христианство в Абиссинии» (материалы для последней автор почерпнул в британских архивах и библиотеках). Таким образом, сборник явился одним из немногих периодических изданий (оба валуевских сборника имеют пометы «том I», он был намерен их продолжить), которые поднимали славянскую тему («Московский наблюдатель», «Москвитянин», «Библиотека для воспитания»).
Заслуги Валуева в славянском деле очень точно и высоко оценил Г. А. Коссович: «Это был если не самый первый в хронологическом порядке, то заодно, разумеется, с Хомяковым решительно первый подвижник и двигатель славянского дела… Его широкий, любящий взгляд единил всеславянство с всеправославием, о чем, кажется, теперь никто и не думает… И о таком человеке ныне никто не помнит и не вспоминает! Это непростительно особенно славистам, забывшим об одном из своих, так сказать, родоначальников»[97].
В 1842 году в письме Д. Н. Свербееву из Симбирской губернии Валуев сообщал о том, что узнал от матери своего друга Марии Александровны Пановой: ее сын вместе со славянофилом А. Н. Поповым отправились пешком по славянским странам. «Я им позавидовал, я, ни к чему не завидливый и особливо к чужекрайним поездкам <…> не все чужое, где дело для славян и слав<янских> убеждений, которых Панов тоже ревностный поборник. Буду писать к нему. – Он уже был в Праге и подружился со всеми учеными и неучеными чехами»[98].
В следующем, 1843 году Валуев тоже побывал в славянских странах, познакомился и подружился с выдающимися славянскими деятелями Яном Колларом, Павлом Шафариком, Вацлавом Ганкой.
В издаваемом вместе с профессором Московского университета П. Г. Редкиным журнале «Библиотека для воспитания» (1843–1845) Валуев охотно печатал материалы о славянах. Только у В. А. Панова там несколько статей: «Очерк черногорской истории», «История хорватов», «История Болгарского государства» и др.
Хомяков сотрудничал в этом журнале, напечал там статьи «Царь Феодор Иоаннович» (1844), «Тринадцать лет царствования Ивана Васильевича» (1845), некролог о своем друге Д. В. Веневитинове (1844), а также призывал своих друзей принять участие в нем.
Историки печати журнальный опыт Валуева не изучали: в справочнике «Русская периодическая печать (1702–1894)» (1959) изданные Валуевым «Синбирский» и «Славянский» сборники не упомянуты, допущены погрешности в изложении фактов его деятельности (он упомянут вместо Панова как один из редакторов «Московских сборников» 1846 и 1847 годов, хотя Валуев умер в 1845 году)[99]. В биобиблиографическом словаре «Славяноведение в дореволюционной России» (1979) вовсе нет статьи о Валуеве – издателе «Славянского сборника» и «Библиотеки для воспитания», где печатались славянские материалы и отчетливо выразилось сочувствие к славянскому делу.
Выпуском двух сборников и журнала для детей не исчерпывается многогранная деятельность Валуева: в 1843 году он издал анонимно в Лейпциге книгу Ф. Ф. Вигеля La Russie envahiée par les Allemands[100], открыл в этом городе склад, на который поступали присылаемые из России книги для распространения по европейским городам, в 1844 году составил и издал книгу избранных стихотворений Н. М. Языкова. По сведениям, приведенным С. П. Шевырем в воспоминаниях о Валуеве (Московские ведомости. 1845. 29 декабря), неутомимый труженик подготовил материалы еще на четыре сборника, остались ненапечатанными его переводы и последняя статья «О современном движении в церкви британской».
Следует помнить, что самостоятельная деятельность Валуева продолжалась всего четыре года: с лета 1841, когда он окончил университет, до ноября 1845 года, когда завершился его жизненный путь. Поскольку с 1842 года Валуева терзала чахотка и из-за почти не прекращающихся лихорадок он по нескольку месяцев принужден был не выходить из дома, Хомяков в некрологе отметил, что деятельность Валуева длилась около трех лет. Можно только удивляться значительности сделанного им за такое короткое время. Уйдя из жизни в двадцатипятилетнем возрасте, он успел состояться как ученый и журналист. По свидетельству Хомякова, «имя Валуева получило уже известность в литературе и науке, лицо его получило уже почетное место в общественном уважении»[101].
Валуеву удалось совершить так много потому, что каждый день его жизни был рассчитан буквально по минутам. К. Д. Кавелин, Н. А. Елагин, А. Ф. Гильфердинг, С. П. Шевырев – все в один голос утверждали, что смерть Валуева ускорила крайняя интенсивность его работы. Но с другой стороны, он прожил жизнь так, как хотел, в полном согласии с самим собой.
Валуев не только энергично работал сам, но и окружающих понуждал к труду, был, по словам Хомякова, «нравственным двигателем разрозненных сил». Что конкретно значило это для Хомяковых, мы узнаем из их писем и мемуарных свидетельств современников. Е. М. Хомякова жаловалась брату Н. М. Языкову, что племянник совершенно замучил ее переводами для «Библиотеки для воспитания», по три раза в день справляется, трудится ли она[102]. Хомякову Валуев пенял, что тот мало работает, что расточает в устных беседах сокровища ума, даже взял с него честное слово, что ежедневно будет записывать свои мысли. И для начала даже закрыл на ключ хозяина дома в его кабинете[103]. Именно по настоянию Валуева Хомяков начал писать «Записки о всемирной истории». Как знать, если бы Валуев прожил еще несколько лет, возможно, эта работа была бы завершена. Недаром Екатерина Михайловна выражала недовольство тем, что племянник совершенно оторвал мужа от поэзии.
Со стороны могло показаться, учитывая возрастную разницу (Хомяков был старше племянника на 16 лет), что Валуев как представитель младшего поколения славянофилов зависит в своих начинаниях от старшего друга, но последний заявил, что в характере Валуева было много «самодеятельности и инициативы»[104], что его влияние на него было исключительным и благотворным: «<…> никто не может вполне оценить, что я в Валуеве потерял и как много я ему обязан был во всех самых важных частях моей умственной деятельности. Во многом он был моею совестию, не позволяя мне ни слабеть, ни предаваться излишнему преобладанию сухого и логического анализа, к которому я по своей природе склонен. Если что-нибудь во мне ценят друзья, то я хотел бы, чтобы они знали, что в продолжение целых семи лет дружба Валуева постоянно работала над исправлением дурного и укреплением хорошего во мне»[105]. Это очень важное признание. Недаром время дружбы с Валуевым Хомяков считал «самым деятельным в своей жизни»[106]. Поэтому болезнь и смерть Валуева были огромным потрясением для него и для его жены. «Я так с ним сжился душою, что с трудом понимаю, как мне быть без него. Такие потери могут просто отучить от жизни», – сообщал Хомяков Н. М. Языкову[107].
Валуев заболел случайно, простудившись осенью 1842 года в деревне у Хомякова. Алексей Степанович лечил племянника гомеопатией; когда она не помогла, обратились за помощью к Ф. И. Иноземцеву, профессору практической хирургии Московского университета, имевшему в городе обширную практику. По его совету летом 1843 года Валуев отправился на лечение в Европу – именно Хомяков позаботился о билете на пароход для него, обратившись за помощью к жившему в Петербурге А. В. Веневитинову, брату своего умершего друга.
Из-за границы путешественник посылал письма Хомяковым. (Некоторые из них ошибочно попали в фонд Свербеевых в РГАЛИ). Валуев скучал, и его мысли в этих письмах – неизменно о России, о Москве, о печатаемых там сборниках и, конечно же, о Хомякове: «Ал<ексей> Ст<епанович> работает ли?»[108]. Даже во сне видит виновного в бездействии Хомякова, из-за чего друзья поссорились[109]. На корабле Валуев разговорился со своими «разноязычными сопутниками», встретился с понятиями «совершенно дикими, неуклюжими». «И тут я не раз пожалел, что нет Ал<ексея> Ст<епановича>, какую бы он кашу заварил и как бы мастерски раздразнил представителей всяких народов!»[110].
Казалось, что за границей Валуев выздоровел, но болезнь возобновилась летом 1844 года. Смертельно больной, он продолжал интенсивно работать. Иноземцев навещал его каждый день, но помочь не мог. Валуев безгранично доверял доктору, но Хомяков был недоволен, считая и лечение, и отправление (вторичное) на лечение за границу «постыдными». «Постыдным» отправление было потому, что Валуев уезжал в таком ужасном состоянии, что окружающие прощались с ним без уверенности, что увидят его живым.
Московский доктор Европеус сомневался в том, что петербургские врачи выпустят Валуева за границу[111]. Но Валуев не смог доехать до столицы – 23 ноября 1845 года он умер по дороге в новгородской гостинице.
Врача для сопровождения Валуева в поездке нашел Хомяков. Это был Михаил Гаврилович Своехотов – гомеопат, живописец-самоучка, поэт, человек, своими увлечениями близкий Хомякову, очень добрый и заботливый. Панов, выехавший в Новгород, как только узнал, что путешественники остановились, писал Хомякову: «Подивился я и Вам – как Вы умеете узнавать и оценивать людей»[112] (речь шла о Своехотове, преданно ухаживавшем за Валуевым).
Валуева не предавали земле до девятого дня, ожидая распоряжения родственников, мнения которых разошлись: московские родственники Свербеевы и Н. М. Языков дали согласие на захоронение Bалуева в Новгороде, но Своехотов дождался распоряжения Хомякова, который в это время находился в Богучарове Тульской губернии[113]: Валуева похоронили в Москве на кладбище Данилова монастыря рядом с Ю. И. Венелиным, первым в России историком болгар. Благодаря Самарина за хлопоты в Министерстве внутренних дел, где нужно было получить разрешение на перевозку тела в Москву, Хомяков писал: «Нам отрадно будет иметь его около себя, ибо все мы теперь рано или позже, а принадлежим Москве как месту нашей умственной деятельности»[114].
Когда в 1846 году умер Н. М. Языков, его положили рядом с племянником. Свою любимую жену Хомяков похоронил в январе 1852 года возле ее брата и племянника, а когда вслед за Екатериной Михайловной скончался Н. В. Гоголь, Алексей Степанович распорядился: «Ляжет он <…> рядом с Валуевым, Языковым и Катенькой и со временем со мною в Даниловом монастыре под славянскою колонною Венелина»[115].
Смерть Валуева – не только огромное личное горе Хомякова, это первая по времени и очень значительная утрата в славянофильском кружке, удар по его журнально-издательским планам. После ухода Валуева славянофилы остро ощутили нехватку этого «нравственного двигателя», соединявшего всех ради общей цели: издание валуевских сборников не было продолжено, местонахождение еще четырех сборников, подготовленных им, до сих пор неизвестно, в 1846 году перестал выходить журнал «Библиотека для воспитания».
Но Хомяков до конца 1852 года трудился над «Записками о Всемирной истории», выполняя наказ Валуева. Статья Хомякова «Церковь одна» также в известной степени была исполнением завета Валуева. Хомяков не сразу признался в авторстве, выдавая свою статью за греческую рукопись, якобы найденную покойным Валуевым.
Хомяков не уехал в заграничное путешествие, покуда не был установлен памятник на могиле Валуева: это произошло 9 мая 1847 года, в середине мая Хомяковы приехали в Петербург, а в конце месяца отправились за границу.
Биографический очерк о Валуеве, написанный Хомяковым сразу же после смерти молодого друга, пронизан глубокой скорбью о нем. Автор закончил его следующими словами: «Дай Бог всем быть так искренно любимыми в жизни и так горько оплаканными после смерти».
H. К. Гаврюшин
«Признак настоящей веры…»: А. С. Хомяков и Е. П. Ростопчина
«Странно наше, так сказать, островное положение в русском обществе. Чувствуешь, что мы более всех других люди русские и в то же время, что общество русское нисколько нам не сочувствует», – писал А. С. Хомяков на исходе 1859 года И. С. Аксакову[116].
Задумывался об этом он отнюдь не впервые, еще в 1845 году жаловался Ю. Ф. Самарину: «Досадно, когда видишь, что Загоскин (хоть он и славный человек) за нас, а Грановский против нас: чувствуешь, что с нами за одно только инстинкт (ибо Загоскин выражение инстинкта), а ум и мысль с нами мириться не хотят. Еще досаднее, когда видишь, что пробужденное в нас сознание нисколько не останавливает бессмыслицу»[117].
Подобное ощущение отчужденности не покидало славянофилов годами. Его обостряли внешние обстоятельства: то им запрещали печататься, то принуждали сбривать бороды, то разносили о них по салонам разные невероятные слухи… «Глинко-Коптевская фаланга меня так огласила безбожником, – рассказывал Хомяков, – что одна девица, встретившая меня случайно на вечере, говорила, уходя, хозяйке: Mais il n'a rien dit de si horrible[118]. Она воображала меня апокалипсическим драконом, разевающим пасть только для хулы. В Туле я прослыл развратником…»[119].
Одним из самых резких выпадов против А. С. Хомякова, которому, надо сразу признать, он дал заметный повод, явилось письмо графини Е. П. Ростопчиной к известному литературному критику А. В. Дружинину (1854). Оно стало своего рода кульминацией заочного противостояния двух поэтов, в мотивах и деталях которого небезынтересно разобраться.
Графиня Евдокия Петровна Ростопчина (1811–1858) была племянницей литератора Николая Васильевича Сушкова (1796–1871) – конфидента и биографа московского святителя Филарета (Дроздова); незадолго до своей кончины она через дядю испросила для себя у митрополита наперсный образок, прижимая который к груди, отошла ко Господу. Ф. И. Тютчев, приходившийся Сушкову деверем, посвятил Ростопчиной два стихотворения. Искренняя дружба связывала ее с В. А. Жуковским, который подарил ей пушкинский альбом для стихов. К Хомякову Жуковский относился с не меньшей теплотой и участием. Что же касается святителя Филарета, то, хотя первоначально Алексей Степанович встретил в нем «особенное сочувствие»[120], тот смотрел на труды светского богослова с известной настороженностью, упомянув в одном из писем к лаврскому архимандриту Антонию о его «суемудрии»[121]. Ф. И. Тютчев даже полагал, что именно Филарет препятствовал изданию богословских сочинений Хомякова в России[122].
Таким образом, у двух поэтов было немало общих друзей и знакомых в литературных и церковных кругах, и их противостояние – как двух ярких носителей «русской стихии» – на этом фоне представляется особенно контрастным. Взаимная враждебность их усиливалась, скорее всего, и некоторым сходством характеров.
Графиня считала Алексея Степановича Хомякова своим «личным врагом», а потому не упустила случая отплатить ему «зараз за все его глупости и наказать его, поймав на деле вражды и ненависти к отечеству».
Как известно, в 1854 году, во время Крымской кампании, в которой во главе дружины московского ополчения участвовал и брат Е. П. Ростопчиной Сергей Петрович Сушков (1816–1893)[123], Хомяков написал и распространил стихотворение «России», содержавшее такие строки:
- В судах черна неправдой черной
- И игом рабства клеймена;
- Безбожной лести, лжи тлетворной,
- И лени мертвой и позорной,
- И всякой мерзости полна!..[124]
Реакция на эти стихи была весьма разнообразной. Они были приняты «на ура» в стане либерально-демократическом, но большая часть интеллигенции была ими возмущена.
Хомяков признавался К. С. Аксакову: «Меня заваливают по городской почте безымянными пасквилями (даже с онёрами извозчичьей речи), а в клубе называли даже изменником, подкупленным англичанами»[125].
Князь П. А. Вяземский писал по поводу этих стихов: «Последний стих решительно неуместный и лишний. Таким укорительным и грозным языком могли говорить боговдохновенные пророки. Но в наше время простому смертному, хотя бы и поэту, подобает быть почтительнее и вежливее с матерью своею; добрый сын Ноя прикрыл плащом слабость и стыд своего отца»[126]. Согласно свидетельству О. М. Бодянского, большинству эти стихи показались неуместными: «Словом, – писал он, – певец сплошал: Россия не Неневия, а Хомяков не Еремия, — как-то пришлось мне выразиться в одном доме на вечере, когда зашла речь об этом: хоть и родился в день Еремии, — кто-то заметил мне тут из слушающих»[127]; П. И. Бартенев также отмечал, что стихотворение «пробудило негодование не только петербургских властей (в особенности наследника престола), но и многих москвичей»[128].
Надежда Васильевна Арсеньева, близкая знакомая Ростопчиной, написала к Хомякову послание, начинавшееся словами: «Стыдись, о сын неблагодарный, отчизну-матерь порицать»[129]. А сама Евдокия Петровна опубликовала стихотворную отповедь ему:
- Сам Бог сказал: «Чти мать свою!».
- И грех тебе, о сын лукавый,
- Когда, враг материнской славы,
- Позоришь бранию неправой
- Ты мать родимую твою!
- Когда, в лжемудрости надменной
- И честь, и совесть погубя,
- Разишь рукою дерзновенной
- Грудь, воскормившую тебя!..[130]
В связи с этой публикацией Ростопчина обратилась к М. П. Погодину: «А читали ли вы мой ответ на Иеремиевское проклятие всей святой Руси вашего постника и славянофила Хомякова… Неужели вы разделяете мнение нового Иеремии[131] и довольны его гнусными клеветами против России и ее народа»[132].
Не прошло и десяти дней, как под мощным общественным давлением А. С. Хомяков вдруг почувствовал, что Россия уже раскаялась и ей уместно будет посвятить новое стихотворение, которое несколько смягчит впечатление от первого.
Он посылает 4 апреля А. Н. Попову вместе с письмом[133] завершенную накануне пьесу под названием «Раскаявшейся России»:
- Не в пьянстве похвальбы безумной,
- Не в пьянстве гордости слепой,
- Не в буйстве смеха, песни шумной,
- Не с звоном чаши круговой;
- Но в силе трезвенной смиренья
- И обновленной чистоты
- На дело грозного служенья
- В кровавый бой предстанешь ты.
- ……………………………………………
- Иди! светла твоя дорога:
- В душе любовь, в деснице гром,
- Грозна, прекрасна, – Ангел Бога
- С огнесверкающим челом!..[134]
Ростопчина тотчас отреагировала на это еще одним обращением к М. П. Погодину: «Дошли ли до Вас вторые стихи Хомякова, написанные под влиянием трусости? Хорош патриотизм!.. Долой маски, человек высказался весь. Прощайте, все это так гадко, что и говорить-то тошно. Христос с Вами»[135].
Но самым пространным и эмоциональным выражением ее негодования явилось письмо к А. В. Дружинину от 23 апреля 1854 года:
Вы уж, верно, знаете, – пишет здесь она, – что есть на свете знаменитый сикофант, фарисей, лицемер и славянофил – Хомяков, ходящий 25-ть лет в одной и той же грязной мурмолке, нечёсаный, немытый, как Мальбрук в старом русском переводе, гордый и таинственно резкий, как мавританский дервиш среди фанатиков-мусульман, играющий издавна в Москве роль какого-то пророка, мистика, блюстителя веры, Православия, заступника небывалой старины, порицателя всего современного, одним словом – любящего Россию лишь времен Рюрика и Игоря, как человек, который из вящщей семейственности выкопал бы скелет своего прадеда, возился б с ним и нянчился, а для него пренебрегал бы, ненавидел бы и презирал бы отца, мать, братьев, жену, детей и прочее. – Этот-то славянофил и русофоб целые 15-ть лет проповедует о восстаньи Востока, о его возрожденьи, о гниеньи Запада, о унижении Альбиона (а он страшный англоман в пище и питье!)[136], наконец, о каких-то неисповедимых путях России; а теперь, когда пришла пора народно-религиозной битвы, когда Восток отстаивает себя от Запада, а Россия с удивительным единодушием любви и веры защищает православных братьев, не щадя ни крови, ни земли, – теперь этому господину не по шерстке пришлось общее увлеченье, и он почел на нужное выступить на ходулях своей ячности, чтобы разругать Россию на повал и объявить ей, что он находит ее слишком преступною, чтоб воевать за дело Бога и креста. – Стихи его возбудили взрыв негодованья в образованной части общества, и я отвечала на них опроверженьем, вынужденным тем, что другая пиэса, в том же духе отрицанья, приписывалась мне и ходила под моим именем не только здесь и в столице, но даже и по губерниям и навлекла мне несколько упреков от безымянных, но приязненных и приличных, впрочем, корреспондентов. – Кроме того, г-н Хомяков, личный враг мой (потому что я некогда не захотела принять его немытой руки), давным-давно разглашает о мне разные небылицы, называет меня врагом Руси и Православия, западницей, Жорж-Зандисткой, приписывает мне низкие речи, мною никогда не говоренные. Стало быть, я имела полное женское право отплатить зараз за все его глупости и наказать его, поймав на деле вражды и ненависти к отечеству, столь нежно им прежде воспеваемого, имела право уличить лицемера и выставить его на справедливый суд общества, им долго обморочиваемого. <…> – К вам <…> обращаюсь я, как к джентльмену, скажите – можно ли воздержаться от негодованья при таких двуличневых поступках и можно ли подавить в себе голос правды, громко вопиющей против мнимого пророка и святителя целой шайки безмозглых восхвалителей какой-то небывалой старины, каких-то нравов, преданий, прав, которые существовали только в их нездравом, непросвещенном уме?.. <…>
Они сочинили нам какую-то мнимую древнюю Русь, к которой они хотят возвратить нас, несмотря на ход времени и просвещенья; они проповедуют напыщенно вздоры, от которых портятся и глупеют целые поколенья полувоспитанных и бессознательных мыслителей, которые, вместо того чтоб выполнять долг человека и трудиться, идя вперед к настоящему развитию и улучшению человека, озираются назад и жалеют о бараньей шкуре и пьяной браге предков-дикарей. И изобличает себя эта партия уже тем, что ее наружная неопрятность и запущенность служит как бы вывеской ее внутренному грязному застою?.. Наконец, эти люди убили нам Языкова во цвете лет, удушили его талант под изуверством; эти же люди уходили Гоголя, окормя его лампадным маслом, стеснив его в путах суеверных обрядов запоздалого фанатизма, который для них заменяет широкую благодать настоящей веры, коей признак есть терпимость и любовь, а не хула и анафема! Вот за что я спорю с этою шайкою московских мудрецов и постников, вот за что я презираю их лжедобродетель, как личину, скрывающую алчность, эгоизм, гордость, честолюбие и вражду к человечеству из любви к могилам и скелетам[137].
Столь резкие и эмоциональные высказывания графини в гротескной форме отражают реальное восприятие Хомякова и славянофилов немалой частью русской интеллигенции того времени. У М. А. Дмитриева не было никакого повода испытывать к поэту чувство личной обиды. Даже не затрагивая «антипатриотических» стихов Хомякова, он судил о нем весьма строго, противопоставляя ему И. В. Киреевского (который «всех скромнее и воздержаннее в речах, всех основательнее и рассудительнее в этом кружке»[138]):
Лучшее в нем было то, что он имел несомненный талант к поэзии. Он знал много иностранных языков и мог бы быть одним из просвещеннейших людей, если бы захотел употребить на дело свои сведения, которых у него было много. Но он нахватал их самоучкой, без всякой системы, и не был привязан основательно ни к одной части знания, а хотел быть всё: и поэт, и антикварий, и богослов, и гомеопат, и механик, и живописец, и философ, и агроном, и политик, и великий постник, и даже собачий охотник; говорил и спорил обо всем и со всеми и не успел сделать и написать почти ничего, а имение оставил в расстройстве. За беспрестанным движением языка ему некогда было остановиться, помолчать и подумать: легкомысленная погоня за эфемерною известностию не давала ему покоя и поглощала все его способности. Вся его цель была, кажется, прославление имени своего чем бы то ни было, одним словом, шарлатанство, которым всего скорее получишь у нас славу и уважение. Но этот второй способ дешевой известности допускается у нас, однако, под условием взаимного восхваления. Хомяков понимал это мастерски: он поддерживал своими неистощимыми спорами партию славянофилов, Аксакова с братиею, которые и не замечали в своей невинности, что они же становятся его орудием, и превозносили в нем универсального гения, маленького Pico della Mirandola![139]
С такой критической, но выраженной в иной тональности оценкой пишет о Хомякове Александр Васильевич Никитенко. В своем «Дневнике» 20 января 1856 года он записывает:
Познакомился на вечере у министра с одним из коноводов московских славянофилов, Хомяковым. Он явился в зало министра в армяке, без галстука, в красной рубашке с косым воротником и с шапкой-мурмулкой под мышкой. Говорил неумолкно и большей частью по-французски – как и следует представителю русской народности. Встреча его со мной была несколько натянута, ибо он не без основания подозревает во мне западника. Но я поспешил бросить себе и ему под ноги доску, на которой мы могли легко сойтись. Он приехал сюда хлопотать о разрешении ему издавать славянофильский журнал, и я обратился прямо к этому предмету, сказав, что ничего не может быть желательнее, как чтобы каждый имел возможность высказывать свои убеждения. Это тотчас развязало нам языки, и мы пустились рассуждать, не опасаясь где-нибудь столкнуться лбами. Он умен, но, кажется, не без того, что называется себе на уме[140].
Слегка ироничный отзыв Никитенко заставляет все же думать, что резкие высказывания гр. Е. П. Ростопчиной и М. А. Дмитриева были не совсем беспочвенны; в поведении Хомякова действительно наличествовали элементы эксцентричности, нарочитого фрондерства, а его мысли и формы их выражения не всегда представляли собой образец голубиной простоты.
Сам Хомяков подтверждает это предположение. В письме к графине Блудовой он признается: «Разумеется, если б можно было думать о печати, я сказал бы, что слова “И игом рабства клеймена” (слишком резко определяющие крепостное состояние) можно заменить “И двоедушьем клеймена”. Также поставить другое – на место “всякой мерзости полна”. <…> Во всяком случае надеюсь, что вы признаете, что я говорю не по духу эгоистического фрондерства»[141].
То, что от его стихов веет именно «духом эгоистического фрондерства» Хомяков, очевидно, догадывался. От Блудовой он ожидал слов, успокаивающих его встревоженную совесть.
Аналогичной поддержки ждала и Ростопчина от А. В. Дружинина («Скажите, скажите, ошибаюсь ли я? <…> Дайте мне голос правды в этой тревоге ума и сердца, слишком сильной для женской слабости!»).
Эксцентричность, фрондерство и эпатаж на самом деле были не совсем чужды обоим поэтам. О хомяковской мурмолке и «грязной руке» уже было говорено[142]. Различные письма Хомякова, в которых он разносит в пух и прах историков, филологов, медиков, дает советы в области политики и военной тактики, возможно, верные и бескорыстные, в своей совокупности способны оставить ощущение некоторого самолюбования[143]. Не приходится забывать и о его не лишенной амбициозности мистификации – намерении выдать свою статью «Церковь одна» за древний памятник, переведенный с греческого, едва ли не святоотеческое сочинение. «Покойный Д. А. Валуев, – пишет он Ю. Ф. Самарину, – нашел греческую рукопись (кем писанную, греком или другим каким православным, неизвестно), содержащую в себе изложение Православного учения, и вез ее в чужие края с намерением напечатать, находя ее весьма замечательною. К ней приделал он маленькое предисловие по-латыни, и вся рукопись составила бы около двух печатных листов. Мы, то есть здешние друзья Валуева, желали бы исполнить его намерение и напечатать рукопись, которая в России может встретить цензурные затруднения, а в Германии может или принести пользу, или по крайней мере обратить на себя внимание»[144].
Втянут был в эту мистификацию, сам того не ведая, и В. А. Жуковский[145], писавший Хомякову в 1847 году из Баден-Бадена: «Я только вчера получил от Вяземского, а он от Попова, рукопись, еще не принялся за чтение, начну его после Нового года. Но что же Вы будете с нею делать? Я все стою на том, что надо ее перевести на немецкий (а не на французский) язык и напечатать в Германии. Теперь именно та минута, в которую она здесь произведет великое действие»[146].
Нет сомнений, что задуманная А. С. Хомяковым мистификация, вскоре, разумеется, раскрывшаяся, явилась бы для А. В. Никитенко еще одним доводом в пользу мнения, что он «себе на уме». А если присмотреться к его богословским утверждениям, то можно заметить, что по отдельным принципиальным вопросам они порой не вполне согласуются между собой[147].
Что же касается графини, то при ее жизни Н. В. Сушков однажды посетовал на раздражительность и ожесточение своей племянницы, но позднее говорил совсем о другом: «В ней не было лукавства; откровенна и доверчива, как дитя, она не только прощала, но совершенно забывала обиды, которые в первую минуту сильно волновали женщину-поэта»[148].
Тем не менее графиня тоже не была чужда тяги к эксцентричности, хотя и безо всякой идеологической подоплеки, так сказать, из любви к искусству. Вот что пишет в своих воспоминаниях Николай Васильевич Берг (1823–1884), посетивший поэтессу в подмосковном Вороново:
В первый же день, как все обитатели дома и граф сошлись в обеденную залу и сели за стол, гостей поразило следующее зрелище: со двора, по широким каменным ступеням лестницы, поднимались две лошади, без всякой сбруи и уздечек, осторожно вошли в комнату и стали рядом позади графини, как бы два ее лакея. Несмотря на то, что все комнаты в доме были громадны, большие лошади, на полной свободе разгуливавшие там, не казались… собачками. Каждого, не привыкшего к таким явлениям, к таким затеям русских бар, брал невольный страх, как бы эти странные «лакеи» не разыгрались, не вздумали скакать, бегать, не поломали бы мебели, пола и еще чего-нибудь.
Графиня давала им хлеба, трепала и гладила их по голове и шее. После обеда, когда все встали, лошадям было поставлено на двух стульях какое-то кушанье в тарелках. Одна ухватила нечаянно за край, и он отлетел.
Потом лошади стали ходить по всему дому и, воротившись в обеденную залу, точно так же осторожно спустились с лестницы, как взошли. Только одна не выдержала характера: когда осталось всего две-три ступеньки, – прыгнула на двор и при этом вышибла задней ногой из лестницы половицу[149].
О другой затее графини, уже не столь невинной, рассказывает А. Д. Галахов со слов Н. Ф. Щербины, посещавшего ее литературные вечера: «Скука одолевала присутствующих, но не дождаться конца чтению было невежливо. Щербина решился прибегнуть к хитрости: он начал садиться у двери, ближайшей к выходу, чтобы, улучив добрый момент, скрыться незаметно. Раза три стратагема удавалась, но потом хозяйка заметила ее и приняла свои меры: она клала бульдогов у обеих половин выходной двери. Как только Щербина привставал, намереваясь дать тягу, так бульдоги начинали глухо рычать и усаживали его снова в кресло»[150].
Таким образом, «кафтан-святославку» и «шапку-мурмулку» Хомякова есть с чем сопоставить в арсенале графини Ростопчиной.
В своем отношении к Западу оба поэта тоже обнаруживают общие черты, одинаково склоняясь к резкому осуждению догматических новаций Рима. Хомяков не раз высказывался по поводу догмата о «непорочном зачатии» Девы Марии[151], а графиня Ростопчина этому посвятила стихотворение «С Востока на Запад! По поводу нового Латинского догмата: Dell’ Immaculata Concepzione» (1857):
- Рим святотатственной рукою
- Евангельских коснулся слов…
- В разладе с истиной святою
- Рим новый смысл ей дать готов.
- Рим с дерзновением без меры
- Апостолам перечить стал,
- И символ христианской веры
- Нововведеньем запятнал!
- Ему уж мало откровенья
- И догматов Отцов Святых, —
- Он к страшной тайне воплощенья
- Привил воззренье дум своих!
- Благоговенье забывая,
- Пытливым оком и умом
- Дознался он, где грань прямая
- Чудес Господних с естеством!..
- Из царской правнуки Давида,
- Из земнородной девы дев, —
- Святым Писаниям в обиду
- И слово Божие презрев, —
- Рим призрак сотворил нетленный…
- В нем отрицает плоть и кровь…
- Убил в Мадонне искаженной
- Смиренье, женственность, любовь!
- В Марии, «без греха зачатой»,
- След человечества пропал;
- В ней горний гость, в ней дух крылатый
- Лик Всескорбящия приял!..
- Не может Римская Мария
- Бесплотной грудию рыдать,
- Как у Распятого Мессии
- Рыдала Страстотерпца мать![152]
В том, что касалось политики России по отношению к католической Польше, у Хомякова и Ростопчиной также, как это на первый взгляд ни странно, можно заметить общие позиции. Во время своего пребывания в Италии Ростопчина написала балладу, в которой аллегорически отображено политическое угнетение Польши. Баллада была напечатана в «Северной пчеле», в результате чего Ростопчины были лишены доступа ко двору, а с 1849 года вынуждены были переселиться в Москву.
Хомяков же в 1848 году развивал свой мирный план решения Польского вопроса, предполагавший проведение референдума и восстановление независимости Польши. Он обосновывал его в оставшейся ненапечатанной статье и в письме к А. О. Смирновой-Россет (1848)[153]. Примечательно, что в своем понимании соотношения христианства и Империи Хомяков явно расходится с Ф. И. Тютчевым[154] и по сути близок к Ростопчиной.
Таким образом, основой их личного противостояния была все-таки не идеология. Даже то, что Ростопчина писала о смерти Гоголя, во многом совпадает с пониманием его драмы Хомяковым: «Он был в каком-то нервном расстройстве, – писал Хомяков в феврале 1852 года А. Н. Попову, – которое приняло характер религиозного помешательства. Он говел и стал морить себя голодом, попрекая себя в обжорстве! <…> Ночью с понедельника на вторник первой недели он сжег в минуту безумия все что написал. Ничего не осталось, даже ни одного чернового лоскута. Очевидно, судьба. Я бы мог написать об этом психологическую студию; да кто поймет или кто захочет понять? А сверх того и печатать будет нельзя»[155].
Графиня осуждала Хомякова, опираясь на признак настоящей веры, который, по ее словам, есть «терпимость и любовь, а не хула и анафема!» Хомяков, как видно по его знаменитому сочинению «Церковь одна», держался теоретически такого же понимания признака истинной веры: «Выше всего любовь и единение»[156].
Но во взаимных отношениях оба поэта, очевидно, об этом признаке порой забывали.
Л. В. Кузьмичева
А. С. Хомяков и сербский вопрос.
Хомяков и современная ему сербская история
Биографы Хомякова, начиная с П. И. Бартенева, утверждают, что «еще в детстве явилось в нем сознание славянского единства и зажглась горячая любовь к угнетенным братьям. Одиннадцатилетний Хомяков говорил своему старшему брату, что он станет бунтовать славян, а когда ему было семнадцать лет, он бежал было из дома, чтобы привести в исполнение свое заветное желание»[157]. Тот факт, что именно в эти годы юный Алексей Хомяков стремился принять непосредственное участие в освободительной борьбе славянских народов, имеет точное историческое обоснование.
По мистическому совпадению, А. С. Хомяков родился весной 1804 года, именно тогда, когда началось самое мощное по размаху и продолжительности славянское антитурецкое восстание – Первое сербское восстание 1804–1813 годов. Оно открывало ряд восстаний балканских народов в XIX веке и впервые было тесно связано с непосредственным русским участием. Достаточно сказать, что велись совместные боевые действия сербских повстанцев, возглавляемых Карагеоргием, и русской регулярной армии против войск султана в ходе русско-турецкой войны 1806–1812 годов. Ho Россия вынуждена была прекратить боевые действия на турецком театре и подписать мирный договор в Бухаресте, так как начиналась Отечественная война 1812 года. Султан нарушил восьмую статью договора, в которой гарантировалась амнистия сербским повстанцам. Вместо обещанной по русско-турецкому договору автономии Белградский пашалык подвергся опустошительной и кровавой карательной операции. Десятки тысяч сербов были убиты, больше сотни тысяч бежали в Австрию. Сербские события освещались русской печатью, эпические песни сербов переводились на русский язык, великий Пушкин посвятил сербам-повстанцам несколько своих замечательных творений. Сербы стали близки и знакомы русской общественности.
В одиннадцать лет Хомяков собирался бунтовать славян совсем не случайно. В 1815 году сербы начали Второе сербское восстание. Его возглавил Милош Обренович, которому в результате восстания удалось добиться некоторых льгот для Белградского пашалыка.
Семнадцатилетие Хомякова пришлось на начало подготовленного обществом «Филики Этерия» общебалканского антитурецкого восстания 1821 года, больше известного как «греческая революция». Восстание началось одновременно на юге Балканского полуострова и на севере – в Молдавии и Валахии. Сочувствие новому национальному движению широко распространилось в России, это нашло отражение в русской публицистике и в художественной литературе[158]. Не остался равнодушным, как вспоминают современники, и юный Хомяков, пытавшийся бежать из дома и принять участие в разгоревшейся борьбе.
Эти романтические юношеские порывы до определенной степени удалось воплотить Хомякову в жизнь во время очередной русско-турецкой войны 1828–1829 годов, в которой он принимал участие как раз на Дунайском театре войны. По итогам именно этой войны победившая Россия при заключении мирного договора в Адрианополе добилась от Турции предоставления полной независимости Греции и создания автономного княжества Сербии, которое стало первым государственным образованием у зарубежных славян, возродившимся после долгих столетий утраты. Ни у одного из западных и южных славянских народов – поляков, чехов, словаков, словенцев, болгар, хорватов – не существовало в начале XIX века своего государства. Сербия, таким образом, совершила при активном участии России первый прорыв в этом деле.
Можно сказать, что Хомяков, воевавший в 1828–1829 годах, был лично причастен к возрождению независимой Сербии.
Сербия – небольшое вассальное княжество с населением около миллиона человек, расположенное на границе между Австрией и Турцией, – стала важным знаменем в деле воссоздания государственности других славянских народов. В 1830–1833 годах xaтт-и-шерифы (личные, именные указы) турецкого султана признали не только автономные права сербского княжества, но и наследные права сербского князя. Им стал бывший пастух, до конца своей долгой восьмидесятилетней жизни так и не выучившийся грамоте, предводитель Второго сербского восстания Милош Обренович. Его наследники будут править Сербией с перерывами до 1903 года. Милош часто приезжал в Россию. Когда же ему пришлось на двадцать лет эмигрировать из своей страны в силу острой внутренней политической борьбы, то русское правительство помогало ему материально.
Сербия и ее проблемы были хорошо известны в России. Появилось множество очерков и путевых заметок, публиковались они и в славянофильских изданиях. По славянским землям с заездом в сербское княжество путешествовали Ф. И. Чижов, В. А. Панов, А. И. Тургенев – знакомые и близкие Хомякову люди. Анализ переписки и статей Хомякова свидетельствует, что Алексей Степанович был хорошо осведомлен о происходивших в Сербии событиях, этому способствовало и его личное знакомство с некоторыми сербскими интеллектуалами, среди которых был и выдающийся ученый-фольклорист Вук Караджич.
С 1842 по 1859 год в Сербии воцарилась соперничающая с Обреновичами династия Карагеоргиевичей. После изгнания Милоша и его семьи князем был избран Александр Карагеоргиевич, сын легендарного вождя Первого сербского восстания. Черный Георгий (Кара-Георгий) – сумрачный двухметровый исполин, убитый по приказу своего политического противника Милоша Обреновича в 1817 году, – стал героем нескольких стихотворений А. С. Пушкина. Его сын князь Александр полностью зависел от своего окружения, настроенного не слишком-то благожелательно к России.
Побывавшие в Сербии в 1840–1850-е годы путешественники из России с недоверием относились к новому режиму. Так, В. А. Панов, приехавший в столицу Белград в 1843 году, называл князя и его сподвижников «самозванцами» и выражал надежду, «что это скоро пройдет, что они получат заслуженное наказание и что после этого все обратится к лучшему; если б не эта надежда, говорю я, можно было бы почитать Сербию теперь пропащею»[159]. Настороженность и неприязнь к политическим реалиям в Сербии заставили юного Панова разочарованно воспринимать и обыденную сербскую жизнь. Если в нищей, но дружественной Черногории все его восхищало, то в Белграде все раздражает: «…дурно мощеные улицы, маленькие нечистые дома, открытые лавки, в которых купцы с чалмами сидят на подмостках, как портные на своих столах»[160]. Разочаровал молодого славянофила и наружный вид сербов, одетых на турецкий манер. Он полагал, что всему виной проавстрийский курс новых властей, и наивно думал, что при Обреновичах ситуация была гораздо более благоприятной для развития национального духа.
Неудивительно поэтому, что произошедший в Сербии в конце 1858 года переворот, изгнание князя Александра Карагеоргиевича и триумфальное возвращение старого Милоша с сыном Михаилом в Белград были восприняты в России с энтузиазмом прежде всего славянофилами. Событие это получило в историографии название Святоандреевской скупщины. На день святого Андрея (30 ноября 1858 года) была созвана не собиравшаяся уже 10 лет скупщина (собрание представителей сербского народа), на которой князю Александру были предъявлены обвинения в нарушении конституции и узурпации власти и предложено покинуть страну. Возглавляли скупщину молодые сербские интеллектуалы, члены либерального клуба. Это были юноши, вернувшиеся из Европы, где они за казенный счет получали образование по необходимым для молодого государства специальностям. Инженеры, землеустроители, врачи, юристы и военные – их было еще совсем немного, но у них было свое видение будущего своей страны. Молодые сербские интеллектуалы учились преимущественно во Франции, Австрии и Германии, все они были свидетелями революционных событий 1848–1849 годов и последующих поисков новых путей развития в европейских государствах. Намерения их были благими, но опыта государственного строительства никакого. Это хорошо понимали как в самой Сербии, так и в России.
История создания сочинения А. С. Хомякова «К сербам. Послание из Москвы»
В конце 1859 года, когда в Сербию вернулись Обреновичи и страна встала перед выбором – парламентаризм или диктатура, А. С. Хомяков у себя в деревне засел за аналитическую статью, которую впоследствии озаглавил «К сербам. Послание из Москвы». Увлечен этой работой он был чрезвычайно. «Когда глубокой осенью 1859 года Погодин вместе с Кошелевым решили навестить друга своего в тульском Богучарово, они застали его возбужденным и всецело погруженным в новую работу. Хомяков писал послание “К сербам”[161]. Письма Хомякова этого периода убедительно свидетельствуют, что свою работу он считал чрезвычайно важной для всего славянофильского дела»[162].
Завершив в довольно короткий срок важнейший труд, Хомяков сообщил об этом Аксаковым и Самарину. Он придавал документу чрезвычайное значение и настаивал, чтобы он был подписан коллективно: «Сербов вчера кончил; надеюсь, что вы все будете довольны и подпишите охотно. За одного подписчика даже ручаюсь – за Константина Сергеевича. Впрочем, и за всех почти ручаюсь: думаю, что согласитесь все, но буду просить строгого суда. Дело общее и серьезное»[163]. Однако в ходе обсуждения сочинения Хомякова возникли, по-видимому, и некоторые разногласия. Отправляя весной 1860 года «Послание» для перевода в Петербург А. Ф. Гильфердингу, Хомяков писал ему не без досады: «На днях послал я вам Сербов, которых Самарин должен был вам доставить уже с подписями. Ни слова не успел я написать по милости Погодина, который до ночи то подписывал, то нет. Просто надоел разным вздором. Должно быть, был не в духе по случаю своего неславного боя с Костомаровым»[164].
В результате под статьей подписались кроме Хомякова Ф. Чижов, Иван и Константин Аксаковы, Ю. Самарин, М. Погодин, И. Беляев, Н. Елагин, П. Безсонов, П. Бартенев, А. Кошелев – практически весь цвет русского славянофильского движения.
Послание «К сербам», пожалуй, один из самых спорных в литературе о Хомякове и славянофилах документов. История его создания, публикации и распространения, а главное – реакции на него в Сербии, обросла мифами и штампами, кочующими из издания в издание. Общий вывод современной историографии приблизительно такой: идея была благой, но преждевременной, нравоучительный тон старшего брата был негативно, с обидой и недоумением воспринят в Сербии и высмеян в русской демократической печати. Считается также, что творение Хомякова было с негодованием отвергнуто «братьями-сербами», а сам Хомяков как политический консультант стал у сербов крайне не популярен, в отличие от Хомякова-поэта, который был любим и часто переводим. Так ли это было на самом деле? С невероятной легкостью отечественная историография второй половины XX века подписала безжалостный приговор инициативе Хомякова: дилетантский ригоризм, вредный и смешной – вот сущность «Послания».
Подобные оценки не могут не вызвать желания разобраться в сущности проблемы. Действительно ли не произошло взаимопонимания, и если да, то в чем причины? Во всяком случае, причина не в русской неосведомленности о состоянии дел в Сербии, ведь Хомякова и остальных славянофилов трудно заподозрить в незнании предмета.
Итак, что они знали о сербской общественно-политической ситуации? Знали очень много, причем из первоисточника, получали известия из первых рук: от своих корреспондентов из Сербии, знакомились с аналитическими сводками из Азиатского департамента Министерства иностранных дел[165], состояли в дружественной переписке с настоятелем русской посольской церкви в Вене Михаилом Федоровичем Раевским, занимавшим этот пост с 1842 по 1884 год и владевшим как в силу порученной ему миссии, так и по личной инициативе колоссальной и первоклассной информацией о событиях на Балканах.
Достаточно сказать, что один из лучших ученых-славистов, занимавшихся Сербией, русский дипломат, первый русский консул в Сараево, объехавший все сербские земли в составе Турции, А. Ф. Гильфердинг (1831–1872) был ближайшим другом и младшим соратником, последователем идей Хомякова. Его отец, известный дипломат, ввел сына еще мальчиком в дом Аксаковых и Хомяковых[166].
Фундаментальный труд Гильфердинга «Письма из Боснии», печатавшийся в 1859–1860 годах, имеет подзаголовок «Письма к Хомякову». Именно Гильфердинг подготовил к печати после смерти Хомякова его «Исторические записки» и снабдил их собственным обширным предисловием. Публикуя это предисловие в четвертом издании сочинений Хомякова в 1903 году, составители отмечали: «Гильфердинг был в последние годы жизни Хомякова его ближайшим собеседником по вопросам истории и филологии»[167]. Нет сомнений, что Гильфердинг обстоятельно информировал Хомякова о ситуации на Балканах, о специфике сербской общественной и политической жизни.
Глубокие знания истории и современных событий в Сербии выразились в подборе публикаций по сербской проблематике в редактируемой Хомяковым и Аксаковым «Русской беседе» (1856–1860). Особый интерес представляют публикации в журнале периода подготовки и написания «Послания» – 1858–1859 годов. В это время сербское прошлое и настоящее анализируются практически в каждом номере. Южнославянскому вопросу на страницах «Русской беседы» посвятила свою работу Л. И. Ровнякова[168], она же составила и опубликовала библиографический перечень статей по славянской проблематике в журнале за весь период его существования[169]. Поэтому ограничимся лишь констатацией того, что сербская тема освещена была всесторонне: исторические сведения и очерки профессиональных историков, этнографические зарисовки, быт, нравы и обычаи, состояние церковных дел. Особого внимания заслуживают корреспонденции из Белграда сербского писателя и ученого М. Миличевича, ставшего в 1860 году редактором правительственной газеты «Србски новине». Его статьи «Семейная община по селам сербским, известная под именем задруги» (1858. Т. 3), «Сербская община» (1859. Т. 6) и особенно заметки участника Святоандреевской скупщины «Рассказ очевидца о Скупштине» (1859. Т. 1) и «Письмо из Белграда» (1859. T. 2) – несомненное свидетельство глубокого внимания редакции журнала к изменению политической ситуации в Сербском княжестве.
Хомяков не только хорошо знал сербские реалии, но и умело знакомил с ними русскую читающую публику. Недаром И. С. Аксаков в своем «Заключительном слове» по поводу запрещения издания «Русской беседы» дал такую оценку проделанной редакцией в 18 вышедших томах работы:
Давно ли славянский вопрос считался вопросом мертвым и теоретической бредней? Давно ли один из журналов насмешливо уступал г. Гильфердингу сочувствие всех славян от Балтики до Адриатического моря? Но обстоятельства изменились и, к счастью наших угнетенных братий, – они могут встретить теперь выражения сочувствия и не в одном только журнале. <…> Нам удалось возвести славянский вопрос из области археологического интереса в область живого деятельного сочувствия и оживить умственное движение в кругу наших литературных славянских собраний[170].
Что касается упреков Хомякову в крайнем романтизме, идеализации действительности, то и этот устоявшийся в современной историографии вывод представляется спорным. Все, близко знавшие Хомякова, отмечали, что высокая духовность не мешала ему трезво и реально оценивать политическую и экономическую ситуацию. Пожалуй, лучше других это поняла старшая дочь С. Т. Аксакова – Вера (1819–1864): «Хомяков, человек по преимуществу исключительно духовный, не в смысле только его возвышенной, разумной истинной веры, согретой самым искренним душевным убеждением, не только в смысле его строгой нравственности, но и по свойству его натуры, трезвый во всех своих впечатлениях и проявлениях. Необыкновенный человек!»[171] Серьезную и развернутую характеристику «цельности и сосредоточенности» в творчестве и жизни Хомякова, его высокому профессионализму в вопросах, о которых он судил, дал Ю. Ф. Самарин, убедительно опровергнувший обвинения друга в дилетантизме[172].
Так почему же Хомяков решил написать это письмо к сербам именно в конце 1859 года? Этот вопрос вызывает наибольшее недоумение у исследователей, не знакомых с сербской историей. Автор одной из последних объемных работ о Хомякове также задается этим вопросом: «По какому собственно поводу Хомяков засел за это послание, неясно. Может быть, ближайшим мотивом явилось какое-нибудь известие, полученное от знакомых ему сербов. Или просто раздумья над судьбой этого маленького королевства (на самом деле Сербия тогда была вассальным княжеством, а королевством она станет лишь в 1882 году. – Л. К.) на Балканах, населенного преимущественно православными славянами»[173]. Далее автор сообщает, что в Сербии произошел династический переворот, но резонно замечает: «Перемена государя, как мог судить Хомяков по собственному опыту, всегда приводила к перемене в сегодняшнем народном миросозерцании, – но что может сулить возвращение князя, некогда низвергнутого?»[174] Больших иллюзий в отношении князя Милоша славянофилы не питали, они рассчитывали на его сына князя Михаила и его соратников. Ситуация в Сербии виделась им критической, ибо речь шла не только о выборе пути политического развития маленького балканского княжества, но и о судьбах других славянских народов, для которых Сербия была опорой в деле их собственного освобождения от иноземного господства. За Белградом утвердилась слава «Пьемонта южных славян». В этот очень важный и для Сербии, и для славянства в целом момент Хомяков и обращается с «Посланием», в котором даются рекомендации строительства нового государства с учетом опыта, который прошла за последние 150 лет Россия. Собственно, эту работу Хомякова можно считать итоговой в его рассуждениях, прежде всего об историческом пути собственной страны.
Как «Послание» попало в Сербию
Хомяковский текст решено было перевести на сербский язык, отпечатать за границей и доставить в Сербию и в другие земли, где проживали сербы. Организацию всего этого дела взял на себя И. С. Аксаков, отправившийся весной 1860 года за границу на пять месяцев с целью ознакомиться со славянскими землями «и приобресть не ученое, но живое знание славянских наречий»[175]. Маршрут этого путешествия в части южнославянских земель, составленный «с Гильфердингом в Москве»[176], включал Словению, Далмацию, Черногорию, Гражданскую Хорватию, Военную Границу, Воеводину и княжество Сербию. Это в основном территории, населенные славянами сербско-хорватского языкового ареала. Направляясь туда, Аксаков уже имел переведенный на сербский язык текст «Послания». 10 мая 1860 года он писал из Вены: «Здесь, в канцелярии посольства нашел я только письмо от Гильфердинга с переводом известной статьи Хомякова и саму статью. Какие теперь интриги партий в Белграде, – просто горько слышать! – Я начал понемногу учиться по-сербски»[177]. И. С. Аксаков в ходе этой поездки знакомил славян с «Посланием» и сообщал Хомякову, что оно воспринимается с энтузиазмом.
Однако, когда в июле 1860 года И. С. Аксаков добрался до Белграда, его ждало серьезное разочарование. Политическая ситуация в стране была напряженной, находившийся при смерти старый князь Милош разогнал сербских либералов, приведших его к власти, и ввел в стране режим диктатуры. Аксаков из Белграда сообщал о проблемах с публикацией «Послания»:
Я в затруднении относительно известной Вам рукописи, писанной Хомяковым. С одной стороны, нет такого человека, которому это дело должно быть поручено; с другой стороны, настоящая минута такова, что слово наше канет в воду, не будучи замеченным. Мы воображали себе, что после последней скупщины Сербия вступила на путь самостоятельного развития, а потому и нуждается в совете. Увы, вышло не так. Люди скупщины, люди народной партии, люди европейски образованные, но в то же время горячо сочувствующие России, Москве, Русской Беседе и проч., удалены от правления, и дано место «швабам» (проавстрийским чиновникам. – Л. К.). Скупщина изъявила одно решительное желание: свободу слова <…> а теперь установлена цензура[178].
Аксаков воспользовался случаем и проехал в крестьянской телеге по всей Сербии, составив довольно четкое представление о его народе. Дал он и яркий портрет старому князю Милошу: «Свинопас, до сих пор не знающий грамоте, он создал целую державу, теперь князь: вокруг него обстроился целый большой красивый город, 400 школ в Сербии и 14 тысяч учеников»[179].
В своей очень активной деятельности в княжестве Иван Сергеевич не забывал и о данном ему Хомяковым поручении: «Что же касается до нашего Послания к сербам, приведшего в восторг всех, кому я читал его, то по совету митрополита и всех приятелей я напечатаю его в Лейпциге на русском и сербском языках, а здесь в Белграде печатать нельзя: и цензура не пропустит, и обоим князьям будет оно во многом неприятно, а печатать такую вещь без ведома типография не решится»[180]. Вот сколько хлопот и проблем вызвала эта инициатива Хомякова. А у Аксакова были и другие серьезные заботы – тяжело заболел его старший брат Константин, надо было срочно встречать его и везти лечиться на европейские курорты.
В сентябре И. С. Аксаков вернулся в Вену, и когда уже вовсю шла подготовка к печати рукописи «Послания», из России пришла страшная весть о смерти Хомякова. Аксаков сообщал А. Д. Блудовой в конце октября из Вены:
Я печатаю теперь в Лейпциге одно из последних произведений Хомякова, это «Послание к сербам» от нас всех, им и нами всеми подписанное. Оно печатается (с нашими подписями) на русском и сербском языке вместе. Политического тут ничего нет. Цель послания – передать заблаговременно сербам нашу горькую опытность, чтобы они не впали в наши ошибки, – оно не назначается собственно для продажи, но назначается для чтения сербам, которым и будет доставлено с честною явностью. Когда будет готово, я Вам пришлю. Оно имеет характер совершенно духовного послания[181].
В этот же день он писал А. И. Кошелеву о смерти Хомякова:
<…> для меня точно потемки легли на мир, точно угасло светило, дневным светом озарявшее нам путь. Он был нашею совестью, и даже совестью каждого из нас лично, он был нашей гордостью и в то же время истинною утехою; он всем нам был опора и вождь, и друг и центр, нас соединявший. <…> История нашего славянофильства как круга, как деятеля общественного замкнулась.
И добавлял:
А я печатаю здесь одно из последних его творений, послание к сербам. То есть печатаю в Лейпциге, а корректуру мне сюда присылают[182].
Сущность основных положений «Послания»
Вчитаемся в текст этого и по сей день рождающего дискуссии сочинения А. С. Хомякова. Очень аккуратная стостраничная книжечка – «билингва», страницы слева (четные) по-русски, справа (нечетные) – по-сербски[183]. На обложке название также на двух языках «Къ Сербам. Лейпцигъ. У Франца Вагнера» и «Србльима. Посланiе изъ Москве. У Лейпцигу кодъ Фране Вагнера». Перевод, надо заметить, изобилует русизмами, да и грамматика полурусская, полусербская – мягкие и твердые знаки на конце слов, в сербском языке не употреблявшиеся.
Что же такого крамольного было в сочинении Хомякова, что юная сербская цензура могла его не пропустить?
Представляется, что в первую очередь его не пропустила бы в печать цензура русская, потому что трактат этот в равной степени касается и сербов, и России. В сущности, это анализ трудного и сложного «врастания России в Европу», того, что сейчас называется европеизацией и модернизацией. Какова должна быть мера этой модернизации, какие сферы жизни не могут и не должны быть европеизированы, А. С. Хомяков истолковывает на русском примере своим сербским братьям – либералам. Основные положения его труда сводятся к следующему.
Во введении объясняются мотивы написания этого трактата. Воздав должное терпению и мужеству сербского народа, получившего с Божией помощью и при содействии «единокровного и единоверного вам народа русского свободу от нестерпимого ига народа дикого и неверного, самостоятельность и самобытность в делах общественных, возможность мирного и безмятежного жития», автор пишет о грозящих сербам испытаниях. Это, во-первых, испытание свободой, которая «величайшее благо для народов, налагает в то же время великие обязанности <…> удваивает для людей и для народов их ответственность перед людьми и перед Богом». Во-вторых, это искушение благополучием, поскольку «счастие и благоденствие преисполнено соблазнов и многие сохранившие достоинство в несчастиях предались искушениям, когда видимое несчастие от них удалилось».
Далее объясняется, по какому собственно праву взялись московские благожелатели давать советы сербам: «Поэтому да позволено будет нам, вашим братьям, любящим вас любовью глубокою и искреннею и болеющих душевно при всякой мысли о каком-нибудь зле, могущем вас постигнуть, обратиться к вам с некоторыми предостережениями и советами. Мы старше вас»[184].
Тематически эти предостережения выглядят следующим образом.
1. Прежде всего это предостережение от эксклюзивного национализма – «не возгордитесь перед другими славянами своими успехами в обретении независимости». Напоминание вполне уместное и своевременное, ибо и в самом деле такая угроза была. Уже начались первые, пока еще литературные споры с хорватами, а впереди были территориальные конфликты и войны с болгарами в 1878–1885 годы.
2. Идеологической основой государства, несмотря на либеральные доктрины его устройства, должно быть Православие, а не идеализм или материализм. Здесь как раз содержится и вызвавший острую полемику тезис, что при необходимости полной свободы в Вере и в исповедании ее не допускать все же «совратившихся с пути истинного» до управления государством. Именно Православие даст возможность сохранить локальное самоуправление – «земскую общину».
3. Необходимость сохранения существующего у сербов естественного равенства, не допуская деления на благородных и низших. Надо сказать, что сербы и сами прекрасно понимали необыкновенное преимущество «социальной однородности» своего общества, возникшей в общем-то при трагических обстоятельствах истребления или «потурчения» их родовой знати много веков назад. Все сербские законы и конституции, а их в ХIХ веке было немало, решительно запрещали любого рода сословное деление или введение каких-либо сословных отличий и званий. Сербия была страной, в которой проживало около миллиона свободных крестьян-собственников, владевших средними наделами земли. Класс чиновничества только зарождался, а политическая элита состояла из нескольких десятков грамотных людей.
4. Заимствуя технические достижения Запада, следует сохранять национальную самобытность, особенно в языке. В качестве негативного примера приводится эпоха Петра I в России, когда «вся земля русская обратилась как бы в корабль, на котором слышатся только слова немецкой команды». При этом сама эпоха преобразований Петра оценивается положительно. Это, кстати, подтверждает вывод известного ученого Анджея Валицкого, что А. С. Хомяков, в отличие от И. В. Киреевского, очень высоко оценивал деятельность Петра I, поскольку хотя он сделал много ошибок, но потомство вспомнит о нем с благодарностью, ибо за ним остается честь пробуждения России к силе и сознанию силы[185].
Предостережение от тотальной вестернизации: «Учитесь у западных народов, это необходимо, но не подражайте им, не веруйте в них, как мы в своей слепоте им подражали и веровали. Да избавит Вас Бог от такой страшной напасти!»
5. Не обойдена вниманием и специфически сербская проблема – распыленность сербского народа, наличие колоссальной сербской диаспоры. К тому времени уже больше двухсот лет проживали свыше миллиона сербов на территории Австрии, где имели церковно-школьную автономию, преуспевали, сформировали слой зажиточных и образованных людей и даже создали наряду со школами, гимназиями и типографиями свои научные учреждения в рамках «Матицы Сербской».
Опасаясь, что именно австрийские сербы и будут пропагандистами тотальной европеизации, Хомяков писал: «А их просим мы не слишком доверять своей мнимой мудрости и помнить, что они приступили к вашему союзу не как чистейшие и безусловно лучшие, но напротив того, как люди, несколько искаженные и требующие, так сказать, внутреннего омовения от иноземной проказы».
Эти предупреждения не могли не вызвать негативной реакции у «австрийских сербов», что и почувствовал Аксаков во время своего пребывания в Воеводине. Он был принят там чрезвычайно холодно, а иерархи Карловацкой православной патриархии и вовсе отказались с ним встречаться. Об обстоятельствах аксаковского посещения Воеводины оставил яркие воспоминания известный сербский политический и общественный деятель Яков Игнятович. Эти мемуары проанализировала в своей статье «Утраченные иллюзии» большой знаток русской и сербской общественной мысли сербская исследовательница Латинка Перович[186].
Обида, видимо, была очень велика, так как вообще-то воеводинские сербы остро нуждались в поддержке, ибо австрийский центр принял решение об упразднении административной единицы «Сербская Воеводина и Темишский Банат» и передавал их в состав венгерской короны[187], лишая последних черт самостоятельности.
6. Призыв сохранять национальные традиции – одежду, обычаи. «Не вдавайтесь в соблазн быть европейцами. <…> Не надевайте на свою умственную свободу щегольского ошейника с надписью “Европа”».
7. Хомяков призывает сербов не стремиться к роскоши, а богатство употреблять на просвещение. «Поистине, Сербы, та земля велика, в которой нет ни нищеты у бедных, ни роскоши у богатых и в которой все просто и без блеска, кроме Храма Божия. Такая страна действительно сильна: она угодна Богу и честна у людей».
8. Охранять и защищать нравственные идеалы и способствовать чистоте семейных отношений, стараясь не поддаваться разлагающему влиянию извне. «По свету ходит об вас великая похвала, которую, как думаем, вы заслуживаете: это похвала чистоте ваших нравов».
9. Реформу судопроизводства Хомяков рекомендует проводить на основании суда общинного. Непременным условием считает отмену смертной казни: «Не казните преступника смертью. Он уже не может защищаться, а мужественному народу стыдно убивать беззащитного».
10. Следует подчиняться власти, избранной народом, но одновременно и радеть о сохранении свободы мнений и свободы печати.
11. Уважать духовных пастырей, но не позволять, «чтобы они величали себя церковью, отдельно от народа».
12. Всячески печься o распространении знаний. Образование должно быть доступно для всех. «Любите и поощряйте науку не только ради прямой пользы, которую она приносит обществу и частным людям в жизни общественной, но гораздо более ради того, что ею расширяется и укрепляется разум, великий Божий Дар. Знайте и то, что там, где наука пользуется свободой и почетом ради самой себя, там она доброплодна и сильно содействует общественному благу; там же, где ее принимают как наемную работницу, там она бессильна и не приносит никаких плодов самому обществу. Это мы отчасти сами испытали и испытываем даже и теперь».
Общий вывод «Послания» следующий: «Мы же сочли своим долгом сказать вам то, что узнали из опыта, и предостеречь вас от ошибок, в которые легко может впасть народ, входя в неизведанную им область умственных сношений с другими европейскими народами».
Миф о негативной реакции на «Послание» в Сербии
В отечественной историографии сложилась традиция писать об исключительно негативном восприятии творения Хомякова в Сербии. Начало было положено Н. Г. Чернышевским в статье «Самозванные старейшины», опубликованной в «Современнике» (1862. № 3–4). Там содержалась уничижительная критика «Послания», издевка над ее авторами, каковыми могут быть «только люди до крайности скудные разумением обстоятельств и потребностей исторической жизни, да и всяким разумением чего бы то ни было». И. С. Аксаков был этим чрезвычайно возмущен. Обстоятельства возникшей полемики рассмотрел известный советский ученый С. А. Никитин[188]. Он полностью встал на сторону Чернышевского и его единомышленников и пришел к выводу, что основные идеи «Послания» «совершенно вне плана развития сербской жизни и без всякой связи с реальными интересами и стремлениями сербов»[189]. Авторитет академика С. А. Никитина, глубокого знатока российских архивов и периодики, исследователя деятельности славянских комитетов, аналитика русской внешней политики на Балканах, был так велик, что и его ученики в нашей стране, и ученые Югославии ссылались на утверждение о неприятии «Послания» как на очевидный факт, не давая себе труда искать какую-либо иную аргументацию[190].
Не отступая в целом от постулатов Никитина, все же некоторые из сербских ученых пытаются понять истинный отклик на творение Хомякова в Сербии. Особая роль принадлежит здесь выдающемуся сербскому ученому Милораду Экмечичу. Анализируя «Послание», он останавливает внимание на русском видении будущего Сербии. Прежде всего это касается вопроса о чистоте Православия в Сербии. Ученый пишет, что сербское Православие отличалось еще до наступления эры модернизации от русского и греческого, а русские славянофилы приложили немало энергии, чтобы выявить слабые места в сербском христианстве. Они говорили о чересчур самостоятельном характере церкви, у которой есть свои национальные святые, и о снисходительности пастырей к тому, что верующие не имеют привычки посещать храмы, удивляло их и чрезмерное подчинение церкви государству[191]. Экмечич видит в этом давление и дидактизм со стороны славянофилов, ратующих за «истинное Православие» в стране, где начинаются процессы секуляризации.
Русские славянофилы, согласно Экмечичу, еще до Крымской войны были настроены на решительную критику происходящего в Сербии сближения с католицизмом. Они критиковали и реформу Вука Караджича в этом же духе. Хомяков направил в 1853 году в Белград стихотворение-призыв: «Вставайте, оковы распались!»[192]. «Итогом этой критики сербского национального движения стала публикация славянофильского “Послания к сербам”, написанного А. С. Хомяковым. Она вышла в Лейпциге в 1860 г. в сербском, французском и немецком переводах»[193]. Здесь ученый ошибается в деталях, так как текст был только на русском и сербском (кириллица) языках, но прав по сути. Да, действительно наибольшее неприятие «Послание» вызвало не у сербов княжества и не у демократически настроенной молодежи, а в католических кругах. Два наиболее серьезных критика «Послания» в Сербии Джура Даничич и Матия Бан были с этими кругами тесно связаны.
О реакции на «Послание» в католической среде имеются сведения и в русских источниках. Об этом достаточно красноречиво писал митрополиту Михаилу Раевскому в Вену русский вице-консул в Риеке (Фиуме) Василий Федорович Кожевников, который в 1859–1860 годах был секретарем русского посольства в Белграде и общался с И. С. Аксаковым во время его пребывания в Сербии. Кожевников весьма критически отнесся к «Посланию», аргументируя это тем, что в нем были оскорблены чувства верующих католиков-славян. В письме к Раевскому от 27 ноября 1861 года он писал:
Не надо забывать, что славяне-католики были страшно обижены в «Послании из Москвы». Вспомните только, почтеннейший Михаил Федорович, что говорилось в «Послании» о католиках; выписываю здесь несколько строк (стр. 32): «<…> да будет он (т. е. славянин-католик) Вам все еще братом, хотя несчастным и ослепленным! Но да не будет уже он ни законодателем, ни правителем, ни судьею, ни членом общинного схода, ибо иная совесть у него, иная у Вас <…>»[194]. Кажется, этого одного достаточно, чтобы понять, что кроаты (хорваты. – Л. К.) должны были по всем законам здравого разума оскорбиться и поудержать несколько свою симпатию к единоплеменным братьям русским, которые так неосторожно – и даже неловко – бросили в них камень, да еще откуда – из Москвы! Как хотите, а промах сделан, и едва ли скоро можно будет изгладить неприятное впечатление, произведенное на хорватов «Московским посланием». Дай Бог, чтобы кроаты поскорее позабыли эту ошибку и извинили бы славянофилов, не думавших, быть может, их оскорбить. От души желаю, чтобы подобных приветствий славянам со стороны наших лучших и честных деятелей не возобновлялось.[195]
По-видимому, ответ М. Ф. Раевского был очень резким и направленным в оправдание и защиту хомяковского послания, ибо уже 19 декабря 1861 года Кожевников пишет обширное письмо из Рагузы, в котором объясняет причины своего неприятия «Послания»: «Да разве я писал Вам когда-нибудь, что восстаю против живых и спасительных истин “Московского послания”? Удивляюсь и искренно сожалею, что Вы дали такой превратный смысл словам моим. Я не защищал ни папизма, ни католической веры. Я сказал только, что католики (хорваты, разумеется) имели полное право обидеться, прочитав некоторые страницы “Московского послания”»[196]. Далее он объясняет свою позицию тем, что «появление этой книжки не вовремя наделало много вреда нам и, может быть, даже усилило в католиках-славянах недоверие к России».
Русский дипломат обращает внимание на реакцию, которую вызвало «Послание» среди православных сербов княжества. Он служил секретарем русского консульства в Белграде летом 1860 года, когда туда приезжал Аксаков с рукописным текстом «Послания»: «Сошлюсь прямо на слова любимого и уважаемого мною Ивана Сергеевича Аксакова. Читая эту рукопись в Белграде, он сказал: “Жаль, что не имею никакого права изменить что-либо в этом послании; поймут ли сербы все то, что здесь высказано и не слишком ли рано говорить им так откровенно о наших ошибках и старых грехах?”. Последствия показали, что Иван Сергеевич, действительно, не ошибся и что сербы не оценили или не умели оценить хорошую сторону этой душевной исповеди»[197].
Однако вернемся к аргументации Экмечича. Очень интересен его вывод, что «Послание» недооценено исследователями в контексте его значения для сербской и югославянской истории того времени. Ученый считает, что до сих пор нет глубокого научного исследования того влияния, которое оказало «Послание» на современную ему сербскую политику. Очень важно, что это послание было привезено в Белград, где часть сербской интеллигенции полностью согласилась с его выводами. Экмечич считает, что без анализа этого влияния непонятен исторический путь либеральной партии, почему в ней было так мало национальных жизненных соков. По мнению ученого, влияние идеологических наставлений (порука) «Послания к сербам» ощущалось до 1878 года, и именно они стали причиной исторической катастрофы сербской национальной идеи после начала Герцеговинского восстания 1875 года вплоть до Берлинского конгресса. В 1876 году сербское национальное движение целиком попадает в руки русских славянофилов. Экмечич утверждает, что славянофилы стремились к созданию славянского союза с центром в России и для этой цели собирались использовать сербов в качестве тарана, они финансировали сочинение И. Ткалаца 1853 года и использовали призыв Я. Игнятовича 1856 года, которые в той или иной степени пропагандировали сербо-русское сближение для противостояния западному миру.
Общее отношение Экмечича к инициативе славянофилов – негативное: они-де свернули сербов с истинно верного пути строительства национального сербского государства. Вывод ученого представляется спорным, поскольку именно в это время цели и славянофилов, и собственно сербской национальной программы «Начертание» во многом совпадали: это был план освобождения славянских народов балканского полуострова от турецкого господства. Не избежал Экмечич при этом и фактических ошибок, полагая, что в Белграде в 1860 году был Константин Аксаков, в то время как там был Иван. Тем не менее важно, что сербский ученый понял необходимость изучения того отклика, который получило «Послание» в Сербии. Эту мысль развивает и последователь Экмечича Милан Суботич. В своей монографии, посвященной либеральной идее и практике в Сербии, он уделил анализу «Послания» целую главу[198], а затем занялся анализом политических идей славянофильства[199]. Латинка Перович также считает, что влияние славянофилов в Сербии имело продолжение и заслуживает исследования.
О том, какую громадную роль сыграли труды А. С. Хомякова в формировании идеологии творца Югославии, выдающегося сербского политика Николы Пашича, написал А. Л. Шемякин[200]. Ученый доказал, что, именно базируясь на трудах Хомякова, Никола Пашич создавал идеологическую основу своего оригинального проекта нового сербского государства.
Сами же славянофилы и не подозревали, какого рода обвинения они получат за свою инициативу. О том, что «Послание» представлялось им вполне корректным по отношению к славянам документом, свидетельствуют слова И. С. Аксакова, сказанные в 1860 году: «Мы рады, что успели, кажется, рассеять ложные понятия, какие существовали у нас и у славян о русском панславизме, и убедили наших братий, что сочувствие наше чуждо посягательства на их самостоятельное развитие; признание прав на самобытность каждой славянской народности было всегда девизом русского славянофильства»[201].
Внимание Хомякова к проблемам сербской государственности, его вклад в исследование ситуации в сербском княжестве в первой половине XIX века оставили глубокий след в памяти сербского общества. Это выражается в постоянном обращении сербских интеллектуалов к творчеству русского мыслителя. Такое обращение сопровождается разными оттенками научного анализа – от открытой критики и полемики до глубокого осмысления идей Хомякова и применения их в общественно-политической практике (Пашич).
Эпилог
Странные бывают переплетения судеб идей с судьбами людей. Младший сын Хомякова Николай (1850–1925) – известный русский политический деятель, предводитель дворянства Смоленской губернии, член Государственного Совета, депутат II и IV Дум, председатель III Думы, октябрист – после революции нашел пристанище в Югославии, где и умер. Это тот самый мальчик, который был назван Хомяковым в честь Николая Языкова и крестным отцом которого был Николай Васильевич Гоголь, о нем Хомяков писал Веневитинову: «Если малый не будет литератором, не верь уж ни в какие приметы». В эмиграции, в Югославии, Николай Алексеевич Хомяков жил на пособие, которое получал от короля Александра Карагеоргиевича в знак уважения деятельности его отца на пользу Сербии[202].
Л. П. Лаптева
А. С. Хомяков и его связи с чешскими учеными
О связях А. С. Хомякова с западными славянами сведений сохранилось мало. Но во время своих путешествий за границу он установил контакты, например, с некоторыми деятелями чешского Возрождения, в частности с П. Й. Шафариком и В. Ганкой.
П. Й. Шафарик (1795–1861) – чешский филолог-славист, автор сочинений «Славянские древности» и «Славянская этнография», в которых впервые дал научное объяснение многих вопросов, касающихся расселения славян, классификации их языков, образа жизни и других сторон бытия древних славян, чем заложил основы глубокого изучения истории и этнографии славянства. В России сочинения Шафарика были не только известны всем лицам, интересующимся славянством, оба упомянутых труда (как и некоторые его менее крупные сочинения) были переведены на русский язык и использовались в качестве учебных пособий в преподавании славянских дисциплин в российских университетах первой половины XIX века.
Авторитет Шафарика как ученого был в России очень высок, и каждый русский исследователь, которого серьезно интересовали вопросы, связанные с изучением славянства, обращался к Шафарику за консультациями и вообще за научной помощью при посещении Праги. Его труды и контакты с ним русских славистов сыграли большую роль в развитии славяноведения в России в первой половине и в середине XIX века. Имеются сведения, что и Хомяков при своем посещении Чехии виделся с Шафариком, беседовал с ним на исторические темы, позитивно отзывался об эрудиции чешского ученого и считал общение с ним весьма полезным. Однако более тесные контакты у Хомякова с Шафариком не наладились. Оба ученых представляли, по существу, противоположные концепции в области мировоззрения, а также и во взглядах на прошлое, настоящее и будущее славянства. Православный мыслитель Хомяков не мог принять протестантского рационализма Шафарика.
Как известно, славянофилы считали протестантизм искаженным вариантом христианства, а истинной церковью провозглашали Православие. Решительным образом расходились взгляды Хомякова и Шафарика по вопросу о будущем славянского мира. Русский ученый видел путь спасения славян от германизации и других влияний в объединении их в форме федерации при единой православной религии и под духовным опекунством России как сильной и независимой славянской державы. Шафарик же был австрославистом, разделял теорию создания автономных и равноправных – как между собой, так и с господствующей нацией – славянских объединений в рамках Австрийской монархии. Более того, австрослависты считали, что существование этой монархии является гарантией против поглощения славян Россией – страной, где еще господствует крепостничество и самодержавие «хуже татарского».
Таким образом, Хомяков и Шафарик не имели общей духовной платформы для продолжительных контактов. Известно, что Шафарик не принимал и поэзию Хомякова, относился к ней пренебрежительно и даже с презрением. Правда, в его библиотеке обнаружены стихи русского поэта, но каким образом они туда попали, сведений нет. Скорее всего, они были подарены Шафарику кем-то из русских славистов, возможно, О. М. Бодянским.
Совершенно другим типом ученого и деятеля чешского Возрождения был Вацлав Ганка (1791–1861). Этот некритический русофил и сторонник славянской взаимности в ее колларовском варианте, т. е. в форме литературного и культурного единства без политического объединения славян под чьим-либо опекунством, представляет собой очень сложную фигуру. Хорошо образованный и очень даровитый, Ганка оставил след в различных областях чешской науки в эпоху ее становления, в период чешского национального возрождения. Он был хранителем в библиотеке Чешского Национального музея – учреждения, сыгравшего важнейшую роль в возрождении чешского языка, пришедшего в упадок в результате потери Чехией политической и государственной независимости в XVII веке и подвергшейся сильной германизации.
Библиотекарь В. Ганка разыскивал и издавал древние памятники чешского языка и истории, переводил на чешский язык и публиковал сочинения других славянских народов, например «Слово о полку Игореве» и народные сербские песни, собранные Вуком Караджичем. Он сам писал стихи и сочинял литературные произведения различных жанров. Великой заслугой Ганки было комплектование библиотеки Чешского Национального музея славянской литературой. Установив контакты практически со всеми славянскими деятелями культуры, Ганка путем обмена изданиями, покупкой и другими способами (например, благодаря получению в подарок целых библиотек) способствовал формированию в Праге центра славянских исследований.
Каждый, кто занимается изучением славянских языков, литературы, истории, обязательно должен работать с рукописями и книгами, сосредоточенными в библиотеке Национального музея в Праге.
Особые отношения сложились у Ганки с русской наукой о славянах. Он оказывал ей различные услуги: печатал свои работы в русских журналах, посылал русским ученым сообщения о состоянии литературы у славян – о новых изданиях, о том, кто из славянских ученых над чем трудится, обучал русских стажеров чешскому языку и преподавал русский язык чехам. Дважды Ганка приглашался министерством народного просвещения России на постоянную работу по организации славистических исследований и славянской библиотеки, но каждый раз уклонялся от принятия этих предложений под разными предлогами.
В общем, Ганка был в России самым знаменитым чехом, да и представителем вообще всех западных славян. В области организации межславянских научных связей, без которых наука о славянах в период ее зарождения обойтись никак не могла, Ганке принадлежит исключительная роль. Будучи не только русофилом, но и страстным чешским патриотом, Ганка сочинил несколько литературных произведений и выдал их за обнаруженные им древнечешские рукописи. Некоторые из этих подделок были разоблачены еще в середине XIX века, при жизни Ганки.
Но для доказательства подложности двух рукописей – Краледворской и Зеленогорской – потребовалось почти полтора века. Они появились на свет в период отчаянной борьбы чехов за восстановление прав чешского языка, за признание равноправия с представителями господствующей нации – немцами и были признаны чешскими патриотами в качестве исторического доказательства культурного равноправия. Хотя подделки нанесли ущерб развитию многих гуманитарных наук в Чехии, они были знаменем борьбы за культурное равноправие и национальную самобытность чехов и сыграли важную роль в формировании национального самосознания народа[203].
А. С. Хомяков посетил Ганку в Праге во время своей второй поездки за границу в 1847 году и оставил в его альбоме запись: «Когда-то я просил Бога об России и говорил:
- Не дай ей рабского смиренья,
- Не дай ей гордости слепой,
- И дух мертвящий, дух сомненья
- В ней духом жизни успокой.
Эта же молитва у меня для всех славян. Если не будет сомненья в нас, то будет успех. Сила в нас будет, только бы не забылось братство. Что я мог написать в книге Вашей, будет мне всегда помниться как истинное счастие.
Алексей Хомяков, 1847 год»[204].
Здесь уместно остановиться на взглядах Хомякова на славянство в целом, которые отражали мировоззрение ученого. Славянофильская доктрина как философское учение является, очевидно, плодом коллективного творчества. Соответствующий коллектив состоял из одаренных, европейски образованных индивидуумов, каждый из которых разрабатывал преимущественно одну сторону доктрины: А. С. Хомяков и И. Киреевский – религиозный аспект; К. С. Аксаков – исторический; другие изучали проблемы общины в русской жизни, и все это было слито воедино. Конкретно историей зарубежных славян никто в московском славянофильском кружке не занимался. Но в середине 1840-х годов в этом кружке появился А. Ф. Гильфердинг, тогда 14-летний подросток. Он впитал славянофильскую философскую идею и применил ее к изучению истории славян. Смысл этой идеи сводился к тому, что славяне принадлежат к единому народу, доказательством чего является язык, выработавший еще в эпоху Cредневековья литературную форму. Однако филология вносила коррективы в этот тезис и показывала, что развитие языков у славянских народов – совсем рано, еще до создания письменности – шло разными путями, так что в период появления славянофильской доктрины для освоения любого славянского языка требовалось специальное его изучение.
Вторым фактором, объединявшим славян, была, по мнению славянофилов, православная религия, этот тезис особенно подробно разрабатывался А. С. Хомяковым и был перенесен А. Ф. Гильфердингом в сочинения по истории западных и южных славян. Утверждалось, что Православие является единственной истинной религией славян, привнесенной им св. Кириллом и Мефодием, а остальные варианты христианства представляют собой его искажение. По мнению славянофилов, кирилло-мефодиевская традиция у западных славян сохранилась и время от времени «пробивается» через католический обряд.
Это романтическое отношение к религии западных славян не имеет исторической почвы. Греческие миссионеры Кирилл и Мефодий не могли принести православную веру, например, в Чехию, так как в период осуществления их миссии христианская церковь еще не была разделена на православную и католическую, разделение произошло позднее. Кроме того, организованная Мефодием церковь в Моравии и Паннонии подчинялась римскому папе, а не константинопольскому патриарху, а при переводе богослужебных книг с греческого на славянский Мефодий вносил в них коррективы с учетом местных обычаев и установлений, поскольку крещение западных славян этого региона частично было уже осуществлено западными миссионерами.
В качестве православных традиций славянофилы называют обряд причащения под двумя видами для мирян и богослужение на народном языке (вместо латинского). Но причащение под двумя видами практиковалось и в католической церкви до 1215 года, а в интересах расширения своего влияния католическая церковь допускала и богослужение на национальном языке. Таким образом, наличие кирилло-мефодиевских традиций у западных славян до времени гуситского движения в Чехии или позднее является плодом фантазии славянофильских историков. Поэтому тезис об общности религии для всех славян отпадает как несостоятельный, этот фактор не мог играть роли в славянском объединении.
На основании ложного положения об общности религии славянофилы выводили теорию об особенностях славянской души и психического склада народа по сравнению с представителями германо-романского мира. Возникло убеждение о противоположности миров – романо-германского (западного, католического) и греко-славянского (восточного, православного), находившихся в постоянной взаимной вражде. Романо-германская стихия, по мнению славянофилов, агрессивна, она стремилась подчинить себе славян, а историческая задача последних заключалась в отторжении всего чужеземного, в сохранении самобытности и развитии ее. Над всеми этими фантазиями много потрудились славянофильские мыслители, и А. С. Хомяков в первую очередь. Историки разыскали подтверждения этих философских рассуждений, и славянофильская трактовка истории западных славян стала господствующей в русской историографии вплоть до 1870-х годов.
Среди западных славян подобная оценка их истории не находила сторонников. Большинство патриотов, исповедовавших «всеславянство» и признававших желательность славянского объединения, искали опору в культурной и литературной общности, были сторонниками славянской взаимности на этой основе. Лишь отдельные деятели разделяли некоторые положения русских славянофилов, например об исконной враждебности немцев к славянам, мечтания о славянском братстве и любви.
Следует заметить, что романтические мечтания имели и некоторое позитивное значение. Сторонники славянской взаимности обменивались литературой, изучали славянские языки, способствовали ознакомлению славянских народов друг с другом, их деятельностью стимулировался интерес к прошлому своих народов и развитию науки о славянах. К числу таких романтиков принадлежал чех В. Ганка, в котором Хомяков нашел восторженного поклонника и пропагандиста своей поэзии среди славян. Хотя сохранившиеся письма русского мыслителя к Ганке и не содержат значительного числа новых данных для характеристики взглядов Хомякова на славянство, но все же они представляют собой еще одну яркую иллюстрацию его концепции о будущем славян. Первое из писем датировано 1847 годом, когда Хомяков, посетив Ганку в Праге, возвратился в Германию и писал из Берлина: «Из Обржишть (село Обржишть на Лабе под г. Мельник. – Л. Л.) послал я Вам стихи; писал также с берегов Рейна, и также послал стихи; не знаю, дошло ли это все до Вас. В этом сомнении повторяю то, что уже писал. Приехав из Обржишти, или, лучше сказать, на дороге, сочинил следующую пьесу; хороша ли, дурна ли – все-таки посылаю ее Вам». (Далее идет стихотворение «Не гордись перед Белградом…»[205]) «Написав и отправив эти стихи, – продолжает Хомяков, – я успокоился и лег спать. Но, видно, было что-то вредное в Вашем пражском воздухе; меня вместо сна звало к стихам, занятию, давно забытому мною; я вспомнил Ваши последние слова об единстве веры, без которого нет полного единства в народах, и не то во сне, не то наяву написал следующие стихи:
- Беззвездная полночь дышала прохладой,
- Катилася Лаба, гремя под окном,
- О Праге я с грустною думал отрадой,
- О Праге мечтал, забываяся сном.
- Мне снилось – лечу я; орел сизокрылый
- Давно – и давно бы в полете отстал,
- А я, – увлекаем невиданной силой,
- Все выше и выше взлетал.
- И с неба картину я зрел величаву:
- В убранстве и блеске весь Западный край,
- Мораву и Лабу, и дальнюю Саву,
- Гремящий и синий Дунай.
- И Прагу я видел, и Прага сияла,
- Сиял златоверхий на Петшине храм;
- Молитва славянская громко звучала
- В напевах, знакомых минувшим векам.
- И в старой одежде Святого Кирилла
- Епископ на Петшин всходил,
- И следом валила народная сила,
- И воздух был полон куреньем кадил.
- И клир, воспевая небесную славу,
- Звал милость Господню на Западный край,
- На Лабу, Мораву и дальнюю Саву,
- На шумный и синий Дунай».
«После нашего свидания, – продолжает письмо Хомяков, – проехал в короткое время много и много земель, наслушался и нагляделся довольно. Везде нашел я всесовершенное равнодушие к тем вопросам, с которыми срослася наша жизнь. Если бы мир славянский был каким-нибудь землетрясением поглощен, Европа и не охнула бы. Все сочувствие, ею нам изредка оказываемое, есть или чистое лицемерие, или следствие каких-нибудь своекорыстных видов. Безумны те из наших братьев, которые ищут сочувствие вне нас». Затем Хомяков развивает один из исторических тезисов славянофильской доктрины, а именно: об общинном быте русского народа. Подчеркнув факт равнодушия Европы к славянскому миру, ученый констатирует, что, «с другой стороны, наука постигает многие прекрасные стороны нашего быта и завидует нам, например, крестьянской общине в России и у южных славян. Это понимают немцы и даже французы. Общину славянскую изучают и пишут об ней, как я уже сказал, с завистью; но зависть – не любовь».
Также и главный тезис концепции Хомякова об объединении славянской церкви под эгидой Православия, к чему были равнодушны уже сами славяне, находит отражение в цитируемом письме: «Другое сочувствие, глубокое и сильное, нашел я в Англии, не к нам, но к нашей церкви. Трудно поверить, как часто и с каким жаром выражается у них любовь или, лучше сказать, жажда церковного единства. Неужели она не проснется в наших единокровных братьях?» Далее Хомяков подчеркивает: «Верьте мне, ни протестантство, ни романизм не отвечают ни требованиям времени, ни глубоким требованиям славянской души. Одно уходит в Фейербаха, другое – в грубую политику. Оба отжили. Мне кажется, мой сон будет когда-нибудь не сном»[206].
Вспоминая о своем пребывании в Праге, Хомяков заканчивает письмо следующими словами: «Покуда скажу я, что отраднейшим днем моего путешествия был день в Праге, и что Ваш привет и ласки почтенного Шафарика мне отогрели душу, как солнечным лучом. Я всегда буду от души благодарить Вас и благославлять за Вашу любовь к доброму делу».
Приведенный материал показывает, что Хомяков видел в Ганке своего единомышленника и развивал в письме к нему свои взгляды на славянское братство. Ганка в общем сочувствовал идее сохранения в чешском народе кирилло-мефодиевской традиции, проводил эту идею и в своих сочинениях[207]. В славянофильских кругах России Ганка слыл крупным ученым и борцом за единение славян.
Второе сохранившееся письмо Хомякова к Ганке относится к 1859 году, когда русский ученый и поэт являлся председателем Общества любителей российской словесности при Московском университете. В связи с этим следует сказать несколько слов об обстановке, царившей в этой организации. Ее работа возобновилась после 20-летнего перерыва в 1858 году и проходила под знаменем славянофильства. Заседания Общества сопровождались всегда блестящими по форме и языку и славянофильскими по содержанию речами Хомякова.
Не менее блестящий и остроумный русский поэт Ф. И. Тютчев, тоже представитель лагеря славянофилов, описал в одном из своих писем заседание общества, прошедшее 27 апреля 1859 года.
Вчера у нас было публичное заседание Литературного Общества, недавно воскресшего после перерыва в 30 с лишним лет (Тютчев здесь ошибается. – Л. Л.); вспоминаю, что я когда-то – увы! – принадлежал к этому обществу как член-соревнователь. Вчера я принужден был занять место действительного члена за длинным столом, покрытым красным сукном; там я, как и другие, восседал в кротком величии, предоставленный любопытству благосклонных взоров многочисленной публики. Председатель общества Хомяков, во фраке на этот раз, скорчившись в кресле, представлял из себя забавнейшего из председателей, какого когда-либо видели. Он открыл заседание очень умной речью, написанной прекрасным языком на вечную тему относительно значения Москвы и Петербурга. <…> Я сидел между Шевыревым и Погодиным; на всем лежал отпечаток спокойной торжественности. Решительно Москва – архилитературный город, где очень, очень серьезно относятся ко всем тем произведениям, которые пишутся и читаются, но, как и следовало ожидать, господствует и управляет партия, – конечно, литературная партия, самая несносная из всяких. Мне было бы совершенно невозможно жить здесь, в этой среде, которая столь полна сама собой и не желает слышать никаких отголосков извне; так, например, я не убежден, что такое детское занятие, как вчерашнее заседание, не увлекает их гораздо более, чем все страшные события, которые подготовляются[208].
Письмо Тютчева свидетельствует о том, что и среди славянофилов не было единства взглядов по некоторым вопросам доктрины. Но Хомяков именно в качестве председателя Общества снова дал о себе знать западным славянам. 16 февраля 1859 года он писал Вацлаву Ганке:
В Москве в конце прошлого года возобновилось Общество любителей русской словесности. Нынешнего года в заседании 11 февраля было предложено приступить к выборам почетных заграничных членов. Я протестовал против слова «заграничных», потому что не признаю политических границ в области душевных сочувствий, а еще менее внутри славянского мира. Общество согласилось со мною. Затем, секретарь общества Михаил Александрович Максимович похитил у меня удовольствие предложить в наши почетные члены Вячеслава Вячеславича Ганку; но я с радостью простил ему это похищение, а общество, разумеется, единогласно приняло его предложение. – Как председатель пользуюсь своим правом известить Вас об избрании. Как человек, не только вполне ценящий Ваши заслуги, но и преданный Вам всею душою, пользуюсь случаем выразить радость, с которою я вижу имя Ваше в списке наших почетных членов. Поверьте, что оно столько же любимо в Москве, сколько в Праге. Ни в каком случае не мог бы я согласиться внести Вас в список как заграничного. Я знаю, что Вы нам пожелаете успехов так же искренно, как мы Вам во всем успеха желаем.[209]
Приведенный материал свидетельствует о том, что идеи А. С. Хомякова об объединении славян на той основе, которую он проповедовал, т. е. на платформе Православия, не находили широкого отклика у чехов. Сочувствовали им только единицы, в частности Вацлав Ганка, да и тот не в полном объеме разделял убеждения русского философа и поэта. Чешские сторонники «всеславянства» видели возможность объединения славян в духе колларовской теории славянской взаимности – без религиозного и политического объединения. Поэтому контакты русского ученого и с чешскими деятелями были скромны.
Следует отметить, что поэтические произведения Хомякова имели в Чехии некоторое распространение среди интеллигенции, владевшей русским языком. Хомяков был более привлекателен как поэт, чем как славянофильский мыслитель. Что касается перевода его стихов, то при жизни автора на чешском языке вышло только стихотворение «Орел».
И. Н. Юркин
«Лет за двести в глубь старины» (из новых разысканий о предках А. С. Хомякова)
Предки исторического или культурного деятеля – объект научного исследования достаточно тривиальный. Разработанный далеко не исчерпывающе, он вызывает тем не менее довольно умеренный энтузиазм. Яркие открытия на этом пути заранее не просматриваются – напротив, результаты подобных штудий еще прежде их получения ощущаются как нечто для большой науки в известной мере второстепенное и, учитывая заведомую тщетность попыток охватить необъятное, не обладающее правом претендовать на приоритетное к себе внимание.
Применительно к А. С. Хомякову исследование вопросов, связанных с его генеалогией, является важной составляющей изучения его личности и творчества. А. С. Хомяков был человеком, отчетливо и остро ощущавшим и ценившим свою связь с историческими корнями вообще и фамильными в частности. Личное родоведческое знание составляло важную часть его культурной вселенной. Укорененное в нем кровно, сердечно, оно питало его на протяжении всей жизни, а с уходом из земного мира оставило след в творчестве, в рисунке и логике событийных коллизий его биографии, но след часто невидимый, скрытый.
В созданном В. А. Кошелевым жизнеописании А. С. Хомякова приведены высказывания П. И. Бартенева, М. П. Погодина, П. А. Флоренского и других его современников и потомков. Вот некоторые наблюдения, сделанные П. И. Бартеневым: «Прo Хомякова можно сказать, что он был вполне крепок земле русской… Он принадлежал к старинному русскому дворянству. B доме их сохранились родовые рассказы, старинные вещи и бумаги из времен Елизаветы, Петра и царя Алексея Михайловича. <…> [Он] знал наперечет своих дедов лет за двести в глубь старины; Древняя Русь была для него не одним предметом отвлеченного изучения; напротив, всеми лучшими сторонами своими, трезвою, искреннею верою, неподдельным чувством народного братства и здравым смыслом она вся жила в его доме»[210].
Выявление наполнения родовой памяти – необходимый элемент постижения творческого «я». Ища дорогу к личности писателя и мыслителя, интерпретируя его творчество, важно знать, что питало и возбуждало его гений и музу. Особое значение таких разысканий подчеркивал П. А. Флоренский: «Важный вообще вопрос о родне в данном случае, когда речь идет об А. C. Хомякове, приобретает своеобразную значимость»[211].
Полный круг тульских Хомяковых, каким он сложился в екатерининское время, был уже рассмотрен конкретно на момент генерального межевания (вторая половина 1770-х годов), он существовал некоторое время и после его завершения[212]. Настоящий текст, хотя и посвящен более ранней эпохе, не ограничивается территорией Тульского уезда. Охарактеризовать более полусотни представителей фамилии, относящихся к XVI – XVII векам, невозможно, да и не нужно. Коснемся лишь нескольких сведений, достаточных для обоснования и раскрытия следующих наиболее значимых положений.
Хомяковы – коренные тульские помещики. Не только происхождением, но и жизнью и деятельностью многие из них тесно связаны с Тульским краем в широком смысле этого слова – с землями южного пограничья русского государства (в ХVI – первой половине XVII века), географическим и военно-административным центром которых была Тула.
Характер этих связей, их содержательное наполнение сложились такими, что в них отразились едва ли не все знаковые для исторической физиономии этого края черты.
Несмотря на внешнюю неброскость, второе из этих положений не самоочевидно и автоматически из первого не вытекает. Тем интереснее убедиться в его истинности.
По нумерации, принятой в родословной росписи, включенной в печатный «Родословец» тульского дворянства, Алексей Степанович Хомяков принадлежал к 13-му колену рода дворян Хомяковых. Ему предшествовали 12 предков по прямой мужской линии плюс множество по боковым[213].
Хотя его официальная родословная восходит ко времени довольно давнему – великого князя Ивана III[214], первым, чью память мы потревожим, будет Никифор Иванович Хомяков (№ 8 в росписи) из 5-го колена, живший в конце XVI века и, по данным родословца, в 7102 (1593–1594) году служивший осадным головой на Епифани.
Существуют сравнительно ограниченные сведения о нем, что определяется в первую очередь невысоким его социальным положением. Головами называли глав городской администрации более низкого статуса, чем воеводы. В XVI веке их назначали, как правило, в сравнительно небольшие населенные пункты. При царе Федоре Иоанновиче Н. И. Хомяков первоначально (1591–1593) служил головой на Крапивне, a затем в том же качестве на Епифани.
О деятелях XVI – XVII веков, исключая представителей элиты, информация в росписях родословца часто отсутствует, а при ее наличии, как правило, скупа и нередко неточна. Таково положение дел и с Н. И. Хомяковым. Согласно родословцу должность головы на Епифани он исполнял в 1593–1594 году, в действительности же оставался там дольше.
Когда точно окончился срок его службы, не ясно. Н. К. Фомин в работе, специально посвященной епифанским головам и воеводам XVI – XVIII веков, в отношении Никифора Хомякова называет две верхние даты пребывания его на посту: в одном месте статьи – 1596–1597, в другом – 1598. Ссылаясь оба раза на один и тот же источник, автор не замечает возникшего в тексте противоречия. Но даже если принять более раннюю приводимую им дату, длительность епифанской службы Хомякова достигает трех лет, а может быть, и превышает этот срок.
Епифань в годы управления ею Никифором Хомяковым была городом сравнительно молодым. Первое ее писцовое описание относится к 1571–1572 году. Маленькая деревянная крепость с населением, состоявшим почти сплошь из служилых людей, посада (тяглого торгово-ремесленного населения) она в то время то ли не имела вообще, то ли имела самый незначительный по численности[215]. Следствием скромного места, которое занимала в эти годы Епифань в отношениях политическом и военно-стратегическом, являлось то, что в качестве голов сюда попадали «только служилые люди, стоящие на грани между высшими слоями дворянства и рядовой служилой массой, примыкая больше к провинциальному дворянству». Haзнaчeниe головами было, как правило, вершиной служебной их карьеры, они достигали ее лишь к концу жизни[216].
К этой среде принадлежал и Никифор Хомяков. Происходил он из дворян провинциальных местных. Во всяком случае, в 1588–1589 годах ему принадлежало поместье в Тульском уезде. Имел он двор (по-видимому, из числа так называемых осадных) и в самой Туле. К сожалению, единственный приправочный список писцовой книги города Тулы и уезда 1587–1589 годов (самой ранней из сохранившихся писцовых книг этого города) имеет множество лакун. Возможно, по этой причине описание хомяковского двора надежно выявить в нем не удается.
Но имеется косвенное упоминание о нем: на тульском торге в мясном ряду среди прочих торговых мест отмечена «скамья Федоса Клементьева Микифорова дворника Хомякова»[217]. Был дворник (так называли присматривавших за двором людей, как правило, наемных) – следовательно, существовал и двор. Не исключено, что упомянутый при описании «каменного города» Тулы (ее кремля), находившийся внутри его «от Одоевских ворот направе в переулке» «двор Микифора, да Булата, да Ратая Ивановых детей» (следовавшая далее в тексте фамилия утрачена) – это и есть состоявший в совместном владении осадный двор родственников (братьев) из фамилии Хомяковы. В пользу этого предположения говорит приведенное в тексте имя дворника, совпадающее с именем дворника Никифора Хомякова: «Федоска месник»[218].
Заметим, что Ратай Хомяков, упомянутый в другом месте писцовой книги рядом с Булатом Хомяковым, назван «соловленином», то есть жителем Соловского уезда. Такая его уездная «прописка», в принципе, допустима: Соловский стан – это как раз окрестности Крапивны, где перед назначением в Епифань служил Никифор Хомяков. Наличие же у родственных Хомяковых владений в соседних уездах не только допустимо, но и естественно.
Возвращаясь к писцовой книге Тулы конца XVI века, укажем для полноты картины и на находившийся в Пушкарской улице города «двор Никифора Хомкова, а в нем дворник Фомка Федоров»[219]. Не исключено (кстати, не исключают этого и составители указателя к книге), что перед нами искаженная форма фамилии Хомяков.
У Никифора Ивановича Хомякова было два сына (6-е колено рода) – Юрий (№ 12) и Александр (№ 13). Именно от них идут родовые ветви, о представителях которых пойдет далее речь. В ближайшем 7-м поколении это двоюродные братья Иван Юрьевич (№ 24) и Демид Александрович (№ 26), в следующем 8-м – сын последнего Елисей Демидович (№ 45). От него прямая дорога к славянофилу – Елисей был его прапрапрадедом. Объединяет же названную тройку поистине удивительное совпадение: в разное время все они назначались воеводами в город Дедилов (как будто мало было на Руси других городов для воеводства) и в этом качестве в 1650–1660-х годах, помимо прочего, занимались одним, государственной важности делом, несколько необычным для воеводы.
В 1636–1637 годах в десятке верст от Тулы на реке Тулице были пущены первые в России доменные и передельные заводы, именовавшиеся Тульскими или Городищенскими. В начале 1650-х годов к ним прибавились Каширские передельные заводы на реке Скниге. Строили их иностранные купцы, они же ими владели. Поскольку государство рассчитывало получать с этих заводов помимо дешевого и качественного железа еще и артиллерию, оно поддержало предпринимателей, предоставило им денежную ссуду, приписало к заводам крестьян ближайшей дворцовой волости (Соломенской). Железную руду для заводов добывали в расположенном поблизости Дедиловском уезде. Поскольку прожорливым доменным печам руды было нужно много, возникали опасения, что закупка ее у вольных «рудокопщиков» потребности в ней может не обеспечить. Заводовладельцам снова помогло государство, обязавшее заниматься рудодобычей служилых людей Дедиловской крепости, после сдвига границы к югу оказавшейся в не требовавшем прежней бдительности тылу. Организация горных работ была возложена на дедиловских воевод.
Первый из служивших в этом качестве Хомяковых – Иван Юрьевич (№ 24) представлен в родословце как московский дворянин, владелец вотчин в 7189–7191 (1680/81–1682/83) годах в Епифанском и Тульском уездах[220]. Сведения о его службах в издании отсутствуют. Между тем в 7164–7165 (1655/56–1656/57) годах был дедиловским воеводой, о чем свидетельствуют две адресованных ему грамоты 1656 года: одна от царя Алексея Михайловича, другая от царевича Алексея Алексеевича[221]. Положение дел, которое они рисуют, сохранится на долгие годы без принципиальных изменений.
В первой, от 14 февраля 1656 года, грамоте констатировано, что «истари де в Дедиловском уезде железную руду копали Дедилова города изо всяких чинов люди: из полковых, и из сторожевых казаков, и из стрельцов, и из пушкарей, и из затинщиков». По указу пятидесяти из них велено «нашу службу служить, и во рвах ходить, и железную руду к нашему железному делу копать». Именная роспись казенных рудокопов передана владельцам заводов П. Марселису и Ф. Акеме. Хомякову предложено взять у них эту роспись, разыскать перечисленных в ней лиц и велеть им «нашу службу служить на Дедилове», «быть им у нашего рудокопнова дела в ровщиках». О предпринятых действиях с приложением копии списка он должен сообщить в Москву в приказ Большой казны[222].
Вторая грамота точной датировки не имеет. Terminus post quem – 19 ноября того же 1656 года. B этот день в Москве было получено письмо Марселиса и Акемы, которые жаловались по поводу 50 человек, определенных в рудокопы с запретом отправлять их в «отъезжую службу» и вообще посылать куда бы то ни было. Хомяков, несмотря на указ, выслал 10 человек в разные города на житье да еще троих определил на Дедилов на кружечный двор. И у оставшихся 37 работа не заладилась. По указу, платить за нее должны были забиравшие руду заводчики. Но прибывшему в Дедилов их приказчику «з денгами з задатком против прежнего вольного договору» ровщики учинились «непослушны»: «…денег <…> не взяли и руды ломать не пошли». Заводчики просили как-то отрегулировать дело, для чего «учинить» соответствующий указ. Цитированный документ таким указом и является. Воеводе приказано восстановить комплектность бригады ровщиков, для чего вернуть в нее лиц, отправленных на кружечный двор, а посланных в другие города заменить на «дедиловцов других людей, которым рудное дело за обычай». Всем им велено (Хомяков должен это веление до них довести) «быть у того дела безпеременно». Использовать их на других работах запрещено, дабы «тульскому железному делу и всяким рудным запасом <…> мотчания не было». Поскольку воевода прежде уже на этот счет проштрафился – не выказал ретивости и буквализма в исполнении предыдущего указа, в новой грамоте перечислены санкции: «А будет ты ис тех ровщиков станешь выбирать и посылать в ыныя какия наши службы, впредь тебе быть от нас в большой опале». Наконец, Хомяков должен наказать 37 отказавшихся от работы ровщиков: их нужно «бить батоги, чтоб на то смотря, иным неповадно было впредь так воровать, от нашего дела ослушатца». О воссоздании полнокомплектной бригады (с фиксацией ее состава в новом списке) и о наказании отказников предписано сообщить все в тот же приказ Большой казны[223].
Как видим, задачи, ставившиеся перед дедиловскими воеводами, были отнюдь не просты. В полном объеме исполняя прочие должностные обязанности, в дополнение к ним они должны были управлять работой местного рудника, в то время ставшего фактически госпредприятием. Задачу усложняло то обстоятельство, что работало оно на единственного, причем частного, потребителя, и именно на него ложилась основная часть связанных с производством расходов: оплата труда ровщиков, обеспечение их инструментом и все перевозки. Заводчики, естественно, стремились минимизировать затраты, что провоцировало конфликты между ними и рудокопами. Не обладая экономическими рычагами, эффективно воздействовать на ситуацию воеводы не могли. На не желавших лезть в двадцати– и более метровой глубины ямы работников, тем более лезть в них за гроши, они воздействовали рычагами исключительно административно-полицейскими. Отсутствие заинтересованности компенсировали батогами.
Поскольку интересы заводовладельцев и дедиловской администрации во многом не совпадали, время от времени они друг с другом ссорились и друг на друга жаловались. Так было, когда Тульские и Каширские заводы принадлежали иноземцам, и в течение нескольких лет после частичной их «национализации», когда они оказались в государственном управлении[224]. Только на воеводу жаловались теперь не Марселис с Акемой, а менеджеры, присланные на заводы из Москвы. Ситуацию осложняла взаимная «недружба» действующих лиц. Именно такое положение сложилось при Хомяковых, служивших воеводами на Дедилове в 1660-х годах.
Первый из них – Демид Александрович Хомяков, двоюродный брат Ивана Юрьевича и представитель одного с ним 7-го колена. Внук упоминавшегося раньше им Никифора Ивановича, крапивенского и епифанского осадного головы, он также находился с А. С. Хомяковым в отношениях прямого родства. Обычно немногословный в отношении деятелей XVII века родословец сообщает о нем не так уж мало: «№ 26. Демид Ал-др., 7139 Тула новик, 7161 посл. в Крым, 7162 (1653/54. – И. Ю.) воев. Дедиловский, 7164 воев. Коротояк., 7179 – в Крыму, москов. дворянин». Итак, датированные ступени служебной биографии Д. А. Хомякова относятся к периоду 1630/31–1670/71 годов, времени первых царей династии Романовых Михаила Федоровича и Алексея Михайловича.
Сообщаемые в родословце сведения, возможно, не свободны от неточностей. По приведенным в нем данным, Демид Александрович воеводствовал на Дедилове в 1653/54 годах, т. е. несколько раньше, чем его двоюродный брат Иван Юрьевич. Ничего удивительного в такой последовательности назначений, конечно, нет, но проверить факт все же желательно. Тем более что имеющиеся в литературе, а также в документальных публикациях данные дают для дедиловского воеводства Д. А. Хомякова даты существенно более поздние – относящиеся уже к следующему десятилетию.
По сведениям Ю. Арсеньева, Д. А. Хомяков занимал пост дедиловского воеводы с 1660 по 1668 годы. Имеющиеся документальные публикации с этим интервалом согласуются, хотя и не покрывают его полностью. Имя Д. А. Хомякова в качестве дедиловского воеводы фигурирует, в частности, в наказной памяти, упомянутой в отказных книгах от 25 сентября 7173 (1664) года. Известны также две адресованные ему отписки, датированные ноябрем 7175 (1666) года.
В грамоте от 5–10 ноября 1666 года выполняющий функции государственного управляющего заводами стряпчий Никита Водов со ссылкой на полученную из Оружейной палаты грамоту требует от Хомякова сообщить, в каком состоянии находятся используемые ровщиками «железные снасти» – «матыки», «клинье» и прочее, и, если есть порченые, предлагает прислать их для починки. Более интересна отписка того же года (не позднее 23 ноября), начинающаяся с напоминания о распоряжении «накопать железные руды <…> против прошлого 7174-го (1665/66. – И. Ю.) году з большой прибавкою». Водов упрекает Хомякова, что тот не сообщил ему, сколько руды заготовлено и когда ему отправлять крестьян для ее перевозки. Он требует прислать к нему на Каширские заводы сведения о рудном запасе «старого и нового копанья порознь» и известить, когда ровщики приступили к работе, – он же, «по тому смотря», решит с посылкой транспорта и возчиков. В заключение он сообщает, что на Тульских заводах «руды ничего нет и доменной плавильной горн за тем стал», просит в дальнейшем о «рудокопном деле порадеть», «чтоб <…> нам великого государя гневу на себя не навесть»[225].
Последний пассаж особенно важен. Хомяков фактически обвинен в том, что за непоставкой руды остановилось сердце Тульского завода – его домна. Учитывая, что она работала на оба металлургических комплекса – нa Тулице и Скниге (на последнем своей домны не было), налицо событие достаточно неприятное, подразумевающее расследование и наказание виновных. Хотя в письме Хомякову Водов выдержал достаточно корректный тон, можно не сомневаться, что его донесение в Оружейную палату содержало вполне отчетливые инвективы.
О том, что отношения между Водовым и Д. А. Хомяковым, мягко говоря, не сложились, свидетельствует сын последнего Елисей, утверждавший, что Водов интриговал, «мстя отцу моему, Демиду Александровичю, и мне, холопу твоему» и объяснявший его «недружбу» тем, что «Офонасью Фанвисину (куратор заводов, назначенный из Оружейной палаты стольник. – И. Ю.) и ему, Миките, рудокопщиков судом и ни в каких делех ведать не велена, а велена, государь, тех рудокопщиков для твоего государева хлебнова заводу и рудокопнова дела ведать отцу моему и мне холопу твоему»[226].
Конфликт, о котором узнаем со слов Елисея Хомякова, продолжался многие годы. Еще в 7172 (1663/64) году, т. e. в середине воеводства Д. А. Хомякова, Фонвизин и Водов присылали на заводы пушечного мастера Максима Кузьмина, и тот, возвратившись, подал им «воровскую скаску про отца моего, Демида Александровича, в рудокопном же деле и про то, государь, ево Максимкина воровство сыскано и по твоему великого государя указу велено по грамоте ему Моксимки за то учинить наказанья тульскому воеводе Ивану Ивашкину». Наказания, однако, несмотря на указ, не последовало, а безнаказанность спровоцировала продолжение конфликта уже при новом воеводe[227].
Завершая характеристику деятельности Демида Александровича Хомякова, дополним ее одним важным фактом: именно он явился основателем нынешнего города Богородицка. Царским указом в конце зимы 1663 года к нему, дедиловскому воеводе, было велено выслать 70 человек стрельцов и казаков из Крапивны и Епифани. Им предстояло поставить крепость на реке Уперте и уже весной завести здесь пашню. Крепость была заложена, и с 1664 года новую царскую вотчину начинают заселять крестьянами – первоначально сысканными беглыми семьями.
Свое название (Богородицк)[228] новый населенный пункт получил при Хомякове в 1664, по другим данным – в 1665 году[229].
У Демида Александровича Хомякова было трое сыновей – Елисей (№ 45 по родословцу), Иван и Варфоломей (№ 47). О Елисее Демидовиче в росписи сообщено, что он имел чин стольника (1665/66) и служил воеводой в Богородицке. Но эти сведения не исчерпывают список назначений Елисея. Подобно отцу и двоюродному дяде, он служил на воеводстве также и в Дедилове, как и они, руководил работой здешнего рудника. О соответствующих его трудах рассказывают довольно многочисленные сохранившиеся документы.
Они же позволяют довольно точно датировать начало его пребывания на посту дедиловского воеводы. Первое упоминание о Елисее как воеводе относится к 25 декабря 1666 года. Но имеется ряд документов, в которых он, не названный воеводой, фигурирует уже явно в воеводском качестве. С их помощью начало его пребывания на посту дедиловского воеводы можно датировать временем между 5 и 23 ноября 1666 года. А вот время его замены преемником не удается пока уточнить даже до года – произведена ли она была в 1667 или в 1668 году.
Установление по документам приблизительных сроков воеводства Д. А. и Е. Д. Хомяковых объясняет необычно длительный, по данным Ю. Арсеньева, срок пребывания дедиловского воеводы у власти. В действительности указанный им 8-летний промежуток образован искусственно: сложением времени службы двух однофамильных лиц – Хомяковых Демида (отца) и Елисея (сына), пребывавших на этом посту друг за другом в 1664–1666 и в 1666–1667 годах (а может быть, также несколько раньше и позже). Хотя «к концу XVII в. уже вполне была апробирована практика назначения в один и тот же город близких родственников: старшего – начальником, младшего – тoвapищeм»[230], слyчaй определения на воеводскую должность в один город друг за другом отца и сына – случай, по-видимому, довольно редкий.
Передав воеводство сыну, Демид Александрович передал с ним и конфликт с администрацией заводов. После отмены тульским воеводой наказания, назначенного автору «воровской» сказки Кузьмину, «то смотря» (т. е. пользуясь безнаказанностью) на рудники был послан кузнец Любимко, очередной водовский эмиссар. Как поясняет в своей февральской 1667 года отписке в Оружейную палату Хомяков-младший, делал это Водов, «хотя меня, холопа твоего, видить от тебя, великого государя, в опале за то, что ему, Миките, рудокопшиков ведать не велена»[231]
Опустим разбор дальнейших коллизий. Заметим только, что Елисею обеспечивать нужный для бесперебойной работы домен ритм добычи руды было, как и его отцу, очень не просто, тем более в условиях продолжавшегося в это время строительства и заселения заложенной отцом Богородицкой крепости. Но в исходящей от Елисея переписке не прослеживается желание снять с себя ответственное поручение.
Впрочем, вкусить прелесть борьбы с заводскими чиновниками в полном объеме Елисею не пришлось. В начале февраля 1667 года Водова на посту сменил стряпчий Иван Помаской, а в мае того же года заводы возвратили в частное владение (передав П. Марселису), что означало еще одну смену администрации.
От Хомяковых XVII века перейдем к XVIII столетию и остановимся на фигуре Кирила Ивановича Хомякова (№ 79 в 9-м колене родословной росписи). Он был единственным сыном упоминавшегося Ивана Демидовича (№ 46) и племянником богородицкого воеводы Елисея Демидовича (8-е колено). Их отцу, дедиловскому воеводе Демиду Александровичу (от которого, собственно, разделяются родословные линии, ведущие к А. С. Хомякову и к Кириле Ивановичу), последний приходился внуком.
Личность К. И. Хомякова интересна связью его служебной деятельности с Тульским оружейным заводом.
Управление оружейным комплексом Тулы неоднократно изменялось. Не позднее 1713 года возникла Канцелярия оружейных дел (позднее Оружейная канцелярия). Она имела Тульское и Московское отделения, но после ликвидации последнего в 1722 году осталось только Тульское. С того же года руководившее в Туле Оружейной слободой и заводом учреждение стало именоваться не канцелярией, а конторой. Одним из управляющих слободой и конторой был Кирилл Иванович Хомяков, майор, занимавший эту должность четыре года (1727–1731).
К сожалению, в довольно большом фонде Тульского оружейного завода, находящемся в Государственном архиве Тульской области, сохранилось всего несколько относящихся к этому времени дел. Упоминаний в них о К. И. Хомякове сравнительно немного[232].
Точная дата вступления майора Кирилы Хомякова в должность и время оставления ее неизвестны. В документах самое раннее упоминание о нем относится к декабрю 1727 года[233]. Это свидетельство дает terminus ante quem для вступления в должность. В плане поиска даты, когда он ее покинул, представляет интерес объемное (более 200 листов) архивное дело, озаглавленное «О деле против присланной из Москвы казацкой ручницы для донских казаков». Его открывает текст, сообщающий, в частности, что 15 февраля 1731 года в Тульской оружейной конторе была «объявлена тульских оружейных дел <…> надзирателю <…> с нижеподписавшими присланная из Москвы при письме от подполковника господина Хомякова винтовка»[234].
Обратим внимание на указанный воинский чин Хомякова – подполковник. На пост он заступил в чине майора, который носил по меньшей мере с 1720 года.[235] Состоявшееся в течение службы в Туле или при последующем переводе на новое место производство в очередной чин свидетельствует, что он был на хорошем счету у начальства, что работа его в целом была оценена положительно[236].
Среди документов 1731 года, имеющихся в названном деле, других упоминаний о Хомякове обнаружить не удалось, не найдено их и о его преемнике – капитане артиллерии Макаре Половинкине. Не исключено, что в середине февраля 1731 года Хомяков все еще состоял в своей тульской должности, хотя, может быть, пребывал в это время в Москве (вспомним, что образцовая винтовка от него была прислана в Тулу именно оттуда).
Кирила Иванович не принадлежал к прямым предкам А. С. Хомякова. Но внимание к его фигуре обусловлено не только тесной связью его служебной биографии с Тулой и Тульским краем. Если верить семейному преданию, он самым непосредственным образом повлиял на будущее семейное благосостояние той линии рода, к которой принадлежал Алексей Степанович. Напомню эту историю. Кирила Иванович, богатый тульский помещик, владелец села Богучарово и окрестных деревень, умирал бездетным. Выбирая наследника, он вынес вопрос на суд крестьян, ограничив выбор только тем, что избранный должен принадлежать к роду Хомяковых. Те выбрали его двоюродного племянника, молодого сержанта гвардии Федора Степановича Хомякова. Преемник вышел в отставку и занялся хозяйством[237].
Насколько правдоподобно это? Источников, документирующих описанное семейным преданием неординарное событие, нет. Но некоторые детали этой истории проверить можно.
Можно, в частности, установить, была ли у Кирилы Ивановича недвижимая и крещеная собственность, достаточно значительная, чтобы в заботе о ее судьбе предпринимать столь необычные поступки. Решительно и определенно можно сказать, что была. Как и большинство Хомяковых, Кирила Иванович являлся владельцем земель и крестьян в Тульском и окрестном уездах. Не претендуя на полноту картины, можно констатировать наличие у него владений в Тульском (в станах Нюховском и Старое Городище), Крапивенском и Донковском уездах. Значительная часть недвижимости (в частности, село Митрофановское Тульского уезда) была благоприобретенной, что свидетельствует об относительном экономическом благополучии покупателя. Продавцами документы называют местных дворян из родов Арсеньевых, Федоровских, Ковалевых. Сохранились источники, фиксирующие имущественные споры Кирилы Ивановича со здешними помещиками (например, из-за пустоши Татариновой Тульского уезда с Василием Михайловичем Арсеньевым, тянувшийся с 1725 по 1734 год)[238].
Некоторое сомнение в справедливости истории, сохраненной семейным преданием, возникает в связи с упоминанием в родословной росписи сына Кирилы Ивановича Алексея (№ 114, поколение 10). Но поскольку даты смерти отца и сына отсутствуют, правдоподобие легенды от этого факта хотя и колеблется, но не рушится.
Федор Степанович Хомяков (№ 113, колено 10) был прадедом славянофила. В делах Тульской провинциальной канцелярии относящиеся к нему дела, связанные с земельной собственностью, начинают появляться с 1740-х годов (самое раннее относится к началу 1747 года)[239]. Похоже, что активность его в качестве хозяйствующего субъекта стала проявляться лишь после смерти Кирилы Ивановича, что вполне согласуется с семейным преданием. Любопытно, что первая выявленная нами сделка Ф. С. Хомякова касается покупки им у капитана Якова Арсеньева имения в сельце Митрофановское Тульского уезда. Если село Митрофановское и одноименное сельцо – это один и тот же пункт или два разных, но расположенных поблизости, то нельзя не вспомнить, что земли в этом селе К. И. Хомяков начинал скупать еще в 1720 году. Ф. С. Хомяков выглядит в данном случае как прямой продолжатель дела в рамках хозяйственного проекта, задуманного некогда Кирилой Ивановичем, частично им осуществленного, но не завершенного.
Приведенный материал со всей очевидностью свидетельствует, что предки А. С. Хомякова на протяжении многих поколений как местом своего проживания, так и деятельностью были связаны с Тульским краем. При этом они оказались причастными фактически ко всем основным событийным рядам, в которых выражалось своеобразие исторической судьбы Тульского края.
В конце XVI – XVII веков всю жизнь на этих землях определял пограничный их характер. Засечная черта, города-крепости на ней и перед нею, перекрывающие степные дороги, – вот предельно простая, но вполне адекватная ситуации схема описания обстановки на этой территории. Далеко не случайно, что несколько Хомяковых (Никифор, Иван, Демид, Елисей) являются воеводами этих крепостей (Епифань, Дедилов) и даже их строителями (Богородицк).
Но уже в XVII веке отчетливо проявляется наметившаяся ранее другая функция этих земель. Здешнее население не только защищает лежащие к северу старозаселенные территории – оно включается в экономическую жизнь, причем в одном отношении сразу на общероссийском уровне. Речь идет о Тульско-Каширском металлургическом районе, явившемся родиной российской доменной металлургии и по меньшей мере полстолетия определявшем ее развитие. Хомяковы в качестве дедиловских воевод обеспечивают работу главного рудника, питавшего сырьем первые домны России.
Параллельно с металлургией в самой Туле на протяжении XVII века растет Оружейная слобода – здесь развивается искусство металлообработки, в первую очередь оружейное дело. При Петре I строится Оружейный двор и вододействующие оружейные заводы, которые будут визитной карточкой Тулы два столетия и во многом определят ее развитие в ХХ веке. Одним из первых управляющих Оружейной конторой и заводами также был Хомяков[240].
Вот такие, несколько неожиданные картины открываются, если, размышляя над личностью, судьбой и наследием Алексея Степановича Хомякова, бросить взор этак лет на двести в глубь старины.
Раздел 2
Славянофильство в русской истории и культуре
М. Н. Громов
Славянофильство как мировоззрение, идеология и философия
О славянофильстве говорят, пишут, спорят предостаточно со времени его возникновения до сего дня. Между тем сам термин «славянофильство», первоначально возникший как ироническое обозначение данного течения, стал вполне признанным, оставаясь при этом не вполне адекватным. Он не означает приязнь ко всему славянству, но прежде всего выражает любовь к России, Древней Руси, православному славянскому миру. Поэтому корректнее всего с содержательной точки зрения было бы в качестве возможного варианта ввести термин «православное русофильство», однако у живого и могучего великорусского языка есть свои прихотливые законы развития, не всегда совместимые с логикой мышления и правилами субординации терминов. Например, термин «агностицизм», означающий невозможность познания бытия, казалось бы, должен иметь в качестве антонима термин «гностицизм», означающий познаваемость бытия. Но в нашем языке он имеет совсем иное значение, связанное с эзотерическим восточным учением, что и закрепилось не только в живом языке, но и в строгом научном лексиконе. В силу этого, рассуждая далее о «православном русофильстве», будем тем не менее пользоваться устоявшимся термином «славянофильство».
Если понимать последнее в самом широком и глубинном историческом контексте, то следует согласиться с мнением Н. И. Цимбаева, рассмотревшего перечень понятий, восходящих к нему как исходному, что термин «славянофильство» служит «для обозначения самых разных явлений русской политической и общественной жизни в хронологическом интервале от IX до XX вв.»[241] Добавим: теперь уже до XXI и, думается, далее, поскольку он означает вполне определенную, устойчивую и перманентную социо-культурную характеристику, связанную с самим существованием русского общества, государства и культуры.
А. И. Герцен писал о славянофильстве, пользуясь также терминами «славянизм» и «русицизм», как о подспудном народном чувстве, историческом самосознании, верном инстинкте, как способе «противодействия исключительно иностранному влиянию»[242]. То, что наш западник своим острым умом метко подметил со стороны, славянофилы выражали из глубины сознания со всей страстью души и силой своего таланта. В вестернизированной постпетровской России они, вдохновляясь патриотическим подъемом 1812 года, впервые не разрозненно, но солидарно, не на обыденном, а на высоком теоретическом, литературном, эстетическом уровне выразили автохтонное, коренное, почвенное мировоззрение русского народа, каким оно складывалось в течение многих веков, уходя своими истоками в давно минувшие времена Древней Руси.
В данном плане славянофильство этноцентрично, оно защищает насущные интересы русского народа, хранит его самобытность, доказывает его уникальность и, как это принято сейчас говорить, утверждает его идентичность. Сразу следует уточнить, что этноцентризм славянофильства опирается не на родство по крови, но на единство по духу, по вере, по традициям.
Еще во времена языческой Руси происходил сложный процесс складывания древнерусского этноса[243]. Восточнославянский субстрат, бывший основным, вобрал в себя тюркские, балтские, финно-угорские, норманнские и иные компоненты. Сложился обширный, занимающий значительную часть Восточной Европы, обладающий развитой материальной культурой и государственностью древнерусский суперэтнос. Попытки объединить его на основе разноплеменных языческих верований не увенчались успехом. Лишь после крещения Руси и принятия православия начинается постепенный процесс переплавливания разнородных частей в единое целостное образование, получившее позднее название Древней Руси, которую так боготворили, превозносили, восхваляли славянофилы. За их экзальтированной восторженностью, не всегда понятной трезвому европейскому уму, стояла глубоко верная фундаментальная идея о мире Древней Руси как исходном, материковом, базовом основании всей нашей последующей истории: культурной, политической и духовной. Нашей антикой, нашей античностью будут образно называть этот начальный многовековой период становления и развития основ национального бытия. И хочется порою назвать ту Русь не Древней, а Юной, полной сил и надежд на великое будущее, как отразилось это в прекрасном памятнике XI века – «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона, где христианский универсализм гармонично сочетается с утверждением достоинства и гордости русичей за свою Отчизну[244]. Эта интенция пройдет сквозь многие последующие эпохи и найдет ярких приверженцев в лице славянофилов.
Можно сказать, что славянофилы отразили не только реалии своего времени, они не единственно дети 1812 года и мужи XIX века, поддавшиеся увлечению европейским романтизмом и немецкой философией. За ними стоит мудрость прошедших веков, за ними – исторический опыт великого государства, оплаченный дорогой ценой, за ними – верный инстинкт самосохранения великого народа, не желающего терять свое лицо и свои ценности в угоду новомодным веяниям и чуждым интересам.
Себя славянофилы называли «московской партией», а оппонентов – «петербургской». Патриархальная Москва, запечатлевшая в своих памятниках и святынях весь многотрудный путь становления российской государственности и культуры, как нельзя лучше подходила на роль очага, центра, хранителя национального самосознания. Холодный чиновный Петербург, «который все знает, но ничему не сочувствует», как выражались их современники, был олицетворением иного образа исторического бытия бюрократизированной империи.
Рассказывают, что в детские годы Алеши Хомякова случился один многозначительный эпизод. Когда его с братом впервые привезли в Северную Пальмиру, ему показалось, что он попал в некое подобие пышного и величественного языческого имперского города, где стоят большие храмы, портиками и колоннадами напоминающие не православные церкви, а дохристианские святилища, города, где нет патриарха, но есть едва ли не обожествляемый император, которому, как римскому кесарю, поклоняются люди. И мальчик в своей искренней непримиримости решил, скорее, умереть здесь, подобно древним христианским мученикам, нежели поклоняться языческим кумирам.
Разумеется, потом, в зрелом возрасте, пришла переоценка ценностей. Алексей Степанович понял великое значение Санкт-Петербурга, увлекся европейской культурой и был, подобно иным славянофилам, великолепно, в лучших европейских традициях образованным человеком. Да и сам он в родовом имении Богучарово Тульской губернии построит по своему проекту Сретенскую церковь в стиле ампир с четырьмя симметричными фасадами, украшенными портиками со стройными колоннами. В конце XIX века возле храма появится совершенно не связанная с местной традицией стройная четырехугольная красно-белая звонница в неороманском стиле, похожая, скорее, на итальянскую кампанилу, нежели на русскую колокольню. Так за архитектурными причудами скрывается противоречивая эволюция славянофильства в одном из его родовых гнезд.
Однако тот искренний детский порыв Алексей Степанович Хомяков пронес в глубине души через всю жизнь. Здесь был главный импульс его активной деятельности – борьба за Древнюю Русь, за Святую Русь, за наследие предков. Он виртуозно сражался в идейных спорах, он атаковал супротивников разящими аргументами, подавлял их необычайной эрудицией, воспламенялся, когда вороги покушались на дорогие ему святыни. Он был великолепен, как боец, совершенно не похожий на спокойного и рассудочного кабинетного ученого, обильно цитирующего из вороха книг со своего стола нужные ему выкладки. Если обращаться к образам поэзии Гёте, он был неистовым творцом фаустовского типа, а не ученым педантом вагнеровского.
Что касается интерпретации славянофильства как идеологии, то необходимо отметить следующие особенности: православность, соборность, мессианизм. Православие понималось А. С. Хомяковым не просто как вероисповедание, конфессиональная особенность русского народа, сопоставимая со многими иными у разных этносов и наций. Православие духовно сформировало русский народ, вело и оберегало на сложном историческом пути, оно является стержнем всей культуры даже при попытках отторжения его. Таким образом, с одной стороны, православие раскрыло, реализовало и освятило исконные природные задатки русского народа, а с другой – ввело его в семью христианских народов, раскрыло широкий исторический горизонт, сделало вселенским его самосознание. При этом Хомяков истово верует, что христианская Церковь одна и православие – ее сердцевина[245].
Рассматривая в мистическом плане Церковь как «трансцендентный надысторический идеал» и «сверхъестественную первореальность»[246], Хомяков не отождествлял вселенскую духовную иерархию с реальной российской православной церковью, особенно синодального периода, находившейся в подчинении у огромной махины имперского государства. Вместе с тем он полагал, что народ, живущий не искаженной внешними воздействиями жизнью, сохранил в основах своего бытия первоначала подлинной христианской соборности, отражающиеся в том числе в общинной организации русской деревни, которая имеет отношение не только к экономической деятельности, но прежде всего социально-психологически, если выражаться современным языком, объединяет в нечто целое отдельных людей, не мешая их собственной индивидуальности. Эта форма коллективной самоорганизации, уходящая, с одной стороны, к архаичным правременам догосударственного бытия, а с другой – одухотворенная начальным апостольским периодом первохристианства, создала ту устойчивую структуру непринудительной организации русского общества снизу (в противовес жесткой принудительной государственной власти, организовывавшей общество сверху), которую, выражаясь опять же современным языком, можно считать опорой гражданского общества. Оно, вопреки распространенному заблуждению, всегда существовало в России, правда, в стихийно возникавших самообразованиях, легитимно не подтвержденных и конституционно не закрепленных, как, например, старообрядчество, в течение многих веков противостоявшее преследовавшему его государству. Именно на эту форму общинно-соборной организации народа, не являвшейся частью казенной бюрократической системы, хотели обратить внимание славянофилы в преддверии освобождения крестьянства от крепостной зависимости. Они справедливо полагали, что формы внешней принудительной регламентации, какими бы внушительными и грозными они ни казались, исторически ограниченны и неизбежно сменяют друг друга, непреходяща лишь жизненная энергия народа и устойчивы выработанные им самим формы самоорганизации. Задача же умных и дальновидных политиков состоит в том, чтобы дать простор, направить энергию народа в конструктивное русло, пока он не вступил в конфликт с формами внешней принудительной организации, ибо это может привести к социальному кризису, революции и краху существующего порядка, что в конечном счете и произошло.
С отмеченной выше коллизией связана и широко известная славянофильская идея о том, что будущее Европы принадлежит не воинственным германцам, силой подчинявшим народы, но миролюбивым славянам, безнасильственно объединявшим многие племена. При всей своей жесткой дихотономичности, идеализации славянской истории и демонизации германской высказанная еще в середине XIX столетия мысль оказалась верной и для следующего столетия, когда немецкий милитаризм два раза в результате кровопролитных мировых войн терпел сокрушительное поражение. Современная же Европа строится не насильственным, а равноуважительным партнерским путем, при всех издержках этого сложного процесса.
Следует также заметить, что германское воинственное начало является у славянофилов своего рода символом, олицетворением, воплощением принудительной силы государства вообще. И немцы действительно создали в Европе Нового времени (как римляне в античности) наиболее эффективную государственную и военную машины, наводившие ужас на соседние народы. Россия в имперский период в немалой степени использовала данный опыт, хотя и противостояла Германии в борьбе за гегемонию на континенте. Славянофилы предчувствовали опасность усиления автократии в России и превращения ее в бесчеловечное тоталитарное государство. Нет сомнений в том, что, доживи до нашего времени, они бы стали решительными противниками разорения крестьянства, подавления духовной свободы и преступлений режима против собственного народа (что сделают неославянофилы в лице Александра Солженицына и Валентина Распутина).
Все это говорит о непреходящей актуальности идей славянофилов в наше время. Будущее России они отнюдь не связывали с коммунистической утопией. В весьма содержательной статье «Мнение русских об иностранцах», напечатанной в «Московском сборнике» 1846 года, А. С. Хомяков размышляет о генезисе, псевдонаучности и непомерных амбициях завладевавшей многими умами идеологии: «Так, все социалистическое и коммунистическое движение с его гордыми притязаниями на логическую последовательность есть не что иное, как жалкая попытка слабых умов, желавших найти разумные формы для бессмысленного содержания, завещанного прежними веками». Он называет «нелепым» верование в нее и «возведение до общих человеческих начал»[247].
Мессианизм славянофильства проявился в утверждении особой роли России как лидера, братской любовью объединяющей славянские и неславянские народы, как места, где будет вершиться в будущем история человечества. Приходится констатировать, что чаяния славянофилов, равно как представителей иных конкурирующих идеологий, явились очередной утопией. «Нам не дано предугадать» – так выразился гениальный поэт. Было бы наивно думать, что один человек или группа людей могут предвидеть и тем более направлять ход мировой истории. Им под силу предвосхитить лишь отдельные тенденции развития и оказывать частичное воздействие на некоторые его стороны. Но мессианизм был одним из способов аргументации, убеждения и оправдания исповедуемой идеологии, которым пользовались не только славянофилы. В частности, Н. А. Бердяев анализирует и сравнивает еврейский, германский, польский и русский мессианизм. Он же отмечает, что мессианизм ранних славянофилов не был столь развит и обострен, как поздних, что «элемент профетический у них сравнительно слаб»[248]. В эпоху Николая I, по словам того же Бердяева, «вулканичность почвы еще не обнаруживалась»[249]. Ближе к революционной катастрофе возрастут и вулканичность, и профетичность. Что касается мессианизма славянофилов, то его не следует отрицать, но следует уточнить ретроспективный характер оного, ибо он строился не столько на предчувствиях будущего, сколько на романтизированных интерпретациях по поводу прошлого.
Значителен вклад славянофилов в целом и А. С. Хомякова в отдельности в развитие отечественной философии. Испытав сильное воздействие немецкой философии, в особенности Гегеля, пройдя хорошую выучку у систематизированного западного мышления, они не стали его эпигонами, а попытались найти собственную оригинальную составляющую, которая отражала бы духовный опыт русского народа. Речь шла не об игнорировании или отбрасывании европейского опыта, но о его преодолении и расширении философского знания на основе собственных традиций.
П. В. Анненков приводит высказывания А. И. Герцена по поводу споров последнего с А. С. Хомяковым касательно «стиля, духа и оснований немецкой философии». Укажем на столь важное свидетельство: «Из этих сообщений ясно оказывается, что главнейшим аргументом Хомякова против Гегелевой системы служило положение, что из разбора свойств и явлений одного разума, с исключением всех других, не менее важных нравственных сил человека, никакой философии, заслуживающей этого имени, выведено быть не может»[250].
Вместе с И. В. Киреевским, написавшим программное сочинение «О необходимости и возможности новых начал для философии», опубликованное в «Русской беседе» в 1856 году, он критикует ограниченность западного рационализма, носящего отвлеченный рассудочный характер. Латинский логицизм, идущий от перипатетической традиции и развитый схоластикой, удобен для конструирования внутренне непротиворечивых умозрительных систем, но он бессилен адекватно выразить всю полноту и антиномичность бытия. При этом подчеркивается, что философские основания западной мысли базируются на теологических и вероисповедных факторах. Как Фому Аквинского нельзя понять без обращения к католическому учению, так Гегель необъясним без осмысления протестантского.
В силу этого оба мыслителя подчеркивают важность религиозно-исповедного фактора в постижении национальной философии, который должен не элиминироваться, но, напротив, актуализироваться и конструктивно использоваться. Православие не есть помеха философии, но суть основа восточно-христианской в целом и русской в особенности философии – таков лейтмотив славянофильского учения о специфике отечественной мысли. Можно согласиться с тем, что «славянофилы выдвинули главные концептуальные положения русской религиозной философии, открыли источники ее вдохновения в наследии отцов Восточной Церкви, а также первыми начали обсуждение философских проблем с точки зрения православно-церковного сознания»[251]. Универсализм и конфессионализм необходимо присутствуют в реальном историческом мировом философском процессе.
«Ими вводятся понятия “цельного знания” и “живознания”, которые позднее получат развитие у многих русских философов и наиболее фундаментально будут обоснованы у Владимира Соловьева в его учении о Всеединстве»[252]. Критика ограниченности рационализма с его претензией на высшую форму философствования не есть явление чисто русское или славянское. В рамках самой европейской мысли рационализму традиционно противостоял иррационализм, даже в эпохи доминирования первого. После кризиса философии Просвещения, абсолютизировавшей рационально мыслящего субъекта, и полемики внутри немецкой классической философии, где Шеллинг выступил одним из выразителей «философии жизни», иррационалистические учения в лице Кьеркегора, Ницше, Бергсона, Ясперса, Сартра и многих других философов придают иррационализму больший вес и значимость, нежели это было ранее. В свете изложенного тенденция славянофилов выстроить философское учение, более глубокое, универсальное и адекватное быстротекущему и неисчерпаемому бытию, не только соответствовала национальной задаче создания оригинальной русской философии Нового времени, но вполне вписывалась в тенденции развития самой европейской мысли, начинавшей сознавать ограниченность рационализма, европоцентризма и других порождений западной цивилизации, претензии которой на мировое господство, на своеобразный культурный колониализм и мировую экспансию становились все более очевидными.
В заключение хочется обратиться к словам А. С. Хомякова, который в полемике с известным историком и западником С. М. Соловьевым высказал вполне здравую и чуждую национальной ограниченности идею: «Разумное развитие народа есть возведение до общечеловеческого значения того типа, который скрывается в самом корне народного быта»[253]. Что касается идеализации мира Древней Руси, которая, несомненно, отмечается у всех славянофилов, то ее можно расценить как мечту о гармоничном обществе и процветающей России, до которых нам так же далеко, как и во времена Алексея Степановича Хомякова. Эти мечтания по поводу будущего завершают его знаменитую статью «О старом и новом», где содержатся противоположные оценки былой русской действительности: «Тогда в просвещенных и стройных размерах, в оригинальной красоте общества, соединяющего патриархальность быта областного с глубоким смыслом государства, представляющее нравственное и христианское лицо, воскреснет древняя Русь, но уже сознающая себя, а не случайная, полная сил живых и органических, а не колеблющаяся между бытием и смертью»[254].
В. А. Викторович
«Выяснение» славянофильства: от Хомякова к Достоевскому
«Ведь не с неба же, в самом деле, свалилось к нам славянофильство, и хоть оно и сформировалось впоследствии в московскую затею, но ведь основание этой затеи пошире московской формулы и, может быть, гораздо глубже залегает в иных сердцах, чем оно кажется с первого взгляда. Да и у московских-то, может быть, пошире их формулы залегает. Уж как трудно с первого раза даже перед самим собой ясно высказаться. Иная живучая, сильная мысль в три поколения не выяснится, так что финал выходит иногда совсем не похож на начало» (V, 52)[255]. Так Достоевский писал в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863), обозначивших его собственное открытие «силы» славянофильской «мысли». Отныне Достоевский становится вполне сознательным «распространителем» «новых начал сознания, внесенных славянофилами», по точному выражению В. В. Розанова[256].
Автор «Зимних заметок…», говоря об истории восприятия славянофильских идей, как будто говорит и о себе. Он сам прошел этот непростой путь.
В фельетоне «Петербургская летопись» 1 июня 1847 года молодой писатель задел один из наиболее принципиальных моментов полемики западников и славянофилов. Я имею в виду следующее рассуждение «летописца» о направлении «современной мысли»: «Почти всякий начинает разбирать, анализировать и свет, и друг друга, и себя самого. <…> Люди рассказываются, выписываются, анализируют самих же себя перед светом, часто с болью и муками. <…> Иные думали, что нападки идут от людей безнравственных. <…> Другие говорили, что ведь есть же и без того добродетель, что она существует на свете, что существование ее уже подробно изложено и неоспоримо доказано во многих нравственных и назидательных сочинениях» (XVIII, 27). Кто эти «иные» и «другие», над кем иронизирует «летописец»? Очевидно, это враги натуральной школы, а среди них, несомненно, славянофилы как наиболее принципиальные противники нового направления в литературе (Ю. Ф. Самарин называл его «аналитическим направлением»).
Противопоставление «анализа» и «добродетели» – довольно характерная примета славянофильской критики и публицистики. Возможно, Достоевский метил конкретно в самого А. С. Хомякова, за год до того напавшего на «наше просвещение»: «Всеразлагающий анализ в науке, но анализ без глубины и важности, безнадежный скептицизм в жизни, холодная и жалкая ирония, смеющаяся над всем и над собою в обществе, – таковы единственные принадлежности той степени просвещения, которой мы покуда достигли»[257].
Достоевский в «Петербургской летописи» 1 июня 1847 года, оспаривая мнение Хомякова и защищая современный «дух анализа», возвращал читателя к позиции, выраженной В. Белинским и В. Майковым (например, в статье последнего «Анализ и синтез», напечатанной в «Карманном словаре иностранных слов», программном документе петрашевцев). Однако некоторый оттенок в рассуждениях Достоевского отличает его от западнических соратников – это нравственный, духовный смысл, который он придает слову «анализ». Для него анализ – необходимый этап в нравственном самоочищении личности и общества, недаром в общий семантический ряд ставится здесь же слово «исповедь» («Наступает какая-то всеобщая исповедь»). Любопытно, что в начале 1860-х годов, вернувшись к этой проблеме в один из самых критических моментов своей жизни (исповедальная дневниковая запись, сделанная у гроба жены), Достоевский примиряет западническую и славянофильскую точки зрения: «Человек, по великому результату науки, идет от многоразличия к Синтезу, от фактов к обобщению их и познанию. А натура Бога другая. Это полный синтез всего бытия, саморассматривающий себя в многоразличии, в Анализе» (XX, 174). Такова итоговая для Достоевского дихотомия познания. Полагаю, уже в 1847 году, защищая одну из сторон, западническую, Достоевский как бы предчувствует будущее свое решение, вводя нравственно-духовный аспект в понятие «анализ».
Спор об анализе и синтезе, будучи в целом гносеологическим, подразумевал глубокий онтологический подтекст. Его тогда же приоткрыл достаточно недвусмысленно Хомяков: «Но нам возможны, и возможнее даже, чем западным писателям <…>, обобщение вопросов, выводы из частных исследований». Кому это «нам»? Разумеется, Востоку, славянам, русским, той «земле, которой вся духовная жизнь ведет начало свое от византийских проповедников»[258].
Прошел ли ранний Достоевский мимо этого, в общем-то, самого существенного момента всего спора?
Обратим внимание на еще один полемический выпад в раннем фельетоне Достоевского: «Скажут: народ русский <…> религиозен и стекается со всех точек России лобызать мощи московских чудотворцев. Хорошо, но особенности тут нет никакой <…>. А знает ли он историю московских святителей, св<ятых> Петра и Филиппа? Конечно, нет – следственно, не имеет ни малейшего понятия о двух важнейших периодах русской истории» (XVIII, 25). Как видим, фельетонист уклонился от прямого ответа на вопрос о религиозности русского народа, но косвенно, логикой своего рассуждения давал понять: о какой истинной религиозности может идти речь, когда народ не знает существа предмета? Типичная логика позитивиста, хотя и отличающаяся от более радикального взгляда Белинского, через полтора месяца после фельетона Достоевского, заявившего в знаменитом Зальцбруннском письме к Гоголю: русский народ – «по натуре своей глубоко атеистический народ».
Любопытно, что поздний Достоевский почти слово на слово отвечает себе же, раннему (далеко не единственный у него случай самодиалога) в «Дневнике писателя» 1876 года: «Знает же народ Христа Бога своего, может быть, еще лучше нашего, хоть и не учился в школе <…>, слыхивал об этом Боге – Христе своем от святых своих <…>, которых чтит народ доселе, помнит имена их и у гробов их молится» (XXII, 113). Как видим, одна и та же картина: народ, стекающийся к мощам своих святых, вызывает у Достоевского в 1847 и в 1876 годах противоположные чувства и мысли. Финал действительно выходит не похожим на начало.
Достоевский-публицист в «Петербургской летописи» довольно отчетливо проявил западническую ориентацию. С его точки зрения, современная Россия, русский народ реализуют «идею Петра». Нетрудно отыскать ближайший источник этих воззрений. В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года», опубликованной в «Современнике» незадолго до фельетона Достоевского, Белинский утверждал: «Как и все, что ни есть в современной России живого, прекрасного и разумного, наша литература есть результат реформы Петра Великого». Знакомство с историософскими воззрениями славянофилов не прошло, однако, бесследно для молодого писателя, и здесь нас ожидает еще один случай полемики с самим собой, но теперь уже в границах 1840-х годов.
В объяснении для следственной комиссии по делу о петрашевцах (1849) Достоевский, излагая свои взгляды, опирается на тезис о различии исторических путей России и Запада: если там цивилизация складывалась через «завоевание, насилие», подчинение «авторитету», то у нас спасительной была «одна теплая, детская вера» в патриархальную власть (XVIII, 123). Достоевский таким образом повторил мысль, усиленно пропагандируемую славянофилами[259].
Неслучайность совпадения подтверждает следующая затем полемика с Белинским; причину своей размолвки с критиком подследственный объяснил расхождением взглядов на литературу: «Я именно возражал ему, что желчью не привлечешь никого» (XVIII, 127). Достоевский вновь – вольно или невольно – повторил одно из краеугольных положений славянофильской критики.
Удивительно, но два «славянофильских» показания Достоевского не вызывают недоверия, несмотря на то что сказаны под следствием. Во-первых, Достоевский ссылается на свидетелей, могущих подтвердить, что те же мысли он высказывал еще до ареста. Во-вторых – и главное – основательность, последовательность и продуманность этих показаний развеивают естественные сомнения в их достоверности. В данном случае подследственный говорил правду, отсюда столь уверенный тон искренности и убежденности. В публицистических статьях начала 1860-х годов Достоевский будет повторять те самые мысли, которые он сформулировал перед лицом следственной комиссии. Так что истоки его «почвенничества» следует искать именно здесь, в 1840-х годах. Во всяком случае, можно констатировать усиление в его сознании славянофильских начал к маю 1849 года сравнительно с маем 1847.
Начальным и пробным опытом в новом роде стала «Хозяйка» (Отечественные записки, 1847, № 10, 11). H. Н. Страхов первый отметил славянофильскую ее ориентацию. Повесть может быть прочитана как духовный дневник Достоевского, написанный в символическом ключе. Катерина – страдающая и слабая, податливая народная душа, Мурин – злой чародей, религиозный фанатик и эгоцентрик, соблазняющий эту душу. Спасителем народной души хотел бы стать петербургский интеллигент Ордынов, ищущий пути к «почве»: автор указывает, что этот «фланер» на улицах «любовно вслушивался в речь народную» (деталь, бесспорно, автобиографическая), а затем в Божьем Храме, молясь вместе с Катериной (мотив совместной молитвы – почти «хомяковский»), испытал таинственное потрясение духа, описание которого предвещает будущую «Кану Галилейскую» Алеши Карамазова. История Ордынова прописана неясно, однако имеющихся в повести намеков достаточно, чтобы читатель догадался: «дивно-отрадный образ идеи», волнующий героя, связан с задуманным им сочинением по истории церкви, в которое легли «самые теплые, горячие убеждения». Вряд ли случайным является тот факт, что в это время другой русский интеллигент – Алексей Хомяков – переосмысливает историю христианской церкви.
Пережив несчастную любовь к Катерине – народной душе, свое поражение в борьбе за нее, Ордынов отвергает прежний, очевидно, возвышенно-отвлеченный план сочинения о церкви, однако же «не построив ничего на развалинах». Описание творческого и духовного кризиса героя, как можно предположить, выразило состояние самого автора. «Несчастный <…> просил исцеления у Бога <…> по целым часам лежит он, словно бездыханный, на церковном помосте». Общая атмосфера повести трагедийна, это романтическое сказание о погибели души (народной и самого героя), однако символизм ведущих мотивов, намеченная возможность исцеления создают художественный пунктир в направлении, приближавшем автора к идеалам славянофильско-христианским.
Выход из кризисного состояния наметился в произведениях, последовавших за «Хозяйкою». Как тогда казалось самому писателю, кризис окончательно был изжит им в «Неточке Незвановой» (Ап. Григорьев считал, что это был «шаг к выходу» писателя из «сентиментального натурализма»). Действительно, наряду с героями всеобъемлющего эгоизма (скрипач Ефимов, Петр Александрович) здесь являются герои, источающие духовный свет: Александра Михайловна, Князь (первый набросок будущего Князя-Христа Мышкина, по наблюдению Л. П. Гроссмана), музыкант Б. В «Неточке Незвановой» Достоевский успел сказать, еще перед каторгой, не только о разрушительной экспансии амбиций, зависти (в продолжение темы «Двойника»), но и о собирательной энергии самоотвержения, смирения (об Александре Михайловне сказано, что душа Неточки «невольно стремилась к ней и, казалось, от нее же принимала и эту ясность, и это спокойствие духа, и примирение, и любовь» – так впоследствии Достоевский будет писать о Соне Мармеладовой, о брате Алеше). Один из таких безамбициозных героев, музыкант Б., высказывает идею соборного смирения: «Я был спокоен насчет себя самого. Я тоже страстно любил свое искусство, хотя знал <…>, что я буду <…> чернорабочий в искусстве». Позднее, в «Дневнике писателя» 1877 года, Достоевский разовьет эту мысль о независтливости как источнике «настоящего равенства» в человеческом обществе (XXV, 62–63). В «Неточке Незвановой», таким образом, есть уже зачатки того христианского (соборного) образа мышления, которое отличает зрелого художника.
Эпизод общей молитвы Неточки и Князя перед иконой Божией Матери, эта новая вариация мотива, заявленного в «Хозяйке», судя по намекам повествователя, должен был получить развитие в дальнейшем ходе романа, прерванного арестом автора (как была прервана в романе и сама молитва). Узник Петропавловской крепости читает путешествия по святым местам и сочинения святого Димитрия Ростовского, а вслед за тем просит брата прислать Библию (XXVIIIj, 157, 158).
Итог 1840-х годов был непростым и даже парадоксальным: оставаясь в основном западником и социалистом, Достоевский, вопреки рациональной логике, впитывал идеалы славянофильские, христианские.
По выходе из каторги, получив письмо А. Н. Майкова, с энтузиазмом описывавшего новое «русское» движение в литературе, семипалатинский ссыльный недоумевает: «Но, друг мой! Неужели Вы были когда-нибудь иначе? Я всегда разделял именно эти же самые чувства и убеждения, <…> я всегда был истинно русский <…>. Что же нового в том движении, обнаружившемся вокруг Вас, о котором Вы пишете как о каком-то новом направлении? Признаюсь Вам, я Вас не понял. <…> Да! я разделяю с Вами идею, что Европу и назначение ее окончит Россия. Для меня это давно было ясно» (XXVIIIj, 208).
«Давно», – говорит писатель, в западническом начале пути которого вряд ли можно сомневаться. В этом, впрочем, нет противоречия. Письмо Достоевского Майкову – еще одно подтверждение в ряду известных высказываний как западников Герцена, Анненкова, Боткина, Грановского, так и славянофилов И. Киреевского, Хомякова, К. Аксакова насчет особого характера их споров. По известному выражению Герцена, у них «сердце билось одно»[260]. (Достоевский, еще до Герцена, в письме Майкову: «Идеи меняются, сердце остается одно»). «Сердце» принадлежало национальной культуре. Само понятие «русская идея», впервые предложенное Достоевским здесь же, в письме Майкову, включало в себя искания и тех, и других.
В записной книжке писателя находятся характерные выписки из статьи Л. Оптухина (И. В. Павдова) «Восток и Запад в русской литературе», сделанные, очевидно, осенью 1859 года. Достоевский выписывает понравившееся ему определение спора «восточников» и «западников»: «Отчасти и то и другое направление похвальны. Лучшие люди обеих партий находятся недалеко от средней черты» (XVIII, 104). В начале 1860-х годов в журнале «Время» он будет проводить именно эту среднюю линию. Правда, западникам Достоевский тогда отдавал предпочтение, так как у них он находил сравнительно меньше «теоретизма» и более «жизни».
Следует, очевидно, верить Н. Н. Страхову, который утверждал в своих мемуарах, что в 1861 году, при начале «Времени», Достоевский «был почти вовсе незнаком со славянофилами». Выбор Достоевского в этот исторический для всей России момент был сделан, что называется, по зрелому размышлению. Весьма точным в связи с этим представляется наблюдение Страхова: «Он сознательно и прямо пошел навстречу сперва Ап. Григорьеву, а потом славянофилам. При быстроте и гибкости своего ума он легко понимал эти мнения в самых их основаниях; главное же тут было то, что он уже сам, по складу убеждений, воспитанных в нем сближением с народом и внутренним поворотом мысли, был бессознательным славянофилом. Славянофильство ведь не есть надуманная и оторванная от жизни теория: оно есть естественное явление»[261].
К 1861 году, когда Достоевский вновь, после каторги и ссылки, включился в борьбу идей в русской культуре, славянофильство понесло невосполнимые утраты: один за другим ушли из жизни основоположники учения И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, К. С. Аксаков. Их уход многим, в том числе и Достоевскому, казался провиденциальным, как будто время славянофилов кончилось вместе с ними.
Примечателен эпизод, произошедший в 1864 году, когда после смерти А. А. Григорьева Н. Н. Страхов напечатал в «Эпохе» письма покойного критика, в том числе его сетования на редактора «Времени» М. М. Достоевского, вычеркивавшего из статей все упоминания о Хомякове и Киреевском как «великих мыслителях». Достоевский вступился за брата и в примечании к публикации Страхова обвинил самого Григорьева: «…он неумело упоминал об этих лицах», в то время как журнальная тактика требовала учесть тогдашнюю ситуацию. «Масса читателей тянула тогда совершенно в другую сторону: про Хомякова и Киреевского было известно ей только то, что они ретрограды, хотя, впрочем, эта масса их никогда и не читала» (XX, 134). Достоевский – чуткий барометр общественных настроений, но не совсем неправ был и Страхов, утверждая впоследствии в своих мемуарах, что и сам-то Достоевский в то время вряд ли читал славянофилов.
В 1861 году выходят собрания сочинений И. Киреевского, К. Аксакова, А. Хомякова. Некоторые из них перепечатывает и газета И. Аксакова «День». Достоевский, однако, не сразу оценил эти труды.
Первый шаг, возможно, был сделан в конце 1861 года, когда Достоевский больше симпатизировал «реализму» западников, чем «идеализму» славянофилов. В ноябрьском номере «Времени» он пишет о том, что никто из западников «не понял и не сказал ничего лучше о мире, об общине русской, как Константин Аксаков в одном из самых последних своих сочинений» (XIX, 59). Установлено, что речь шла о «Кратком историческом очерке Земских соборов», впервые напечатанном в 1861 году в первом томе собрания сочинений К. С. Аксакова. Что же так поразило Достоевского в этом труде?
Есть одно мемуарное свидетельство, достаточно авторитетное, что Достоевский принял взгляд славянофилов на общину еще в 1840-e годы[262]. Именно тогда развернулась полемика вокруг этого вопроса. Остро поставил его западник К. Д. Кавелин в нашумевшей статье «Взгляд на юридический быт древней России» (Современник. 1847. № 1). На новгородском вече, писал он, дела решались «как-то неопределенно, сообща», что, по мнению ученого, свидетельствовало о неразвитом юридическом строе. Вступив с ним в полемику, славянофил Ю. Ф. Самарин (О мнениях «Современника» исторических и литературных // Москвитянин. 1847. № 2) трактовал эту древнюю форму новгородской демократии как замечательное достижение «согласия» князя и вече. Белинскому такое объяснение показалось карикатурой на конституционную монархию с ее «идеалом» – согласием короля с парламентом (Ответ «Москвитянину» // Современник. 1847. № 11). Достоевский вспомнил этот спор (о чем свидетельствует фраза «…никто из западников не понял»), когда в 1861 году прочитал у К. Аксакова, что основополагающим установлением общинного демократизма является «единогласие», а не подчинение меньшинства большинству, как это сложилось в западных формах демократии. Остатки этого славянского общинного демократизма К. Аксаков наблюдал в «теперешних сходках нашего крестьянства», что давало право говорить о живучести некоторых традиций в национальном укладе жизни. Следует отметить, что Аксаков не предлагал механически перенести земскую соборность из Средневековья в Новое время, речь шла об определенной ориентации национального сознания. Он писал: «Мы согласны, что, с точки зрения государственности, строго развитой, начало единогласия является не практическим; но точно так же, как и любовь братская, самопожертвование, всякая добродетель и вообще вся нравственная сторона человека является непрактическою». Эти суждения не могли не поразить Достоевского: он сам в это время напряженно думал о том же. Позднее, в «Дневнике писателя» 1876 года, возвратясь к вопросу о «практичности» общинной идеи, Достоевский выделил в ней две плоскости – современного экономического интереса и долгосрочной духовной перспективы: «А что есть община? Да тяжелее крепостного права иной раз! Про общинное землевладение всяк толковал, всем известно, сколько в нем помехи экономическому хотя бы только развитию; но в то же время не лежит ли в нем зерно чего-то нового, лучшего, будущего, идеального, что всех ожидает» (XXIII, 99). Это новое, лучшее, по Достоевскому, явится не чем иным, как «великим и всеобщим согласием», спасительным не только для русских, для славян, но и для всего христианского мира.
Утопизм Достоевского-политика очевиден и даже наивен: он ждал если не немедленного, то очень скорого «всеобщего согласия всех русских людей, начиная с самого верху» (XXIII, 28), и на нем основывал радужные политические проекты, по-детски серчая на всякую заминку. Однако этот же самый пресловутый «утопизм», вера, что согласие и любовь, а не обособление и расчет составляют высшую закономерность русской и цель общечеловеческой истории, составили сердцевину художественного мира Достоевского и обрели потрясающую убедительность в его романах.
Мысли К. Аксакова о русской общине были первым импульсом к новому, завершающему повороту Достоевского в сторону славянофильства. 8 сентября 1863 года он пишет брату из Турина: «Скажи Страхову, что я с прилежанием славянофилов читаю и кое-что вычитал новое», – а 18 сентября уже самому Страхову из Рима: «Славянофилы, разумеется, сказали новое слово, даже такое, которое, может быть, и избранными-то не совсем еще разжевано». Так сложилось, что именно Достоевскому, более чем кому-либо другому, и предстояло «разжевать». Что именно читал Достоевский во время своего второго заграничного путешествия, с точностью установить затруднительно. Можно утверждать одно: в этот круг вошел Хомяков, к которому писатель уже прибегал в «Зимних заметках о летних впечатлениях». Первый том из собрания сочинений Хомякова, вышедший в 1861 году, был в библиотеке писателя. Комментаторами установлены некоторые следы чтения этого тома в записной книжке Достоевского 1863–1864 годов. Начинался диалог великого художника с великим мыслителем.
Важно было определить для себя некоторые исходные мотивы. «Социалисты хотят переродить человека, освободить его, представить его без Бога <…>. Но человек изменится не от внешних причин, а не иначе как от перемены нравственной» (XX, 171). Сформулировав таким образом свою историософскую позицию, Достоевский приблизился к идеям, особенно активно пропагандировавшимся до него славянофилами: «Человечество воспитывается религиею, но оно воспитывается медленно»[263].
По утверждению Ивана Киреевского, Запад в лучших своих умах уже ощутил исчерпанность рационализма и «потребность веры»[264]. Приговор Хомякова Западу был суровее, тем более что относился он не к западной философии, как у Киреевского, а к западным формам христианского вероисповедания.
В полемике с западными конфессиями формировалась в свое время концепция православия А. С. Хомякова. Судя по записным книжкам 1863–1864 годов, Достоевский в эти годы читал хомяковские брошюры под однотипным заглавием «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях». Они выходили в Париже в 1853, 1855 и 1858 годах на французском языке. Возможно, что Достоевский читал их в русском переводе, опубликованном в журнале «Православное обозрение» 1863 (октябрь и ноябрь) и 1864 годов (январь и февраль). В марте 1864 года там же было напечатано катехизическое сочинение Хомякова «О церкви» (авторское заглавие «Церковь одна»).
Как доказывал Хомяков, вина за раскол вселенской церкви целиком ложится на римскую ее ветвь, самовольно, без совета с восточными братьями изменившую символ веры в части догмата о Троице. Тем самым был нарушен принцип соборности, фундаментальный для церковного строения. Естественным образом последовала в жизни западной церкви подмена соборности авторитетом папы: «авторитет внутренний» уступил место «авторитету внешнему». Для укрепления последнего римская церковь вынуждена была искать опоры в светской власти (мысль, особенно часто повторявшаяся Достоевским).
Критика католицизма у Достоевского, впрочем, как и у Хомякова, не самоцель, и тот и другой не остаются на уровне догматического богословия.
«Сущность папства», – формулирует Достоевский один из главных тезисов политической статьи, над которой он работает в августе 1864 года. Далее он ставит перед собой задачу, выводящую богословские споры на улицы и площади европейской историософии: «Доказать, что папство гораздо глубже и полнее вошло во весь Запад, чем думают, что даже и бывшие реформации есть продукт папства, и Руссо, и французская революция – продукт западного христианства, и, наконец, социализм, со всей его формалистикой и лучиночками, – продукт католического христианства» (XX, 190).
Политическая статья так и не была написана Достоевским в 1864–1865 годы, однако концепция, сложившаяся в этих подготовительных записях, станет краеугольной в идейном репертуаре всего позднего Достоевского. Развитие ее можно наблюдать в «Дневнике писателя», в романах «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы». Вместе с тем есть возможность проследить родословную этой концепции, столь много значившей в философско-художественном сознании Достоевского.
По-видимому, она родилась в известном публицистическом диалоге А. С. Хомякова и И. В. Киреевского 1839 года, положившем начало славянофильской письменности. В статье «В ответ А. С. Хомякову» Киреевский заявил о смысле уклонения римской церкви от восточной, заключающемся в «торжестве рационализма над преданием, внешней разумности над внутренним духовным разумом». На этом Киреевский не остановился. «<…> самый протестантизм, – продолжал он, – <…> произошел прямо из рациональности католицизма. В этом последнем торжестве формального разума над верою и преданием проницательный ум мог уже наперед видеть в зародыше всю теперешнюю судьбу Европы как следствие вотще начатого начала, то есть и Штрауса, и новую философию со всеми ее видами <…>, и филантропию, основанную на рассчитанном своекорыстии»[265] (читай: социализм).
Достоевский вполне мог знать эту статью, впервые опубликованную в собрании сочинений И. В. Киреевского 1861 года. Однако, скорее всего, мысль о преемственности католицизма в Реформации и в новых социальных учениях он воспринял через Хомякова, который наиболее полно обосновал и усилил ее. Таким же образом – через Хомякова – восприняли эту мысль И. C. Аксаков и Ю. Ф. Самарин.
В лице Хомякова Достоевский встретил могучую духовную силу (Самарин не обинуясь называл его «учителем Церкви»), давшую толчок его творческому сознанию в определенном направлении. Несокрушимость, цельность верования, ничуть не боящегося, по определению И. С. Аксакова, «спускаться в самые глубочайшие глубины скепсиса»[266], были особенно привлекательны для Достоевского в период формирования сознательного религиозного мировоззрения в началe 1860-x годов. После общения с текучим, вечно становящимся Ап. Григорьевым этот «камень веры» (как называл Хомякова Н. А. Бердяев) был особенно кстати, хотя в плане личностном Достоевскому, вероятно, был ближе И. В. Киреевский (довольно тонкую характеристику его мировоззрения как искания веры писатель дал в подготовительных материалах к «Бесам»). Под воздействием и как бы при участии Хомякова (вкупе с Григорьевым) формируется у Достоевского глобальная концепция истории европейской цивилизации.
Первый сгусток концепции дает черновой набросок «Социализм и христианство» (1864). Социализм, по версии Достоевского, доводит до завершения процесс обособления личности, начатый католицизмом и продолженный протестантизмом. В противоположность им истинное (правильное) христианство предлагает личности иной путь: «…вполне осознать свое я – и отдать это все самовольно для всех» (XX, 192).
«Высший закон, которым должны определяться отношения человека к человеку», писал Хомяков, есть любовь, а любовь он определял как «самоотрицающийся эгоизм»[267]. Это диалектическое определение (подхваченное впоследствии и Вл. Соловьевым) Достоевский предпочел «разумному эгоизму» русских революционных демократов. Строя все отношения между людьми на строгом расчете и договоре, «разумный эгоизм», идущий от просветительской философии, пренебрег иррациональной природой добра, проявляющейся в любовном влечении человека к человеку, человека к природе, человека к Богу. Хомяков в свое время глубоко воспринял недостаточность рационализма. В поисках целостной философии он обратился к христианству, в учении Христа о любви Хомяков увидел не один только нравственный закон, но единственно возможный путь к истине. «Утверждение любви как категории познания, – справедливо писал Н. А. Бердяев, – составляет душу хомяковского богословия»[268].
Можно представить, каким откровением давно явленной людям, но еще не усвоенной ими правды прозвучали для Достоевского слова Хомякова: «<…> говорили часто о законе любви, но никто не говорил о силе любви. Народы слышали проповедь о любви как о долге, но они забыли о любви как о божественном даре, которым обеспечивается за людьми познание безусловной истины. Чего не познала мудрость Запада, тому поучает ее юродство Востока»[269].
Понимание любви как «силы», а не «закона», ведет от славянофильства Хомякова к самым сокровенным основам мировоззрения Достоевского: его философия познания есть философия целостной жизни, а та, в свою очередь, есть опыт, проявляющий, осязающий любовь как первооснову, первопричину бытия. Любовь как категория одновременно гносеологическая и онтологическая в мире Достоевского позволяла преодолеть извечную антиномию познания и бытия.
В «Братьях Карамазовых» поставлен «на пороге» вопрос мучительный для писателя – о существовании Бога. Уже в начале романа, тезисно, дается ответ, так что весь последующий роман есть лишь его развертывание, – имеется в виду ответ Зосимы на вопрос «маловерной дамы», есть ли жизнь вечная: «… доказать тут нельзя ничего, убедиться же возможно <…>. Опытом деятельной любви. Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии Бога, и в бессмертии души вашей» (XIV, 52).
В романе у каждого из героев свой путь и свой опыт. Кому-то дано познать истину деятельной любви, кого-то ожидает крушение собственной «обособленной» правды, испытание не по силам, новые заблуждения, рабство идеи или плоти, мрак или просветление, но вся эта многоликая, разноголосая громада, изображенная Достоевским, не способна дать иного пути к истине, чем тот, о котором говорит Зосима уже в самом начале.
«Братья Карамазовы» подытожили искания Достоевского, но в какой-то мере они вернули его к тому времени (1863–1864), когда он близко принял и пережил прочитанное у Хомякова. Мистериальная постройка романа, которым художник закончил свой путь, покоилась во многом на фундаменте, сложенном христианским мыслителем. Прежде всего это относится к главной идее романа – идее всечеловеческого единения.
«Недоступная для отдельного мышления истина доступна только совокупности мышлений, связанных любовью»[270]. Этот вывод был сделан Хомяковым в результате осмысления опыта вселенской соборной церкви: русский богослов был первым, кто возвел этот опыт в ранг идеи, сделал соборность, бывшую церковным установлением и преданием, категорией философского мировоззрения. Соборность – форма земного воплощения идеальной христианской любви, единственно адекватная этому началу организация единоверцев. Причем организация не внешнего характера (по этому пути пошла западная церковь, как полагал Хомяков), но сугубо внутреннего, духовного. «Духовное общение молитвы»[271] – вот что позволяет, по Хомякову, преодолеть одиночество человека, отлученность от братьев и от Бога. Сцены молитвенного единения, как мы уже видели, появляются в творчестве Достоевского еще в 1840-е годы («Хозяйка», «Неточка Незванова»), когда лишь намечалось сближение писателя со славянофильством. По свидетельству тогдашнего знакомца Достоевского С. Д. Яновского, «вернейшее лекарство у него всегда была молитва. Молился он не за одних невинных, но и за заведомых грешников»[272].
Мотив молитвенного братства настойчиво проходит через поздние романы писателя («Преступление и наказание», «Идиот», «Подросток»), пока, наконец, явственно и мощно не воплощается в кульминационной сцене прозрения и духовного воскресения Алеши в «Братьях Карамазовых» (глава «Кана Галилейская»): «Простить хотелось ему всех и за все и просить прощения, о! не себе, а за всех, за все и за вся, а “за меня и другие просят”, – прозвенело опять в душе его» (XIV, 328).
Человек, как утверждал Хомяков, есть часть целого, и только в этом качестве он способен самоосуществиться как богоподобная личность. Хомяков не был исключительно богословом, его богословие стремилось охватить всю полноту земной жизни, и естественно, что принцип соборности он распространял за границы церковной организации: жизнь человека в обществе, в хозяйстве, в семье, по его мнению, устремлена к «живому единству» в не меньшей степени, чем жизнь в вере. В конечном счете эта устремленность проявляет себя в единстве национальном, народном. В черновиках Достоевского 1877 года читаем: «<…> связан и объединен наш народ пока так, что его трудно расшатать. Хомяков говаривал, говорят, смеясь, что русский народ на Страшном суде будет судиться не единицами, не по головам, а целыми деревнями, так что и в ад и в рай будет отсылаться деревнями. Шутка тонкая и чрезвычайно меткая и глубокая» (XXV, 305).
Сформированное в иных условиях жизни мировосприятие Хомякова не было эсхатологическим. Он, безусловно, ощущал собственную личность в гармоническом и несомненном единстве с народным «море-океаном», подчас до растворения в нем. «Отделенная (от народа. – В. В.) личность есть совершенное бессилие и внутренний непримиренный разлад»[273] – Хомяков писал об этом как бы со стороны, сохраняя душевное спокойствие. Его вера в русский народ, в его будущее была ничем не поколеблена. Достоевский утверждал то же самое (хотя и с оговорками, вроде «пока» в приведенном выше анекдоте о Страшном суде), но чем горячее, исступленнее он делал это, тем более выдавал гнездящееся в душе сомнение. Так, его Шатов («Бесы») во многом автобиографичен своим переходом от социализма к христианству, от западничества к славянофильству. Однако он, Шатов, весь в этом переходе, он только еще жаждет единения с народным целым.
Хомяков-мыслитель не мог не привлечь Достоевского как естественное продолжение того духовного мира и покоя, непоколебленной цельности, что источают книги Священного Писания и святоотеческая литература. Сам Достоевский был уже человеком иной эпохи, утратившим полноту соборного мироощущения и тоскующим об этой полноте. В нем заключался Зосима и в нем же – Иван Карамазов; что касается Хомякова, то, необыкновенно близкий «радостному» христианству первого, он духовно чужд оспариванию «мира Божьего» последним. Проблема теодицеи не была для него столь трагичной, как для Достоевского. Хомяков, очевидно, был явлением пограничным: самый переход соборности из бытия непосредственного в бытие осознанное, в категорию долженствования уже предвещал неизбежный переход в новое качество. Творческое сознание Достоевского – продолжение этого перехода: в него вошел Хомяков с его непоколебленным коллективизмом, но одновременно в него вошел и Ап. Григорьев с его обостренно-личностным стремлением к целостности бытия.
Европейская история представлялась Достоевскому так же не лишенной глубочайшего трагизма, как некое трудное и противоречивое становление «идеи всемирного единения людей», начала в форме «всемирной римской монархии» и лишь затем как «единение во Христе» (XXV, 151). Славянский, особенно русский мир, по Достоевскому, оказывался внутренне наиболее готовым к восприятию этой новой формы единения. Начиная «Дневник писателя» 1877 года, он заявляет: «Национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое единение» (XXV, 20).
Не лишним будет отметить одну особенность: в постановке «русской идеи» Достоевский чаще всего пользовался сослагательным наклонением и будущим временем. В предсмертном «Дневнике писателя» 1881 года он делает важное уточнение: «Я говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово. И если нет еще этого единения, если не созижделась еще церковь вполне, уже не в молитве одной, а на деле, то все-таки инстинкт этой церкви и неустанная жажда ее <…> в сердце многомиллионного народа нашего несомненно присутствует» (XXVII, 19). Здесь очевидна идея, идущая от Хомякова, но столь же очевидна и существенна поправка к ней: Церковь (православная), которую Хомяков активно выставлял в назидание западным братьям, по Достоевскому, «не созижделась еще вполне» (в ней не одни Зосимы, есть и Ферапонты).
Разграничению этого, впрочем, не чужд был и Хомяков, еще в 1839 году («О старом и новом») писавший о «порабощении церкви» государством на Руси и вычленявший в связи с этим «церковь возможную», «просвещенную», «торжествующую над земными началами»: «Она не была таковой ни в какое время и ни в какой земле». Позднее, в борьбе с католицизмом, Хомяков в полемическом увлечении отступил от собственного умозаключения: как выразился Н. А. Бердяев, он «реальной» западной церкви противопоставил «идеальную» восточную.
Хомяковская критика католичества (впрочем, как и критика его Достоевским, что замечал еще В. В. Розанов) могла быть перенесена во многом и на реальную православную церковь. Первым это сделал Ю. Ф. Самарин в предисловии к тому богословских сочинений Хомякова (1867), а затем И. С. Аксаков в своих обвинениях в адрес православных иерархов, не гнушавшихся «вещественной силой» полицейских мер[274]. По глубочайшему убеждению славянофилов, вера может существовать лишь вне насилия.
Мы подошли ко второму после соборности фундаментальному принципу христианского любомудрия Хомякова. «Закон Христов есть свобода» – таково самое краткое определение, им данное[275]. Христианство отнесено мыслителем к «иранскому» типу религиозного сознания (начавшегося с иудаизма), преодолевающего косную необходимость, вырывающегося на просторы творческой духовности, в отличие от «кушитства», религии необходимости (к этому типу Хомяков относил все формы язычества, буддизм, а также и «искаженное» христианство – католичество). В первом случае вера есть «акт свободы», во втором – исключительное подчинение «авторитету». Богословская концепция Хомякова уже сама по себе была таким «актом свободы», русский богослов смело ступил на путь религиозного творчества, покусился на толкование внутреннего смысла учения Христа, разумеется, опираясь на Священное Писание и традицию святоотеческой литературы. Ю. Ф. Самарин свидетельствовал, что «Хомяков представлял собою оригинальное, почти небывалое у нас явление полнейшей свободы в религиозном сознании»[276]. Еще сильнее выражался Н. А. Бердяев: «Если в традиционном учении Церкви нет такого учения о свободе и человеке, то это указывает на его неполноту и недостаточную раскрытость христианской истины. В этом была творческая задача русской религиозной мысли»[277]. Впрочем, эта «свобода» показалась уклонением и подверглась жесткой критике хранителей ортодоксии, резонно при этом указывавших на необходимость подчинения в церкви[278]. Что касается Достоевского, то он был на стороне Самарина и решительно двинулся по хомяковскому пути осмысления христианства как религии свободы.
В «Братьях Карамазовых» в главе «Великий инквизитор» Достоевский показал, насколько глубоко он освоил философско-богословские уроки Хомякова. «Чудо, тайна и авторитет», выставленные на знамени Инквизитора, – развитие идей, на которых, по Хомякову, построилось искаженное христианство, христианство без Христа, ибо и сам Христос, согласно Хомякову, «не авторитет, а истина»[279]. Эти слова вполне мог бы сказать молчащий Христос Достоевского. Достоевский сравнительно с Хомяковым укрупнил и усилил аргументацию противной стороны: защитник авторитарного начала, Великий инквизитор представлен своеобразным апостолом христианства без Христа, нарочитым гуманистом, жалеющим «слабого» человека, не готового к свободе. Такие жалельщики всегда умели склонить на свою сторону толпу, для которой свобода совсем уж не такая очевидная ценность.
Развитие, продолжение славянофильской мысли, недосказанной самими основоположниками, – христология Достоевского. Он говорил: сияющая личность Христа. Это сияние разливается во всех романах, начиная с «Преступления и наказания», и чем мрачнее описываемый автором современный мир, тем, кажется, ярче светит нездешний лик. Образ Христа в романной поэтике Достоевского, равно как и в поэтике «Дневника писателя», – высшая инстанция Истины и одновременно критерий Красоты. В мире Достоевского вначале был образ Его, и только потом – идея, мораль, поучение.
Очевидно, как хорошо Достоевский усвоил уроки Хомякова. Можно даже сказать: присвоил его философско-богословские открытия. Точно так же он поступил когда-то с интеллектуальной собственностью Аполлона Григорьева. Для гения нет чужой собственности в области духа, он в себе, в своей творческой личности воплощает соборность национальной и общечеловеческой культуры.
Достоевский не повторял зады воспринятого им учения, о чем говорит хотя бы то, что он соединил в себе вечно текучего Аполлона Григорьева с неколебимо последовательным Алексеем Хомяковым. Он проникся истиной славянофильствующих и додумал ее по-своему. Дискурс, устремленный к целостности человеческого духа, он облек плотью художественной реальности в романной пенталогии «русской идеи», сопровождаемой злободневным комментарием «Дневника писателя». Уже поэтому историю славянофильства недостаточно рассматривать как историю мысли – она, несомненно, входит в историю русской культуры. Мир Достоевского не существует вне этой связи.
Еще раз вернемся к словам, которые Достоевский мог прочесть в томе сочинений Хомякова 1861 года и которые, что не удивительно, совпали с его собственными выводами: «Отделенная личность есть совершенное бессилие и внутренний непримиренный разлад».
Поэтика раннего Достоевского зиждилась на законах расщепленного, «разорванного» сознания. В этом уже тогда виделась автору трагедия современного человека и казалось, что иное, целостное состояние им безвозвратно утрачено, как потеряно то Доброе Село, из которого происходила Варенька Доброселова. Любопытно, что именно славянофильская критика поставила тогда вопрос о тупиковости избранного молодым автором направления, колеблющегося между мечтательным и реальным. Но если история «Бедных людей» – это история трагической несостоятельности разъединенных людей, то «Неточка Незванова» (нет незваных!) находится уже на выходе из этого замкнутого на себе духовного пространства.
Начало новому этапу творчества Достоевского, несомненно, положили «Записки из подполья», трагедия духовного разложения уединенного сознания. Мерещится идеал, как говаривал сам автор, – это предполагаемый и зовущий к себе полюс антиэгоизма, открытость личности вовне, к другому, что на соседних журнальных страницах было выражено с открытой, какой-то даже простодушной прямотой:
«Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, <…> ничего не может и сделать другого из своей личности <…> как отдать ее всю всем <…>. Это закон природы; к этому тянет нормального человека» (V, 79). Эта мысль имеет фундаментальное значение в художественной антропологии писателя. В начале ХХ века перед нею в недоумении остановился Андре Жид: примирение, то есть преодоление крайностей «индивидуализма и самоотречения», показалось даже нелепым «с точки зрения западного сознания», личностно ориентированного, но открылся наконец и ему, этому сознанию, источник, питавший Достоевского: «Это решение указано ему Христом: “Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее”»[280].
Может быть, для того и явился в этот мир русский писатель Достоевский, чтобы растолковать данную задолго до него истину: «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Евангелие от Иоанна – эпиграф к роману «Братья Карамазовы» – эпитафия на могиле Достоевского).
К 1864 году относится набросок статьи «Социализм и христианство», где соотношение «личного» и «общего» положено Достоевским в основу периодизации истории человечества. На первом этапе «человек живет массами», «непосредственно». На втором, «переходном», выделившаяся из массы личность становится во «враждебное, отрицательное отношение к авторитетному закону масс и всех». Наконец, третий исторический этап развития: «Человек возвращается в массу, в непосредственную жизнь <…>, но как? Не авторитетно, а, напротив, в высшей степени самовольно и сознательно» (XX, 191–194).
Историософия Достоевского, воплощенная затем в художественной форме в «Сне смешного человека», в целом следует славянофильству в общем понимании исторического развития как возвращения «я» ко «всем». Достоевский лишь уточняет, что средний, переходный момент этого процесса – отпочкование личности – не провал истории, не пустое время, но необходимость, пусть «болезненная» и трагическая. Человечество, по Достоевскому, как бы повторяет путь отдельного человека: от непосредственного, детского – через бездну сомнения, через утрату «веры и в Бога» – к зрелой и теперь уже свободной «непосредственности». Не растворение и утрата личности[281] смысл этого процесса, а качественно новое утверждение ее.
В. А. Никитин
Священник Павел Флоренский и А. С. Хомяков. Парадоксы и метаморфозы славянофильства
Творческое наследие А. С. Хомякова и священника Павла Флоренского имеет большое значение для анализа, осмысления идейной эволюции и метаморфоз славянофильства. Парадоксально, что, хотя Хомякова можно считать идейным предшественником Флоренского, именно о. Павел подверг некоторые идеи Хомякова довольно существенной критике. Оба мыслителя отличались энциклопедичностью познаний, синтетическим складом ума и глубокими интуициями, оба сделали открытия и изобретения в области естественнонаучной («удельный вес» Флоренского здесь гораздо значительнее), оба были самобытными поэтами (пальма первенства здесь за Хомяковым).
Со славянофилами, в частности с Хомяковым, Флоренского связывает прежде всего историческая память, неотделимая от пафоса почвенности: «Славянофильство, в его раннейших стадиях, – писал Флоренский Федору Дмитриевичу Самарину 1 августа 1912 года, – это anamnesis (припоминание) чего-то дорогого, давно знакомого, но позабытого, словно воспоминание детства… И то лучшее, что думается относительно русской культуры, всегда органически срастается со славянофильством. Вот почему славянофильские идеи как символ всегда являются в моем сознании центром кристаллизации всяких идейных движений» (НИОР РГБ, ф. 265, ед. хр. 205.29, л. 3–4).
Ф. Д. Самарин в своем ответе высказал знаменательные обобщения:
Не умею Вам передать, как меня радует то, что Вы пишете о славянофильстве и о Вашем отношении к нему. Вы совершенно верно, думается мне, определили значение славянофильства в умственной жизни нашего общества. Его сила, конечно, в том, что оно было первым ярким проявлением русского народного самосознания. Только теперь начинают это понимать, и потому только теперь настает пора для правильной оценки того, что высказано и сделано славянофилами. Однако и теперь, к сожалению, мало еще людей, способных, например, вполне освоиться с мыслью Хомякова и судить о ней самостоятельно. С этим не справился и Бердяев, несмотря на то, что он, видимо, исполнен сочувствием к Хомякову и посвятил немало труда на его изучение (Самарин подразумевает книгу Бердяева «А. С. Хомяков» – М., 1912. – Прим. авт.). А Гершензон при всем своем литературном таланте и при всем проявляемом им интересе к славянофильству, – родоначальника этого направления совсем знать не хочет, и если бы даже знал, то, видимо, и понять в нем ничего бы не мог (Памяти Ф. Д. Самарина. Сергиев Посад, 1917. С. 15).
Далее, обращаясь к Флоренскому, Самарин пишет:
Признавая свое духовное родство с Хомяковым и его ближайшими друзьями, Вы, конечно, ничуть не жертвуя своей самостоятельностью, примыкаете к тому умственному течению, которое оказалось наиболее здоровым и жизнеспособным из всех наших так называемых направлений. Казалось еще недавно (и многие в этом были искренно убеждены), что славянофильство давно умерло, погребено и не воскреснет. Теперь даже люди совсем другого склада мыслей не решаются это утверждать; напротив, у этих самых “отпетых” славянофилов ищут и находят многое такое, что оказывается пригодным для возрождения духовной жизни в наше время, исполненное всякого рода разочарований. Это оправдавшее себя, таким образом, могучее течение когда-нибудь вынесет нас, я твердо верю, из того круговорота, которым мы захвачены и который грозит нам духовной гибелью (Там же. С. 16).
Через шесть лет В. В. Розанов, как бы подтверждая характеристику Самарина, назвал Флоренского вождем всего молодого славянофильства, под воздействием которого находится множество умов и сердец в Москве, Сергиевом Посаде, Петербурге и всей России (см.: Спасовский М. В. В. Розанов в последние годы своей жизни. Берлин. 1923. С. 62). Именно эта репутация вождя славянофилов, поборника Православия и ревнителя церковности, убежденного монархиста и идейного вдохновителя «русской идеи», сторонника реставрации всего дореволюционного уклада жизни привели впоследствии к аресту, ссылкам и безвременной кончине отца Павла Флоренского, священномученика милостью Божией (расстрелян 8 декабря 1937 года).
Сам Флоренский глубоко чтил память Хомякова, считал его «величайшим идейным борцом за Святую Русь», подчеркивал благородство его личности и безупречную честность его мысли. «Хомяков, – писал Флоренский, – и как личность, и как мыслитель, величина настолько большая, даже исключительно большая, – что апологетический тон в отношении к нему и к его воззрениям представляется как будто излишним» (Вокруг Хомякова. С. 4).
В экклезиологии (то есть учении о Церкви) Хомякова и Флоренского, на наш взгляд, очень много общего. Мы имеем в виду сам пафос православной соборности, утверждение необходимости живого церковного опыта. Вне такого опыта, подчеркивал Хомяков, непостижимо ни Писание, ни Предание, ни дело. Приобщенному же к духу соборности единство их самоочевидно и явно по духу благодати, живущему и действующему прежде всего в Церкви (см.: «Церковь одна»). Именно эта мысль воодушевляет и пронизывает знаменитую книгу Флоренского «Столп и утверждение Истины». Но наиболее полно отношение Флоренского к Хомякову запечатлелось в его статье «Около Хомякова», опубликованной в журнале «Богословский вестник» (1916. № 7–8), а затем вышедшей отдельным изданием (Сергиев Посад, 1916).
Статья эта написана в форме развернутой рецензии на двухтомную монографию профессора В. В. Завитневича «Алексей Степанович Хомяков» (Т. 1. Киев, 1902; Т. 2. Киев, 1913). Но это не просто рецензия, а своеобразное подведение итога многолетнему изучению Хомякова Флоренским.
Отдавая дань уважения исследованию маститого профессора (Завитневич работал над своей монографией более 20 лет, ее объем превзошел 2000 страниц!), Флоренский тем не менее не может воздержаться от упреков в отсутствии самостоятельности, вследствие сугубо описательного метода Завитневича, в неумении взглянуть на исследуемый предмет со стороны, что невольно граничит с неизбежным эпигонством. Флоренский сравнивает труд Завитневича с уменьшенной копией, точно передающей рисунок оригинала, но не более того: «Рисунок проф. Завитневича, формально правильный и точный, походит на калькированную сводку ровными линиями без нажимов: все контуры – одинаковой толщины, рисунок без тени и красок… Ничто не задевает заживо в этих обширных томах, и по ним тащишься без оживления, радости и гнева, как по длинной-предлинной однообразной аллее» (с. 20).
Не вдаваясь в дальнейшую оценку упомянутой монографии, будем признательны ее автору хотя бы за то, что он дал творческий импульс для рецензии Флоренского, благодаря которой мы можем теперь с большой уверенностью судить об отношении отца Павла к Хомякову и славянофильству вообще.
Основной из тревожных вопросов, который, по мнению Флоренского, возбуждал Хомякова, – подозрение в протестантизме. Сущность протестантизма, как подчеркивал сам Хомяков, сводится к протесту против католицизма при сохранении, однако, основных предпосылок католицизма.
Так ли это? – вопрошает Флоренский, подвергая ретроспективному анализу концепцию Хомякова, и справедливо отмечает, что развитие протестантизма (уже после кончины Хомякова) обнаружило в его основе, как главного выразителя культуры нового времени, наличие возрожденческого гуманизма, сущность которого – человекоутверждение, человекобожие, то есть, прибегая к философским терминам, имманентизм. Флоренский же подчеркивает, что существо Православия есть онтологизм – «приятие реальности от Бога, как данной, а не человеком творимой, – смирение и благодарение» (с. 21).
Нельзя не согласиться с Флоренским, когда он высказывает глубокую мысль: критика (надо сказать, односторонняя) Хомяковым католицизма легко переносима и на Православие: «…выпалывая плевелы католицизма, не рискует ли такая полемика вырвать из почвы и пшеницу Православия?» (с. 15).
Занимаясь изучением другого гениального мыслителя – Н. Ф. Федорова (1829–1903), мы должны признать, что у него много общего с Хомяковым; можно с определенной долей уверенности говорить даже о влиянии Хомякова на Федорова: столь же резкая, весьма радикальная критика католицизма имеет место и у Федорова, который договаривается до следующего утверждения (цитируем по неизданной рукописи): «Католицизм есть религия ужаса, управление католической Церковью – терроризм (! – В. Н.). Причиною воскресения там является не любовь, восстанавливающая жизнь, а гнев, – гнев раскрывает могилы, гнев выбрасывает тела, которым жизнь возвращается под грозные звуки трубы: Христос – неумолимый Судия, даже Дева Мария не ходатаица, а все святые – обвинители» (НИОР РГБ, ф. 657). Между тем картину Страшного Суда и Православная Церковь представляет примерно так же, как Католическая. Эту обличительную тираду Федорова (и другие аналогичные высказывания Федорова и Хомякова) легко проецировать на Православие.
К сомнительным сторонам хомяковского богословия Флоренский относит также критику католического учения о церковных Таинствах, равно как и критику протестантского учения о Богодухновенности Библии. Он был убежден, что «замена чисто юридических понятий понятиями социологическими, на которых зиждется все построение Хомякова, вовсе не доказывает еще истинности его учения, а доказывает только, что право и принуждение, – стихию романских народов, – он хочет вытеснить общественностью и родственностью, – стихиею народов славянских» (с. 24). «Это, может быть, и хорошо, – продолжает Флоренский, – но замена одной земной силы другою не решает вопроса: община как таковая вовсе не есть, сама по себе, приближение к Церкви». Тут, думается, Флоренский не только глубоко прав, но и оказывается провидцем; мы можем судить об этом, учитывая весь трагический опыт коллективизации в 1930-е годы, разворачивавшейся на селе параллельно с деятельностью «Союза воинствующих безбожников». Об этом до сих пор безмолвно вопиют поруганные храмы…
Отмечая двойственность Хомякова, Флоренский задается вопросом, основал ли он в действительности новую школу подлинно православного (а не католического и не протестантского) богословия или же учение Хомякова является утонченным рационализмом, «гегельянством», как несколько наивно выражались в свое время противники Хомякова. Следует помнить, что Флоренский отрицательно относился к рационализму, считая его системой «гибких и ядовитых» формул, разъедающих сами основы церковности.
Далее Флоренский вопрошает: был ли в действительности Хомяков верным охранителем самодержавия или, наоборот, являлся творцом наиболее опасной формы эгалитарности, то есть уравнительности? И наконец, третье вопрошание Флоренского: был ли Хомяков охранителем и углубителем корней Святой Руси или, наоборот, фактическим искоренителем ее традиционных основ во имя некоего мечтательного образа «проектируемой России будущего»?
Вопросы эти, поставленные очень остро, и в настоящее время не утратили своей чрезвычайной актуальности.
Флоренский отмечает, что совсем не случайны притязания на творческое наследие Хомякова не только со стороны М. Н. Каткова и позднейших славянофилов-государственников, но и со стороны народников и эсеров. Флоренский обращает внимание на чрезмерную эластичность хомяковских формул, «удобопревратимых, когда ими пользуется человек партии» (с. 16–17). Однако тут же он делает многозначительную оговорку, что отнюдь не имеет права и основания считать, что эти вопросы должны разрешиться в сторону, неблагоприятную для Хомякова; но то,что они должны быть поставлены, и в настоящее время в особенности, – в этом Флоренский не сомневается.
Упрекая Хомякова в отсутствии подлинно православного онтологизма, Флоренский считает, что теориям Хомякова свойствен несомненный привкус имманентизма. Здесь он, безусловно, расходится с Н. А. Бердяевым, книгу которого о Хомякове (А. С. Хомяков. М., 1912) считает, по сравнению с монографией Завитневича, гораздо более интересной, актуальной, но не вполне церковной и недостаточно обстоятельной.
Заслуживает особого внимания тот факт, что Бердяев откликнулся на рецензию Флоренского статьей «Идеи и жизнь. Хомяков и священник П. А. Флоренский» (Русская мысль. 1917. № 2. С. 72–81), в которой выступил на защиту Хомякова от упреков Флоренского в недостаточной православности и, в частности, от упреков в имманентизме.
Работу Флоренского «Около Хомякова» Бердяев охарактеризовал в целом как «крупное событие» и в то же время «настоящий скандал» в право-православном, славянофильствующем лагере. Не без преувеличения, впадая временами в пафос оракула-обличителя, ставя точки над i по собственному произволу, Бердяев заклеймил статью Флоренского как акт отречения от Хомякова. Со свойственной ему блистательной диалектикой и изобретательностью мысли Бердяев противопоставил Флоренского и Хомякова, с одной стороны, как апологета официального Православия, принуждения и покорности, с другой – как поборника духовной свободы и общественно-церковного либерализма. Замечательно и глубоко поучительно писал Бердяев: «И Хомяков, и Достоевский хотели видеть в русском народе такую свободу духа, Христову свободу, которой они не находили у народов Западной Европы. Священник Флоренский разрывает не только с Хомяковым, но и с Достоевским, он принужден искать иных истоков – в епископе Феофане Затворнике, в митрополите Филарете (Дроздове), в православии официальном… Он, именно он, – восклицает с неподдельным возмущением Бердяев, – отщепенец, изменивший заветам религиозной души, ея духовным алканиям, ея взысканиям Града Грядущего» (Указ. соч. С. 74). Здесь, думается, Бердяев не только впадает в присущий ему максимализм, но и не прав по существу. Гораздо больше оснований рассматривать статью Флоренского «Около Хомякова» не как антиславянофильский манифест, но лишь как критику отдельных моментов, которая отнюдь не подрывает авторитета старших славянофилов.
Впоследствии, уже в эмиграции, Бердяев произвел некоторую «переоценку ценностей», в частности смягчил свое пристрастное отношение к Флоренскому, который олицетворял для него «стилизованное православие». В «Русской идее», одной из последних своих работ, Бердяев пишет, что консервативность и правость Флоренского носили не столько реалистический, сколько романтический характер, положительно оценивает его борьбу с рационализмом в богословии и философии, в защиту антиномичности, а также постановку проблемы о Софии Премудрости Божией, о соотношении космической жизни и тварного мира (см.: Русская идея. Париж, 1971. С. 238–240).
В известной мере пересмотрел Бердяев и свою точку зрения относительно Флоренского и Хомякова. В своей малоизвестной рецензии на книгу графа Ю. П. Граббе «Алексей Степанович Хомяков» (Варшава, 1929) Бердяев как будто соглашается с Флоренским, когда пишет: «Хомякову была чужда мистическая сторона христианства… Боязнь магии искажала его понимание Таинств» (Путь. Париж, 1939. № 17).
В заключение следует сказать, что в оценке Хомякова как гениального мыслителя, в учении которого русская национальная мысль осознала себя, выразила своеобразие своих духовных исканий, Бердяев и Флоренский были солидарны. В то же время их взгляды почти совпадали в оценке того, что религиозное сознание Хомякова было отмечено печатью конфессионализма, было именно восточное, а не вселенское, оставалось чуждым идее христианского единства, было слишком радикально направлено против католического Запада, которому Хомяков отказывал даже в принадлежности к Церкви Христовой. Именно на этой почве, указывал Бердяев, выросли все грехи славянофильства (и неославянофильства, добавим мы). В этом его ограниченность, но в этом и диалектическая неизбежность развития любого национально-мессианского самосознания. Остановка на этой стадии без перехода к идее вселенского единства чревата рецидивами квазиправославного национализма, с проявлениями которого мы сегодня нередко сталкиваемся. Увы. В этом, на мой взгляд, один из парадоксов (если не сказать – пароксизмов) в эволюции славянофильства.
Протоиерей Валентин Асмус
Критика А. С. Хомякова у П. А. Флоренского
Последние годы перед революцией – время напряженной догматической борьбы, которая некоторыми ее участниками воспринималась как судьбоносная для России. Так, один из главных участников спора об Имени Божием иеросхимонах Антоний Булатович еще 25 марта 1914 года предупреждал Государя Николая II о «великом гневе Божием и тяжких кapax» и «бедствиях», которые постигнут Россию, если Царь не остановит «отступление от истинных догматов» (копия письма, сохранившаяся в архиве свящ. Флоренского[282]). Сам Флоренский активно участвовал в споре об Имени Божием и был в большой степени единомыслен с Булатовичем. Прот. С. Булгаков пишет, что в любви к Царю, нежелании революции и неприятии «интеллигентской черни», которая ее хотела, с ним был солидарен единственно его друг П. А. Флоренский, который «делил» его «чувства в сознании неотвратимого и отдавался обычному у него amor fati»[283]. Можно только сомневаться в том, что два друга одинаково понимали глубинные причины надвигавшейся катастрофы. Булгаков был весь в политических страстях. Флоренский же, по своему философическому темпераменту, хотел видеть духовные основы событий. Действительно, было бы унижением для русских видеть Россию жертвой уголовников-большевиков, или масонов-думцев («лучших людей России», как назвал их в пароксизме самоослепления Родзянко), или «бездарных генералов и министров». Прозрение Булатовича – о том, что «время начаться суду с дома Божия» (1 Пет. 4, 17). Такое видение превращает революцию в высокую трагедию, где источник гибели не несчастный случай, но духовный грех самого героя, некая hybris – в данном случае догматическое отступление. Надо отдать должное Флоренскому – он не ставит себя в позу судьи, а только лишь ставит вопросы, выражает догадки, предположения и недоумения. Впрочем, и странно было бы ему надевать тогу непогрешимости, ибо почти одновременно с «Около Хомякова» (закончено 25 января 1916 г.) он вместе с тем же Булгаковым издал c полусочувственным предисловием хлыстовские откровения Шмидт[284].
Правда, издание было анонимно, без упоминания Флоренского, Булгакова и даже издательства «Путь», со склада которого оно продавалось.
При всем сочувствии Флоренского имяславию он понимал, что противники этого движения могут уже то поставить в свое оправдание, что защищают депозит веры от нового догмата, ибо афонские «имябожники» требовали не меньше как догматизации их учения.
В то же время неправота таких противников имяславия, как архиепископ Антоний (Храповицкий), явствовала для Флоренского не из их полемики с имяславцами, а из некоторых основных положений их мысли. «Около Хомякова» – работа не только и даже не столько о Хомякове, сколько о его последователях в русском богословии. «По плодам их познаете их», – говорит Флоренский oб этих последователях, называя имена не только двух Антониев (Вадковского и Храповицкого) и архиепископа Сергия (Старогородского), но и графа Л. Н. Толстого, а с другой стороны – М. А. Новоселова[285]. Мог бы он назвать и своего академического коллегу архимандрита Илариона (Троицкого), который в радикальном своем антиюридизме отрицал саму тайну Искупления и даже усматривал во Христе греховную человеческую волю[286].
Главная характеристика Хомякова у Флоренского – двойственность: «<…> удивительная эластичность хомяковских формул, в его блестящей диалектике и в его сочном и убежденном уме обладающих мощной убедительностью, но почти пустых и потому удобопревратимых, когда ими пользуется человек партии»[287]. Полемика с крайностями католичества, «выпалывая плевелы католичества, не рискует ли <…> вырвать из почвы и пшеницу православия <…> отрицанием авторитета в Церкви <…>, начала страха, начала власти и обязательности канонического строя»[288]. Флоренский видит в имманентизме протестантства и всей новоевропейской культуры диаметральную противоположность православному онтологизму. Хомяков с изобретенными им идеологемами иранства и кушитства оказывается на стороне имманентизма с его «протестантским самоутверждением человеческого Я», в то время как в кушитстве «карикатурно представлены многие черты онтологизма»[289]. Сама истина церковного вероучения истинна потому, что вся совокупность Церкви ее выразила – Бог как бы обязан открыть истину тем, кто пребывает в единении любви. Хомяков легко забывает, что само по себе человеческое единение, даже и в любви, не может гарантировать истины. Кто доказал, что любовь отсутствует у неправославных? Католическая Церковь не намного ли больше Православной по числу верующих? Не были ли большинством давным-давно отпавшие от Церкви монофизиты? Если, по Хомякову, Рим похищает право всей Церкви на формирование, то почему такое право принадлежало Константинополю, который в определенные моменты истории в лице императора и немногих членов патриаршей курии решал догматические вопросы, хотя бы с помощью механизма вселенских Соборов?
Длинный список сомнений Флоренского по поводу Хомякова был неполон без той замечательной защиты самодержавия, которую предлагает Флоренский перед лицом хомяковского учения о власти царя как результата общественного договора.
Высшее оправдание Флоренского – в той бешеной, непристойной реакции на его работу, какую выдал Бердяев. Бердяев показал, что ему и его единомышленникам нужна Церковь не только без царя, но и с принципом как основным конституирующим началом.
Революция позволила вылиться всему нецерковному, что было у Хомякова и его последователей, в формы обновленчества, после опыта которого все поставленные Флоренским вопросы должны быть внимательно изучены, и получить новые ответы.
С. Г. Семенова
Славянофилы и Николай Федоров: религиозно-философский диалог
Известно, что начала самобытной русской философии как философии религиозной, православной были заложены славянофилами, что суть русского логоса в его отличии от западноевропейского способа мышления была раскрыта ими же. Размышляя над особыми задатками России, которые и позволили родиться здесь проекту воскрешения, Николай Федоров (1829–1903), родоначальник активно-христианской мысли, автор двухтомной «Философии общего дела», отмечает многое из того, над чем размышляли славянофилы и что также было предметом их надежды на особый ее путь в истории: это и крестьянская основа хозяйствования страны, земледельческий быт, община, где русский мыслитель выделяет несколько особо важных для него черт, способных к проективному расширению: отсутствие вражды между отцами и детьми, «зародыш учения о, так сказать, круговой поруке в общем, а не личном только спасении»[290], стремление не к излишней мануфактурной роскоши, а к «прочному обеспечению существования», что «в последнем результате есть бессмертие» (I, 199), служилое государство, особое континентальное положение, собирание земель, народные идеалы родственности и братства в противоположность договорно-юридическим отношениям и институтам, правда. против отчужденного права… «Особенности нашего характера, – писал при этом Федоров, – доказывают лишь то, что и славянское племя не составляет исключения в среде народов, что и оно так же не похоже на другие народы, как евреи не были похожи на греков, а греки на римлян. Как романское племя резко отличается от немецкого, так и славянское племя решительно не имеет права претендовать на исключительное положение – оставаться всегда бесцветным, ничего не внести во всемирную историю, хотя такое положение было бы гораздо легче, несравненно покойнее» (I, 200).
Эту трудную работу национального самосознания, работу приведения в единство мысли, чувства и воли и начали представители первой волны славянофильства, так называемые старшие славянофилы, и прежде всего И. В. Киреевский и А. С. Хомяков, на мысль которых главным образом оглядывается Федоров. И как бы ни полемизировал философ всеобщего дела с высоты идеала активного христианства, уже вызревшего в его мысли, с рядом положений их доктрин, недаром же называет он свое учение «истинным, новым славянофильством» (II, 196).
Начнем с тех капитальных подходов и тем, что были явно продолжены – в новом конкретном раскрытии и углублении – в федоровской философии, таившейся для более-менее широкой огласки до начала следующего, XX века. В своих работах «В ответ А. С. Хомякову» (1839), «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России» (1852), «О необходимости и возможности новых начал для философии» (посмертно – 1856), «Отрывки» (посмертно – 1857) Киреевский провел, по определению В. В. Розанова, «самые общие разграничивающие черты между культурным сложением западноевропейского мира и мира восточнославянского, в частности русского»[291], уловив в первом преобладающее значение «чистого, голого разума, на себе самом основанного, выше себя и вне себя ничего не признающего и являющегося в двух свойственных ему видах – в виде формальной отвлеченности и отвлеченной чувственности»[292]. Тот же Розанов, оценивая мысль Киреевского, великолепно вместил основной принцип западного ума в формулу: «Истина есть то, что доказано», уловлено «сетью силлогизмов», чредой эмпирического наблюдения и опыта. Киреевский, на мой взгляд, среди других славянофилов[293] смотрится своего рода русским, православным Кантом: он тоже озабочен более всего вопросом гносеологии, в том же разрезе возможности истинного познания, его инструментов и границ. Правда, в отличие от Канта, русский мыслитель снимает эти границы, выдвигая в качестве органа познания не рационально-логический разум, а гиперлогический, верующее мышление, собравшее воедино все умственные, созерцательные, душевные, интуитивные силы проникновения и понимания. При этом главным условием истинного познания становится не «внешняя связь понятий», а «правильное внутреннее состояние мыслящего духа»[294], иначе говоря, верный строй целостного духовно-душевно-телесного состава человека познающего, полнота его живого восприятия и оценки себя и мира.
Киреевский констатирует закономерное уменьшение влияния западной философии, недавно царственной, но к концу 1830-х годов уступившей свое интеллектуальное лидерство политике, общественным вопросам. Да и могло ли быть иначе, когда в магистральной своей линии «рационального самомышления» она достигла (прежде всего в Гегеле) своего предела, «последнего всевмещаемого вывода», в котором «все бытие мира является ему (человеку. – С. С.) прозрачной диалектикой его собственного разума»[295]. Систематика отвлеченно-рационального мышления не работает перед лицом мощных исторических сдвигов, социальных, практических задач, наконец, запросов живой человеческой личности. В своей критике преобладающего типа западного мышления Федоров во многом совпадает с анализом Киреевского, и прежде всего с его обесцениванием теоретического разума, отделенного от других способностей человека (внутреннего созерцания, нравственного и эстетического чувства, душевного проникновения, воли к действию), которые в западной системе идей заперты каждая в свою рубрику и отдельную надобность[296]. В поисках новых начал философии, философии восточной, славянской, мысль Киреевского, как мы видим, движима пафосом синтеза всех сущностных сил человека, одушевляемых и как бы возглавляемых православной верой. Он практически первым в русской философии ставит проблему, чрезвычайно важную для учения всеобщего дела: о совместимости веры и знания, о согласовании их, что потерпело, по его мнению, фиаско на Западе. Там самостийный человеческий разум в своем победоносном (как тому казалось) философском полагании всего и вся из себя самого незаметно удаляет веру как лишнюю и ненужную, а стремление спасти веру у тех, кто этим озабочен, нередко ведет к ее разрыву с разумом (как стало ясно, чреватом безбожием), оставляя религию в благочестивой «слепоте», в отторжении от науки и знания. Для русского любомудра такой процесс взаимного расхождения огромных сфер человеческого духа (знания и веры) – «несчастное, но необходимое последствие внутреннего раздвоения самой веры» (296): образовавшийся вследствие отрыва римско-католической церкви от церкви вселенской[297] недостаток чистоты и цельности веры в ней ведет к поискам единства в отвлеченном мышлении, сначала в рассудочной средневековой схоластике, затем в рационалистической философии, в конце концов подложившей мину под родившее ее лоно. Это лоно, по Киреевскому, западное христианство, прежде всего в его опротестованной, лютеранской ипостаси, провозгласившей в вопросах веры «личное понимание каждого» (298).
При этом Киреевский точно схватывает неизбежные процессы секуляризации и материализации западной жизни, лишившейся живых основ религии. Ведь именно религия всегда несла в себе импульс онтологического восхождения. А тут этот импульс угас, и «человечество тем охотнее подчинялось влиянию рассудочной философии, что при отсутствии высших убеждений стремление к земному и благоразумно обыкновенному становится господствующим характером нравственного мира» (306–307)[298]. Логическая отвлеченность лежит у истоков не только сознания призрачности бытия (сомнения в самом существовании мира, как выражался Федоров об итоге западного философского развития), но и отвлеченности самосознания человека, для кого осталась одна безусловная реальность – физическая. сторона его личности. Ее-то и удовлетворяет, ублажает промышленно-мануфактурный строй жизни: «Промышленность управляет миром без веры и поэзии» (315). Таков у Киреевского диагноз фундаментального выбора и направления развития современной западной цивилизации, близкий Федорову.
Утвердив тонкую и ценную мысль о глубинной зависимости философии от первичных исповеданий веры того или иного народа и региона, Киреевский (как все славянофилы) настаивает на особом, определяющем значении Православия для типа и склада национального мышления. Мыслитель полагает, что явленное здесь в незыблемом церковном предании божественное откровение и человеческое мышление не пресекают и не давят друг друга: «неприкосновенность пределов» откровения оберегает его от «неправильных перетолкований естественного разума», с другой же стороны, «ограждает разум от неправильного вмешательства церковного авторитета» (317). Причем сама эта четкая отграненность двух областей рождает у верующего разума, то есть у людей православных и озабоченных философскими вопросами, сильное стремление согласовать свой разум с верой, с учением Церкви. Тем более что такой верующий разум не может не склоняться перед мнением великих отцов Церкви, ставивших философию на подчиненную ступень по отношению к вере. И тогда процесс согласования знания и веры будет заключаться не в том, чтобы отсекать в разуме все, идущее в кажущийся разрез с верой, а в том, чтобы возвысить сам разум, собрать «в живое общее средоточие» все способности человека, достичь такого «цельного зрения ума», которое наиболее глубоко схватывает все уровни бытия материального и духовного, добровольно соглашаясь на служебную роль философии в поле высших религиозных задач и целей. «Философия не есть одна из наук и не есть вера. Она общий итог и общее основание всех наук и проводник мысли между ними и верою» (321) – этот вывод Киреевского[299] в общем смысле родственен федоровскому деловому подходу к философии, которую он видел как проводника, конкретного разработчика религиозного идеала, раскладывающего его на все сущностные силы человека, находящие свое выражение в науках, технике, искусствах.
Высоко оценивая православную духовность, в свое время давшую свой высший цвет в патристике, Киреевский вовсе не ратует за простую и буквальную реставрацию учения святых отцов: да, оно должно быть для национальной философии «живительным зародышем и светлым указанием пути» (322), но нельзя не учитывать и разницу эпох развития образованности, тогдашней и сегодняшней. Тогда в окружении полуязыческой римской государственности, византийской власти, принадлежавшей «по большей части <…> еретикам и отступникам», пользовавшимся церковью «как средством для своей власти» (324), протест против враждебных начал мира сего выражался главным образом в уходе из этого мира во внутреннюю духовную свободу: «Чтобы спасти свои внутренние убеждения, христианин византийский мог только умереть для общественной жизни. <…> Пустыня и монастырь были не главным, но, можно сказать, единственным поприщем для христианского нравственного и умственного развития человека» (324–325). А нынешнее «развитие новых сторон наукообразной и общественной образованности требует и соответственного им развития философии» (322). Если прежде в вынужденно монастырско-аскетическом склонении жизни и деятельности патристическая философия ограничивалась «развитием внутренней, созерцательной жизни» (325), то теперь речь уже должна идти о религиозно-философских проекциях на современный мир, его семейно-гражданские, общественные, государственные отношения, на развитие наук и культуры.
Начатки «православно-христианского любомудрия» Киреевский, как и его идейные соратники, видит в древнерусской православной образованности. Общеизвестно, что религиозный и духовный мир Древней Руси был одной из точек отсчета той новой почвенно укорененной русской мысли, которую начали развивать славянофилы. Еще в статье «О старом и новом» (1839), заложившей первый камень в фундамент этой мысли, при всей явленной там трезвости взгляда на русскую старину, Хомяков утверждал необходимость воскрешения ее начал, однако на новом уровне образованности и самосознания, который позволит органическим, живым силам нации по-настоящему проявить себя. Тогда физическое и нравственное ее бытие, преодолев состояние бесконечного колебания между жизнью и смертью, присущее древней истории, обрело бы прочную устойчивость; набрало мощную инерцию возрастания жизнетворческих потенциалов. А учеба у Запада могла бы стать не пассивно подражательной, а творческой, подмечающей и раскрывающей потенции и смыслы европейских мыслительных, научных открытий, которые для самого Запада еще остались закрытыми и непонятыми. Соединить патриархальность местного, областного уклада жизни с государством и его миссией, и все это под путеводной звездой православной веры и Церкви – такой пока самый общий эскиз общественного идеала преподносился в начале славянофильского движения.
В своих работах начала 1850-х годов Киреевский уже выступает как пророк грядущего этапа развития православной философии, который как раз и открыл Федоров: этапа новой патристики[300], активного христианства, – а оно уже не просто, по чаянию славянофилов, обратилось к миру современных общественно-культурных проблем, но поставило богочеловеческое дело преображения мира задачей сынов и дочерей человеческих, наконец-то реально-практически усыновившихся Богу. Интересно, что новая православная философия, «проникнутая постоянной памятью об отношении всего временного к вечному и человеческого к божественному»[301], провозглашается Киреевским как коллективный результат «деятельности людей единомысленных», целой плеяды мыслителей нового склада, «разнообразно, но единомысленно стремящихся к одной цели» (423). Это в полной мере осуществилось в поразительном явлении русской религиозно-философской мысли последней трети XIX – первой трети XX века, первым и наиболее радикально-дерзновенным представителем которой и является Федоров.
По замыслу автора, статья «О необходимости и возможности новых начал для философии» представила преимущественно критическую часть (направленную против западных рационалистически-отвлеченных принципов философствования), за которой должна была последовать часть положительная с отрефлектированным явлением этих обещанных новых начал. Увы, и здесь отчасти проявился столь частый русский рок, сгущенно-гротескно запечатленный Гоголем в фигуре помещика Андрея Тентетникова, который все приступал к написанию грандиозного труда, долженствующего охватить Россию со всех сторон и углов, от хозяйства и политики до религии и философии, двинуть ее в захватывающее дух вперед, открыть «великую будущность», а кончал изгрызанием перьев, рисунками на бумаге и, возможно, какими-то набросками… Конечно, в истории русской мысли все было значительно плодотворнее: являлась критика, исторический обзор, а вот до целостной собственной системы творец дойти часто не успевал, оставляя разве что глубокомысленные черновые фрагменты. Так случилось и с Киреевским: вторая, главная, догматическая часть додумалась до стадии «Отрывков», опубликованных уже после смерти автора. На ряд положений этих отрывков специально и отреагировал Федоров в небольшой статье «О некоторых мыслях Киреевского».
При обычной своей строгости, даже некоторой предвзятости, особенно к явлениям, в чем-то ему близким, Федоров высказывает здесь вещи проницательные, прочерчивая разделительную линию между мыслью одного из родоначальников славянофильства и собственным активным христианством. Николай Федорович начинает с наброска: «Не для всех возможны, не для всех необходимы занятия богословские…», и протест его против этой мысли Киреевского сразу же взмывает к высотам идеала христианского дела: «Неправда! Для всех необходимы и для всех возможны! Во всяком случае, возможны для тех, кого, надо думать, преимущественно разумеет приведенное изречение – для так называемых “неученых”, “необразованных”. Новгородские мужики, созидая обыденный храм, в этот день в своем многоединстве на деле осуществляли тайну Триединства Божественного. Богословская мысль о Пресвятой Троице становилась у них богодейством, делом Божиим. И если бы новгородские мужики не ограничились храмовым делом, а могли бы перейти и к делу объединения уже не местного, а всеобщего, они достигли бы такой высоты мысли, о которой даже не снится ни западникам, ни славянофилам, хотя вторые спят больше западников» (II, 194). Так Федоров расширяет богословие, «одни слова о Боге и одни рассуждения о догматах» (II, 194) (что для него равнозначно употреблению Имени Божия всуе) до богодейства, условием чего становится уже известное нам превращение догматов в заповеди, заряжающие ум, сердце, волю всех для дела воистину всеобщего. И тогда богословие как богочеловекодействие. не просто может быть занятием всех, а должно для успеха Дела быть таковым.
Согласование «с коренными убеждениями веры» «главного занятия и каждого особого дела» всех, на чем настаивает Киреевский, кажется Федорову в нынешнем непотревоженном порядке природно-смертного бытия «пока еще ни для кого невозможным, если смотреть на него серьезно»: «Без планомерной же организации общего дела и при ведении “особых” (личных) дел врозь – какое может быть серьезное согласие дела и частного занятия с коренными убеждениями?» (II, 194).
Достоинством «целостного знания», выдвинутого Киреевским и Хомяковым, была – повторим – идея синтезирования всех воспринимающих, интеллектуальных, сердечных сил человека в акте познания, иначе говоря, настаивание на нравственно-душевных сторонах этого акта (к ним в своей идее соборности Хомяков отчетливо добавлял еще и любовь). Правильное познание предполагало для Киреевского правильное, соответственное внутренним убеждениям поведение и правильную жизнь, хотя и мыслимые в православных и национальных традициях, но еще не достигавших, на взгляд Федорова, требований делового вселенского христианства. Именно традиционный уклон Киреевского во внутренний труд личного благочестия, характерный вообще для пассивной веры с ее отсутствием заботы о всеобщем спасении, как раз требующего объединения и Дела, вызывал наиболее язвительные замечания Федорова: «У Киреевского благодаря вольности дворянства никакого занятия, кроме мысленного, никакого “особого” дела не было, и потому он трудную задачу всю жизнь обратить в одно дело уже очень легко решил! Занимался он, правда, с оптинскими старцами спасением своей собственной душеньки. Но это дело – внутреннее, исключительно личное и даже предполагающее гибель большинства… Для такого спасения нужно отказаться от всякого дела и проповедовать неделание. Для общего же спасения нужно всякое дело обратить в орудие общего спасения» (II, 194). Отметим, кстати, что подобная федоровская укоризна не может по-настоящему коснуться Хомякова: в статье «О старом и новом» он так описывал суть падения христианской идеи и дела еще в византийской церкви: «…христианин, забывая человечество, просил только личного душеспасения», – а церковь «уже не помнила, что ей поручено созидать здание всего человечества[302], отмечая, что именно такое христианство и было перенесено на Русь.
Особенно пристально Николай Федорович всмотрелся в два отрывка Киреевского: «О новом самосознании ума» и «Об определении веры», помещенные в книге В. Лясковского о братьях Киреевских (на которую непосредственно откликнулся Федоров) рядом с примечанием автора, что они для него равноценны по значению двум томам сочинений Киреевского. Федоров не мог не сочувствовать выраженному здесь «стремлению к <…> новому и живительному мышлению, долженствующему согласить веру и разум», как и потребности верующего мышления «собрать все отдельные части души в одну силу, отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разум и воля, и чувство, и совесть, и прекрасное, и истинное, и удивительное, и желанное, и справедливое, и милосердное, и весь объем ума сливается в одно живое единство»[303]. Только в таком единстве встает в своей полноте человеческая личность, чувствующая, сознающая свою связь с Божественной личностью, что составляет, по Киреевскому, сущность веры. Этот собранный воедино ум «создан для стремления к Единому Богу»[304]. Однако Федоров высказывает сомнение в том, что Киреевский действительно сумел преодолеть (хотя бы и в мысли своей) разрыв теоретического и практического разума, отъединение веры от знания, ибо не нашел у него среди всех совокупляемых человеческих сил «разума о хлебе насущном», насущном «в самом строгом смысле» обеспечения прочного и, следовательно, в пределе – неподвластного смертному разрушению существования. «Он (Киреевский. – С. С.) не задумывался над задачею, что всю природу надо сделать предметом (объектом) разума, чтобы не умереть с голода по мере увеличения населения на земле» (II, 195). И отсутствие мысли о такой всеобъемлюще практической науке и о таком преобразовательном направлении деятельности людей Федоров связывает с ущербом философии русского любомудра как представителя «сословия отживающего», которому «задумываться над вопросом о хлебе насущном было не нужно», – тогда как, утверждает в противовес ему философ общего дела, «не одним хлебом жив будет человек, но и не “одним умом”, хотя и “стремящимся к Единому Богу”» (II, 195).
В итоге само богомыслие одного из духовных отцов славянофильства таит, на взгляд Федорова, существенный изъян, который и не позволяет ему выйти на богочеловеческие перспективы, открывшиеся только философии активного христианства. Так, если в хомяковской соборности уже вызревает понимание сверхиндивидуальной, соборной природы сознания, благодатного органически-любовного единства членов Церкви, то Киреевский все же больше восчувствовал и утверждал персоналистическую связь каждого отдельного человека с Богом. Здесь самое существенное возражение Федорова: «Холод чувствуется <…> в определении Киреевским веры, не заключающем в себе ничего евангельского, детски-простого и чистого. “Сознание об отношении живой Божественной Личности к личности человеческой”, вместо сынов и дочерей человеческих в их совокупности или братстве и в их отношении к Богу отцов – вот его определение веры. <…> Это одиночное отношение человеческой личности к также одиночной Личности Божественной равнозначуще ли и равномощно ли оно отношению сынов человеческих, взятых в их братской совокупности, к Триединому Богу отцов, не мертвых, а живых? Конечно, нет! А между тем только это второе отношение к Богу прямо указывало бы, каковы должны быть должные отношения и людей друг к другу в их уподоблении Божественному Существу. Равным образом только здесь может быть ясна и цель совокупной, общей деятельности, направляемой верою, совмещающею в себе все догматы, не отделяя их от заповедей» (II, 195–196).
Не совсем точно Федоров приводит одну цитату из отрывка «О новом самосознании ума», кстати, не вошедшую в книгу Лясковского. Высказанное здесь сдвигает федоровскую аналитику в тему достаточно общественно-злободневную, хотя сама по себе мысль Киреевского касается обычной для него контроверзы западных и российских начал: «Своей науки (как и философии), своего искусства Россия не создала, а в западных удовлетворения не нашла. Не вынеся в них раздвоения веры и знания, внутренней и внешней жизни, мысли и дела, она жаждала единства, предчувствовала его» (II, 195)[305]. Вряд ли Николаю Федоровичу могло понравиться такое «чаадаевское» отрицание всякой самобытной науки и искусства в России, где уже были и Ломоносов, и Пушкин, и Гоголь, не говоря уже о русской иконописи и церковном зодчестве, но он обращает внимание на другое: «Но почему же, выражая верно отношение русского самосознания к западному, сам Киреевский не в мышлении своем, а в жизни оказался столь равнодушным к тому, что мешало во внутренней и внешней жизни родины осуществлению этого единства?» (II, 195). Федоров тут имеет в виду факт, констатируемый Лясковским: равнодушие Киреевского к вопросу об освобождении крестьян, поскольку главным и срочным для него оставалось «разрешение вопросов веры и нравственности»[306]. Николай Федорович резонно замечает: «Но если так, то приходится допустить, что вопрос об отношении господ к крестьянам находится вне нравственности. К сожалению, нравственность понималась так узко и ограниченно и не одними славянофилами… <…> С этой упрощенной точки зрения Киреевский мог не признавать блага в освобождении крестьян, но тогда он должен был бы признать зло в освобождении дворянства и поставить долг на место пустой свободы, заменить барщину государщиной» (II, 195).
Тут к месту остановиться на одном постоянном сюжете федоровской общественной мысли, так сказать, из области его историософских сожалений, принявших форму своего рода ретропроекта, упущенного русской историей. Роковой ее ошибкой Николай Федорович считал освобождение дворянства Екатериной II от обязательной службы государству с одновременным окончательным закабалением крестьян тому же освобожденному дворянству. Ко времени Крымской войны 1853–1856 годов (тяжелое поражение в которой стало поворотным пунктом в историческом движении России, уже почти неуклонно начавшей сползать ко все большей сословной, классовой, партийной вражде и борьбе и в итоге к революции) необходимо было, по мысли автора «Философии общего дела», восстановить служилый статус дворянства, вернувшись тем самым к старине, и освободить крестьян от крепостной зависимости от класса дворян-помещиков, чтобы и их поставить на службу государству (всеобщеобязательная воинская повинность, соединенная со всеобщеобязательным образованием, была не только необходима в тех чрезвычайных исторических обстоятельствах, но должна была в перспективе послужить делу реализации христианских чаяний преображения мира, общему делу регуляции разрушительных стихийных сил и победы над «последним врагом» – смертью). Царь-освободитель, конечно, совершил великое дело, полагал Федоров, но в духе начал европейских (в каком совершилось его прабабкой и освобождение дворян), ему не удалось найти самобытно-национального поворота реформ, с тем чтобы и дворяне, и крестьяне (то есть объединенное большинство русского народа) стали служить прямо царю, отечеству, отцам, Богу отцов, общехристианскому Делу. «Народ же всегда стоял крепко за самодержавие и требовал для себя не освобождения, а службы, но службы непосредственно царю и отечеству, такой службы, которую несло дворянство до своего освобождения при Екатерине II-й. <…> Влияние Запада, выразившееся не столько даже в западниках, сколько в славянофилах, исказило народное требование службы в освобождении от нее» (II, 23)[307].
Сама высота миссии дать органичное направление развитию русского ума и русского общества, которую возложили на себя славянофилы, побуждала Федорова предъявлять им (и в данном конкретном случае) наибольшие претензии. Так, он резко полемизирует с Юрием Самариным, одним из старших славянофилов, известным публицистом и общественным деятелем, точнее, с его мнением, высказанным в статье «Чему должны мы научиться?» (1856), запрещенной цензурой и ходившей в списках, где тот утверждал неизбежность поражения России в Крымской войне вследствие пороков николаевского режима: «Гордый славянофил, признающий самодержавие и говорящий конституционным языком, до того доводит свое поклонение Западу, что полагает, будто никакая сила не могла отвратить исторически законного исхода восточной войны. Другого исхода, по его мнению, быть не могло, и продолжение войны было бы безумным упорством… Но, искренно или неискренно, Европа объявляла войну рабовладельческой России; почему же Самарин и его собратья не предложили тогда же освобождение крестьян?![308] Не царь, а само дворянство должно было бы предложить и себя в службу, признав, что именно освобождение его, дворянства, от службы и обращение крестьян на службу ему, дворянству, и было причиною “исторически законного исхода войны”… Таким образом, на вопрос, поставленный Самариным в заглавии статьи, может быть один лишь ответ – должно было научиться винить себя, а не других» (II, 25).
Претензии и тон Федорова могут показаться чрезмерными для тех, кто не учитывает, что он выдвигал национально-объединительную нравственно-практическую, воодушевляющую альтернативу тому повороту исторических событий, который последовал за крымской катастрофой, унижением самодержавной России, торжеством демократического Запада, реформами, началом революционного брожения с его «восстанием молодого против старого, сынов против отцов» в студенческих кружках и забастовках, в нигилистическом направлении, в терроре (в чем Федоров видел «крайний нравственный упадок») – за всей этой еще относительно дальней прелюдией к революции… А ведь и интеллигенция, и та же молодежь, по точному чувству Николая Федоровича, хотела как раз того, что он предлагал: общего, самоотверженного служения цели благородной и высокой: «<…> все лучшее и особенно молодое в ней (в интеллигенции. – С. С.), требуя по недоразумению свободы, в сущности желало именно дела, службы и даже, можно сказать, ига, вследствие чего и делались орудием тех, которые указывали им дело, ведущее будто бы к свободе; благодаря такому настроению интеллигентной учащейся молодежи и образовалось в шестидесятых годах множество различных обществ, кружков, в которых была строгая дисциплина, подчиненность, не допускавшая никаких рассуждений. Требовалось, следовательно, не освобождение для того, чтобы было легче дышать, как это некоторые лицемерно или по недомыслию говорили тогда; дышать становилось невозможно именно вследствие отсутствия всякого дела, всякой обязанности, цели и смысла» (II, 26).
Учение всеобщего дела еще только формировалось в 1860–1870-е годы, в 1880–1890-е не смогло выйти в свет, в начале XX века, в предреволюционные годы, когда оно по меньшей мере дошло до крупнейших религиозных философов, почувствовавших его масштаб и вещую правду; те все же не сумели, по более позднему выражению С. Н. Булгакова, сказать ему ни «нет», ни решительного «да». Практический шанс для федоровского активного христианства как объединяющей идеологии был для России упущен, и разверзся кровавый галоп совсем другого братоубийственного опыта. В 1840-е – 1880-е годы авангардом выработки «православно-славянского» любомудрия, которое претендовало указать России ее истинный самобытный путь, были славянофилы, и Федорову надо было четко обозначить, что в их основоположениях не могло войти в «хлеб живой» богочеловеческого делового христианства.
И. М. Ивакин в своих «Воспоминаниях», составленных из его дневников, рассказывая о беседах с Федоровым, передает и его мнение о славянофилах, основное впечатление от их доктрин: «У славянофилов остается крайне неопределенно, что же такое православие. <…> У славянофилов все как-то неопределенно, все как-то нужно понимать внутренно, духовно… Штраус, описывая вход в Ерусалим, говорит, что, вероятно, в это время у Христа уже была мысль установить культ внутренний, духовный. <…> То же было у славянофилов, даже у Хомякова в его богословских трактатах. Относительно Троицы, напр<имер>, у него страшная неопределенность, мистичность. Славянофилы не умели прознавать за Троицей нравственного смысла, а между тем этим проникнуто все Евангелие, особенно Иоанна: “Я в Отце и Отец во Мне и тии едино суть” – вот Троица, хотя слова этого в Евангелиях и нет» (IV, 530). Как видим, ключевое здесь негативное определение – слово «неопределенность», которое варьируется во всех замечаниях и статьях Николая Федоровича о славянофилах: абрис настоящего онтологического христианского дела еще не прорисовывается в их построениях, особенно в конкретном, практическом смысле, как у самого Федорова: «Славянофилы много говорили о русской науке, но ничего определенного о свойствах и содержании этой науки сказать не могли, и это потому, что, воображая себя русскими, они были на самом деле иностранцами, и как иностранцы, они не понимали, какое важное значение в жизни народа имеет хлеб, обеспечение урожая, и даже не подумали, чтобы именно это сделать предметом науки, что именно в этом заключается предмет и содержание русской науки, как для Запада предмет науки заключается в мануфактурном производстве; точно так же никто из славянофилов не подумал о приложении способа, предложенного Карамзиным, самый же правоверный из славянофилов – Хомяков – выдумал какую-то паровую машину для несуществующей русской мануфактуры и отправил ее на выставку в Лондон» (III, 20). Иначе говоря, новую проективную русскую науку, совпадающую в данном случае с общечеловеческой[309], Федоров видит на путях существенного, субстанциального обеспечения жизни от голода, разрушительных стихий и смерти.
В заметке «Неопределенность мыслей славянофилов об единении» Федоров обращается к одной из центральных их идей, разработанной Хомяковым в экклезиологическом (церковном) смысле, но фактически примененной другими славянофилами уже в отражении на общественное бытие. Соборность являлась тогда в качестве гармонического принципа устроения, находимого ими в крестьянском мире: так было в учении К. С. Аксакова о земле[310], общине, стоящей на нравственно-христианских принципах, где личность утишена в своих эгоистически-самостных импульсах, свободно, «как в хоре», объединена и согласована с другими. Впрочем, сам Хомяков, невиданный до того в России тип светского богослова, впервые подключивший философское умозрение к вопросам христианско-православной веры, в упоминавшейся выше программной статье «О старом и новом» фактически формулировал принцип соборности именно в его проекции на социум: «<…> настало для нас время понимать, что человек достигает своей нравственной цели только в обществе, где силы каждого принадлежат всем и силы всех каждому»[311].
Во взгляде на общинность как характерную черту русско-славянского народного жизненного уклада, на ее самобытные, плодотворные качества – родственность, уважение общих целей и задач, отсутствие духа юридизма – Федоров, по сути, чрезвычайно созвучен славянофильским взглядам. Да и Церковная соборность Хомякова как «единство во множестве»[312], свободное единение членов Церкви на основе и в духе Христовой любви и благодати (свобода, основанная «на силе взаимной любви», «смирении взаимной любви»)[313], где каждая личность утверждает себя в своей цельности, разумности, творческом потенциале, в неразрывности со всеми, во многом описывает то, что Федоров называл всехъединством, для коего образец находится в бытии трех Божественных ипостасей, нераздельных и неслиянных. Правда, у самого Хомякова, чьи идеи соборности разбросаны большей частью в полемических сочинениях и письмах на французском языке, публиковавшихся первоначально за границей, прямо не раскрыто то, что Федоров считал главным: уподобление соборного всехъединства Божественной Троице, раскрытие догмата Троичности как заповеди для организации человеческого общежития на новых бессмертно-преображенных началах. Концентрированно суть своих претензий к пониманию соборности славянофилами Федоров выразил так: «Соборность славянофильство видит и в мирском слое славянства (община, артель), и в церковном (соборы). Конечно, оно видит в этом строе не завершение, а только предзнаменование великой, хотя и совсем неопределенной будущности. Но славянофильство вовсе не думает, не дает себе даже и труда подумать: во-первых, для чего, для какого дела нужно такое соединение сил? Какой долг нужно исполнить? Какой цели нужно достигнуть? Во-вторых, не думает оно также и о том, как, какими способами можно произвести теснейшее соединение в целом и в частях? В-третьих, славянофильство не задает даже вопроса, во имя кого и по какому образцу должно происходить собирание? Одним словом, славянофильство относится к будущему не активно, а пассивно, суесловя о любви и правде и злоупотребляя этими словами, особенно последним» (II, 193). Мы видим, что в серии этих кардинальных вопросов, какие славянофилы, по мнению Федорова, не поставили себе, он, по существу, очерчивает круг того нового содержания богочеловеческого дела, что раскрыло уже только активное христианство Федорова и русских религиозных философов конца XIX – первой трети XX века.
Философ и публицист В. А. Кожевников, близкий друг Федорова и будущий издатель его трудов, полагал, что на «нерасположение» Николая Федоровича к славянофилам, вызывавшее его резкости в их адрес, не всегда справедливые, повлияла одна конкретная история, связанная с самой чувствительной для мыслителя темой. Речь идет о сцене умирания поэта Николая Михайловича Языкова (1803–1847), друга и единомышленника славянофилов, которую передал в своих «Воспоминаниях о Н. М. Языкове» Михаил Петрович Погодин[314] (на них и ссылается Федоров): «За два дня до кончины, среди горячки, в ясную минуту возвратившегося сознания, вдруг обратился он к людям, стоявшим около его смертного одра, и спросил твердым голосом, веруют ли они воскресению мертвых»[315]. В письме к матери Киреевский описывал этот же предсмертный эпизод так: «Накануне кончины он (Языков. – С. С.) собрал вокруг себя всех живущих у него и у каждого поодиночке спрашивал, верят ли они воскресению душ? Когда видел, что они молчат, то просил их достать какую-то книгу, которая совсем переменит их образ мысли, – но они забыли название этой книги!»[316] Было отчего горестно изумиться и вскипеть от негодования великому борцу со смертью и философу воскрешения! Тут и спиритуальная, явно личная версия Киреевского о «воскресении душ» вместо целостного «воскресения мертвых», и дружное молчание на вопрос умирающего, и даже поразительное невнимание к последним словам Языкова о книге, которая убедила бы их в возможности восстания из мертвых[317]. Сам Федоров предполагал, что это была, скорее всего, вышедшая за шесть лет до того в Париже книга Шарля Стоффеля «Воскрешение»[318]. «Языков, – пишет Федоров, – обладавший сильным словом и привыкший видеть внимательных слушателей, должен был пережить страшные минуты при смерти, видя, что окружившие его <…>, считавшиеся его друзьями, не удостоили даже ответить на его вопрос» (II, 192). Для Федорова с его конкретно-цепким восприятием вещей этот эпизод стал своего рода лакмусовой бумажкой, проверкой на центральный пункт, по которому он судил людей: отношение к смерти, к возможности радикальной победы над ней.
Кстати, Николай Федорович особенно теплел сердцем к тем, у кого встречал проблески глубинно-христианского неприятия основного зла – смерти: так было с его отношением к Николаю Михайловичу Карамзину (1766–1826) за драгоценнейшее для философа воскрешения чувство-мысль русского писателя и историка, когда тот – в отличие от Гёте и его героя – сумел единственно правильно обозначить воистину прекрасное, высшее мгновение, достойное того, чтобы приказать тогда потоку времени: «Остановись!» Федоров так передавал выраженную Карамзиным «великую истину <…> в слишком мало оцененных словах: “Я бы сказал времени: „остановись!“, если бы мог тогда воскликнуть: „Воскресните, мертвые!“”»[319].
В письме 1895 года, скорее всего, неотправленном, к генералу А. А. Кирееву (1833–1910), публицисту, общественному деятелю, позднему славянофилу, кого Николай Федорович внимательно читал, следя и за его полемикой с Вл. Соловьевым по вопросу возможного соединения церквей, Федоров высказывает упрек в отсутствии у славянофилов конкретного дела для соборного единения, долга, высшей цели, средств ее достижения и образца, по которому «должно происходить собирание» (IV, 291), объясняя, почему это происходит: «Не замечать такой непрерывно и повсеместно действующей силы, как смерть, значит ли это сознавать действительность?» (IV, 292). Вот это игнорирование онтологического смертно-природного, гиблого фундамента, на котором славянофилы, особенно поздние, выстраивали свои прекрасные, национально-достойные общественные и религиозные проекты, надеясь на их исторический успех, и представлялось ему очередной утопией.
Только в общехристианском деле преодоления смерти, разрушительных природно-космических сил, несовершенства физической и нравственной природы смертного человека, в деле, заповеданном Христом и касающемся всех и каждого, и возможно, по убеждению Федорова, постепенное – с залогом настоящей прочности – соединение инославных (для начала), а потом и иноверных. В работе «Проект соединения церквей» философ представляет воссоединение распавшегося христианства как процесс длительный и приходящий к успеху лишь в векторе и поле онтологически-христианского дела: «Очевидно, что примирению церквей, примирению не временному, а вечному, исключающему войны внутренние и внешние, <…> должно предшествовать примирение верующих с неверующими, примирение знания с верою, принятие наукою христианства и усвоение науки христианством. Терпимости для этого дела примирения веры и знания недостаточно; чтобы состоялось их соединение, нужно сокрушение о раздоре верующих с неверующими, т. е. нужно печалование об их разъединении» (I, 377–378).
Вопрос о веротерпимости был из тех, которые разводили Федорова и большинство славянофилов. Для И. С. Аксакова, одного из темпераментных защитников свободы совести, религиозная нетерпимость основывается на чувствах и побуждениях, противных христианскому духу: на насилии, страхе, лицемерии; он считал «принцип религиозной свободы» органически присущим вере, «ибо все здание церкви стоит на том свободном действии духа, которое называется верою»[320]. Федоров видел в веротерпимости другое: выражение отчаяния человечества найти общую истину и верный путь, право на бесконечное блуждание среди частичных и ложных правд, релятивистский принцип (относительность всего и вся), зацикливающий человека в его неизменно-несовершенной природе. Со своей максималистской позиции, позиции сугубой религиозной серьезности, нацеливающей род людской, сынов человеческих и сынов Божьих, на единственно верное опознание своей задачи в мире, пророк всеобщего богочеловеческого дела так обрушивался на относительную историческую правду тех, кто на деле был так или иначе среди предшественников активного христианства, пусть еще не осознавая в полном объеме всех его главным образом онтологических целей: «В деле нашего подчинения Западу, нашего обезличения дальше идти нельзя, если уже партия, считающая себя самобытною (славянофилы), определяет православие, в котором видит нашу отличительную черту от Запада, веротерпимостью, составляющею принадлежность именно Запада, и притом эпохи упадка, когда иссякла всякая вера, потеряна всякая надежда на истину и на такое благо, которое могло бы объединить всех, которое исключало бы рознь. <…> Определять православие веротерпимостью тем удивительнее, что православие само себя определило не терпимостью ко вражде и розни, а именно печалованием о всякой розни и вражде» (I, 451). Иными словами, на прискорбное и вполне реальное, слишком даже реальное время расхождения и споров, вытеснения и борьбы (заполняющих историю как факт) вместо терпимости, спокойно узаконивающей состояние духовного разброда человечества, Федоров выдвигает православное понятие, православную реакцию печалования, с одной стороны, душевно-мягкую, вовсе не предполагающую полицейских мер пресечения, и вместе твердую в своем горестном неприятии такого положения вещей («печалование о несогласии, требующее и ведущее к общему делу» – I, 378).
И вместе с тем из всех славянофилов ближе всего к федоровскому пониманию христианской задачи в мире подошел как раз Иван Аксаков. У него есть положения, дорогие философу общего дела, углубленно им развитые: это и критика фетиша линейного секулярного прогресса, когда в противовес ему признается за истинный прогресс «лишь то, что согласно с истиною христианства»[321]; это и развенчание западной демократической лозунговой триады «свобода, равенство, братство» с указанием «целой бездны», лежащей между ними, «оголенными от всякой веры», и, казалось бы, близкими евангельскими принципами, с таким утверждением, поразительно совпадающим с федоровским источным кредо: «Ибо братство предполагает сыновство и без сыновства, без понятия об общем отце, немыслимо»[322]; это и указание на утопичность «мечтателей и поэтов», социальных реформаторов, в своих проектах земного счастья забывающих о смертоносных натуральных бедах («…какое же внешнее материальное благополучие там, где царствует болезнь, смерть – холеры, дифтериты, свирепствующие пуще царя Ирода, избивавшего младенцев?»[323]); это и метафизический идеал Божественного совершенства, поставленный как цель роду людскому: «…будьте совершенни яко Отец ваш небесный совершен есть» (Мф. 5: 48).
Наконец, самое существенное: к пути «личного, индивидуального» совершенствования и спасения, открытому каждому независимо от любых внешних обстоятельств (как чаще всего и единственно так воспринимают христианство), Иван Аксаков добавляет еще одни путь – «общемировой, исторический», понимая под ним «воздействие христианской истины на историческую судьбу и бытовое развитие всего человечества, медленный процесс брожения, перерождения, преобразования на дрожжах, брошенных в мир Христом»[324]. Закваска Христова уже вошла в тело земного человечества и мировой процесс вскисания, брожения, вызревания в нем высшего сознания, «совершеннолетнего» (как выражался Федоров) пришедшего «в меру возраста исполнения Христа» (как определяет Аксаков, вспоминая слова ап. Павла), продолжается в истории, готовя залоги будущего Царствия Божия. Правда, у Аксакова это лишь в общем виде заявленная, но не раскрытая историософская интуиция об органически-эволюционном движении рода людского к исполнению христианских эсхатологических чаяний. И хотя он высказывает замечательную мысль, что слово Божие – это «сила, действующая в истории человечества – именно чрез каждого человека в отдельности», его выводы не распространяются дальше воспитания этой силой «внутреннего человека»[325]. Отказав Церкви в «задаче практического социального переустройства в данную минуту» (что верно, если имеются в виду прагматические текущие задачи), Аксаков все же не дерзает сделать ее возглавителем христианского онтологического дела, так традиционно ограничив призвание церкви: «…хранение догмы и проповедь Евангелия, призыв индивидуумов к подвигу личного совершенствования и спасения»[326].
Славянофильство так и не совершило решающего скачка в осознании миссии не только отдельного человека, но рода людского в целом – стать коллективным орудием осуществления Божьей воли в мире, орудием реализации онтологических обетований христианства в их полноте, что и открывает новую бессмертно-преображенную, вселенскую эру бытия и творчества сознательных обоженных существ. Однако именно мыслители этого направления в своих идеалах «целостного знания», соборности, нравственных начал родственности, любви, гармонического согласия части и целого (личности и общины), христианской политики, в своих отдельных историософских прозрениях готовили в России явление активного христианства, идей богочеловечества, истории как «работы спасения», творческой эсхатологии русской религиозной мысли.
В. Е. Воронин
Славянофильские идеи и «великие реформы»: общественные взгляды великого князя Константина Николаевича
Поэзия А. С. Хомякова, осененная «светлой мысли благодатью», была хорошо известна в кругах молодых столичных дворян николаевского времени. Многие из них заняли впоследствии высокие государственные посты, стали видными деятелями Эпохи освобождения крестьян. Сын знаменитого мореплавателя, выпускник Царскосельского лицея А. В. Головнин (позднее – министр народного просвещения) был с начала 1850-х годов личным секретарем великого князя Константина Николаевича – сына императора Николая I, генерал-адмирала русского флота. Весной 1853 года Головнин, общаясь с великим князем, припомнил наизусть «несколько стихотворений Хомякова». Эти строки, замечал Головнин в письме близкому к славянофилам профессору Московского университета С. П. Шевыреву, «очень поразили Его Высочество новостью мысли, прелестью стиха и чистым направлением, и Его Высочество выразил желание прочесть несколько ненапечатанных произведений нашего поэта». По поручению своего патрона Головнин просил Шевырева прислать великому князю «список тех стихотворений, которые признаются самыми удачными, хотя бы ценсура и не жаловала их»[327].
Интерес великого князя Константина Николаевича к полузапретным стихам знаменитого славянофила был, наверное, далек от простого любопытства. Юный «царевич» Константин являлся, по выражению П. П. Семенова-Тян-Шанского, «одним из первых лиц русской интеллигенции, сознавших необходимость обширных реформ в русском государственном и общественном строе»[328]. Умный и энергичный сановник, возглавивший морскую отрасль в последние годы царствования Николая Павловича, он отвергал крючкотворство и всякую рутину. В морском ведомстве увлеченно искали и охотно усваивали новые идеи. Генерал-адмирал постоянно знакомился с новыми лицами и назначал своим порученцем всякого «дельного» специалиста, невзирая на его возраст и чин. Критика формализма и бумаготворчества, стремление государственной пользы были вызваны к жизни высокими патриотическими побуждениями, а отнюдь не абстрактными доктринерскими фантазиями. «Самородком», чуждым «навеянного извне идеализма»[329], называл Константина Николаевича М. К. Любавский – историк начала XX века. Внимание великого князя к представителям «Московского направления» принесет свои практические плоды всего через несколько лет – славянофилы Ю. Ф. Самарин и князь В. А. Черкасский станут близкими сотрудниками Константина Николаевича в крестьянском деле, при подготовке отмены крепостного права.
Крепостники, представители «ретроградной партии», сурово отомстили ненавистному им брату царя-освободителя. Не скупясь на эпитеты, они как могли демонизировали образ великого князя. Одни изображали Константина Николаевича «герцогом Орлеанским» – честолюбцем, рвущимся к власти. Богатое воображение других рисовало «зловредного» царского брата покровителем «республиканского направления», «красных», «социалистов». Распускались даже слухи о его причастности к политическим покушениям, к цареубийству 1 марта 1881 года. «Я думаю, нет такого человека, на которого взводили бы столько клевет»[330], – писал о великом князе государственный секретарь Е. А. Перетц.
Оставив в стороне мифотворчество великосветских салонов того времени, обратимся к истории идейных и духовных исканий выдающегося русского государственного деятеля.
Мысль о высоком предназначении и величайшей ответственности за судьбу Отечества была внушена царевичу Константину еще в пору его отрочества и ранней юности. «Помни всегда, на что ты готовиться должен, превозмогай лень и взбалмошность и не теряй остаток драгоценного времени твоей молодости, дабы вовремя поступить на службу – зрелым духом, и сердцем, и умом»[331], – наставлял сына Николай I. А великий русский поэт В. А. Жуковский писал юному царскому сыну: «Вы обязаны скорее других сделаться зрелым человеком: обязаны пред Богом, ибо Он назначил для вас отборное место между людьми на земле, наложив за то на вас и ответственность отборную; обязаны пред своими современниками, ибо вы стоите на виду и вас уже судят, судят строго. <…> Пора! Великий князь, дорожите минутами и часами, из них творятся годы; а ваши годы должны быть радостью русского народа, его честию и пользою в настоящем и славною страницею в его истории»[332].
Мировоззрение юного сына Николая I заметно расходилось с нормами «высшего» общества. Воспитанник «настоящего морского волка» – мореплавателя и географа Ф. П. Литке – честного и прямолинейного, несколько грубоватого в обращении, но всегда искреннего, Константин был чужд замысловатых придворных манер, притворства, фальши, двуличия. Здесь – истоки будущего бунта Константина Николаевича против «официальной лжи» правящих кругов. Казенное, формальное отношение к православной вере в придворно-аристократической среде также претило великому князю. Наперекор официозному ханжеству, он, по воспоминаниям Головнина, «оказывал глубокое уважение святыне православной церкви»[333] – проявлял усердие в молитве, выстаивал многочасовые церковные службы, соблюдал посты, следовал народным обычаям, изучал русскую историю и культуру, приобретал русские древности, вел переписку по духовным вопросам с видными подвижниками русской церкви – митрополитом Филаретом Московским, архиепископом Иннокентием Херсонским и др.
При этом царевич загорался яростным неприятием чужеземного облика северной столицы. С любовью и благоговением он говорил о Москве – «Матушке Белокаменной», Первопрестольной. «У меня сердце дрожит, когда я об ней думаю, в ней вся Русь, вся святая Русь, а не здесь в басурманском немецком Петербурге»[334], – пишет великий князь В. А. Жуковскому в 1845 году. Восторги царского сына были адресованы природе и климату России: «… я люблю трескучие морозы и пушистый снег на святой Руси». Необъятность просторов родной земли, непостижимое чувство любви к ней волновали и вдохновляли царевича: «О Русь святая! Чем более тебя узнаешь, тем более поневоле тебя любишь». Покидая пределы Отчизны, он прощался с ней всякий раз задушевно, с неподдельной грустью и искренностью: «Увижу ль тебя? то в воле Божией, но будь уверена, что я тебя всюду ношу с собою и горжусь на чужбине быть чадом твоим»[335].
Юного великого князя интересовали поиск и публикация древнерусских летописей, этой теме посвящена его переписка с М. П. Погодиным. Летописи открывали современникам страницы истории далекой допетровской Руси, на которую «просвещенное» общество огульно наложило клеймо варварства и отсталости. 19-летний Константин смело высказал отцу несогласие с официозным возвеличиванием Петра I, традиционным для императорской России, и со столь же обыденно-казенным развенчанием допетровской Руси. В дневнике он записал: (16 января 1847 г.) «Был <…> длиннейший разговор с Папа о Петре Великом, к которому Папа имеет почтение и удивление неограниченное, а он узнал, что я не из числа его партизанов (единомышленников. – В. В.) и удивлялся тому. Но я принадлежу старой Руси, которую слишком забывают и чернят»[336].
Симпатии Константина Николаевича к славянофильскому направлению шли вразрез с царившими в сановном Петербурге настроениями низкопоклонства перед европейскими веяниями и отрицания русской самобытности. Великокняжеское «расположение ко всему народно-русскому», по словам А. В. Головнина, не нашли сочувствия в высшем свете, «над оным смеялись и явно показывали предпочтение к иностранному. Обстоятельство это только усилило в царевиче любовь ко всему, что русское». Из его уст, подобно герою А. С. Грибоедова, звучало страстное осуждение «пустого, рабского, слепого подражанья». Константин Николаевич, как свидетельствует Головнин, «высказывал неодобрение тому пристрастию к иностранному, коим заражено петербургское общество, и выражал сожаление, что просвещение России совершилось насильственным путем, которое воспрепятствовало самостоятельному развитию чисто русской природы, а покорило ее влиянию чужеземного». Столичная аристократия присвоила юному царевичу репутацию «отчаянного славянофила», «врага иностранцев», сторонника возвращения России к допетровским порядкам. Константина Николаевича начали подозревать в честолюбивом желании уничтожить Турцию ради вступления на византийский престол. Славянофилы, со своей стороны, увидели в нем «заступника», приверженца «истинно русского направления в просвещении и администрации»[337].
И хотя крайние высказывания юного царевича выглядели явным фрондерством, эпатируя европеизированного столичного обывателя, а августейший «свирепый славянин» умел изъясняться «очень вежливо на хорошем французском языке»[338], будущее оправдало многие надежды славянофилов. Благодаря августейшему «заступнику» удастся преодолеть цензурные препоны при издании произведений Н. В. Гоголя и богословских сочинений А. С. Хомякова, будут остановлены административные гонения против неистового И. С. Аксакова, частым посетителем Мраморного (Константиновского) дворца станет Ю. Ф. Самарин…
Европейские революции 1848 года вызвали у великого князя сильную тревогу за судьбу Отечества. Страх перед революцией владел умами придворных сановников, и Константин Николаевич не был исключением. Но его тревожные мысли были порождены вовсе не ожиданием кровавой социальной революции внутри страны. Угроза виделась великому князю в новом, впервые после 1812 года, приближении орд мятежной Европы к границам России. С начала 1847 года резко ухудшаются русско-прусские отношения. Король Пруссии готовился ввести конституцию. Большое политическое влияние приобретала либеральная, антирусски настроенная партия. Пруссия фактически покидала ряды Священного союза, прекращала союзнические отношения с Россией. «Поэтому наш союз Восточной Европы ослабел ровно на одну треть», – так резюмировал царевич перемены в европейских делах. В канун революционных событий он видел «два образа действий» России на европейской арене: (13 февраля 1848 г.) «Или не спросясь призыва, итти прямо в Германию и все задавить своим наводнением и, резюме, не давши ей развития революции, заставить все плясать по нашей дудке. Или вооруженными стоять на нашей границе и ждать, покуда это страшное чудовище, называемое революция, все опрокинув, доберется и вызовет нас на поединок!» 20 февраля на одном из великосветских вечеров грянула весть о революции во Франции, шокировавшая официальный Петербург. «Нас всех как громом поразило, у Нессельроде выпала бумага из рук. Что ж будет теперь, что один Бог знает, но для нас на горизонте видна одна кровь», – писал великий князь на следующий день. 3 марта Константин не скрывает своего негодования в отношении трусливого перехода наследника баварского престола на сторону революции: «…он радуется и удивляется поведению народа и находит, что это (волнение. – В. В.) было единственное законное средство к достижению тех уступок, которых он достиг. Вот голубчик! вот молодец. То есть его просто бы надобно было расстрелять». Наконец переворот настиг Австрию, и вся Восточная Европа оказалась во власти враждебных России сил. Константин глубоко переживал происходившее: (7 марта) «Итак, мы теперь стоим одни в целом мире и одна надежда на Бога!»[339].
13 марта грянул манифест Николая I, возвестивший о намерении России преградить путь европейскому мятежу и «в неразрывном союзе с Святою Нашей Русью защищать честь имени Русского и неприкосновенность пределов Наших»[340]. В дневнике Константина Николаевича – его отклик на манифест. Мысли и чувства свои великий князь подытожил убежденностью в спасительном для человечества призвании православной России: «Многое, видно, нам еще придется пережить в этом горемычном 1848 году. Да сохранит Господь Бог Святую Нашу Русь, которая до сих пор одна стоит стоймя посреди всеобщего разрушения! Мы сильны упованием на Него, помня Его слова: “Претерпевый до конца, той спасен будет”»[341].
Мечтания о военной славе и ратных подвигах, близкие сердцу всех сыновей Николая I, конечно, не обошли стороной и юного Константина. Как зачарованный читал он стихи М. Ю. Лермонтова о Кавказе, куда неоднократно намеревался отправиться. А во время путешествия в Константинополь в июне 1845 года царевича глубоко тронули картины жизни греков, находившихся многие века под османским ярмом. Всюду царили запустение и нищета, видны были убогие и разоренные храмы.
Сын русского императора, носящий самое почитаемое в этом крае имя Константина – святого царя, был встречен угнетенным населением с небывалым восторгом. Умиленные греки ликовали, некоторые из них становились на колени и целовали стопы русского царевича. Никто не скрывал своих надежд увидеть в нем своего государя, его не стесняясь называли «василевсом» – повелителем. Так здесь именовали византийских императоров. Потрясенный Константин писал: «Бедный удрученный Народ. Как я понимаю, с каким чувством, с какими ожиданиями они встречали одноверного им православного князя, который еще сверх того носит самое дорогое для них имя, которое, так сказать, было залогом существования Царьграда. Как это понятно и как ужасно видеть все это так живо, так трогательно, и не быть в состоянии им помочь. Они меня иначе не называют, как Василевс, Царь. Это ужасно!»[342].
11 июня 1845 года Константин побывал в соборе св. Софии. Это посещение сопровождалось массовыми волнениями греков, у самого храма толпы народа сдерживались войсками. Великий князь был восхищен великолепием собора, но вид поруганной святыни оставлял тяжелое впечатление. Константин Николаевич так описывал увиденное: «Мы поскорей тогда вошли в Собор с дрожащими сердцами и я успел перекреститься так, что никто этого не видал. Боже мой, Боже мой! что я тут чувствовал и объяснить не могу, а у меня были слезы на глазах. Первый христианский храм, обращенный в мечеть, это ужасно, и вместо св. алтаря их косой михраб, обращенный к Мекке. А что за великолепная внутренность – это удивительно». В стенах собора сердцем царевича овладела мечта о возрождении православия в Царьграде: «Доживу ли я до той величественной минуты, когда восстановится тут святой крест и огласятся своды этого храма чудесным пением “Тебе Бога хвалим, Тебя Господа исповедуем!”. Мы ходили по хорам и видели сохранившиеся кресты <…> и это короткое время, что мы были в этом Святом Храме, останутся для меня незабвенными»[343].
Николай I был встревожен страстными откровениями сына, его мечтами о справедливом переустройстве края. Отцовская отповедь строилась на ясных рассудочных доводах. Выступление в защиту единоверцев рассматривалось в тот момент как несвоевременное, отец призвал сына к терпению: «Надеюсь, что ты не сообщаешь другим те впечатления, которые производить должно унижение христианства, но держи их про себя, сколь они не натуральны. Богу предоставить надо, когда кресту восторжествовать над луной… »[344] В. А. Жуковский, со своей стороны, предостерегал царского сына от пагубного порыва к завоеванию Константинополя – «рокового города», с которым и без того связана гибель двух христианских империй[345]. Но мысль о покорении Царьграда и избавлении православных греков от «басурманского» ига не оставляла Константина Николаевича. В 1849 году он составил дерзкий военный план взятия Константинополя силами Черноморского флота[346].
Бранные поля Европы, хранившие память о легендарных войнах Наполеона, также манили великого князя. Мечта царевича о военной славе сбылась наконец летом 1849 года, когда русская армия генерал-фельдмаршала И. Ф. Паскевича – князя Варшавского вступила в охваченную революцией Венгрию. Правда, «боевым крещением» Константина Николаевича стало не «упоение в бою», а, главным образом, умение четко выполнять распоряжения главнокомандующего. Вблизи боя («под ядрами и пулями») он побывал трижды – в сражениях под Вайценом, Тисса-Фюредом и Дебреценом. По окончании генерального Дебреценского сражения 21 июля (2 августа) 1849 года Константин Николаевич покорил сердца венгров тем, что своими руками оказывал помощь раненым венгерским воинам. Русские офицеры и солдаты подбирали их на поле боя, укладывали в фуры и отправляли на лечение в город. Через несколько дней великий князь встретился с командующим венгерскими войсками А. Гергеем. Перед лицом трусливых австрийцев, вернувших себе власть над Венгрией русской кровью, русский царевич не скрывал симпатий к мужественному венгерскому генералу. Об этом свидетельствует и лаконичная фраза в записной книжке Константина Николаевича: (1 (13) августа) «Видел вечером Гергея и люблю его»[347]. В письмах к отцу Константин заступался за Гергея и других умеренных деятелей Венгерской революции, пытаясь оградить их от австрийской мести и расправы. Гергей и другие вожди побежденной Венгрии, желая спасти свою страну от ига, открыто предлагали Константину Николаевичу венгерскую корону. Население Венгрии чествовало уезжавшего в Россию великого князя как своего будущего короля. Но Николай I остался верен союзническому долгу, на смену благородным и великодушным русским воинам пришли австрийские виселицы.
Кампания завершилась, сказка о молодецкой удали померкла перед суровыми военными буднями. Константин Николаевич вынес из Венгерского похода отвращение к войне как таковой – «величайшему несчастию», желать которое «есть грех», и убежденность в том, «что невозможно быть хорошим воином, не будучи добрым христианином». За участие в походе великий князь получил орден св. Георгия IV степени, Георгиевский крест вручил ему И. Ф. Паскевич. Константин принял награду со смирением, для царского сына не была секретом причина столь высокого почета. «Эта честь велика, слишком велика для меня, потому что я ее недостоин», – писал он В. А. Жуковскому, но выразил стремление своей «будущей жизнью» оправдать получение высшего военного ордена, «сделаться его достойным»[348].
В годы юности великий князь Константин Николаевич пережил искушение несколькими иностранными коронами. О приглашении русского великого князя на венгерский престол «мадьяры» помнили еще многие годы. А стихийные призывы константинопольских греков, желавших в 1845 году обрести независимость под скипетром русского царевича Константина, получили свое продолжение в начале Крымской войны. Об этой малоизвестной странице истории повествует А. В. Головнин: «Зимой 1854 года явились таинственно в С.-Петербурге посланцы греков с просьбой к государю императору восстановить царство Византийское и даровать им в императоры сына его Константина, которому они привезли голубое знамя византийское и чашу с эмблематическими изображениями новой империи»[349]. Последующие военные неудачи России, однако, исключили возможность исполнения этого замысла. Сам великий князь в числе тайно предлагавшихся ему корон упоминал, кроме перечисленных, датскую – в 1852 году[350]. В 1862–1863 годы «умеренные» общественные круги мятежной Польши высказывались за возведение на польский престол Константина Николаевича, бывшего в ту пору наместником в Царстве Польском. В июне 1862 года жители Варшавы встречали августейшего наместника возгласами: «Да здравствует король!»[351] Наконец, некоторые анонимные современники сообщали и о посягательствах великого князя Константина на отечественную – российскую корону. На рубеже царствований Николая I и Александра II в Петербурге и Москве распространялись тайные слухи о «честолюбивых» амбициях Константина Николаевича, о его желании стать русским императором, «разделить империю» с Александром и т. п. Права Константина на престол основывались якобы на том, что он рожден «сыном императора» (Александр родился в бытность Николая Павловича великим князем). Не получив никакого реального подтверждения, эти домыслы таковыми и остались.
Итак, великий князь Константин Николаевич не занял ни одного из престолов, которые ему прочили, предлагали, а иногда и пытались навязать. Невзирая на восторженные поэтические пророчества Е. П. Ростопчиной и С. Д. Нечаева – с одной стороны, и злые сплетни – с другой, он не сделался ни королем охваченных мятежом Венгрии и Польши, ни «василевсом» для единоверных греков, ни монархом маленькой и тихой европейской страны. Вопреки таинственным толкам и клеветническим наговорам, не изменил он и присяге на верность брату – царю-освободителю. Константин избрал себе иное поприще – служение русскому флоту и делу великого преобразования России.
Необходимость для России крупных социальных реформ Константин Николаевич начал сознавать еще в юности – после того, как в 1845 году он возглавил учрежденное по инициативе Ф. П. Литке Императорское Русское Географическое общество. В это время он знакомится со многими лучшими представителями дворянской интеллигенции – молодежи, неравнодушной к будущему страны. С большим интересом он читает ученые записки, дающие представление о многих областях русской жизни. Круг общения великого князя стремительно расширяется. Много лет спустя он вспоминал о том, как с молодых лет «старался сблизиться с людьми самых разнообразных слоев общества и потому узнал многое, о чем мы, великие князья, вообще не имеем понятия»[352].
В условиях канцелярской бюрократической рутины, господствовавшей в правительственных сферах Петербурга, поистине уникальный характер носила подготовка важнейшего закона для деятельности русского флота – Морского устава. Главный закон морской жизни создавался гласно и открыто, при активном участии самих моряков. Проект нового устава, составленный в комитете под председательством великого князя в 1850–1852 годах, был разослан для обсуждения адмиралам и офицерам Балтийского и Черноморского флотов, а также разным специалистам. Было получено несколько тысяч соображений и замечаний, на основании которых проект перерабатывался. В марте 1853 года новый устав был утвержден императором Николаем I. Константин Николаевич при этом особо подчеркивал, что данный закон создан стараниями «всего морского сословия», «работан всем флотом»[353]. Это – небывалый случай в истории «николаевской», «императорской» России, он вправе считаться близким по духу разве что земским соборам старой Московской Руси. Впоследствии – в середине 50-х – начале 60-х годов XIX века – подобным образом были подготовлены законы о преобразовании управления морским ведомством и морскими учебными заведениями, военного и морского судоустройства. При выработке правовых начал и решении практических вопросов жизни флота «высшее морское начальство» в лице августейшего генерал-адмирала неоднократно обращалось за советом к морякам, прибегало к силе общественного мнения и встречало широкую поддержку.
Одним из самых популярных в то время в России печатных изданий стал издававшийся морским ведомством журнал «Морской сборник». Его фактическими редакторами с начала 1850-х годов являлись А. В. Головнин и сам великий князь. Тираж издания вскоре достиг 6 тысяч экземпляров. Журнал открыто и гласно обсуждал насущные проблемы морской отрасли, но содержание многих публикаций выходило далеко за пределы морской специальности. Августейший генерал-адмирал смело помещал на страницах «Морского сборника» острые полемические статьи политического содержания. Примечательно, как отмечал позднее Константин Николаевич, что это торжество «широкой гласности» состоялось еще при жизни Николая I – в 1853–1854 годах[354]. Очевидно, что Великие реформы, состоявшиеся в России в царствование его преемника, во многом были предначертаны именно «высочайшей» волей самодержца, имя которого либеральная и советская историография связывали лишь с «реакцией» и «солдафонством»…
В знаменитой записке «Дума русского во второй половине 1855 года» П. А. Валуев, обрушившийся на «всеобщую официальную ложь», воздавал должное преобразованиям в морском ведомстве, которое благодаря «твердой руке генерал-адмирала» не испытывало, «подобно другим ведомствам, беспредельного равнодушия ко всему, что думает, чувствует или знает Россия»[355].
Эта записка Валуева, ставшая анонимным манифестом умеренно-либерального чиновничества, не сулила автору ни наград, ни повышения по службе, а могла, напротив, привести его к казенному взысканию. Но неожиданно для Валуева записка нашла восторженную поддержку Константина Николаевича. В циркуляре управляющему Морским министерством барону Ф. П. Врангелю 26 ноября 1855 года генерал-адмирал поместил цитату из нее и распорядился «сообщить эти правдивые слова всем лицам и местам морского ведомства». Он требовал сообщения в «отчетах не похвалы, а истины, и в особенности откровенного и глубоко обдуманного изложения недостатков каждой части управления, сделанных в ней ошибок, и что те отчеты, в которых нужно будет читать между строками, будут возвращены <…> с большою гласностью»[356]. Циркуляр великого князя «нечаянно» стал известен в обществе. Текст его распространялся в списках. Прочтя его, П. А. Валуев признался: «Если в наше время позволительно вспомнить о себе самом, отдельно от целого, то могу высказать, что мне нельзя было предоставить высшей награды»[357]. Либеральный цензор А. В. Никитенко писал в те дни: «Министрам и всем подающим отчеты приказ очень не нравится. В сущности же это прекрасное дело. Многим вообще не нравится, что начинают подумывать о гласности и об общественном мнении»[358].
Надо ли говорить о том, сколько недругов появилось у великого князя – защитника гласности и свободы печатного слова, одного из главных деятелей Эпохи освобождения крестьян?
Ближайший друг и сотрудник Константина Николаевича А. В. Головнин настаивал на необходимости вынести реформаторскую деятельность «высшего морского начальства» далеко за ведомственные рамки, проводить в морском ведомстве «преобразования, согласные с желаемою общею системою государственного управления, которые могли бы служить примером и руководством в других ведомствах»[359]. Великий князь внял совету Головнина и тем самым выступил инициатором проведения в России целого комплекса крупномасштабных преобразований – административных, экономических, социальных. Еще в апреле 1855 года он смело высказался за скорейшую отмену крепостного права, напомнив, что на этот счет Николай I перед смертью «взял слово с брата»[360], унаследовавшего престол.
Основой будущего устройства крестьян Константин Николаевич считал общинное землевладение и поэтому резко осуждал сторонников безземельного освобождения. «Освобождение многочисленных крестьянских общин без земли и без усадьбы нельзя даже назвать освобождением. Это есть, правильнее, изгнание общины с места, где жили отцы, деды и вообще предки нынешних крестьян, с места, которое дорого им по многим причинам, которое есть их родина и с которым расставаться всегда тяжело. Рассматривая этот предмет с юридической и исторической точки, подобное изгнание следует признать явною несправедливостью <…> это значило бы свершить самую явную несправедливость в отношении к 22-м миллионам подданных и подвергнуть государство всем вредным последствиям того, что люди эти потеряют всякую привязанность к местности»[361], – писал он осенью 1857 года. Защитником прав русской крестьянской общины, противником ее ломки великий князь оставался и в последующие десятилетия. Константина Николаевича воодушевлял высокий духовный смысл крестьянского дела. Многократно обвиненный оппонентами в «антидворянском настроении» и перенесении оного «в атмосферу государева кабинета»[362], Константин Николаевич объяснял свою ведущую роль в подготовке Крестьянской реформы глубоким сочувствием «делу, которое считал святым»[363]. Требования крепостников урезать крестьянские наделы он считал замыслом, пагубнее которого «злейший враг России не мог бы придумать»[364].
Возглавив в 1861 году Главный комитет об устройстве сельского состояния, Константин Николаевич на протяжении 20 лет руководил проведением Крестьянской реформы в жизнь. Он отстоял закон 19 февраля 1861 года, защитил его от неоднократных попыток пересмотра в ущерб правам и интересам крестьянства. «Сколько ни было поползновений к тому, чтобы пошатнуть крестьянское дело и провести тайком, под сурдинку, противоположные тенденции, Главный комитет, под председательством вел. кн. Константина Николаевича, держался стойко на страже крестьянского положения и не допустил искажения его»[365], – писал Д. А. Милютин после отставки великого князя в 1881 году.
Активно участвуя в реформах 60–70-х годов XIX века, выступая за предоставление всем сословиям широких гражданских прав, Константин Николаевич решительно противостоял нараставшим «конституционным» требованиям дворянской аристократии, которая добивалась перераспределения верховной власти в пользу олигархов от «благородного сословия». Риторический вопрос великого князя звучал здесь весьма недвусмысленно: «Кто при этом будет представлять крестьян?»[366] Ответом на властные стремления аристократии стала идея бессословного устройства российского общества и государства. Первым шагом в этом направлении Константин Николаевич считал Земскую реформу. В ее успехе он усматривал и ответ на волновавший общественные умы вопрос о возможности введения в России «представительного» образа правления. «После освобождения крестьян, это, по-моему, самая важная реформа в России, гораздо важнее судебной реформы, потому что от удачного образования земства зависит вся будущность политического строя и существования России. В тесной с ним связи и конституционный вопрос, который к нам навязывается так неотступно. Мы увидим, зрелы ли мы для самоуправления и как силен в нас дух правды. <…> Но зрелы ли мы для подобного представительства и не обратилось ли бы оно теперь в дворянскую олигархию, от которой обереги нас Господи. Лучший ответ на это даст именно земщина и она одна»[367], – писал великий князь Головнину в декабре 1863 года. Особые надежды он возлагал на становление политического самосознания общинного крестьянства, которое, по его словам, должно было в будущем обуздать притязания столичной аристократии на государственную власть. До завершения этого процесса великий князь считал неуместным торопить переход России к «конституционному» устройству: «…я все более убеждаюсь, что мы еще не зрелы для центрального представительства. Когда элемент крестьянский и общинный разовьется и воспитается посредством земщины, тогда только, а не раньше, можно будет к этому приступить, потому что тогда только будет равновесие и чрез то аристократическая олигархия сделается невозможною»[368]. В 1866 и 1880 годах он пытался добиться одобрения собственных довольно умеренных проектов создания центрального всесословного представительства, а в 1881 году, после гибели царя-освободителя, вынашивал идею созыва «Земского собора как единственного средства, которое может теперь спасти бедную нашу растерзанную Матушку Россию»[369]. После отставки – в начале 1880-х годов – он был солидарен с мыслью А. А. Абазы, «что невозможно более править Россиею ни армиею солдат, ни армиею чиновников. Вся задача состоит в том, чтоб она сама собою правила, т. е. обратиться к общественным силам, к земству»[370].
В годы опалы, после воцарения Александра III, суждения Константина Николаевича становятся особенно созвучны и близки давним высказываниям родоначальников славянофильства. Предвидение грядущего «переворота» и страшных общественных потрясений – все это не раз встречается на страницах откровенных писем великого князя к Головнину. Константин Николаевич противопоставлял русское общество «петербургскому правительству», которое «России не знает, России не понимает», «идет по фальшивой дороге, которая неминуемо приведет к ужасающим последствиям»[371]. Земство – начало «не заморское, а вполне русское»[372] – он рассматривал в качестве главной общественной силы, способной взять в свои руки будущую судьбу страны. Власть на местах, по мысли великого князя, должна быть отнята у своекорыстной бюрократии и передана деятельным представителям образованного общества – бессословной интеллигенции, хорошо знающей нужды своего уезда, губернии, города: «Благо, что мы имеем земство, которое заключает или должно заключать в себе всю местную интеллигенцию. К ней надо обратиться, к ее содействию. Единственно этим средством можно было бы обновить, оживить местную администрацию и отделаться от всепожирающего чиновничества. В этом и исключительно в этом я вижу будущность России»[373].
Однако вера в спасительность «земщины» перемежалась у великого князя с мучительными сомнениями. М. Е. Салтыков-Щедрин, его любимый писатель, в своих «Письмах к тетеньке» с присущей ему злой иронией развенчивал подобные надежды. Земские воротилы представлялись наблюдательному литератору достойными продолжателями чинуш николаевского времени, Константина Николаевича охватывало отчаяние. «Великим реформам» и великим иллюзиям прошлого наступал конец, своего места в ожидавшем Россию будущем великий князь не находил. «Щедрин, – писал он из Парижа в конце 1881 года, – как будто угадывая, в чем мои мысли заключаются, выливает вдруг на них ушат холодной воды. Он делает параллель между старыми Сквозниками-Дмухановскими, Держимордами и будущими земскими деятелями или дельцами, и выходит, что из двух зол старое чуть ли не менее скверно – и горько и гадко! <…> Но если нельзя выезжать ни на чиновничестве, ни на дворянстве, ни на земстве, то где же искать те элементы, которые могут спасти Россию! Что же тогда остается делать? <…> Я вижу, что я увлекался несбыточными идеалами, другими словами, что я опять-таки человек, переживший свой век и в теперешние обстоятельства более уже не годящийся. Действительно, я лишний человек для России. Если б какая-либо неведомая сила меня бы вдруг перенесла назад, на берега Невы, – что бы я мог там делать, на что был бы годен и полезен, <…> коль скоро Держиморды даже лучше теперешних земцев, а идеалы мои распадаются как призраки». Но, вспылив, Константин Николаевич через некоторое время вновь возвращался к своей мечте о полноправном земстве – «среде бессословной или всесословной, заключающей в себе все жизненные силы России». В земстве опальному великому князю виделись «надежды лучшего будущего» и «вся будущность возрожденной России»[374].
С начала 1870-х годов великий князь являлся фактическим главой Петербургского отдела Общества любителей духовного просвещения. Вместе со своим адъютантом – видным славянофилом А. А. Киреевым, занимавшим должность секретаря правления, он многое сделал для установления связей между православной церковью России и старокатолическим движением Западной Европы. Целью Общества стало содействие переходу старокатоликов, осудивших папизм и его догматы, в лоно православия. Это должно было укрепить духовное влияние русской церкви на Западе, способствовать распространению там православия. В последние годы жизни Константина Николаевича его мировоззрение приобретает сильнейшее «религиозное, христианское направление»[375]. Претерпев многие семейные невзгоды, он посвятил оставшиеся у него жизненные силы, волю и энергию постройке церкви Покрова в своем крымском имении – Ореанде. Рассуждение о вере в устах пожилого человека звучало иначе, чем у вдохновенного юного царевича. Вот эти по-житейски простые слова: «Странное дело Вера!!! Ведь материально она ничего произвести не может. Совершившегося факта она не может изменить. <…> Покоряемся ли мы Воле Божией или не покоряемся, это все равно, Она все-таки совершается совершенно помимо нашей воли. И несмотря на то, в Вере, в молитве, в Причастии есть какая-то непонятная нам сила, действительно успокаивающая и утешающая, которую материально объяснить невозможно, но которая есть. И горе несется легче, и жизнь живется спокойнее и тише!»[376].
Итак, великий князь Константин Николаевич пережил многие учения, надежды и заблуждения людей своего поколения. Не склонный к скрупулезной разработке политических и нравственных доктрин, он основывался в своей деятельности на представлениях о здравом смысле и государственном интересе – с одной стороны; и о вере, справедливости и патриотизме – с другой. Эти представления были свойственны ему как сыну императора Николая I, брату царя-освободителя, христианину и человеку, любящему свою Отчизну. Мировоззрение великого князя, лишенное всякой ортодоксальности, можно назвать «либеральным» лишь при соответствующей трактовке «либерализма» как понятия – применительно к России времен «Великих реформ». Невозможно согласиться с В. В. Леонтовичем и другими исследователями русского либерализма, характеризовавшими его как течение западническое, лишенное каких-либо русских национальных корней. Анализ социальных и духовных начал в мировоззрении «либерального» великого князя наглядно свидетельствует о невозможности объяснить данный исторический феномен вне русской самобытности, вне «светлой мысли благодати» А. С. Хомякова и других славянофилов.
А. А. Попов
Влияние А. С. Хомякова на формирование философских воззрений Ю. Ф. Самарина
В биографии А. С. Хомякова заслуживает особого внимания период начала 40-х годов XIX века, когда начался процесс формирования учения славянофильства. Ему, как основателю этого течения русской мысли, необходимо было привлечь новых сторонников. Многие приходили к славянофильству в результате сложной внутренней борьбы, долгих дискуссий со своими оппонентами и постепенного отказа от прежних воззрений.
Проблема влияния Хомякова на своих будущих соратников актуальна и для понимания становления его собственных воззрений. Вопрос о том, как Хомяков «становился» славянофилом, может быть исследован именно после рассмотрения споров между ним и его будущими единомышленниками. Многие идейные положения, легшие в основу его аргументации в этих спорах, затем использовались им в своих философских и богословских сочинениях. Г. Флоровский писал о своеобразии формирования воззрений Хомякова, что «его мысль развивается и даже впервые становится всегда именно в разговоре, в споре ли или в наставлении, но всегда в каком-то обмене и размене мнений»[377]. В воспоминаниях современников и друзей Хомякова обращалось внимание на его пристрастие к различного рода спорам, которые велись в духе бесед Сократа. Его талант «прирожденного диалектика» – побеждать в спорах – считался непревзойденным. Даже такой искушенный полемист, как А. И. Герцен, видел в нем наиболее опасного оппонента.
Знакомство Хомякова с Ю. Ф. Самариным произошло в начале 40-х годов XIX века. Их дружба была основана не только на идейном единстве, но и на близких человеческих отношениях, постоянном интересе друг к другу.
Для Хомякова единственным человеком, с кем он мог поделиться такими сложными переживаниями своей жизни, как болезнь и смерть жены, был Самарин. Ко всему прочему он видел в нем человека, который может благодаря своей способности к практической деятельности в общественной жизни принести большую пользу славянофильству.
В начале 40-х годов XIX века для идейно-теоретического развития Самарина была характерна постепенная эволюция в направлении зарождающегося славянофильства. Он, как многие российские последователи Гегеля, постепенно отказывался от идейных построений немецкого философа, когда увидел чужеродность идей последнего для российской почвы. Одни нашли для себя новых учителей в лице Фейербаха и западноевропейских социалистов, другие обнаружили «пророка в своем Отечестве» в лице Хомякова. Авторитет Хомякова для Самарина был настолько велик, что он называл его учителем Церкви.
Важным моментом в жизни Самарина, который впоследствии повлиял на его идейную эволюцию и переход в лагерь славянофилов, были лекции М. П. Погодина, которые он слушал во время учебы в Московском университете. Известный русский историк сумел убедить своих студентов в том, что западные теории неприменимы к объяснению русской истории. В те годы Самарин был всецело увлечен философией Гегеля, и все, о чем он писал, имело в своей основе философские положения немецкого мыслителя.
В первой половине 40-х годов XIX века Самарин работал над магистерской диссертацией «Стефан Яворский и Феофан Прокопович». Этим объясняется его пристальное внимание к вопросам философии и богословия, однако в то время расхождения его взглядов с идеями зарождавшегося славянофильства были очевидными. Он не соглашался с Хомяковым, который стремился выявить полноту славянского духа на основе изучения всего многообразия культуры и исторического опыта славянских племен. Россия, по мнению Самарина, является целью и результатом развития всех славянских народов, только в ней можно найти сосредоточие и всю полноту славянского духа. Россия должна осознать себя только в себе самой.
Другое расхождение во взглядах Самарина и Хомякова в эти годы заключалось в том, что роль науки рассматривалась основателем славянофильства как второстепенная по отношению к вопросам общественной жизни. Самарин, в свою очередь, считал, что наука должна быть в особом положении и не может находиться в зависимости от религии и политики. В своих рассуждениях о науке он подразумевал главным образом философию, а под философией – учение Гегеля. Вопросы религии тогда для Самарина являлись второстепенными. «Я думаю, что если наука существует как отдельная от искусства и религии сфера духа, то она должна быть сферою высшею, последним моментом развития идеи»[378].
«Православие, – писал он в одном из своих писем в 1842 году, – явится тем, чем оно может быть, и восторжествует только тогда, когда его оправдает наука, что вопрос о Церкви зависит от вопроса философского и что участь Церкви тесно, неразрывно связана с участью Гегеля. Это для меня совершенно ясно, и потому с полным сознанием отлагаю занятия богословские и приступаю к философии»[379]. При всем уважительном отношении к взглядам Гегеля Самарина не устраивала его философия религии. Он стремился дополнить ее собственными положениями, где раскрывалось своеобразное положение Православия по сравнению с католичеством и протестантизмом. Спор между ними нельзя разрешить, оставаясь в сфере религии, – по его мнению, он должен быть перенесен в область философского знания. Православие, согласно воззрениям Самарина, является верой, где нет односторонностей, характерных для других религий. Так, католицизм стремится к исключительности, являясь одновременно и наукой, и государством. Протестантизм, признавая свободу науки и государства, отрицает не только исключительность Церкви, но и Церковь в целом. Сознавая себя только Церковью, Православие не является ни наукой и ни государством. Таким образом, одним из главных доказательств истинности Православия является, по Самарину, невмешательство веры в дела науки и государства. Если эта взаимосвязь претерпит изменение, то преимущество Православия перед католицизмом и протестантизмом будет потеряно.
Решая религиозные вопросы, Самарин стремился остаться в пределах философского исследования, способного провести границу между разумом и верой. Религия в свою очередь должна быть признана вечноприсущим моментом в развитии духа, тогда как высшим моментом его развития является философия. В философии религии Самарин старался соответствовать основным положениям гегелевской диалектики, выделяя два нераздельных аспекта церковности: таинства и догматику. В Церкви, как в школе таинств, не допускается никакое развитие, изменяются только догматы. Формирование стройной системы догматов является свидетельством развития Церкви. Данная сторона церковности, хотя и проявилась позднее, однако по сравнению с таинствами занимает более значительное место, поэтому Вселенский собор является высшей ступенью в развитии Церкви. Это развитие должно быть постоянным. Из него необходимо исключить лишь элемент личного произвола.
Несмотря на результаты собственных философских исканий, Самарин понимал всю их неубедительность и неопределенность. Внутренняя борьба, которая происходила в нем, требовала ясности в ответах на поставленные вопросы. Выходом из этого кризиса стали для него идеи, которые были сформулированы Хомяковым. Один из главных вопросов касался необходимости примирения жизни и науки. Хомяков считал, что человек не может отступиться от требований науки и для всякого развития выводы науки необходимо принимать во внимание. При существующем раздвоении между наукой (анализом) и жизнью (синтезом) необходимо обратиться к анализу, ибо синтез сам себя проверить не может. От этой проверки зависит возможность примирения между наукой и жизнью.
Другим важным аспектом системы аргументации Хомякова является положение о том, что ошибка науки заключается в смешении сознанного и признанного. Данный недостаток заметен, по его мнению, не только в философии Гегеля, но и у Шеллинга. В научном исследовании, рациональном по самой своей сути, главное место отводится формальной логике, которая не в состоянии оперировать такими понятиями, как «добро» и «зло». Преодолеть эту ограниченность может только религия, для которой «добро» и «зло» являются основополагающими принципами ее существования.
В вопросах веры Хомяков руководствовался тем положением, что она «есть крайний предел человеческого знания, в каком бы виде она не являлась: она определяет собой всю область мысли»[380]. В то же время он был далек от отрицания роли философии. «Никому в голову не приходит, – писал Хомяков, – что сама практическая жизнь есть только осуществление отвлеченных понятий (более или менее осознанных) и что самый практический вопрос содержит в себе отвлеченное зерно, доступное философскому определению, приводящему к правильному разрешению самого вопроса»[381]. В трактовке соотношения понятий «вера – философия – жизнь» Хомяков разделял мысль И. В. Киреевского, что «философия есть не что иное, как переходное движение разума человеческого из области веры в область многообразного приложения мысли бытовой»[382].
В отношении к вере у Самарина, по словам Хомякова, недоставало любви, без которой сущность христианства не может быть понята. Из-за этого в его диссертации нераскрытой осталась созидательная сторона веры, которая преобразила всю историю человечества с момента принятия христианства. Основное внимание в работе было уделено полемике с католичеством и протестантизмом. В диссертации Самарина, писал Хомяков, «нет любви откровенной к Православию. Тайник жизни и ее внутренние источники недоступны для науки и принадлежат только любви»[383]. Познание божественных истин дано лишь взаимной любви.
В своих богословских рассуждениях Хомяков всегда оставался верен древнейшей отеческой традиции. Из источников, способных повлиять на его религиозные воззрения, исследователи чаще всего выделяют работы западного богослова Меллера, в которых Хомяков вполне мог обратить внимание на такое определение кафоличности, как единство во множестве и непрерывность общей жизни.
На протяжении всей жизни Хомяков занимал последовательную позицию, согласно которой в богословии окончательная система не дана и невозможна. «To, что вся Церковь высказала, тому веровать безусловно. Знать, что она когда выскажет, будет безусловно истинно, но что она еще не высказала, того за нее не высказывать авторитетно, а стараться уразуметь со смирением и искренностью, не признавая, впрочем, над собою ничьего суда, покуда Церковь своего суда не изрекла»[384]. Благодатная действительность, по Хомякову, явлена и открыта в непогрешимом и непреложном опыте Церкви. Сама Церковь – это «не доктрина, не система и не учреждение. Церковь есть живой организм истины и любви, или точнее – истины и любви, как организм».
Хомяков был убежденным волюнтаристом, для которого понятие «волящего разума» в сознании человека значило чрезвычайно много. Он стремился повлиять на Самарина, которому, по его словам, необходимо принять систему славянофильских воззрений в целом, что приведет его к новому взгляду на историю, искусство, право. Хомяков писал Самарину, что в этом случае отдельные выводы «сольются для вас в одну общую гармонию, в один общий вывод освобожденной жизни»[385]. Однако главное изменение должно произойти в отношении к Православию, познание веры возможно только изнутри, жизнь духа подвластна только верующему члену Церкви.
Цель славянофильского учения, по мнению Хомякова, двояка: оно должно не только сформироваться в теории, но и реализоваться на практике. «Наша эпоха, может быть, по преимуществу зовет и требует к практическому приложению. Вопросы подняты, и так как это вопросы исторические, то они могут быть разрушены не иначе, как путем историческим, т. е. реальным проявлением в жизни»[386].
Влияние Хомякова на взгляды Самарина в середине 1840-х годов дало свои результаты. В письме к Н. В. Гоголю в 1846 году Самарин писал, что прошел весь круг философского отрицания благодаря новому для себя осознанию христианства, которое не только является одним из учений, но составляет начало всей его жизни и творчества. Христианство нельзя понять одним разумом, оно сознается существом человека во всей его полноте.

