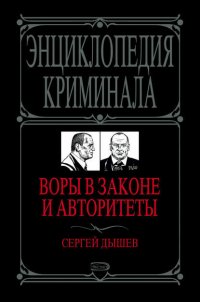Читать онлайн Потерянный взвод бесплатно
- Все книги автора: Сергей Дышев
И своей невысказанной болью…
– Кончай его! – Прапорщик бросил нетерпеливый взгляд на Трушина.
– Почему я? – Трушин отступил на шаг, ногой отбросил подальше дробовик, который валялся на земле. – Сам и кончай.
– Давай, быстрей, ты одного, я – другого. Что – струсил?
Афганцы – пожилой и молодой – жались друг к другу, у одного конец чалмы низко свисал, прикрывал их напрягшиеся руки: тот, что постарше, крепко держал молодого. Штаны их телепались на сухом ветру. Штанины короткие, как у клоунов, до щиколоток не достают, ноги торчат – сухие сучья.
Трушин покосился на афганцев, потом на Стеценко, сплюнул загорчившую вдруг слюну.
– Ты – старикана, я – молодого, шакаленка! – Прапорщик оглянулся: заслышал неясный шум за дувалом.
Старик смотрел куда-то вверх, беззвучно шевелил губами, а парень, высокий, нескладный, затравленно вертел головой, будто чего-то ждал, искал, хотел увидеть.
Но темная пятнистая тень толкнула, он отлетел от старика, что-то гортанно выкрикнул, тут же грудь ему разорвала короткая очередь. Беззвучно шлепнулись в пыль раскаленные гильзы. Афганец рухнул плашмя, не помня последних услышанных звуков.
– Ну?
– Хрен загну…
Старик взвыл, закрыл лицо руками и теперь не видел Трушина, тяжелого, квадратного, в провонявшем потом бронежилете, в низко надвинутой каске, обтянутой куском маскхалата.
– Какого… Это же дух!
– Знаю! – Трушин щелкнул флажком вверх-вниз, сцепил зубы. Автомат злобно забился в руках, будто пытаясь вырваться. Очередь пошла наискосок. Алые плевки вспыхнули на скрюченных пальцах, кадыкастом горле, впалой груди. И, казалось, вспыхивали очень медленно, в неотвратимой очередности – и оттого страшно.
Так и не отняв рук, старик повалился на убитого.
– Глянь, крестом легли, – хрипло выхаркнул Стеценко не то смех, не то кашель.
– Теперь в рай полетят православными. Крещеные!
– Давай в воду их! – Трушин быстро подхватил старика за ноги, поволок к спуску. Позади пыхтел со своей ношей Стеценко. – Хорошо, тут дувал закрывает, – сипло бормотал он. – «Афони» спрятал?
– Спрятал…
– Куда?
– Не твое дело.
– Поговори мне, сука!
Они спихнули тела в воду, река коснулась измазанных в пыли ран, заклубился красный дымок, мутная коричневая вода толкнула трупы, и они, как намокшие бревна, сначала поплыли по течению, но тут же ушли под воду.
Трушин задрал рукав и поморщился: две круглые ранки кровоточили. Он слизнул языком алые капельки и сплюнул.
– Шакал, дробью хотел меня забить!.. Надо будет справку взять. – Трушин достал бинт и стал наскоро наматывать его на руку. – Боевое ранение, 150 рублей. Как думаешь, засчитают?
– Иди, дробовик возьми… – Прапорщик тревожно оглянулся. – И не вздумай называть меня в роте на «ты».
Они вышли из-за дувала и тут столкнулись нос к носу с Эрешевым, в руках он держал дробовик.
– Ну, Орешек, напугал! – выдохнул прапорщик. – Давай сюда! – Он потянул за ствол, но Эрешев не отпускал. – Ты чего? Дай сюда, паря, это наш! Во, борзой! – Он с силой рванул ствол дробовика.
Эрешев молча разжал руку.
– Духа вычислили, – небрежно сообщил Трушин. – В воду их кинули. Стреляли, шакалы…
– Ага! Чтоб не смердели. А то духи все вонючие такие… Понял, Эрешев? – Стеценко похлопал солдата по плечу. – Пошли.
– А второй – тожи стрелял? – вдруг быстро спросил Эрешев. – Два человек из маленкого ружья?
– А как же! Один целился, второй – стрелял, – невозмутимо пояснил прапорщик. – Второй, чтоб ты знал, Эрешев, бросил в нас гранату, но не попал. Понял? – Прапорщик остановился, закинул ружье за спину. – Любопытный юноша. Давай, бегом вперед! Мы за тобой.
Кишлак тихо утопал в зное, пыли, приторных и тяжелых запахах полыни и навоза, слепо шептал верхушками серых тополей, и все равно в мареве затишья чудились настороженность и затаенность. Будто стиснутый, запрятанный крик. Плоскокрышие постройки лепились к неровному толстому дувалу, местами полуразрушенному; желто-серая стена тянулась, изгибалась по периметру. Казалось, что под тяжелым массивным дувалом вот-вот должна треснуть земля. Узкие проходы, тупики среди глиняных стен, нагромождения пристроек сплелись в немыслимом хаосе, безумной логике. Но как раз в ней и заключался непонятный, чужой, скрытый для постороннего замысел.
Эрешев бросал быстрые взгляды по сторонам, оглядывался на своих спутников, те осторожно ступали вслед, развернув стволы влево и вправо. Они аккуратно перешагивали через лужи нечистот; ощутимо тянуло несвежей застарелой гарью, тяжелый липкий дух обступал со всех сторон.
Вдруг впереди гулко ухнул выстрел, затем глуше – второй. Стреляли из «бура». Тут же сорвались, застучали одна, другая очереди из «акаэса».
Не сговариваясь, ускорили шаг, по узкой улочке ринулись бегом, впритирку к дувалам.
– Эрешев, проверь там. – Прапорщик показал на дверь.
Тот быстро подскочил, ударил ногой по двери и отпрянул в сторону. Но во дворике было пусто.
– Я буду на входе! – крикнул Стеценко и подтолкнул Трушина: – Давай, иди за ним.
В темном сумрачном помещении стоял запах прелых тряпок и еще чего-то приторно-кислого.
– Никого, – пробормотал Трушин, потрогал печку, зябко поежился, несмотря на жару: – Еще теплая.
– Пойдем отсюда…
Закоулками они вышли на площадь, которая примыкала к разрушенной мечети. Посреди площади нелепо возвышался бронетранспортер. Возле него стояли: ротный – капитан Шевченко, афганец средних лет в чалме и безрукавке и грязных полотняных штанах. Тут же находились двое хадовцев[1], они шли с ротой. «Зеленых»[2] не было, видно, они ушли на окраину кишлака.
Шевченко заметил Эрешева, крикнул нетерпеливо:
– Где тебя черти носят?
Эрешев кинулся бегом: Шевченко ждать не любил.
– Спроси, где остальные его друзья? – приказал ротный. – Хотя и так понятно, в кяриз смылись…
Эрешев добросовестно перевел вопрос. Афганец кивнул и развел руками.
– Он говорит, что ничего не знает.
– А куда его «бур» исчез – тоже не знает?
– Нахэйр, нахэйр пур. – Афганец развел руками и жалко улыбнулся.
– Врешь ведь, – Шевченко повернулся к хадовцам: – Пошли к кяризу!
Туран[3], старший из них, ткнул пленника стволом под ребро, тот охнул и быстро засеменил вперед. У кяриза, похожего на узкую черную ноздрю, поросшую, будто волосками, верблюжьей колючкой, остановились.
Туран снова ударил пленника, тот рухнул, потом медленно встал на карачки, выпрямился, выплюнул зуб. Туран раздраженно выкрикнул несколько фраз.
– Чего он? – тихо спросил Шевченко.
– Спрашивает, что с ним сделать, если в кяризе найдут оружие. Говорит, если найдут – то расстреляют, – торопливо прошептал Эрешев.
Афганец вытер кровь, посмотрел на испачканную ладонь и капли на синей безрукавке, забормотал задыхающимся голосом.
Туран вырвал из рук своего товарища веревку, которую тот успел принести, но Шевченко остановил повелительным жестом.
– Эрешев, дай «эфку».
Он вырвал кольцо и легким движением, как бросают окурок в урну, кинул гранату в колодец. «Хум-м!» – донеслось из глубины.
– Еще!
Снова прозвучал приглушенный взрыв и просвистели осколки.
Веревку привязали к бронетранспортеру. Туран повесил автомат на шею, обвязался веревкой и исчез в дыре. Второй хадовец лег на край кяриза и стал следить за товарищем. Веревка шевелилась, вздрагивала, сообщая о движении… Наконец она замерла, провисла. Какое-то время стояла тишина. Ротный поправил автомат и тоже заглянул вниз.
– Эй! – прозвучало в глубине.
– Давай! – крикнул Шевченко водителю.
«Бэтээр» кашлянул, вздрогнул, медленно тронулся с места. Из кяриза появилась сначала испачканная голова, затем рука, удерживающая веревку. На плече хадовца висела винтовка. Он вылез, отряхнулся.
– Ну? – воскликнул туран совсем по-русски и зло усмехнулся.
«Бур» полетел к ногам пленника. Тот безразличным взглядом посмотрел на ружье, расщепленный приклад, медленно поднял голову. Лицо его было почти белым. Все молчали. Шевченко наклонился, подобрал ружье, попробовал открыть затвор, покачал головой, пробормотал:
– Хорошее было ружье… – и снова бросил на землю. – Не стреляй его, туран. Отправь в тюрьму, черт с ним. Как там она у вас называется – Пули-Чархи?..
Эрешев стал переводить.
– Туран говорит, что этот шакал поклялся Аллахом и обманул. Значит, теперь ему смерть.
Пленник развел руками, тихо что-то сказал. Хадовец опять толкнул его.
– Он сказал, расстреливайте меня, – перевел Эрешев. Голос его дрогнул.
Жертву повели к дувалу. Туран подталкивал, хотя пленник не сопротивлялся. Шевченко пошел следом, чертыхаясь про себя.
– Лофтан сигрет биарид, – негромко произнес пленник.
Шевченко понял, полез в карман за «Столичными». Пленник никак не мог достать сигарету из пачки, оборвал фильтр, наконец вытащил, виновато посмотрел на офицера. Шевченко дал подкурить, тот вставил сигарету в разбитый рот, сразу глубоко затянулся, задержал дым в легких. Сигареты были сухими. Шевченко подсушивал их на солнце. Сейчас он подумал, что огонек дотлеет очень быстро. Сигаретка размером в жизнь. Шевченко отвернулся и увидел, что вокруг собралась почти вся рота.
– А ну, чего вылупились? Лапкин! Старшина! Живо расставить наблюдателей!
Солдаты стали нехотя расходиться.
Афганец докурил сигарету до самого фильтра, растоптал окурок, выпрямился, вытянул руки по швам.
– Пошли, Эрешев. Дело сделано. – Шевченко круто развернулся, пробурчал: – Пусть сами разбираются со своими.
За спиной громыхнула очередь. Ротный оглянулся. Жертва изгибалась в пыли. Хадовец выстрелил еще раз и неторопливым движением закинул автомат за спину.
– Что он еще сказал им?
– Он сказал: я готов.
– Понятно…
Ротный полез на бронетранспортер, уселся наверху, свесив в люк ноги. Солдаты снова потянулись к площади, и каждый оглядывался в сторону афганца, только что докурившего последнюю сигарету. Про себя Шевченко отметил, что лица у всех совершенно безразличные: ни злорадства, ни удивления, ни сочувствия. Но не подивился этому, потому как и сам чувствовал опустошение и, пожалуй, еще досаду – неизвестно, на кого и на что… В сером кишлаке, под серо-голубым небом, среди бесконечных серых гор и чувства были тусклыми и пустыми.
– Все, концерт окончен, – громко объявил он. Потом склонился в люк и приказал: – Падерин! Вызывай машины!
Солдат тут же склонился над радиостанцией, бас его раздавался глухо, как из железной бочки.
На краю площади – разрушенная мечеть. Хадовцы утверждали, что порушила ее неизвестно зачем и почему пришлая банда. Подложили динамит, рванули – и нет купола, рухнула стена, стыдно обнажив естество «церквушки». Последнее время Шевченко переводил все из местного языкового обихода на русский. Хотя грустно и нелепо: мечеть – она и есть мечеть, а не церковь, и арык – не канава, так любимая в русском лексиконе.
Народы воевали, ожесточались, сатанели в обоюдной ненависти; мертвели людские души, и ни Коран, ни Библия, ни моральный кодекс не могли остановить тех, кто иссушил сердце чужой кровью, кто уже не мог остановиться, жег, разрушал, убивал напропалую, бессмысленно, без жалости, без счета.
Вооруженные люди скучились на площади, слышались возгласы, смех, ругань. Молодые остались в переулках, застыли наблюдателями на плоских крышах домов – с оружием на изготовку. Им это в охотку: со всех сторон обступает неведомый опасный мир, дома расскажешь – не поверят… Один с пулеметом забрался на пятигранную башенку, устроился на ровной площадке, выставил ствол и головой туда-сюда. Не понимает, что виден за версту.
– А-а-а-л-л-а-а! – вдруг доносится с башенки.
– А ну, слазь оттуда, идиот! – Замполит роты лейтенант Лапкин кричит щупленьким басом, всплескивает руками и зачем-то скидывает с плеча автомат.
– Давай, давай, замполит, сруби его, – вполголоса замечает Шевченко.
Эрешев стоит рядом, сдержанно улыбается. А молодой свешивается вниз, видит худосочную фигурку замполита. Сверху тот кажется совсем маленьким.
– Ко мне его, – негромко говорит ротный, и Эрешев, верный телохранитель, молча пробирается через отдыхающую вооруженную толпу и спустя минуту приводит плотного рыжего увальня с плутоватой веснушчатой физиономией по кличке Ранец. – Ряшин! Пять нарядов вне очереди. Сразу после операции.
– Есть пять нарядов! – добросовестно и лихо чеканит рыжий «муэдзин».
– И вообще, последний раз на операции, – мрачно заключает ротный. Он явно не удовлетворен, его раздражает жизнерадостный боец.
– Ну, товарищ капитан… – канючит боец.
– Не нукай, – зло реагирует Шевченко. – Из-за таких, как ты… – Он замолкает, потому как лень сформулировать мысль. – Иди, вон замполит разъяснит.
Подъезжает колонна бэтээров. Солдаты с шумом и гамом лезут на броню, переругиваются. Они похожи на червяков, облепивших черепах.
Внезапно взгляд ротного натыкается на ружье за плечом старшины.
– Стеценко, откуда ружье?
Стеценко подходит вразвалочку, на небритом лице – ухмылка:
– Духа вычислил.
– А чего не докладываешь?
– Невелика победа для ветерана Афгана. – Он сплевывает. – Дело обычное.
Эрешев не выдерживает:
– Там еще один был!
– Ну, двух духов, какая разница?
Ротный поворачивается к Эрешеву.
– Старик был и молодой был. Прапорщик Стеценко и Трушин поставили их рядом и стреляли. Потом в реку кинули.
У Эрешева дергается щека. У него всегда она дергается, когда он волнуется.
– То духи были, командир. Стреляли в нас! – выкрикивает прапорщик. – А ты, Эрешев, спасибо скажи, что в лоб тебе не засадили. Вон, Трушину в руку попали… Болванов наберут в армию… – Прапорщик стоит внизу, смотрит на командира, солнце слепит ему глаза, он щурится, отчего его темное лицо кажется совсем старым.
– Кто тебе дал право расстреливать? – взрывается Шевченко. Стеценко пожимает плечами:
– Все равно бы хадовцы расстреляли…
– А ну, давай сюда ружье!
Шевченко засовывает мизинец в ствол, крутит его там, смотрит, есть ли нагар, потом ловко переламывает ружье пополам, заглядывает в ствол.
– Ладно, Стеценко, потом разберемся…
Колонна выезжает из кишлака, из-под колес густыми жирными струями брызжет пыль, сухой терпкий ветер подхватывает ее, и желтые клубы застилают небо. Водители чудом угадывают дорогу, сидящие на броне превращаются в одноцветных истуканов с плотно замкнутыми ртами. Солдаты стараются укрыть автоматы от пыли, затыкают стволы бумажными пробочками. Потом колонна поворачивается боком к ветру, пыль уходит в сторону. Наверное, издали кажется, что машины дымят. На радость душманам. Солдаты отряхиваются, исходят пылью. Кто-то закуривает. Можно открыть рот и перекинуться словом с соседом. Дорога – любимое дело для солдата. В дороге и время летит быстрее, и она – лучшее средство от полковой тоски. Трясешься на броне в свое удовольствие: только успевай набираться впечатлений. Но никто не знает, что будет через час, через день, через месяц. И Шевченко не знает. Дорога – это еще и загадка. Разгадай ее заранее – и, может, не нужен будет сам путь. Шевченко смотрит перед собой, ему не хочется оглядываться, видеть запыленные физиономии своих пацанов, думать о том, что может потерять кого-нибудь из них. Он старается гнать от себя предчувствия; здесь стал суеверен, носит на шее цепочку с крестом, купленную в дукане у «басурманина».
А внизу, на дне бронетранспортера, лежало ружье, колотилось, подпрыгивало на ухабах, гремело на железном днище. О ружье Шевченко меньше всего хочется думать, он чувствует, что случилась нехорошая история и последствия ее пока непредсказуемы. «Сволочи, – думает он и сжимает кулаки. – Сволочи и негодяи». Ружье занозой торчит в голове. «Нет, я припру старшину к стенке. Давно пора. Ведь неспроста не доложил сразу. А потом бы сунул трофей под нос, командир, пиши представление на орден…»
– Эрешев, что там было? Я ничего толком не понял! – кричит он.
Тот поворачивает коричневое лицо, запудренное пылью, что-то говорит, но бронетранспортер подбрасывает, движок ревет, пыль снова прет в лицо, и Эрешев лишь делает жест – ладонью по горлу.
– Ладно, потом расскажешь! – кричит Шевченко. Он вспоминает замысловатое этническое ругательство Эрешева: «Раскаленное кольцо на твою шею!»
…Если в трех сконцентрированных процессах – работа, служба, война – представить некую живую, приводящую все в движение массу, то этой массой будет именно солдат. Подполковнику Герасимову «масса» представлялась более конкретно: живой мякотью.
Послужив в Афганистане, Герасимов ближе к замене стал позволять себе «умственные экзерциции». Именно позволять, потому что ранее, когда он только принял полк, дни и ночи превратились для него в единый черный кошмар. Ему казалось, что он скорей умрет от перенапряжения, нежели от душманской пули или мины (что и для командира полка не исключение). Жизнь окунула его в жестокую необходимость, и этой необходимостью были эпидемии, чрезвычайные происшествия, безвозвратные потери, случаи наркомании, смерти. Все это шло от Афганистана и от войны. Кое-что оставалось и от мирной жизни: эфемерное социалистическое соревнование, всевозможные проверки, странные и нелепые отчеты, справки, документы, ради которых всегда не вовремя появлялись чопорные чиновники из округа и из Москвы…
Был ли он удачлив? Да, получил звание Героя. После чего на первом же построении заявил, что дрючить теперь будет раза в три сильнее. И все поняли, что это не шутки.
Герасимов не без тщеславия осознавал, что теперь он хоть краешком, но попал на скрижали истории, и потому волей-неволей смотрел на себя как бы со стороны: вот идет или, скажем, стоит перед строем молодой высокий командир полка, Герой Советского Союза. Каждое слово командира подхватывается на лету, каждое действие или поступок обсуждаются, смакуются…
В мыслях он называл себя прожженным афганским волком. Впрочем, так оно и было.
Герасимов был склонен к систематизации. Это качество особенно укрепилось в нем после академии, где ему пришлось вычертить массу всяческих схем и графиков. Огромную махину – мотострелковый полк – он представлял в виде огромной пирамиды. И себя, естественно, на ее вершине. Но потом вдруг понял, что на острие вершины не он, а солдат и сама пирамида – перевернута. Потому что на командире полка держится полк, на комбате – батальон, на лейтенанте – взвод. Ну, а на солдате держится все сразу: от взвода и до полка – работа, служба, война. Герасимов догадывался, почему к нему приходили такие мысли. Рано или поздно, хотя может быть – и никогда, командир, воспитатель, наставник солдат начинает осознавать простую мысль, – осознавать печенками, что главное в его жизни, работе – не звания и новые должности, а вот эти молодые ребята. И ничто более.
Перед Герасимовым лежала карта коричневого спокойного цвета. Издали она походила на полированную панель из хорошего дерева. Вокруг карты толпились люди. Командир только что расчихвостил заместителя по тылу, потом решил взяться за начальника артвооружения, но тут увидел скучающую физиономию зама по строевой Кокуна – и не выдержал:
– Николай Ильич, – поезжай, ради бога, в первый батальон. Проверь экипировку и держи меня в курсе обстановки.
Про себя подумал: «Чертов сынок».
«Чертов сынок» недавно отучился в академии имени Фрунзе. Своим одутловатым, сырного цвета лицом он совсем не походил на «сынка». Было в его повадках что-то от вальяжного конферансье и от инспектора-контролера. Кокуна любили приглашать на застолья.
Майор Кокун пророкотал «есть» и вышел из-под навеса. А Герасимов снова принялся за штабных. Он считал, что офицеры недостаточно деятельны, пассивны, о чем свидетельствуют даже небритые лица, и стоит раскачать их инертность, как энергия и движение их тотчас передадутся в батальон, который уже отмерял солдатскими ботинками Панджшерское ущелье. Подспудно командиру хотелось быть на самой передовой, но он не мог быть одновременно во всех трех ротах воюющего батальона, в артдивизионе и других подразделениях. А менее всего сейчас ему хотелось быть на КП. Герасимов слушал доклады, время от времени помечал что-то в блокноте, не цифры – закорючки-слова для памяти:
– пров. снабж.
– связ. с Колыхановьм
– горючка
– откр. голову Сим.
– с/пай
– вертушки!
Он отхлебывал теплый боржоми и ставил бутылку на одно и то же место расстеленной карты, получалось как раз на Кабул. А рядом тянулось Ущелье, которое изображалось в виде замысловатого растения с голубым стебельком. Удельный князь Панджшера Ахмад-шах Масуд обещал устроить русским «горячий прием». Переводчик перевел название Ущелья: «Пять львов». Звучало грозно.
Война началась – и никакие насыщенные, ловкие, деловые доклады штабных офицеров, в сущности, не могли повлиять на события. Батальон шел по Панджшерскому ущелью, как брошенный с силой камень продолжал свой полет, а рука, бросившая его, застыла в выпрямленном состоянии.
В динамике громкоговорящей связи защелкало, загудело: на связь вышел комбат.
– Первая вступила в бой! Духи обстреливают из ДШК…
Герасимов вскочил с места, опрокинул недопитую бутылку, побежал в аппаратную.
– Я понял тебя, Сычев! Какие силы у духов?
– Не знаю, – пророкотал железноголосо динамик.
– Ты разберись хорошенько в обстановке, понял? И потом доложи. Понял?
Герасимов вернулся под навес. Офицеры достали платки и вытирали карту. Красные стрелы на промокшем Ущелье разбухли, поплыли, будто подтекли кровью. Как руки на портрете Дориана Грея.
– Учил же тебя генерал Сафронов в академии: рисуй карандашом, а не фломастером, – проворчал командир, покосившись на начальника штаба.
– На современной скоротечной войне времени нет карандашом вычерчивать.
– В Афганистане тебе еще хватит времени.
Присутствующие рассмеялись. В устах начальника любая шутка веселей.
Со стороны синих гор методично доносилось «бум-бум». Артиллерия крошила скалы.
А Ущелье продолжало заглатывать вертолеты. На самом его дне, где круто уходили вверх могучие склоны, «стрекозы» припадали к земле и, раскрыв свое чрево, выбрасывали людей. Будто торопливо метали икру. В седую круговерть выскакивали скрюченные фигурки, навьюченные оружием и снаряжением, а летчики – хозяева «стрекоз» – матерились, торопили, подталкивали. Облегчившись, вертолеты быстро набирали высоту и снова спешили за очередной порцией живой массы. Ущелье фаршировали войсками.
Шевченко скинул капюшон маскхалата, под ним была такого же цвета каска, он поправил ее, снял темные очки и протер глаза от песчинок.
– Рота, становись!
Люди стали собираться во взводы, зазвенел пронзительный голос лейтенанта Воробья, ему вторил сиплый замполита Лапкина, который умудрился простыть на жаре. Солдаты занимали места в строю. Где бы каждый из них ни был: в пустыне за тридевять земель или рядом с родным домом – все равно солдат находился на своем месте в строю. Тем и сильна армия. Бойцы поправляли на себе оружие и снаряжение, расправляли на груди пулеметные ленты, кто-то о чем-то возбужденно выспрашивал; слышался негромкий, но обязательный в таких случаях мат.
После прочески кишлака народ успел отдохнуть, «зеленых» с ротой в этот раз не было, и хорошо, что не было, – значит, не придется опасаться, что кто-то пальнет тебе в спину, не будет эксцессов, осложнений, проблем обоюдного недоверия, обид и всего прочего, связанного с вынужденным взаимодействием с правительственной армией. Не было в этот раз ни представителя политотдела, ни офицеров из штаба полка и даже из батальонов. Никого не было. «Оно и лучше», – думал Шевченко, хотя и бередила его нехорошая мысль: а может, неспроста это… В штабе знают, когда можно идти.
Рота шла настороженно и с лихостью в сердцах, беспокойно и возбужденно, потому как операция – дело почетное, да и не столько почетное, как жутко притягательное для любого нормального парня – риском, возможностью отличиться, а кроме того, разжиться бакшишами. Все эти три заманчивые стороны боевых действий для ротного Шевченко давно потеряли всякую сущностную ценность. Потому как за полтора года пресытился риском, был ранен, получил свой орден, а разговоров о бакшишах вообще терпеть не мог. И оставалось ему еще каких-то полгода, и дембельский чемодан можно было собирать потихоньку, да вот будто что-то сломалось в нем, скучен стал, молчалив, нелюдим, если можно быть нелюдимым, когда в подчинении несколько десятков человек.
Земля в Ущелье будто соком сочилась, и непривычно было видеть изумрудной зелени поля, разбитые на квадратики, аккуратные дувалы, каменные строения. Посреди долины текла река, расползалась и разветвлялась на песчаных отмелях. Вода была желтой, но если смотреть издалека – то голубой. Все это каким-то чудесным образом ютилось среди высоких гор, которые уходили пиками к небу.
Не располагал пейзаж к войне.
– Рота, стой!
Шевченко прошел вдоль строя, по пути хлопнул по каске Трушина, который успел закурить.
– Кто разрешал?
Трушин вздрогнул, затушил окурок. Ротного он боялся.
– Перед нами вершины, – сказал Шевченко. – Духи о нас знают и помнят. Ждут нас. Мы должны занять все господствующие вершины. С первым взводом буду я, со вторым – замполит роты, с третьим – штатный командир лейтенант Воробей.
После этого Шевченко попросил офицеров подойти поближе и вполголоса сказал то, чего не мог сказать солдатам:
– Сейчас мы сменим разведроту. Ее сильно потрепали. На рожон лезть не будем. Торопиться некуда. Не родину-мать защищаем. Ясно?
– Так что, будем сидеть, а другие пусть воюют за нас? – спросил Лапкин и вздернул облупленный нос.
– Боря, я полтора года назад тоже был таким дуриком, как и ты. Повторяю: не лезть на рожон. И не стараться ловить лбом все пули. Он еще пригодится.
– Чтоб гвозди забивать! – сообщил посетившую его мысль Воробей.
– И можно доложить по команде о вашем решении? – Замполит смотрел с вызовом, и глаза его из-под каски блестели недобрыми огоньками.
– Можно. Но моей рацией пользоваться запрещаю. А если погубишь по глупости хоть одного солдата, то пеняй на себя. Воробей стоял рядом и ухмылялся, потом отвернулся, смачно высморкался, прочищая нос от пыли.
– Хочешь, Боря, звание Героя? – Он аккуратно сложил платок. – У меня землячок в ремроте есть, если надо, он тебе хоть орден Победы выпилит. Из латуни. Поставишь пузырь – и все. Он Герасимову дубликат «звездочки» делал. Хочешь, тебе сделает? Поедешь со Звездой в отпуск. А?
– Ладно, хватит трепаться, – перебил Шевченко. – Ты, Воробей, пойдешь слева. Замполит – справа. А я со взводом – в центре.
За хребтом время от времени стучали автоматные очереди. Потом они стихли, и начался камнепад: с шорохом сыпался гравий, с гулким шумом прокатилось несколько булыжников. Шевченко глянул вверх: с вершины спускались люди. Двигались они медленно, с трудом волоча ноги, слышен был лишь шорох осыпающихся камней.
– Не стрелять, это наши! – предупредил Шевченко. Наконец спустились первые. По почерневшим их лицам струился пот, пошатываясь от напряжения, они тащили на плащ-палатке тело. Шевченко присмотрелся: убитый был с ног до головы в крови, будто его окунули в кровавую ванну.
– Большие потери? – спросил он.
Никто не ответил.
Следом, уже без всякой плащ-палатки, за руки волоком спускали еще одно тело. Лицо погибшего почернело, одежда была изорвана в клочья, сквозь дыры в штанах и куртке просвечивало синюшное тело. Ковыляли раненые, опираясь на автоматы. Еще кого-то тащили под руки.
Сержант Козлов, который шел вслед за ротным, остановил бойца с перевязанной рукой:
– Туго было, ребята?
Тот мутно глянул на плечистого свежего молодца, не сказал – простонал:
– Су-у-ки! Оставили тут подыхать.
Ротный обернулся:
– Не трогай их, Козлов.
Тот кивнул, невозмутимо поправил оружие и делано зевнул. Выбрались на пологий участок. И тут Шевченко услышал сдавленные судорожные крики, он машинально взялся за автомат, зашагал быстрее. Уже на вершине он увидел невысокого капитана – командира разведроты. Тот молча отвешивал короткие оплеухи худому длинноногому солдату, который, не переставая, орал:
– Всех побили, всех! И вам конец всем, амба! Амба!
Ротный бил не сильно, с равнодушной методичностью и, возможно, не до конца сознавал мотивы своих действий.
– Уводи его к черту! – не выдержал Шевченко.
Командир разведроты будто очнулся, глянул воспаленно на своего сменщика, хрипло рявкнул:
– Пошел вон!
Шевченко возмутился. Разведчик подтолкнул бойца в спину, и Сергей понял, что последнее относилось не к нему.
– Вот так… Психологическая разгрузка, в-морду-тренинг…
Капитан обессиленно опустился на землю, закрыл лицо руками. Солдат молча поплелся вниз, наверное, ничего не видя перед собой.
– Двое суток колошматим друг друга. У них там норы, никакая авиация не берет. Герасимов запрашивает: чем помочь, авиацию прислать? Пришли, говорю, воду и патроны. Бомбить без толку. Выкуривать их надо, выжигать.
Капитан стукнул себя по колену, застонал. Рукой медленно, будто забывшись, шарил по карманам.
– Дай сигарету…
На лице разведчика застыло, будто замороженное, выражение злости и досады. В складки морщинок у рта и на лбу въелась пыль, почерневшее лицо казалось каменным. И Шевченко с тихой тоской вдруг подумал, что и сам он, через день-другой, будет таким же смертельно измученным, провонявшим гарью и потом.
– Ты вот что, Шевченко, скажи бойцам, пусть помогут загрузить трупы. Особенно молодым будет полезно. Понял? – Он хрипло рассмеялся.
Шевченко недоуменно покосился.
– Ну ты не робей, не робей, понял? – продолжал разведчик. – Они, суки, уже выдохлись. Редко, когда стреляют.
Он оперся об автомат и встал, сильно поморщившись. Кажется, его тревожила только его собственная боль.
– Ну, будь, ни пуха тебе!
Капитан развернулся и торопливо захромал по горной тропе. Шевченко явственно услышал еще, как разведчик мычал себе под нос какой-то мотивчик. На какой-то миг Шевченко стало страшно. Он животом почувствовал, как губительно, необратимо действовал совершенно обыкновенный бой, как выжигал все человеческое, а сам человек уже не мог спасти разрушающуюся свою душу. И Шевченко, не новичок на войне, позавидовал выползшему из боя капитану.
А изможденный работяга войны уходил все дальше, прихрамывал все сильнее, терзал свою волю, готовую вот-вот распасться на составные. Он потерял много крови и оттого не способен был к обычному восприятию. В красном тумане металась под ним чужая земля, а над головой колыхалось синей медузой огромное и тоже чужое небо.
Шевченко не видел, как командир разведчиков рухнул на камни, придавив сочащуюся рану.
Под горой загружали «вертушки». Ребята последнего призыва с ужасом и отвращением затаскивали в утробы вертолетов будто разваливающиеся на части мертвые тела, не тела – мешки с чем-то тяжелым и скользким. И командир роты не мог, не имел права освободить их от этой работы.
Наконец машины затарахтели, вынырнули из объятий Ущелья и исчезли. А солдаты, необстрелянные, но уже в черной холодной крови, молча и подавленно оттирали липкие отпечатки, терли между ладонями песок. Солдат Пивень, прозванный за худобу Шнурком, зажал локтем флягу и поливал руки. Ряшина вырвало, и он, сгорбившись, отплевывался.
Вдруг раздался резкий, как удар кнута, голос Стеценко:
– Что – обделались, слюнтяи?
Он вырвал флягу у Шнурка, коротко ткнул его в челюсть.
– Так мы воду экономим! А ну, строиться, мерзость! Кому еще плохо, поднять руку! Сопли! Это вам не «Зарница»!
Тут некстати появился замполит со взводом.
– Старшина Стеценко! – простуженно выкрикнул он.
– Прапорщик Стеценко, – не повернув головы, отреагировал тот.
– Я вам приказываю! Как вы смеете бить, старшина!
– Я прапорщик, лейтенант! Пора бы разбираться в званиях.
Замполит подбежал, на лбу сырые пряди. Стеценко возвышался перед ним глыбой, и, казалось, если ударит коротышку или хотя бы просто навалится, то того тоже придется потом загружать в вертолет.
– Я сказал «отставить», – тихо произнес Лапкин.
– Отставим… А потом – при-ставим!
Стеценко наслаждался своей непрошибаемостью. Могучая плеть торжествовала. Спокойная, расслабленная его поза будто говорила: мне не надо демонстрировать силу, скрещивать на груди руки или, скажем, независимо отставлять ногу. Это совсем ни к чему.
Стеценко раздвинул в усмешке сухой твердый рот и по привычке быстрым движением коснулся маленького бледного шрама на верхней губе.
– Взвод, за мной шагом марш, – буркнул Лапкин и, стараясь дышать спокойно, первым потопал по тропке.
Стеценко был любимчиком командира полка. Однажды на строевом смотре полковник из Москвы, сам бывший комполка, походя бросил: «Ну, что, прапор, хозяйство еще цело?» И, обращаясь ко всем, процитировал некоего острослова: «Родина слышит, Родина знает, что прапора на портянки меняют».
Никто не засмеялся, а Стеценко бросил в лицо проверяющему: «Я, полковник, портянками не мелочусь. Трофеи беру на операциях, а не на проверках, как некоторые». Тот вспыхнул от подобного обращения, обозвал треплом. В ту же ночь Стеценко сорвался с группой в поиск, вернулся под утро и привез на броне бэтээра двух мертвых и двух связанных моджахедов. С тех пор о том случае в полку пошли легенды.
Шевченко наблюдал за местностью, всматривался в трещины, изломы, наметанным за войну глазом угадывал каменную кладку огневых точек. Других признаков жизни не было, Ущелье молчало.
Наконец Шевченко встал, одновременно поднялись Эрешев, Козлов и Татарников – они молча присутствовали рядом. Подошел замполит. В руке он держал грязный чайник явно афганского происхождения.
– Воробей сейчас внизу, – сказал Шевченко, – а ты, Борис, будешь здесь… Только выкинь подальше этот чайник. Заразу разводишь… Я с группой захвата попробую пройти вдоль хребта – на соседнюю высоту. Со мной пойдут, – ротный повернулся к парням, – Эрешев, Козлов, Татарников и… Трушин.
Группа захвата – изобретение Шевченко. Термин этот, конечно, известный, потому Шевченко и пользует его. Правда, задача тут другая: провести разведку, застать врага врасплох, первыми захватить выгодную позицию. На такие дела Шевченко всегда сам идет и берет с собой одних и тех же: Эрешева, Козлова и Татарникова.
…Трушин удивленно вскинул брови и невольно переломил сигарету, которую собирался прикурить. Он глянул на Стеценко, который сидел неподалеку, но тот зевнул и отвернулся.
Шевченко шел в центре, двое справа от него, двое – слева. Стали спускаться, хребет постепенно расплывался, а когда вновь поднимались, он опять принимал заостренную форму. Трушин отставал, кисло кривил рот, а Эрешев ритмично вышагивал и все норовил зайти вперед. Ротный негромким окликом возвращал его обратно. На глаза попадались стреляные гильзы, свеженькие, цвета лимонных леденцов, и старые, потускневшие. Иногда взгляд натыкался на окровавленные тряпки, смятую бумагу.
Они прошли половину пути, когда над головой просвистело – раз, другой. К земле припали одновременно, ответили очередями, коротко и напористо. Сзади застучал пулемет: их поддерживали огнем. Свинцовый пунктир перекрестно располосовал пространство между горами. Воздух запел, заскрипел, засвистел, раскалился, пронзенный потоками пуль.
Стихло. Ротный навострил ухо, минуту-другую лежал без движения, пока не почувствовал, как щекочет сползающая за ухом капелька пота. Он просунул палец под каску и раздавил каплю.
К вершине ползли осторожно, ощетинившись горячими стволами. Там было тихо и пустынно, валялись гильзы. Трушин поднял одну из них:
– Горячая!
Эрешев сказал:
– На солнце все горячее.
– Тебя не спрашивают…
Эрешев не ответил, встрепенулся:
– Товарищ капитан, духи!
Цепочка людей уходила за перевал. Трушин мгновенно вскинул автомат и дал длинную очередь.
– Не жги зря патрон! – выкрикнул Эрешев с досадой. – Все равно далеко.
– Что ты все учишь меня, чурка туркменская! – Трушин резко повернулся, руки по-прежнему на автомате.
Эрешев отреагировал молниеносно, рванул обидчика за грудки.
– Таких, как ты, мы, туркмены, называем шакалами. Ты убил старика…
Трушин отпрянул, с трудом оторвав руки Эрешева.
– Трушин! – Шевченко не терпел перебранки подчиненных в своем присутствии. – Бегом за своим взводом. Мы остаемся здесь. Приведешь всех сюда по этому же пути… – Он усмехнулся. – Заодно расскажешь, как духов шуганул… А ты, Эрешев, пройдешь вперед и посмотришь, нет ли там кого за горушкой. Возьми с собой двоих.
– Сам справлюсь.
Через некоторое время рота была в сборе. Кто-то слонялся в надежде разыскать трофей, кто успел «популять» – чистил автомат, а кто – просто лежал вверх брюхом: служба шла.
Шевченко докладывал «наверх».
…В это время Герасимов наскоро пережевывал бутерброд с колбасным фаршем, слушал доклад Шевченко, одновременно следил взглядом за картой, кряхтел, уточнял координаты.
– Не может быть… А не врешь? – гремел он в эфир. – Ну, ладно. Закрепляйся.
Командир обернулся, а начштаба удовлетворенно заметил:
– В прошлом году три роты штурмовали эту поганую высоту. Измором взяли. – Начштаба покрутил лысой головой, отгоняя мух.
– Их разведчики хорошо потрепали… – заметил вполголоса Кокун.
Он только что появился, и, если бы не подал голос, никто б его не заметил. Такой он обладал способностью, несмотря на внушительный рост. Герасимов развернулся как мог – сидел спиной к входу – и недоуменно спросил:
– Товарищ майор, вы почему не в батальоне? Я ведь вам приказывал.
– «Вертушек» нет, товарищ подполковник, – быстро ответил Кокун и зябко повел плечами. – Как будет оказия – сразу вылетаю.
– Какая, к черту, оказия? Каждый час туда идут борты. Я не понимаю… – Он не договорил.
Громкоговорящая связь разродилась новыми докладами:
– Не можем подойти к вертолету. Духи ведут сильный огонь. Он уже горит!..
– Э-эх, черт! – Герасимов стукнул по карте. – Второй вертолет гробанули.
Он вскочил, стал ходить взад-вперед, задевая головой за масксеть. За шиворот ему сыпался мелкий песок, но он не замечал этого.
– Давай! – крикнул он начальнику радиостанции. – Соедини еще раз с Шевченко.
– Слушай, Сергей, слышишь, нет? Давай там, оборудуй точки, чтоб все как положено. Понял? – Командир проглатывал букву «о» – и выходило «пнял». – Что, говоришь, духи уже все оборудовали? Ну, ладно, смотри там…
Не по душе была Шевченко их легкая победа. Держали, держали высоту – и вдруг так легко отдали. И был бы он зеленым новичком, тут же приписал бы «победу» своему полководческому таланту, прозорливости и еще чему-нибудь, и только чуть-чуть везению. Но на войне везение – вещь ненадежная: сегодня тебе везет, завтра – тебя везут.
– Борис, что пишешь? – Шевченко покосился на замполита, который мурлыкал себе под нос и что-то записывал в блокнотик, устроив его на коленях.
– Да, так. – Замполит смутился и перевернул страничку.
– Не советую тебе вести никаких дневников. Не хочу пугать, но если ты попадешь со своими записками к духам – можешь представить, как ты усложнишь свое мерзкое положение.
– Я не попаду в плен! – резко отреагировал Лапкин и спрятал блокнот.
– Не зарекайся, – зевнул Шевченко. – Героизм красив только в кино. А на войне сразу и не разберешь, где геройство, а где глупость. Я когда пришел в эту роту, знаешь, какие тут нравы героические были? Славные боевые традиции! В атаку шли – пулям не кланялись и обязательно чтоб грудь нараспашку. Молодым такую «школу мужества» устраивали, что им чуть ли не компания душмана была милей. Спать негде было. Представь картину: палатка, аккуратно заправленные кровати, и никто на них не спит. Кровати погибших героев! Ну и к тому же мордобой по любому поводу, чарс, анаша… Молодые по арыкам прятались – за забором. Тогда один и попал к духам… Стал я наводить порядок. Думаешь, лекции им читал про интернациональную помощь народам Афганистана? Нет. Для начала показал взводным, как вытаскивать убитых. Они же все десантники, из Рязанского училища, а я, лапоть, из пехоты прибыл. Да еще с орденом. А у них никого не наградили. В общем, не приняли меня, мол, здесь ДШБ[4], здесь порядки особые… И вот случилось, убитых надо было вытащить. Взводный мне говорит: стреляют сильно, опасно! Ладно, говорю. Беру с собой двух самых молодых, один, кстати, был Эрешев, ползу с ними по арыку. Взяли они одного убитого, я за другим полез дальше. Взвалил его на спину, тащу. Тут стрелять начали. Ползу. А покойник рыхлый, сползает, будто разваливается. Мертвого раза в два тяжелее тащить. Вот и надорвался. Аж прямая кишка вылезла и защемилась. Как раз в день моего рождения было. И слег в госпиталь.
Замполит сидел, нахохлившись.
– Ты чего, замерз? Надень бушлат. Вон, у Эрешева есть.
– Да нет, не надо, – в нос пробормотал Лапкин и похлопал себя по коленям.
– Чайку бы… Так чайник выкинул.
– И правильно сделал.
Где-то внизу прогремела очередь, сверкнули в полете трассирующие пули. И снова стало сумеречно и тихо.
– Эрешев! – Шевченко приподнялся и огляделся. – Иди, узнай, что там.
Эрешев безмолвно исчез.
– Сюда я, Боря, ехал романтиком. Три мушкетера, экзотика, представлял, как население выбегает с увесистым караваем. Как в военной кинохронике… А тут – вши, кровавый понос и рваные раны. Вместо каравая – увесистая дубина народной войны! И никому не нужен наш социализм. Я трижды обманывался, пока не понял, что такое Афган. Наверное, это судьба меня наказывала за мои три рапорта. Так хотел попасть сюда. Черт меня дернул!.. Когда ехал в Афган, остановился на ташкентской пересылке. А там теснота, вонища, грязь. Хуже самой паршивой казармы. Ну, думаю, и провожают героев. Ложусь спать. Тут заваливается пьяный в дымину капитан, шатается, тут же блевать начал, всю койку себе загадил. Потом сбросил одеяло, сел, открыл чемодан, стал письма какие-то рвать. «Ты чего?» – спрашиваю его. «А-а, лейтенант, звездочки шитые, красавчик!» Я не обиделся, у нас в МосВОКУ все шили себе звезды… Вот, говорит он, приехал домой, а жена и на порог не пустила: «Развожусь!» Сломал бы дверь, да квартира чужая, тещина. Вот, отпуск не отгулял, еду обратно в Афган. Некуда мне больше. Письма ее хотел сберечь, специально домой вез… Так он сидел и рвал. Целую гору нарвал, потом свалился.
Из темноты появился Эрешев.
– Ну, что?
– Это Ряшин. Ему показалось…
– Ладно… Вот такой был капитан. Жив ли он, кто знает… Я думаю, у каждого настает в жизни время, когда приходится рвать старые письма. А позже я стал понимать, что никому здесь не нужен: ни дехканам зачумленным, ни интеллигенции афганской, которая затеяла эту революцию. И родной стране тоже не нужен – вместе с моим интернациональным долгом. В газетах пишут черт знает что. Вроде мы здесь только и делаем, что устраиваем вечера интернациональной дружбы, а в свободное время занимаемся боевой учебой. Живу потерянный, одна злоба в душе. Как-то особист вызвал: что-то вы странные разговоры ведете, извращаете нашу помощь. Не стал спорить с ним, промолчал. Плевать я хотел на их особое мнение. Тогда мы на боевых неделями пропадали, под Чарикаром. В других ротах люди гибли, а у меня ни одного. Раненых, правда, двое было, а убитых – ни одного. Мне солдаты рассказывали, что весь батальон завидует нашей роте. Я бойцам всегда говорю так: «Ребята, на этой дерьмовой войне мы выживем, если будем держаться друг друга». Так некоторое время жил, терпел. А потом зима, затишье, на операции не ходим. И захандрил, даже в весе стал терять. Одистрофил. И знаешь, кто помог мне очухаться? Нет, не ребята из политотдела. Летчики-афганцы. Случилась однажды пьянка совместная. Они спирт привезли, мы закуску выставили. На русском они говорили прилично, все у нас учились. И вот изливаю им душу, а они мне тоже как на духу: если вы сейчас уйдете, нам будет плохо. Нас перережут, и на вас одна надежда. Назад нам, мол, пути нет, и воевать придется до последнего. И тогда я немного воспрянул.
– Сергей, ты усложняешь, – твердым голосом произнес замполит. Он давно хотел перебить командира и высказаться, но сдерживал себя. – Это же интернационализм в действии. Вспомни Испанию!
– Помню, как сейчас помню. Не вешай себе, Боря, лапшу на уши. Все это я слышал еще тогда, когда ты курсантом на посудомойке работал.
Замполит медленно поднялся. Даже в темноте Шевченко увидел, как у Бориса напряглось лицо.
– Разрешите идти?
– Да куда же ты пойдешь сейчас, дурачок! Сиди здесь… – хмыкнул Шевченко.
– Замполит! – в темноте послышался голос Воробья. Последнее время он говорил с хрипотцой, которая, как он считал, хорошо сочеталась с его бронзового цвета лицом. – Замполит, ты вот идейный человек, все знаешь. А скажи, зачем духи дехканам крутят на видиках порнуху и говорят, что то же самое шурави будут вытворять с ихними ханумками?
– Зачем, зачем… Чтоб настроить их на защиту своих жен, – пробурчал Борис.
Шевченко глянул искоса и заметил, как напрягся Лапкин. Боится, что Воробей станет рассказывать, как еще в Союзе Бориса, бравого замполита роты, не пустили на фильм, запрещенный детям до шестнадцати. Оделся он тогда в «гражданку» – и вот конфуз.
– Неправильно, – наставительно произнес Воробей. – Чтоб уязвить их в душу, озлобить и показать, какие они сексуально дремучие и ущербные.
– Дурак ты… – замполит закашлялся и выдавил, – сексуальный.
Горы окутала ночь, воцарилась стылая тишина, звезды высыпали на небо, колючий их пугающий свет не давал заснуть, тревожил. Потом в звездной окрошке выплыл и ослепительно засиял серпик месяца.
Шевченко не спалось. Было муторно и неспокойно. Он нащупал на груди крестик, который купил, повинуясь сиюминутному порыву, и с которым уже не расставался ни на одной операции. Подумал: неспроста духи ушли. Он знал, что после таких мыслей его заполонит предчувствие беды, воображение станет изнурять его тягостными видениями: липкий отблеск крови, распластанные тела, беззвучное, будто застывшее пламя.
Шевченко поднялся, поправил ремень, подхватил автомат. Он решил проверить посты. Дрянная, нехорошая была ночь.
– Кто идет? – сипло спросила темнота.
– Я, командир роты.
Он подошел ближе и в лунном свете увидел Ряшина. Тот стоял у камня с автоматом на изготовку.
– Где второй?
– Вот. – Он показал на землю.
– Что ж не разбудил?
– Он сказал будить, когда духи полезут.
Шевченко наклонился над спящим и громко прошептал:
– Духи, духи лезут!
Тело вздрогнуло, съежилось, подскочило. Ротный узнал Козлова.
– Спишь, подлец? Хочешь, чтоб духи всем нам башки поотрезали?
В свете луны лицо ротного оставалось невидимым – от каски падала тень. Угадывались лишь щель рта и подбородок. Козлов виновато топтался, поглядывал исподлобья на этот освещенный подбородок.
– Ряшин не пропустит. Товарищ капитан, я только чуть-чуть прикемарил. Точно говорю! Ряшин… Товарищ капитан…
Шевченко коротко саданул солдату в челюсть. Ряшин молча стерпел.
– Найди Воробья, Эрешева, Татарникова и Трушина. И бегом ко мне.
– С оружием?
– Ты что, до сих пор не проснулся?
Последним подошел Воробей. Он ежился, зевал и одновременно недовольно сопел.
– Сейчас пойдем разведать ту горушку, – Шевченко показал рукой. – А ты, – он повернулся к Воробью, – останешься за меня. Будь в готовности прикрыть… Все готовы? Проверить, чтобы ничего не звякало. Патрон – в патронник.
– Не в первый раз, – прогудел Козлов и звонко клацнул затвором.
Шевченко надел камуфляжную маску – и лицо исчезло. Лишь глаза угадывались. Остальные сделали то же самое. След в след за Шевченко группа начала спуск с высоты. Под ногами похрустывал щебень. Каждый из них чувствовал сейчас одно и то же: стало быстрее колотиться сердце, и будто бы спрессовались мгновения жизни, превратились в крепчайший экстракт. На неведомой дороге они знали лишь о своей цели, были в этом пути маленькой частицей большого механизма, который завели огромные силы. Вырваться из этого бешеного, нарастающего, стихийного движения было невозможно. В оправдание или объяснение ему звучали всеобъясняющие слова о Долге, Приказе, но высокий штиль их воспринимался как за туманным стеклом.
…Все, что делалось ими в каждый час или минуту, казалось логичным, правильным и имеющим цель. Но взятое во всеобъемлющей полноте месиво людских страданий и страстей, горя, смертей, огня, запрограммированной жестокости неожиданно размывало саму цель, а истина, как затухающий хвост кометы, исчезала за границами человеческого разумения. И оставался без ответа главный вопрос: «Зачем?» Но жизнь продолжалась. Она была как долгая или же короткая дорога к пропасти, по которой почему-то все равно стремишься идти быстрее.
– Тихо! – Ротный обернулся и замер.
Но вокруг было покойно, будто сама тишина прислушивалась к ним.
– Ступать с носка на пятку.
Некоторое время шли по седловине. Когда кто-то с шумом натыкался на камни, ротный останавливался: резко оборачивался, но уже ничего не говорил.
Шевченко знал, что командование вряд ли бы одобрило его рисковую разведку. Но война требовала активности, постоянного действия. Иначе пассивная сторона лишь противодействовала бы, отбивалась, латала бреши.
Вспыхнула и ушла мысль: «Упустил дело с дробовиком. Сознательно ведь упустил… Война списала, как река: унесла, растворила…»
Из темноты появился силуэт Козлова.
– Товарищ капитан, – Шевченко почувствовал прикосновение его руки, – там что-то, видите? Белеет.
Шевченко всмотрелся: «Известняк?» Все остановились. Командир помедлил, потом аккуратно перевесил автомат за спину, вытащил нож, глянул на Козлова. Тот кивнул и сделал то же самое.
Теперь они ползли и прижимались к теплым еще камням, а впереди было два десятка шагов крутого подъема.
Каждый молил бога, чтобы не сорвался под ногой камень, не звякнул автомат. Наконец Шевченко понял: за камнями виднелась чалма. Он посмотрел на сержанта, почувствовал, как тот напрягся. От него исходил резкий запах пота. Холодно блеснула сталь ножа. Шевченко кивнул, осторожно подался вперед, ощутил дрожь в руках. И, уже не медля, выпрямился, метнулся вперед, за ним тенью – Козлов. В единое мгновение Шевченко увидел, что человек сидит в углублении, полуокопе, сбоку – автомат, а рядом скрючился второй, с винтовкой между колен. Послышался невнятный полувозглас, полувскрик, Шевченко тут же всем телом обрушился на чалму, потерял опору, но успел сделать правильное: захватил голову под подбородком, запрокинул с силой, воткнул лезвие под горло, с хрустом продавил внутрь. Тело обмякло. Шевченко вырвал нож, почувствовал, как кровь брызнула на руки, стал вытирать их о чалму. Козлов неторопливо обтер нож. В неверном свете полумесяца глаза сержанта казались тоже неживыми.
– Пошли дальше.
– Оружие? – движением показал Козлов.
Шевченко отрицательно покачал головой. Он потер руки о шершавый бок камня, оглянулся. Они еще не шли по прямой вверх, а крались вдоль хребта, чтобы незаметно забраться на гору с другой стороны.
Грохот взрыва парализовал. В судорожном свете мелькнули восковые фигуры ребят, Шевченко инстинктивно рухнул, но тут же вскочил. Где-то вверху хлопнул выстрел, после взрыва будто игрушечный, с железным стуком сорвалась автоматная очередь.
– Все здесь? – хрипло выпалил Шевченко, лихорадочно пытаясь высмотреть людей в темноте.
– Трушина нет и Татарникова, – быстро ответил Эрешев.
– Я здесь… – Трушин задыхался. – Там Татарников! Взорвалась, наверное, мина!
– Где, веди!
– Его в клочья, в клочья разорвало! Надо уходить! Товарищ капитан…
– Веди, говорю!
– Это там, где духи убитые.
Шевченко рванул Трушина за плечо, толкнул вперед.
Над головами уже вовсю свистели пули. Разведчики не отвечали, спускались к пещере. Шевченко, уже понявший всю страшную нелепость случившегося, мертвенным голосом распорядился:
– Трушин, пойдешь и вытащишь тело.
– Нет, там мины! Надо уходить! Там шагу не сделаешь, и в клочья. – Он зачем-то сорвал с лица защитную маску, стал виден искривленный рот. – Товарищ капитан!..
Из глубины пещеры послышался стон.
– Сволочь! – Шевченко наотмашь ударил Трушина, переступил через мертвых афганцев, шагнул вперед. В пещере резко пахло сгоревшей взрывчаткой. Шевченко включил фонарь и увидел Татарникова. Он лежал на земле, подвернув руку. Одна нога была без ступни и сильно кровоточила. В обмерших глазах дрожал огонек фонаря, на белом лице застыла гримаса боли. Шевченко подхватил солдата под мышки и потащил наружу. Козлов тут же подхватил Татарникова за ноги.
– Иди, захвати его автомат. Только прямо иди, никуда не сворачивай. Стой, возьми фонарь.
Козлов вернулся с двумя автоматами и «буром».
– Духовские тоже захватил…
Шевченко не ответил – перетягивал жгутом обрубок. При лунном свете вишневая кровь казалась черной, как деготь.
– Командир, там какая-то яма в глубине. И вроде голоса слышал, – торопливо сообщил Козлов.
Рядом громыхнула очередь, будто со скоростью скатилось по камням цинковое ведро. Козлов выстрелил на вспышку.
Татарникова положили на одеяло, которое вытащили из-под убитого моджахеда.
– Командир, я прикрою! – выкрикнул Козлов.
– Возьми у нас по магазину.
Спускались мелкими шажками, торопливо, матерились сквозь зубы.
– Быстрей! – подгонял Шевченко. Он еле удерживал конец одеяла, руки онемели, вот-вот сведет судорогой. В куске материала, в который каждый мертво вцепился, заключалось все: жизнь раненого Татарникова, да и жизнь каждого из них, потому что бросить товарища не могли, как не имели возможности остановиться, передохнуть, размять затекшие, болью сведенные руки. Эрешев спускался на полусогнутых, Шевченко – рядом, а Трушин еле поспевал за ними. Со всех сторон вспыхивали злые огоньки, временами звуки очередей накрывали гулкие, усиленные ночным эхом взрывы.
Козлов нагнал их, когда они поднимались на свою вершину.
– Живой? – Шевченко перевел дух.
– Все магазины пустые. – Козлов постучал рукой по «лифчику». – Ствол уже светится.
Он тоже ухватился за одеяло, но Шевченко приказал быстро подняться к роте, привести людей на подмогу.
На рассвете прилетели вызванные «вертушки», сбросили боеприпасы. Татарников пришел в сознание, и Шевченко успел спросить:
– Как это случилось?
Татарников наморщил лоб, судорожно вздохнул:
– Трушин сказал: давай заберем оружие. Придешь… в роту с трофеем.
– А чего полез в пещеру?
Татарников сглотнул, на горле прыгнул кадычок в пуху, потом попытался приподняться, с ужасом глянул на обрубок ноги, завыл тихо, вздрагивая всем телом.
«Как маленькая собачонка», – подумал Шевченко.
Он опустился на колено, погладил Татарникова по серой от пыли голове, ощутил под рукой упругий ежик волос. И почему-то представил Татарникова в гимнастерке старого образца, с медалькой, сидящим на тележке-каталке с подшипничками-колесиками.
– Ничего, Володя, ничего. Самое страшное, самое плохое позади. Теперь все будет хорошо.
Татарников заморгал полными слез глазами, тяжелые капли поплыли по впалым векам, оставляя блестящие бороздки. Рядом безмолвно стоял Эрешев, думал о чем-то своем. Он был телохранителем командира и считал, что всегда должен быть рядом с ним.
– Трушин сказал: иди в пещеру. Вдруг там еще оружие. Я не хотел, а он: иди, трус поганый. Еще сказал: награду получишь. Я пошел…
Он умолк. Тут из вертолета высунулся летчик в застиранном комбезе, проорал сквозь шум двигателя:
– Давай, быстро загружай своего бойца!
– Там в пещере, товарищ капитан, впереди, я слышал, голоса были. Из-под земли…
– Командир, давай!
– Товарищ капитан! – Татарников схватил Шевченко за руку. – Ведь я не умру, нет? Вы не забудете меня?
– Да что ты, Володя…
Летчик стал сыпать матом, Шевченко показал ему кулак, вместе с Эрешевым подхватил раненого, его приняли на борт, дверь тут же задраили, вертолетный бас перед прыжком загустел, лопасти слились в сплошные круги, и машины одна за другой оторвались от вершины.
Шевченко достал сморщенную, измученную пачку «Столичных», выбросил сломанные сигареты, разгладил последнюю оставшуюся. Когда прикуривал, почувствовал приторный запах, который исходил от рук. Они были в засохших бурых пятнах. «После душмана… – подумал он. – И когда Татарникова перевязывал».
– Кровь проливает кровь, – подумал он вслух, повернулся к Эрешеву, будто впервые увидел его, внимательно посмотрел, потом отстегнул флягу. – Полей на руки.
– В нашем народе, – обронил вдруг Эрешев, – так говорят: кровь смывают не кровью – водой смывают.
Шевченко покосился:
– Дурацкая поговорка…
Эрешев не ответил, вздохнул, покачал головой.
Ротный достал вымытыми руками сухарь, но тут доложили, что на связь вышел командир полка. Герасимов интересовался, как случился подрыв.
Шевченко проглотил кусок, ободрал горло и, кашляя, стал пояснять:
– На мину напоролся. Тут, неподалеку…
Командира ответ, видимо, устроил, и он предупредил, чтоб были в готовности.
– П-нял? – прокурлыкало в наушниках.
– Пнял, – ответил Шевченко и с хрустом откусил от сухаря. На этом связь закончилась. – Я посплю, Эрешев. Говори всем, что запретил будить без надобности… – Шевченко лег на землю, под голову бросил вещмешок. – Ты чего такой кислый?
– Дом вспомнил чего-то, маму…
Эрешев сел, стал расшнуровывать ботинки, потом стащил латаные-перелатаные и все равно рваные носки. Они были в крови.
– Натер?.. Плохо дело. Замотай бинтом… Эх, неужели так бедно наше государство, что не может обеспечить своих воюющих сыновей хорошими носками?
Шевченко вздохнул и тут же заснул. Приснилась ему Ольга. Будто бежал он за ней, а она в вертолете, свесилась из-за двери, руку к нему тянет, но никак не дотянется, а он никак не может догнать, вертолет поднимается все выше, выше и – камнем падает вниз, в пропасть. Он слышит грохот, небо раскалывается, горный обвал подхватывает, несет его на подпрыгивающих, словно живых валунах и обломках.
Шевченко открыл глаза. Огромная тень проплыла по его лицу. В нескольких метрах завис вертолет, секунда – и ткнулся в землю. Из него выпрыгнул массивный офицер в каске, бронежилете и с автоматом. «Кокун», – узнал Шевченко и чертыхнулся. Он с трудом поднялся и поплелся докладывать.
– Товарищ майор, первая рота готовится к операции, – глядя в желтые глаза Кокуна, доложил Шевченко.
– Долго готовишься, пора начинать.
– Приказа не было!
Шевченко не выносил этого молодого выскочку, который к двадцати девяти годам успешно пробежал служебные ступеньки и стал замом командира полка. Ему претила дурацкая манера быть с подчиненными на «ты», по поводу и без повода выражать свое начальственное недовольство. Когда вальяжные поучения превышали всякую меру, Шевченко, чтобы сдержаться, представлял Кокуна в ефрейторских погонах. Слушать его так было очень забавно.
– Люди накормлены? Оружие, боеприпасы? Так. Что еще… Меры безопасности доведены?
– Доведены, доведены, – кивнул Шевченко. – Услышав полет пули, сразу пригнуть голову.
– Вместо того чтобы дурачиться, Шевченко, лучше бы провел беседу.
– Замполит уже целых три провел, – отрапортовал Шевченко. – Верно, товарищ лейтенант?
– Так точно! – Лапкин вытянулся и сомкнул пятки и, заикаясь от волнения, стал перечислять: об агрессивной сущности исламских фундаменталистов, об успехах в одиннадцатой пятилетке…
– Ладно, все ясно. – Кокун поморщился и махнул рукой.
Рота спускалась с вершины. Цепочка людей казалась серой струйкой, медленно стекавшей вниз. Пока все чувства не раздавит отупляющая усталость, каждый чуть опьянен сладким холодком тревоги и азарта. Есть три вещи, которые подавляют страх смерти: любопытство к войне, страсть к победам и азарт игры со смертью.
Шевченко высматривал следы крови, там, где несли они Татарникова.
Как только развернулись, Воробья будто подменили, он раздраженно покрикивал, кого-то чихвостил, толкал в спину, хотя никто не отставал… Шевченко видел это, крепился, но под конец не выдержал:
– Воробей, не заходи вперед!
Тот обернулся, бросил недовольный взгляд из-под каски и, кажется, что-то сказал по матери.
– Ах, подлец, – тихо пробормотал Шевченко, – ну, я тебе покажу!
Впереди начинался подъем, и пока не прозвучало ни выстрела. Их маневр, несомненно, был виден издалека, и люди Ахмад-шаха Масуда, первоклассно вооруженные, давно приметили их в свои бинокли. Может быть, уже сейчас на лице Шевченко или Ряшина по кличке Ранец дрожало роковое перекрестье оптического прицела, и узловатый палец гладил отполированную «собачку», а прищуренный глаз сочился от напряжения едкой слезой. Израильские «узи», американские «М-16», безродные «калашниковы», английские винтовки прошлого века ждали своего мига – чтобы выплюнуть свинец, впиться, изувечить, искромсать человечью плоть.
Ударил выстрел. Шевченко вздрогнул, оглянулся: все вымерли. Он высматривал Эрешева, потом вспомнил, что оставил его и еще одного туркмена – Атаева, которого скрутила желтуха, – с минометным взводом.
– Козлов! – позвал ротный.
Все уже залегли, ждали; Шевченко искал, кого взять вместо выбывших туркмен. Он со злостью глянул на Трушина, увидел копошившегося Ряшина.
– Ряшин, давай сюда, живо! Козлов тоже.
Сержант напряженно откашлялся, а Ряшин отверделыми губами сказал «есть» и качнул каской.
Они выбирались первыми, за ними перебежками передвигались остальные. Через несколько минут вышли на пологий участок. Отсюда они видели, как поднимается взвод Воробья. Люди шли понурой цепочкой, друг за другом. Даже группа захвата не развернулась.
– Почему не разворачиваетесь? – крикнул Шевченко и повторил, будто надеялся, что его услышат: – Развернуться, черт бы вас побрал!
Но взвод продолжал медленно, с упрямой обреченностью ползти в гору. Шевченко видел, как взмахнул рукой и упал Воробей, неслышно ударился о камни его автомат. Следом рухнул солдат. Шевченко даже не успел разглядеть его лица. Лишь тогда люди, словно опомнившись, стали рассредоточиваться, расползаться в обе стороны от тропы. Шевченко следил за этими суетливыми попытками спастись, стискивал рукоятку автомата, беззвучно ругался. Нарушенное правило войны окупилось кровью.
За горой, где затаился небольшой кишлачок, тоже напористо зазвучали очереди. Стеценко со взводом вступил в бой.
Взвод же Воробья застрял на месте. Солдаты растерянно копошились вокруг неподвижных тел. «Почему „старики“ не предупредили Воробья? Почему не сказали, что надо развернуться? Они ведь знали…» – думал Шевченко. А в следующее мгновение он видел, как на солдата, это был Пивень по кличке Шнурок, выскочил рослый моджахед. Пивень нажал на спуск, но автомат лишь щелкнул. Шевченко мог поклясться, что услышал пустой щелчок бойка. Душман выстрелил, солдат рухнул. Шевченко застонал, будто это его опередила пуля, дал длинную очередь, кто-то поддержал его – и моджахед покатился по склону, безвольно разбрасывая руки.
В какой-то неуловимый миг командир понял, что скоротечный бой сходит на нет, как вода, уходящая при отливе, затухает шквал очередей, утихает грохот, умолкает разбуженное эхо.
Из-за камня выглянул Козлов. На его грязном потном лице засияла довольная ухмылка.
– Товарищ капитан, духи уходят! Глядите, уходят…
Они действительно оставляли поле боя, от камня к камню передвигались короткими перебежками, уходили – ловкие, сильные, непокоренные враги. Это были не те афганцы, которые заискивающе улыбались и кланялись шурави, восседающим на танках и бэтээрах. И все же это были они: гордые, откровенные в своей ненависти и жажде бороться до конца.
– Вперед! – выкрикнул команду Шевченко, легко поднялся, вскинул автомат и дал длинную очередь.
Козлов, оглохший от гранатомета, орал матом на тех, кто медленно подымался в атаку. Моджахеды исчезали за вершиной, уносили раненых, вяло отстреливались. Взвод, озлобленный непрерывными криками Козлова, выбрался наверх, где горный ветер, как в награду, высушил потные почерневшие лица. Козлов, за ним Ряшин и еще кто-то бросились, было, преследовать, но Шевченко прикрикнул:
– Назад!
Воробья принесли на плащ-палатке. Голова его безжизненно раскачивалась, и еще издали Шевченко по неуловимым деталям, по походке людей понял, что несут убитого. И все же спросил:
– Что с Воробьем? – и заглянул в полуоткрытые глаза.
Сержант, который, прихрамывая, шел впереди и нес на себе три автомата, хмуро ответил:
– Убит. В сердце попало.
– Еще кто?
– Пивень… Сзади несут.
– Это у него патроны кончились?
– Да, – односложно ответил сержант.
– Вижу. Шарипов, – Шевченко притянул сержанта к себе, – скажи, почему вовремя не развернулись?
– Командовал Воробей…
– Но ты же знал, сукин ты сын, что развернуться надо! Почему не подсказал?
Сержант тяжело дышал и смотрел в сторону.
– Сволочи вы все, – глухо произнес Шевченко. Где-то через полчаса появился Стеценко со взводом.
Шевченко глянул и обомлел: впереди шагал замкомвзвода, сутулился под тяжестью ковра на плече, другой боец тащил расшитое атласное одеяло, третий нес под мышкой пузатую бархатную подушечку.
– Взвод, стой! – Шевченко рванулся навстречу, кровь хлынула в лицо. – Барахольщики, шаг вперед!
Он бросился к ближайшему – здоровяку с подушечкой под мышкой, схватил за грудки:
– Говори, откуда взял!
– Да там, – оторопел солдат, продолжая удерживать локтем подушечку, – ничье было.
– Кто позволял?
– Да в кишлаке и жителей нет…
– Кто, я спрашиваю?
– Товарищ прапорщик сказал: можно…
– Ясно, товарищ прапорщик! – Шевченко метнул раскаленный взгляд на Стеценко.
Тот сохранял невозмутимость.
– А ну, бросай все на землю. Я вам покажу бакшиш!
Ковер, одеяла, подушки, ножи полетели в кучу.
– Козлов, проверить у всех карманы.
Шевченко подошел к Стеценко.
– А ну, выворачивай свои карманы.
– Ну, еще чего! – Прапорщик отступил на шаг, скрестил руки на груди. Под тельняшкой прорисовывались бугры мышц. – Не забывайся, командир, я тебе не солдат!
– Ну, ладно, – тихо сказал Шевченко. – Отложим разговор. Я тебе еще дробовик припомню.
– Ну уж, командир… Тут ты совсем не прав. – Он усмехнулся. – Я в Афгане почти четыре года. Из них два года отпахал пулеметчиком в разведроте. Всякое видал. И не надо меня лечить.
Стеценко снял каску, вытер рукавом лицо и достал сигареты.
– Потом покуришь. Стань в строй.
Стеценко нехотя повиновался.
– Знаешь, как я в разведке воевал, товарищ капитан? О-о, мне звание присвоили. Персональное: косарь-пулеметчик!
– Поджигай! – хрипло скомандовал Шевченко. – Еще раз повторится – под трибунал! Хоть всю роту. Строем под трибунал!
Козлов кисло ухмыльнулся, достал зажигалку, стал подпаливать край одеяла. Пламя приживалось медленно, будто и оно недоумевало: к чему уничтожать полезные вещи…
– Козлов! – Шевченко отвернулся от костра. – Пойдешь обследовать пещеру. Татарников слышал там какие-то голоса. С тобой пойдет Трушин. Ясно, Трушин? Чтоб это место тебе до гробовой доски снилось. И сапер. Где сапер?
– Ту-ут я, – послышалось из-за строя.
– Там заминировано.
Сапер неопределенно качнул головой, мол, разберемся.
– Щуп, кошка – все есть?
– Все-о, – недовольно протянул крепыш-сапер и демонстративно заскучал.
– Тогда вперед… – Шевченко устало опустился на камень. – Старшина, выставить наблюдателей.
На Сергея навалилось дремотное оцепенение. Сумбур захлестнувших событий казался наркотическим наваждением и ничем более. Но реальность доказывала обратное: под скалой лежали неподвижные тела отмучившихся. Бойцы держались поодаль от мертвецов, своих товарищей, и было в этой покинутости и отчужденности что-то глубоко несправедливое и неправильное. «За полтора года у меня не было ни одного убитого», – горько подумал Шевченко.
Вдруг где-то под горой раздался крик. Шевченко вздрогнул и вскочил. Он прислушался, но рядом кто-то громко разговаривал. «Тихо», – прикрикнул он. Но расслышал лишь стрекот вертолетных моторов.
Появились взмыленные Козлов и сапер.
– Где Трушин? – предчувствуя недоброе, быстро спросил Шевченко.
– Разбился, – выдавил Козлов. Он тяжело дышал и смотрел под ноги.
– Как это случилось?
– Упал с тропы. Мы не смогли вытащить. Вдвоем не справиться.
– Пошли! – Шевченко взял с собой первых попавшихся, первым помчался вниз по тропе. Внизу он обернулся:
– Старшина! Пусть вертолеты нас подождут. Скажи: еще одного раненого забрать. Сколько метров там, Козлов?
– Двадцать будет…
Шевченко заметил, что у сержанта дрожали руки.
…Трушин лежал на камнях, лицом вверх, рядом валялись его каска и поодаль – автомат. Вокруг головы расползлась лужа крови.
– Вдребезги… Ряшин, обвязывайся веревкой! Будем спускаться.
– Есть, – подавленно ответил тот.
– Шевелись, – вдруг прикрикнул сапер, сразу почуяв в Ряшине салагу.
Ряшина опустили в трещину, он развязал веревку, боязливо подошел к телу, пристально вгляделся в лицо. Потом осторожно обвязал мертвеца вокруг талии, наскоро подцепил его каску. Тело поднимали долго, оно обвисло, опавшие руки почти касались ботинок, разбитая голова задевала за выступы скалы, и тогда на ней оставался маслянистый вишневый отпечаток. Труп медленно прокручивался то в одну, то в другую сторону. Ряшин нервозно топтался, молча глазел снизу. Вдруг сорвалась и с железным грохотом ударилась трушинская каска. Все как один вздрогнули и стали тянуть живее.
Потом конец веревки сбросили вниз, Ряшин обвязался и вместе с автоматом и каской Трушина был поднят наверх.
– Давай, быстро к вертолету. Пока еще ждут… Сапер и Ряшин, останьтесь.
Шевченко опустился на камень, снял автомат, положил на колени, достал сигареты, протянул солдатам. Молча закурили.
– Как же он свалился с тропы? – вслух подумал ротный и посмотрел на то место, откуда упал Трушин. – Как это случилось?
– Я шел впереди, слышу, какой-то шум, потом – глухой удар. Смотрю, а его уже нет, – произнес сапер.
– И что, ни крика, ничего?
– Не, крикнуть успел. – Сапер качнул головой в сторону, выражая таким образом свое сочувствие. – Если б знал, пошел бы за ним. Откуда мне знать, что у него голова закружится. Я ведь прикомандированный, никого толком не знаю…
– А почему автомат в стороне валялся?.. Странно. – Сапер промолчал. – Ладно, – Шевченко поднялся. – Пошли в пещеру. Будет тебе работенка, раз ты первым шел.
– Это не впервой…
Они спустились. Черный зев пещеры при дневном свете уже не казался таким широким, как ночью.
– Кровь, – сказал сапер.
– Это мы тут двоих, – пояснил Шевченко и осекся, вспомнив и про Татарникова. – Фонарик у тебя есть?
– А как же, – тихо ответил сапер. Он пригнулся и вошел внутрь пещеры.
– Теперь все назад! – послышался его голос. Сапер долгое время не подавал признаков жизни, потом в проеме входа показался его зад, он пятился и стравливал трос.
– Зацепил… Сейчас попробуем стащить.
– Не завалится?
– Не должно. Противопехотная. Если под ней фугас не поставили.
Он стал помалу тянуть и вытащил закрепленную на «кошке» деревянную коробочку.
Втроем вошли в пещеру. Шевченко сразу почувствовал странный сладковатый запах.
– Впереди – яма, – шепотом сказал сапер.
Они подошли к ее краю. В поперечнике яма была около четырех метров.
– Свети…
Они склонились над краем и отшатнулись. Бледный луч фонаря выхватил оскаленные лица, потухшие заплывшие глаза, скрюченные пальцы.
– Мертвяки! – с дрожью в голосе пробормотал Ряшин и побелевшими глазами уставился на ротного. – Вся яма мертвяков!
– А ну, свети еще! – выкрикнул Шевченко. – Смотри, может, есть кто в нашей форме…
– Вон, слева, кажется. Точно, наш…
– И рядом, и еще…
– Бедные ребята…
Тела несчастных были покрыты ужасными ранами. В слабом свете фонарика кровь казалась разбрызганной черной смолой.
– Гранатами закидали или из автоматов, – глухо сказал Шевченко. – Это тюрьма была. Зиндан… Трупы бы надо вытащить…
– Только смотрите, товарищ капитан. Они могут быть того, заминированными… – деловито заметил сапер. – Да идемте, что ли, на воздух. А то дышать совсем нечем.
Над ними прострекотали два вертолета. На ярчайшем свету казалось, что это грохотало солнце.
– Увезли, – констатировал Шевченко.
Они поднялись на вершину. Люди лежали вповалку.
– Стеценко! Построить роту. Кроме первого взвода, – тусклым голосом произнес Шевченко.
Через минуту люди стояли, и Стеценко, по привычке раскачиваясь с носков на пятки, доложил. Он улыбался, и маленький шрамик на верхней губе чуть подрагивал.
– Справа по одному – шагом марш! – скомандовал Шевченко.
Стеценко лихо продублировал и остался стоять рядом с командиром.
– Зря ссоритесь со мной, товарищ капитан. Где вы еще такого старшину найдете?
– Ссорятся, Стеценко, с равными. Ясно? А за то, что разлагаешь роту и пытаешься сделать из нее банду мародеров, – ответишь.
– Ну, зачем, командир? Я ведь заслуженный человек, в комитете комсомола состою. Орденом награжден. И ведь я тоже могу сказать, что у командира роты порнографию видел или полный целлофановый пакет афоней. Ну так, к примеру, конечно. Мне-то что, ну выговор объявят. Так я все равно на гражданку ухожу. А тебя потом – поверят, нет, а в академию могут не пустить…
– А ты, Стеценко, действительно подонок.
– Ну я ведь только для примера, товарищ капитан. Всего лишь для примера сказал. Мы ведь люди простые!
Последнюю фразу он произнес громко, так, что оглянулись солдаты.
– Рота, шире шаг. – Старшина выкрикнул с веселой остервенелостью, будто сам звук этих слов вызывал у него злое возбуждение. – Четкий шаг – это наш подарок очередному съезду!
И рота действительно ускорила шаг, на крутых спусках люди скользили по щебенке, а сам старшина, прыгая с камня на камень, устремился в голову колонны.
Но последние метры до опорного пункта батальона рота едва волочила ноги. Еще издалека Шевченко увидел застывшего Лапкина, фигура которого выражала не ожидание и встречу, а, скорей, проводы.
– Что с Воробьем? – Лапкин не выдержал, бросился навстречу.
– Убит, – коротко ответил Шевченко.
– Как это произошло? – пролепетал чуть слышно замполит.
– Просто: пулей в сердце.
– Я должен был быть там. На его месте…
– Осади, замполит, и не нуди, – грубо оборвал Шевченко. – Не до тебя. Три человека убиты. И еще раненых двое.
– Как, целых трое?
Лапкин замер и так и остался стоять истуканом. Шевченко ощутил мимолетную неприязнь. Ему тошно было видеть круглые глаза, в которых застыл ужас перед дичайшим, неизъяснимым абсурдом: вот был человек Воробей, смеялся, говорил, иногда действовал на нервы, валял дурака. И вдруг раз – и его нет. Будто костяшку на счетах: клац в сторону!
Шевченко подумал без злости, скорей устало: «Еще расслюнявится, возись потом с ним…» Шевченко поневоле привык к неестественному изыманию из жизни людей, которых знал, любил или к которым был равнодушен. Самым странным и непонятным было осознание, что ушедшие уже никогда не вернутся. В это невозможно было до конца поверить, и, наверное, в этом как раз и заключалось спасение: где-то глубоко в подсознании мертвые продолжали жить, разговаривать, существовать незаметно и вместе с тем как бы рядом.
Осознавать это по-иному было нельзя, потому что твое окружение, ближайшие люди воспринимались бы как кандидаты в покойники, завтрашние или послезавтрашние мертвецы. Полупризраки…
– Ну-ка, вызвать мне командира роты! – вдруг трубно прозвучал голос Кокуна.
Шевченко выругался в сердцах, с трудом поднялся, забросил за плечо автомат. Солдаты смотрели выжидательно и с сочувствием.
– Эрешев, захвати мой «лифчик».
Кокун не поздоровался, не протянул руки, с ходу приказал построить роту.
– Потери есть?.. Значит, взвод остался там, на высоте? Хорошо… Приказ такой: в ночь пойдете вдоль реки. Все ясно?
Ставя задачу, Кокун смотрел куда-то поверх головы ротного, будто видел там только ему одному ведомое.
– Товарищ майор! – вдруг быстро и с жаром заторопился замполит. – Люди вымотались. Такие потери!
– Вы кто такой? – удивился Кокун.
– Я замполит роты, – сказал он и коротко кивнул.
– А я ставлю задачу командиру роты, а не вам! – рыкнул майор и снова повернулся к Шевченко.
– Рота деморализована! Люди на пределе, – горячо продолжал Лапкин. – Вы посмотрите на них!
Рота выжидающе затихла, замерла, будто вмерзла в камни. Серые, потухшие лица следили без выражения и интереса, вроде и не принадлежали молодым парням, а были лишь бесконечным одинаковым слепком с маски усопшего.
– Замолчите! – Кокун дернул ногой и задохнулся. – Истерику тут! Да кто вы такой?
– Я – заместитель командира роты по политчасти! – звонко отчеканил Лапкин.
– Я отстраняю вас от роты! Вы у меня партбилет на стол положите! – Кокун перевел дух. – В чем дело, Шевченко?
Ротный пожал плечами.
– Замполит говорит правду. Люди действительно вымотались. Потери. А вот во второй роте никого не убило… Почему нам никто не помог, когда нас зажали?
– Был интенсивный огонь… Сам понимаешь. Хорошо, ладно, хватит уговоров… Всем ждать в строю! – мрачно бросил он и решительно удалился.
Через несколько минут послышался его голос:
– А ну-ка, сюда, Шевченко!
Кокун сидел у радиостанции, при виде ротного деловито проговорил:
– Вот, отвечай командиру полка.
– Шевченко, – заурчала радиостанция, – ты слышишь меня?
– Да, товарищ Первый… – тихо ответил ротный.
– Сергей, действительно ли рота небоеспособна? Я тебя спрашиваю, говори честно.
– Люди выдохлись, только из боя. Трое «ноль двадцать первых»[5] у нас.
– Знаю… Сергей, я спрашиваю тебя как офицер офицера. Пойми, я спрашиваю, потому что у меня нет другого выхода. Рота сможет идти?
Шевченко молчал.
Несколько мгновений он колебался, представляя измученную массу людей, хриплую, голодную, невыспавшуюся, провонявшую порохом, потом и кровью, – свою родную роту…
– Люди выдохлись, – медленно проговорил Шевченко.
– Что – мне прилететь уговаривать твою роту? – громыхнул голос командира.
– Не надо, – ответил Шевченко.
«Запрещенный прием, – остановившись перед строем, с горечью подумал Шевченко. – Они ведь ни за что не откажутся».
Кокун хотел было что-то сказать, но Шевченко, даже не глянув в его сторону, громко, с расстановкой произнес:
– Командир полка спрашивает, может ли рота идти в бой… Я сказал, что вы все выдохлись, на пределе…
Он замолчал. Какое-то время стояла тишина, потом вразнобой, все громче и громче зазвучали голоса: «Сможем… Если надо – пойдем!..»
Так же молча Шевченко повернулся, отошел к радиостанции, доложил. Радиостанция удовлетворенно пророкотала: «Спасибо, Шевченко». Он встал и ощутил острый приступ горького веселья и тоски.
Рота по-прежнему мучилась в строю. Кокун ходил вдоль шеренги и что-то вещал. Видно было, застоялся за день.
– Ну? – громко вопросил он, уперев руку в бок и отставив ногу.
– Всем готовиться к выходу. Пойдем в ночь под утро, – сказал Шевченко роте.
Никто не проронил ни слова.
Кокун ушел спать; предварительно он произнес небольшую речь об интернациональном долге и ответственности. После чего стал безопасен. Комбат пропадал во второй роте. «Мудрый начальник знает, когда его присутствие излишне», – подумал устало Шевченко и распорядился вслух, чтобы рота немедленно начала чистку оружия.
Прихрамывая, подошел Эрешев. За ним безмолвной тенью – Атаев.
– Товарищ капитан, почему так: майор Кокун нас трусами обозвал!
– Не понял… – недоуменно покосился Шевченко.
– За то, что в бою мы не были.
– Сказали, что вас я оставил?
– Он не хотел слушать. Ему прапорщик Стеценко сказал, что мы обманули вас. Я знаю…
– Ерунда, не слушайте Кокуна…
– Он перед всем строем назвал, – вставил Атаев. – Когда вы по рации говорили.
– Разве мы трусы? – глухо продолжал Эрешев. – У меня медаль «За отвагу» есть, и у Атаева есть.
– Да ну его к черту, вашего Кокуна! – раздраженно отрубил Шевченко. – Забудьте.
Эрешев потоптался, медленно повернулся и скрылся в темноте. За ним так же безмолвно исчез Атаев.
Сергей сел к огоньку. В жестянке из-под патронов, наполненной соляркой, мокло пламя. Костерок светил под себя и все же притягивал теплом и уютом.
В темноте проявилась худая фигурка замполита. Шевченко краем глаза увидел ее и подумал, что лицо у Бориса, вероятно, синее. Хотя и было тепло.
– Садись…
– Не могу поверить, что Воробья уже нет. И тех ребят…
– А ты и не старайся. Человека из памяти сразу не выкинешь и не выключишь – не лампочка на кухне.
– Как ты думаешь, Сергей, что мне теперь будет из-за Кокуна?
– Ничего не будет. Пойдешь со мной.
В тишине рассыпалась автоматная очередь.
– Надо бы огонь погасить, – заволновался Лапкин и посмотрел на командира. Но он не отреагировал.
Сумерки разорвала яркая вспышка. Еще звенел воздух, а в него уже вплелся истошный крик:
– Духи! Из миномета!
Шевченко вскочил, судорожным движением опрокинул банку с соляркой, затоптал огонь.
– К бою!
Подскочил Козлов:
– Убило двоих: Эрешева и Атаева!
– Где? Веди!
…Они лежали вповалку, за бруствером. В пятне света фонаря разметанные, исковерканные взрывом тела казались страшнее: вокруг была только темнота. Эрешев лежал в луже крови, которая подтекала под него, медленно сочилась из многочисленных осколочных ран. Атаева же узнать было невозможно: лицо стерло взрывом.
Шевченко отвел луч в сторону, чтобы не видеть оголенных костей, торчащих из обрубков руки и ноги.
– Кажется, дышит, – первым пришел в себя Козлов.
– Он склонился над Эрешевым, тут же распорол штыком вязкую от крови куртку, достал бинты – и в замешательстве остановился, не зная, с чего начинать.
Лицо Эрешева представляло сплошную кровавую маску. Один глаз вытек и свисал студенистым комком. Козлов стал наматывать бинт вокруг головы, он тут же промокал насквозь. Левая рука Эрешева была почти оторвана. Его осторожно приподняли, завели бинт за спину, рука беспомощно обвисла на сухожилиях. Козлов привязал ее, как что-то чужое, к телу, потом встал с колен, выпрямился.
– Все, – выдохнул глухо, украдкой глянул на руки, стал вытирать их об штаны.
Шевченко и Лапкин стояли молча, в стылом оцепенении наблюдали, как неотвратимо проступала кровь из-под бинтов, как быстро набухали они и краснели.
– Откуда взялся миномет? – тихо спросил Шевченко. – Не могло быть миномета… Не могло! – Он с хрустом сжал пальцы.
Лучик света дернулся, скользнул в сторону – замполит выронил фонарь, судорожно схватился за голову и вдруг взвыл ломким, нелепым голосом:
– Сволочи, суки поганые! Ну, что же вы не стреляете? Ну, где вы, духи, где, вылазьте, шакалы!
– Успокойся, черт тебя, – осадил Шевченко. – Иди отсюда, и без тебя тошно.
На негнущихся ногах, пошатываясь, как с тяжкого перепоя, Лапкин побрел в темноту.
– Эрешев, – осторожно произнес Сергей, опустился на колени. – Узнаешь меня?
Эрешев чуть приоткрыл глаз.
– Скажи, что случилось? Что произошло, Эрешев?..
– Без сознания, – прошептал Козлов.
Шевченко наклонился ниже и увидел, как дрожат под почерневшей от крови надбровной дугой ресницы. Единственный глаз Эрешева, иссушенный дикой болью, смотрел пусто, отрешенно. И не осталось в нем ничего для Земли, для жизни, для постижения последней истины – ничего, кроме долготерпения последних, обреченных своей ненужностью минут, может, часов.
– Дай флягу!
Шевченко быстро отвернул пробку, приставил горлышко к черной щели рта. Но вода проливалась на подбородок, на красно-белые бинты. И он понял, что все тщетно.
– Так надо… – вдруг еле слышно сказал Эрешев.
– Что, что, Эрешев? – встрепенулся Шевченко.
– Так надо, – еще тише произнес он и умолк.
– Что, Эрешев, ты можешь сказать, что случилось? – заторопился командир. – Ты держись, слышишь, все будет хорошо… слышишь?
Но умирающий смотрел уже сквозь командира. А Шевченко продолжал убеждать, умолять Эрешева подождать помощи, которая непременно появится в виде вертолета, крепиться и не умирать – и понимал, что говорит он просто в открытую, беззвучно кричащую от боли рану.
Эрешев все равно умер. В бреду он по-туркменски звал маму. И все понимали, что он зовет мать, чтоб она пришла и спасла его. Потом Эрешев умолк. Единственный глаз его чуть дрогнул, ухватывая последнее, что простиралось перед ним. То были смутные пятна склонившихся лиц, опрокинутое черное небо и рассыпанные по нему белые-белые звезды.
– Все, – сказал Шевченко. – Скоро пойдем.
Замполит кивнул в темноте. Он никак не мог сглотнуть ком в горле. Шевченко чувствовал в себе тягостную злую силу. Это была та яростная, ненавидящая сила, отчаяние последнего броска, после которого не может уже ничего остаться, кроме желания упасть на землю и умереть.
– Стеценко, построить людей! – приказал он.
Поднимались тяжело, с мат-перематом. Шевченко плеснул с ладони на пересохшие глаза, снарядил магазины патронами.
Уже почти сутки все перебивались сухарями. С вертолетов сбросили патроны, гранаты, баки с водой, о провизии то ли забыли, то ли не смогли. Главным питанием было питание для войны.
С вершины спускались в полной тишине. Путь продолжался по хребту, потом по долине и снова – по хребту. Через час Шевченко подталкивал отстающих, задыхающихся, хрипящих. Еще через полчаса долгого затяжного подъема стволом автомата толкал меж лопаток.
Шевченко знал одно: жесткий темп, который он выбрал, давал шанс выйти к цели незамеченными.
– Стеценко, – еле слышно прохрипел Шевченко. – Стеценко, на кой черт я поставил тебя замыкающим?
Старшина перебросил автомат с плеча на плечо. Держал его по-особому: тремя пальцами за откидной приклад.
– Понял, командир. Сейчас буду пинать!
– Вперед, Стеценко! Иди вперед!
Стеценко ухмыльнулся, снова перебросил оружие с плеча на плечо, зашагал широким твердым шагом.
Никто не видел дальше трех метров. Смутно – камни, спина впереди идущего, липкая куртка, вещмешок, растирающий в кровь плечи, задубевшие на жаре и ветру лица, черные руки пахаря войны, автоматы, шибающие жестким духом горелого пороха.
Замполит с каждым шагом покачивается все сильней. Так ему казалось. Он боится, что вот-вот рухнет влево, где откос, или вправо на скалу. «Хочется отдохнуть», – думает он. У него нет желания подбодрить кого-нибудь шуткой или тем паче взять автомат у выдохшегося бойца. Все эти благие позывы закончились час назад.
Ряшин непрерывно считает до девятнадцати – столько ему исполнилось лет. Каждый шаг от одного до девятнадцати он проклинает, потому как не надо было его матери рожать его, не надо было жить столько, чтоб теперь так мучиться, страдать, убивать чужих людей и, в конце концов, самому подохнуть ни за что, ни про что… Здесь он познал ненависть. И прежде всего – к покойному «деду» Трушину. Ему стыдно своего подловатого чувства, но ничего не может с собой поделать: он тихо радуется его смерти. Как и каждый «салабон», он беззащитен перед обрушившейся на него жизнью и молча терпит выпавшее на его долю лихолетье.
Козлов идет как заведенный, широкая спина не ощущает проклинающих взглядов идущих сзади. Он «старик», и время для него движется в иной системе измерения. Он не фаталист, он гораздо проще, но, как и все, боится смерти. Обидной смерти после всего, что сотворил с ним Афган.
Шевченко идет последним, поглядывает на небо, которое угрожающе светлеет, наливается смертельной для них спелостью, блекнут и гаснут звезды, которые только-только были такими стылыми и пронзительными. Шевченко подталкивает шатающуюся перед ним спину, хрипло ворчит. Худосочная спина принадлежит бойцу по кличке Ркацители. Фамилия у него такая, созвучная сорту винограда. Ркацители ужасно коверкает язык и всем обещает в туманном «потом», после Афгана, много вина, много шашлыка в своем доме и еще чего-то… Но пока он и без вина еле волочит ноги: толчок в спину – безропотно ускоренный шаг.
– Командир, там впереди духи! – торопливо сообщает Козлов. – Я видел огни.
«Что он такое говорит? – не понимает Шевченко. Он видит в его лице тревогу, мысленно сравнивает Козлова с невозмутимым Эрешевым: – Козлов не хочет умереть перед самым дембелем. Никто не хочет умирать».
И убегающий взывает к богу, и догоняющий…
Шевченко стряхивает посторонние мысли, энергично движется вдоль растянувшейся колонны.
– Ребята, собрались, ощетинились! Сейчас будет жарко… Собрались, ребята, не расслабляться, бдительность, братва! Не робеть, всыплем духам по первое число…
Ротный чувствует, что всем уже на все наплевать. Особенно молодым – Ряшину по кличке Ранец, бойцу Ркацители, – которым еще предстояло исчеркать крестиками два календарика – целых полтора года! И какие нужны были силы, чтобы пережить, стерпеть, пройти эту не последнюю высоту, эти оставшиеся полтора года…
Вдруг повеяло холодом, посерела предутренняя мгла – то ли горный туман, то ли застоявшийся пороховой дым. И тут послышался тихий посвист, будто настороженный, опробывающий, а потом закашлялась очередь пулемета, видно, старинного, может, еще времен Антанты.
Рота развернулась, с облегчением залегла: под огнем, но краткий перерыв. Шевченко по инерции пробежал вперед, присел за камнем, свистнул Козлова. Подползли Ряшин и Ркацители.
– Разрешите с вами?
– Что – ожил? – спросил ротный у грузина.
Тот кивает: «Да-да».
– Пошли, – разрешил, поколебавшись, Шевченко. – А ты, замполит, будешь продвигаться за мной вперед и вверх, прикрывать нас огнем.
Вчетвером они обогнули скалу, пригибаясь, прошли по узкому карнизу над зевом пропасти, потом стали взбираться наверх. Рота отчаянно трещала всеми стволами, гулкой дробью шарахал по перепонкам автоматический гранатомет «пламя». А с горы стремительно падали трассеры, вспарывали утреннее небо, отрывисто частили винтовки, горное эхо затрепетало, дрогнуло от жестких и грубых звуков и пошло, пошло швырять во все стороны искореженные звуки боя.
Моджахеды не заметили, как подобралась почти вплотную группа захвата. Трое афганцев возились у крупнокалиберного пулемета ДШК: заклинило патрон; торопились, чтобы прижать шурави кинжальной очередью. Еще двое устроились за камнями, стреляли сквозь узкие щели. Поодаль шевелился раненый, тихо мычал, корчился от боли. Внезапно он заметил чужих, сразу умолк, в ужасе округлил глаза, потянулся к винтовке. В тот же миг Шевченко, а вслед Козлов швырнули гранаты. Грохнуло, затянуло пылью. Опрокинулся, задрав сошку, пулемет, и в этом положении было что-то безобразное и отвратительное. Козлов спрыгнул сверху, стал переворачивать разметанные тела, встряхивать с силой, пробовать носком ботинка под ребро. Двое оказались лишь контуженными. Их рывком подняли, поставили на колени. Афганцы затравленно вертели головами, а когда им стали вязать в «крендель» руки вместе с ногами, пытались сопротивляться. Раненый моджахед, так и не добитый гранатами, продолжал громко стонать. Его стоны вплетались в перепалку выстрелов, очередей, визг пуль – эти звуки создавали жуткую какофонию войны.
Откуда-то появился старшина. Он толкал перед собой высокого духа с изможденным лицом. Тот мелко семенил ногами, отчего казалось, что вот-вот он грохнется оземь. Рукав его промок от крови, но пленный даже не морщился, а тупо смотрел перед собой.
– Ну, что, дядя, – прорычал Стеценко, – расскажи, как ты советского прапорщика хотел к Аллаху отправить!
Старшина хрипло рассмеялся, в этих звуках мало чего осталось от смеха. Вслед ему весело хмыкнул Козлов. Шевченко заметил, что рубец на лице старшины приобрел багровый оттенок.
– С бедра, не целясь, прямо в руку ему заделал. Он и обгадился. У-у, морда! Бессрочный дембель хотел мне устроить…
Солдаты рассмеялись, а Стеценко круто развернулся и резким ударом сбил пленного с ног. Шевченко поморщился:
– Ряшин, перевяжи его. А потом посмотришь того. – Он кивнул на лежащего, который не стонал уже – тихо мычал.
Стеценко покосился на распростертое, залитое кровью тело, перевернул ногой, скинул автомат, щелкнул затвором, отступил на шаг.
– Что делаешь, сволочь! – обернулся Шевченко.
– Все равно сдохнет… Брось, командир, чего их жалеть! Думаешь, тебя бы они пожалели? – Он опустил автомат. – Помнишь, что с Мальцевым сделали, на сколько частей порезали? На двадцать или на тридцать? А кожа его на дереве сохла – помнишь?
– Плохой ты смертью умрешь, прапорщик. Попомни…
– Хороших смертей не бывает, капитан. Уж поверьте. Между прочим, когда вы в Союзе все балдели, я в разведке все уже прошел: и огонь, и воду… Пулеметчиком был.
– Помню, Стеценко. «Косарь-пулеметчик».
– Угу… – Он горько вздохнул. – Вы еще, товарищ капитан, не выварились на этой войне. А мне вот, можете не верить, в Союз до жути ехать не хочется. Хотя и здесь бывает страшно… Я ведь детдомовец, Сергей. У меня никого нет. Воспитатели были сволочи. Это только в газетах они – родней матери. Старшие пацаны всегда пиндюрили младших. Вот так, командир. И никому я в Союзе не нужен. По мне – хоть бы эта война никогда не кончалась. Здесь я умею все, что надо уметь. Могу завалить бабая – и он даже пикнуть не успеет. Всадить ему в чалму – нет лучше удовольствия…
С вершины опять нервозной дробью застучал пулемет.
– Шарипов! – вдруг рявкнул старшина. – А ну, дай свою игрушку!
Он с легкостью выхватил пулемет, нацепил его на шею, будто гитару, выскочил из-за укрытия и вперемешку с матом выпустил длинную очередь.
– А ну, верни пулемет!
– Пожал-те! – Стеценко церемонно поклонился ротному, стянул с плеча пулемет, сунул Шарипову.
Тот хмуро забрал оружие.
Тем временем три пары вызванных вертолетов поочередно сделали заход и начали молотить вершину бомбами и «нурсами».
После РБУ[6] все смолкло, гора дымилась, как вулкан, и рота вновь ползла вперед.
Прошло еще некоторое время – Шевченко перестал следить за часами, – и уцелевшие моджахеды не выдержали.
Рота с криком и матом вкатилась на вершину, лежа, с колена бойцы целились в уходящих душманов.
Мертвых моджахедов потом сбросили под откос. Трупы с шорохом съехали вниз и вызвали небольшой камнепад.
Стеценко приволок покореженный взрывом «льюис», картинно швырнул его на камни. Шевченко отвернулся, отправился смотреть укрепления. Здесь была построена многоярусная оборона. Он приказал восстановить разрушенные огневые точки, подправить каменную кладку.
Настроение у всех заметно повеселело, несмотря на то, что двое – Шарипов и Кириллов – были ранены. Плохо, что оставалось совсем мало воды, кончились последние сухари. Оттого каждый ощущал в себе легкость и злость. «Пора бы и честь знать», – подумал Шевченко, связался по радио с комбатом, доложил об отсутствии воды и продовольствия. Комбат пообещал все: забрать раненых, привезти воду, жратву, боеприпасы и все, что им угодно. В заключение попросил держаться изо всех сил. Шевченко понял, что обещания вилами на воде писаны.
Снизу закричали наблюдатели:
– Духи идут!
Моджахеды шли с двух сторон: маленькие фигурки в одинаковых защитных френчах, растянувшиеся в неровную цепь. В их передвижении и самом присутствии не было ничего пугающего. Фигурки подпрыгивали, медленно приближались, кто-то все время отставал, командиры покрикивали, звучали пронзительные голоса. «Они идут нас убивать», – подумал Шевченко, и в который раз и мысль, и ситуация показались ему нелепыми, невозможными.
Нервно щелкнул одиночный выстрел. Шевченко тут же громко выкрикнул:
– Без команды не стрелять! Беречь патроны.
…Душманские цепи приближались слева и справа – уступом друг к другу. Кажется, ухо уже улавливало чужое сорванное дыхание, и ветер доносил терпкий запах потных, возбужденных тел. Крики, команды с обеих сторон временно прекратились. Сближение происходило в полной тишине.
Шевченко осторожно выглянул из-за бруствера. Душманы продвигались уже быстрей, подобно юрким ящерицам, будто подталкивала их слепая яростная сила.
– Огонь! – скомандовал Шевченко и первым дал длинную очередь.
Он видел, как его трассер вонзился в ближайшего моджахеда, тот завертелся волчком, рухнул, покатился вниз. Грохот очередей посыпался со всех сторон, будто вырвавшийся из-под клапанов пар, выбрасывая единую, сминающую все энергию. Враг упрямо шел наперекор огню, моджахеды не стреляли, в безмолвном порыве карабкались вверх, переступали через тех, кого уже смело первым залпом, получали свой свинец, падали, взмахивая руками, переламываясь сухой щепкой.
– В психическую идут! – озарила кого-то нервная догадка.
Испуганный мальчишеский тенорок будто подхлестнул Шевченко, он ощутил в себе неодолимое желание подняться, выпрямиться во весь рост и броситься в атаку, увлекая за собой своих пацанов, схлестнуться силой на силу. Сотни три моджахедов шли в смертельный бой, голову каждого обрамляла чалма черного цвета. Уже отчетливо были видны их бородатые искаженные лица. Вдруг без команды, почти одновременно, передние остановились и залегли. Запоздало бухнул из укрытия миномет. Мина устрашающе просвистела, шлепнулась на другой стороне горы и разорвала самое себя. Послышались гортанные команды. Моджахеды снова полезли вперед.
Сухой щелчок ослепил Шевченко. Он почувствовал резкую боль, схватился руками за лицо – ладони окрасились кровью.
– Товарищ капитан, что? Покажите. – Козлов оторвал руки от лица командира. – Осколки?
– Крошкой посекло, – наконец сообразил Шевченко. Он провел пальцами по белой отметине на камне – там, где споткнулась пуля.
– Ерунда…
Моджахеды продолжали упрямо идти на высоту. Открытые места были сплошь усеяны мертвыми телами. Слева, где ровная площадка с выступом переходила в крутой подъем, подбитой птицей мелькал, вздрагивал зеленый флаг. Уже была ясна, очевидна безнадежность и трагичность порыва захлебывающейся в крови атаки, и уже не было пути назад… Моджахеды цеплялись за каждый камень, выступ, самые смелые и удачливые окопались на расстоянии броска гранаты и теперь били очередями жестко, наверняка. Обе стороны остались без гранат, экономили боеприпасы, снизу подпирали свежие силы, гранаты снова летели в окопы обороняющихся, шлепались с ледяным металлическим стуком, тут же взрывались, калеча и тех, и других.
– Комбат! – кричал в эфир Шевченко. – Где «вертушки»? Духи ползут, как вши!
Комбат отвечал еле разборчивой мембранной скороговоркой.
– Выслали, выслали, – матерился во весь голос Шевченко.
Но тут действительно вынырнули вертолеты, будто снялись с соседней вершины. Они дружно молотили по воздуху лопастями – могучие воздушные мельницы. Шевченко зажег красную дымшашку, выстрелил из ракетницы в сторону противника. Вертушки превратились в гром и молнию, посыпали огненными стрелами в подножие горы. И получилось обратное: душманы дружно рванули наверх. Шевченко понял, что не миновать рукопашной.
Появился сержант Свиридов с почерневшим лицом погорельца. У него тряслись губы.
– Там у нас духи прут без конца! И двоих убило!
– Автомат убери! – крикнул Шевченко, заметив палец на крючке.
– Что?
– Отверни ствол, халява! И марш обратно, – проорал Шевченко. – Резерва у меня нет. Так и скажи замполиту!
Свиридов приложил руку к каске и, пригнувшись, побежал. Шевченко снова склонился над радиостанцией. Комбат отвечал, что помочь пока не может, умолял продержаться.
Вертолеты сделали еще один заход и ушли.
– Боятся! – прокричал сквозь сплошную перепалку выстрелов ротный. – Боятся смешать нас с духами в один винегрет!
– Шевченко, возьми себя в руки, продержись еще немного! – шипит, щелкает радиостанция, посылает натужные звуки, передает свою немощную энергию – пытается помочь.
«Бум! Бум!» Взрываются мины. Хаотичный неприцельный огонь изводит случайностью своего выбора. Идут штрафники, кровавят скалы, переполняются слепой яростью. Самые смелые, или, может, самые штрафные, доползли, приникли к камням, замерли в одном рывке, в одном шаге, готовые вцепиться в глотку, растерзать и погибнуть.
Шевченко уползает от пуль. Они почти настигают его, крошат в пыль и осколки камень, – а все мимо. У него уже посечены руки, лицо в заскорузлых кровяных корках. Вспыхивает пыль, взвизгивают пули, с рикошетным стоном уходят вверх. Шевченко мечется возле огромного камня, переползает с одной стороны на другую, но и там он уязвим, будто нагишом на сковородке; пули на ощупь подступают, готовые вонзиться в мягкую слабую преграду.
Ему хочется стать камнем.
– Эй, ребята, прикройте! – орет Шевченко. – Со всех сторон зажали!
Но ребята молчат. Слева обвис, перегнулся на острой глыбе солдат со смешной фамилией Ляша. Кровь из его разорванной груди натекла на камень, и тот стал будто покрашенным. Шевченко помнил, как в слепом отупении выскочил Ляша из-за укрытия и вдруг подскочил на носочках, рухнул на каменный гребешок.
Снова брызнула крошка, вспух фонтанчик пыли. Шевченко нервно засмеялся, пружинисто вскочил, согнулся в три погибели и с криком и матом рванулся, пробежал десяток раскаленных шагов, рухнул мешком за камень, чувствуя, как разбухает и расползается сердце. Он лихорадочно обтер лицо, содрал корочку, ладонь залоснилась красным, Шевченко плюнул, чертыхнулся – и увидел Стеценко. Тот лежал в глубокой нише, спереди укрытый массивным бруствером из камня. Сергей подумал, что старшина убит или ранен, но тот вдруг шевельнулся, закопошился, заерзал коваными ботинками. Потом он приподнялся, отвязал флягу, приложил ее к губам и стал пить. Он пил медленно, двигая шершавым кадыком. Было видно, что ему неудобно делать это лежа.
– Эй ты, сволочь, – крикнул Шевченко. – Тебе говорю, Стеценко!
Тот вздрогнул, глянул в сторону командира.
– Отлеживаешься?
Стеценко оглянулся, увидел направленный автомат, ужом распластался за камнем.
– Стеценко! – Шевченко чувствовал, как закипает ярость, он стал подниматься; старшина вскинул автомат, грохнула очередь. Сергей упал плашмя, успев понять лишь, что цел. Потом перекатился в сторону, выбрал камень покрупней, как раз на ладонь. Замыслил он старую, как мир, хитрость: размахнулся и швырнул камень. Стеценко выстрелил на звук, Шевченко ответил тут же. В шуме выстрелов он различил крик и звяканье простреленной фляги.
– Ну, все, теперь точняк… Теперь так, как есть… Как надо… – Шевченко сжал в кулаки дрожащие пальцы. Не говорил он сейчас – причитал, будто монах, торопливо и с трепетом произносящий молитву. – Вот так будет правильно…
Остатки воды вытекали из пробитой фляги, влага быстро впитывалась в поры камня, словно тот пил ее с жадностью, пьянея от самой счастливой случайности. А рядом вытекала из хладеющих ран густая соленая кровь. Но камни пресытились кровью.
Он на мгновение закрыл глаза и представил себя мертвым: грязное, исковерканное пулями и осколками тело, поджатые зябко ноги. «И какое же выражение останется на лице?..»
А Герасимов в это время сидел на железно-фанерном стульчике, в расстегнутой до пояса куртке. Маскосеть трепыхалась над ним, отчего по карте ползали тени – будто приливы и отливы несуществующего моря. Герасимов слушал доклады, недовольно обрывал многословных, раздавал короткие команды, пользуясь самым ограниченным запасом слов. Кокун сидел неподалеку от командира, слушал лаконичные «сегодня не будем», «держать под контролем», «докладывать немедленно», «разберитесь с обстановкой», чертыхался в душе, обижался на командира и одновременно завидовал его железной невозмутимости. «Ничего сложного, – думал он с недовольством. – Лысый тянет всю черновую работу, командир ставит задачи, а штаб гудит, выполняет».
Начальник штаба, вылизанный наголо бритвой под довоенную моду краскомов, слушал телефон и одновременно прикладывался к бутылке боржоми. Потом вслух высказал очевидное, то, что знали все:
– Если к исходу дня не возьмем перевал рядом с Дудкази, духи просочатся, как вода из решета…
– Нам бы Дудкази удержать, – проворчал Герасимов.
– Комэск ни черта не может сделать.
– Напалмом бы их залить, – сказал Кокун.
«Куда б его послать?» – подумал Герасимов обреченно.
– Слушай, сходи спроси, скоро обед будет?
Кокун молча вышел.
Герасимов хлебнул воды из бутылки. Даже теплая минералка была приятной, пузырьки щекотали полость рта, обжигали горло. Несколько капель пролилось на куртку, и образовалось еще одно темное пятнышко – рядом с невыцветшим прямоугольничком от колодки Звезды Героя.
Командир пытался понять, почему так скоро, непредсказуемо скоро была деморализована рота Шевченко, почему так странно гибнут у него люди. Несчастливое стечение обстоятельств? Он знал, что такое срывы у людей, – и он не давил до конца на «железку». Но человек заменим. Трудней заменить роту, тем более сейчас. «Продержаться бы им еще часа четыре-пять».
– Давай связь с Шевченко, – вдруг потребовал он у начштаба.
И Герасимов вновь просил ротного держаться, обещая скорую помощь. Знал, что обманывает. Но на войне, считал он, обманывать приходится всем. Солдату – когда грабит, командиру роты – когда все это скрывает, комполка – когда приказывает, обещает и тоже покрывает… Ну, а правительство, если в целом, – оно вообще делает вид, что здесь ничего не происходит.
Он вышел из-под навеса, закурил сигарету. Подошел Кокун.
– Прапор говорит, можно прямо сейчас идти обедать.
– Да какой, к черту, обед! Там рота Шевченко загибается!.. Давай, Кокун, в батальон. Будешь меня обо всем информировать. И никакой самодеятельности!
Кокун приложил руку к панаме и удалился. Герасимов проводил его взглядом и вдруг сказал:
– Македонский говорил: «Ничто не в состоянии защитить труса». А я скажу так: никто не в состоянии защититься от дурака.
Начштаба кивнул молча, с трудом поднял покрасневшие глаза.
– Наградить медалью, мать его… – Герасимов выругался от души, – да и отправить…
– В Академию ГШ, – вздохнул начштаба.
– Ни хрена! – отрубил Герасимов. – Сразу же после операции выхожу на командующего. К черту…
Шевченко готовился к смерти. Командир не смог помочь ничем, даже водой и боеприпасами. «Держитесь». Вертолетчики низко не летали, стрелять и бомбить не решались. Артиллерия могла лишь замесить и тех и других в один кроваво-пыльный фарш.
«Если и придется помереть, то сделать это надо аккуратно», – думал Шевченко. Он достал из кармана последние письма, которые в отличие от документов всегда носил с собой.
«Товарищ капитан! С гвардейским приветом к вам бывший сержант, а ныне – рядовой дисбата Василий Богомазов…» Богомазов сломал молодому солдату челюсть за сон на посту. Тот молчал в роте, молчал в госпитале. Написал только матери в Москву. Она – в приемную министра. Пришла оттуда гербовая бумага. И парню влепили срок в два года дисбата. Хотя все, все до одного по-человечески его оправдывали."…Здесь я стал шофером командира дисбата. Участвовал в поимке преступника и сам задержал его. Теперь к медали «За отвагу» прибавилась еще «За боевые заслуги». Сидеть осталось немного. Пойду потом работать в милицию, так решил. Если б не тот случай – служил бы еще с вами. Часто вспоминаю Афган – это было самое счастливое время…»
"…Здравствуй, мой родной, мой дорогой Сережка. Я все чаще думаю о том, как ты вернешься, как у нас все будет хорошо. Наша доченька все время спрашивает про папу, а я отвечаю: папа служит далеко-далеко, скоро приедет и привезет нам подарки. А она мне: наш папа на войне!…Мне часто снится сон, я не знаю, почему он повторяется, он такой странный и страшный. Мы куда-то собираемся, ты ждешь меня, я тороплюсь, ты спускаешься вниз на улицу, я продолжаю собираться, все время что-то ищу: то косметичку, то жакетку, то ключи. Выбегаю на улицу, а тебя уже нет…»
"…Вчера ходила в магазин и купила нашей малышке кофточку. Такая красивая, розовенькая и рисунок – слоненок… Сережа, посмотри там в магазинах для нашей девочки какое-нибудь красивое платье, туфельки, размеры я тебе писала…»
Между конвертов хранилась фотография Ольги. Снимок был сделан в фотоателье, перед этим она высидела несколько часов в парикмахерской. Шевченко посмотрел на портрет: поворот головы был совершенно не ее, да и прическа с завитыми локонами делала Ольгу чужой и глянцевой. Другого снимка у него не было. Содрогнувшись, он разорвал его пополам, потом еще раз пополам, затем стал уничтожать письма. И остались обрывки: четверть лица, волнистый локон, «здрав», «милый», «когда ты верне…», «зачем на…», «наша лю…». Чистые помыслы на бумаге еще более чисты.
Но дунул ветер, а вслед за ним автоматная очередь проштамповала краткое затишье, полетели обрывки то ли снегом, то ли пеплом былых чувств, падали, падали на чужую землю… Они часто ссорились, бывало, по самому ничтожному поводу. Ольга любила вспоминать и высказывать старые обиды, Сергею казалось, что делала она это намеренно, самоистязая себя и испытывая его. Они несколько раз собирались разводиться и лишь из-за ребенка терпели свои бесконечные конфликты и ссоры. В Афганистан он уехал внезапно, а перед этим она целую неделю не разговаривала с ним. Прощание вышло сухим, она не плакала и, кажется, готова была обвинить его в том, что он бросает ее с маленькой дочкой на руках. Но сдержалась. Уезжал с тяжелым сердцем. Но потом пришло письмо, в нем было столько нежности и тепла, что у него защемило сердце.
«Если выберусь отсюда, то все у нас будет по-другому. Все по-другому», – подумал Шевченко.
И вновь грохотала слепая машина войны, огромные зазубренные маховики со скрежетом продолжали свой вращательный, все перемалывающий путь. Чудовищное бессмысленное действо, окутанное сладостным дымом пороха, пронзенное криками боли, ярости, смертоносного одухотворения и жажды удачи, овеянное призрачным ветром доблести и подвига…
Кольцо наступающих сжималось, в нем постоянно выстреливались звенья, но прибывали новые силы, моджахеды с перекошенными лицами шли вперед, падали ниц, захлебывались кровью, вертелись, сраженные пулей… Напирали с трех сторон, с четвертой была отвесная стена.
Ротный уже трижды менял позицию, уходил все выше и выше, солдаты тоже уходили, не в силах противостоять перекрестному и фланговому огню. И каждый понимал, что если они не остановятся, не собьют пыл врага, то рано или поздно столкнутся на вершине спинами.
Раненный в грудь сержант Свиридов смотрел в небо и не видел уже ни мелькавших фигурок врагов, ни искаженных гримасами лиц товарищей, ни обнаженной объемно-осязаемой картины боя. Он тихо просил пить, черный распухший рот произносил только одно короткое, как выдох, слово. Но никто не слышал, да если б и слышал – воды не было.
Раненых отнесли на самую вершину, уже не было возможности найти более укромное и безопасное место. И они, наскоро перевязанные, в разодранных одеждах, кто молча, кто с надрывным бесконечным стоном, ждали своей участи. Слепящее солнце выжигало им глаза, тень исчезла и будто не существовала, пожелтевшие лица лоснились от липкого пота. Раненые угасали смертью распятых.
Козлов на получетвереньках протащился сквозь открытое место, плюхнулся рядом с командиром. Ротный глянул на его серое лицо, в котором пропечатывалась лишь тоска и безнадега, отвернулся.
– Раненые на жаре кончаются, – сипло зашептал Козлов. – Свиридов стонал, стонал, а сейчас уже не дышит… Пленный один, сука, развязался. Что с ним делать будем, товарищ командир? Они ждут уже, радуются, что скоро каюк нам всем выйдет. И сами нам глотки резать будут…
– Что, что… Дай им свой автомат! К дьяволу твоих пленных!
Сержант воровато ухмыльнулся, пожал плечами, огляделся и трусцой рванул обратно. Вслед ему тявкнула очередь. Шевченко выстрелил на звук одиночно. А через какое-то время он услышал за спиной раздирающий душу вопль. Он сразу все понял, вскочил, припустил бегом.
На самой вершине, куда еще не долетали пули, как на лобном месте, стоял маленький замполит Лапкин. Он тряс за грудки огромного сержанта. Рядом лежали связанные в баранку пленные. Замполит что-то кричал, хрипел, но, как у кликуши, слова разобрать было невозможно. Узнавались лишь отдельные матерные слова.
Еще издалека Шевченко разглядел странные оскалы на лицах пленных, струйки крови из-под носа и ушей. Третий пленник судорожно бился на земле. Ротный молча рванул в одну сторону замполита, в другую – сержанта Козлова, потом так же молча саданул того в скулу. Сержант тихо и покорно принял удар.
– Он гад! – захрипел замполит.
В его руках прыгал окровавленный шомпол.
– Вот – видишь?
– Знаю, что гад, – мертвым голосом сказал Шевченко. Он представил, каким оглушительным и страшным был последний звук, который слышали эти несчастные. Грохот лопающейся барабанной перепонки, треск раздираемой мозговой ткани, кроваво-черная темь…
– Вы же сказали: к дьяволу пленных! Вот я и отправил их к дьяволу, – обиженно пробасил Козлов.
– Я говорил убивать? – страшно закричал Шевченко.
– А что – ждать, пока их духи освободят?
– Безоружных – это же подлость! – взвизгнул замполит. – Тебя расстрелять за это!
– Давай, стреляй, замполит. – Козлов отступил на шаг и вытянул руки по швам.
И Шевченко внутренне передернулся, вспомнив афганца, расстрелянного хадовцами, вспомнил по усталой, ненаигранной покорности.
– Кончай цирк, – с тихой злостью бросил он. – Развяжи его.
Козлов ножом рассек веревки.
– Не смей убивать! – рванулся замполит.
– Заткнись, – отмахнулся ротный.
Афганец встал, начал растирать посиневшие почти до черноты руки. На вид ему было около тридцати. Редкая бороденка, маленькие птичьи глазки на болезненном сизом лице. И руки – такие же длинные, с тонкими продолговатыми пальцами. Левая – залита кровью. Одет был в истертый мышиный френч и широкие штаны. Он стоял и молчал, лишь тонкие губы шевелились беззвучно и торопливо.
– Пускай идет, – сказал Шевченко.
– Как – отпустить?! – поперхнулся замполит. – Он враг, дух, его сдать надо.
– Иди, сдавай…
Козлов хмыкнул, пожал плечами. Шевченко толкнул афганца в плечо:
– Иди, душман, иди.
Тот продолжал стоять, в маленьких глазках прыгал ужас.
– Пошел, говорю!
Афганец побрел, оглянулся раз, другой и припустил наутек.
– Товарищ капитан! – Это был Ряшин. Защитная ткань на его каске прорвалась, отчего казалось, что у воина проглядывает лысина. – Там по рации вас просят.
– Опять будут помощь оказывать, – буркнул ротный и поплелся на связь.
– Шевченко, ты слышишь? – раздался знакомый голос Герасимова.
– Слышу!
– Шевченко! Тут на тебя приказ есть – пойдешь начштаба батальона. Понял?
«Врет! – решил Шевченко. – А может, перед операцией не хотел говорить!»
– Сказал, приказ на меня есть, – тихо проговорил. – На начштаба.
Лапкин и Козлов переглянулись.
– Да-а… Все равно как у Паулюса с фельдмаршальским званием…
Шевченко хмыкнул.
– Ладно, все по местам. Помощь оказана…
– Духи что-то умолкли. Странно, – пробормотал Козлов. Он щелкал крышкой ствольной коробки, раздумывая, не почистить ли ему автомат.
Замполит молчал. Лапкин воспринимал окружающее как дикий, безумный калейдоскоп событий. Он поднял с земли автомат, медленно побрел на позицию.
– Боря! – крикнул ему вдогонку ротный. – Осторожно, пригнись!
Тот согнулся, болезненно втянул голову в плечи и снова побрел, спотыкаясь о камни. Вдруг он переломился, будто увидел что-то на земле и захотел подобрать, тут же повалился на бок.
– Борис! – отчаянно закричал Шевченко. Замполит корчился от боли, кряхтел, катался по земле. – Что, Борис?! – Шевченко оторвал его окровавленные пальцы от живота, задрал куртку, сорвал пришитый к рукаву индивидуальный пакет, зубами вскрыл прорезиненную оболочку, заткнул тампонами сквозную рану и стал обматывать бинтом худой, как у девчушки, торс замполита. Он успокаивал Лапкина, тот мужественно молчал, даже не стонал.
– Как уголь горящий… в брюхе, – натужно зашептал замполит.
Сергей чувствовал, что сам вот-вот надломится, закусил губу, руки не слушались, и последний узелок дался с трудом.
В расширенных, безумных глазах Бориса кипела горячая, хлещущая боль.
– Дышать… больно, – не сказал – прошелестел выдохом Лапкин.
– Ты терпи, терпи. Сейчас промедола тебе впрыснем. Все хорошо будет… Мы все не жравши, живот пустой, обойдется. У меня боец был… На боевых ничего не жрал. Чарс курил, слышишь? Прятался и курил. Вот зашел он в дом, а выходить стал в те же двери. Хотя надо бы ему в другую дверь. Обязательно есть другая дверь. Тут ему какой-то железкой в брюхо стрельнули. Из старинного ружья… Вылечили. В три счета.