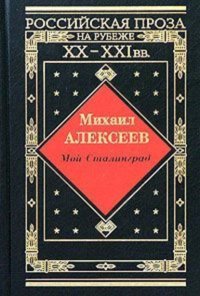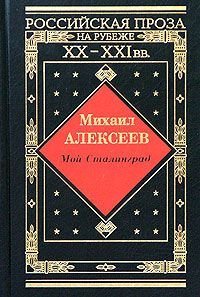Читать онлайн Хлеб – имя существительное бесплатно
- Все книги автора: Михаил Алексеев
От автора
В каждом – малом, большом ли – селении есть некий «набор» лиц, без которых трудно, а может, даже и вовсе невозможно представить себе само существование селения. Без них оно утратило бы свою физиономию, свой характер, больше – свою душу. Уход из жизни села или деревни одного такого лица непременным образом должен быть восполнен другой столь же колоритной фигурой. Лишь в этом случае сохранится прежняя гармония. Иначе селение поскучнеет, увянет, слиняют его краски. Словом, все почувствуют тотчас же, что, хоть все как будто остается на месте, чего-то очень важного, очень существенного не хватает.
Мне захотелось рассказать о таких людях одного села и уже в самом начале предупредить читателя, что никакой повести в обычном ее смысле у меня не будет, ибо настоящая повесть предполагает непременный сюжет и сквозное действие, по крайней мере, основных ее героев. Ни того, ни другого в этой книге не будет. Не будет и главного персонажа, как полагалось бы в традиционной повести. Все мои герои в порядке живой, что ли, очереди побывают в роли главного и второстепенного.
Капля
Капля – это вовсе не капля, а прозвище восьмидесятилетнего старика. Настоящее имя его – Кузьма Никифорович Удальцов.
Почему же «Капля»?
А потом выясним. Теперь же попытаемся обрисовать его внешность: мал ростом от природы, выглядит сейчас Капля сущим ребенком, потому как долгая и, скажем прямо, не шибко сладкая жизнь пригнула его чуть ли не до самой земли. И теперь, чтобы признать встретившегося ему человека и обмолвиться с ним словцом-другим, Капле приходится на какой-то особый манер выворачивать шею и глядеть снизу вверх черными, маленькими в прищуре, близорукими глазами.
– Никак, это ты, шабер? – спрашивает он частенько Серьгу Волгушева, своего соседа, с которым дружили с детства, вместе пошли на службу, вместе воевали в первую германскую, вместе оставили позиции при удобном случае, вместе пошли потом на Гражданскую, в один день ранены, лечились в одном и том же госпитале и в один и тот же день вернулись домой, в родимые свои Выселки, где их ожидали жены с большими выводками детей и вполне порушенное хозяйство.
Капля торопился домой с особым нетерпением. Ему хотелось поскорее глянуть на Бухара, одногорбого верблюда, которого купил в Заволжье перед самым уходом на Гражданскую. До этого у Капли была гнедая кобылка Маруська – необычайно выносливая в работе, неприхотливая, при любых кормах державшаяся в теле, всегда округлая, плотная. Водился, однако, за Маруськой грешок – она кусалась, во что, впрочем, долго не мог поверить хозяин. Пожалуется ему жена или кто из детей, Капля только самодовольно ухмыльнется:
– Почему же Маруська меня не кусает?
– Погоди, укусит и тебя.
Слова жены оказались пророческими.
Как-то за полночь Капля возвращался домой. Перед тем как войти в избу, он, по обыкновению, приблизился к Маруське и начал ласково хлопать ее по крупу, потом вознамерился было поцеловать лошадь в ее мягкие, бархатные губы. Был Капля под сильным хмельком и, похоже, не знал, что его Маруська, не в пример покорной и безропотной жене, терпеть не могла сивушного духа. Едва Капля приблизил к ее морде свои вытянутые, бормочущие что-то ласковое губы, Маруська зверски оскалилась, сверкнула злым, огненным оком и больно укусила хозяину плечо. Капля взвыл, озверел в свою очередь, выдернул из плетня кол – откуда только силы взялись?! – и принялся гонять лошадь по двору. Гонял до тех пор, пока вконец не выбился из сил. А наутро, пряча глаза от жены и детей и чувствуя на себе их насмешливые взоры, поскорее оделся, вышел на подворье, запряг Маруську и куда-то уехал.
Вернулся лишь через две недели. В сани была впряжена не Маруська, а такая уродина, что при виде ее собаки из всех подворотен подняли неистовый суматошный лай, а женщины, вышедшие по воду, на всякий случай, осеняли себя крестным знамением, испуганно шептали: «Господи, прости мя, грешную». Страшным существом этим оказался одногорбый, с непомерно длинными ногами верблюд. Оно, это существо, обладало столь же длинной шеей, на которой покоилась маленькая морда, непрерывно изрыгающая слюну и какие-то непонятные ругательства, так что ни жена, ни дети Каплины несколько дней не выходили во двор, боясь страшного зверя.
Зато донельзя был доволен своей покупкой сам Капля. Он глядел на эту живую колокольню снизу вверх и радовался.
– Бухар, ложись! – приказывал Капля верблюду, и тот хоть и не вдруг, но все же ложился. Кричал, плевался, корчил отвратительные рожи, но хозяина слушался.
У Бухара была совершенно феноменальная рысь – ни один жеребец во всем уезде не мог соперничать с ним.
– Из-за него, проклятого, я и не стал генералом, – признался однажды Капля.
– Как же это?
– А вот так: не стал, и все. Гришка Ляхин стал, а я нет. И все из-за него, верблюда…
После настойчивых просьб Капля рассказал наконец, как это случилось.
По окончании Гражданской войны, вскоре после Перекопского штурма, Каплю вызвал командир полка и предложил поехать в Москву учиться на красного командира. Четырехклассное образование – по тому времени дело нешуточное, а у Капли оно было, да еще у одного из их роты – у Гришки Ляхина. К тому же оба оказались бойцами смекалистыми, храбрыми. Гришка сразу согласился, а Капля наотрез отказался: вспомнил, что в Выселках его ждет Бухар, и отказался. Гришка Ляхин в конце концов дослужился до генерала, а Кузьма Никофорович Удальцов, которому, казалось, по всему быть бы военачальником, даже утратил собственное свое имя и стал Каплей.
– Вот она, частная собственность, ни дна бы ей ни покрышки, как подвела меня! – самокритично рассуждает Капля, который с этой самой частной собственностью расстался один из первых в Выселках. В тридцатом году, как только организовался колхоз, скрепя сердце отвел своего старого Бухара на общественный двор, где тот вскорости и подох благополучно.
О Гражданской войне Капля любит рассказывать. Рассказывает с удовольствием, как только подвернется подходящий момент. А коли такой момент не приходил, все равно рассказывал: по всему видно было, что в ней, Гражданской, – лучшая страница в жизни Капли.
О первой германской Капля предпочел бы помалкивать – нельзя же дезертирство выдавать за подвиг, какими бы важными обстоятельствами оно ни вызвано.
Решение о дезертирстве у Капли созрело после одного немецкого артналета под Перемышлем, когда от их роты осталось не более двух десятков солдат.
Ночью, когда все вокруг угомонилось и только немецкие ракеты да трассирующие пули время от времени разрывали плотную и черную ткань неба, Капля покликал к себе Серьгу Волгушева и совершенно неожиданно спросил:
– Ты, Серьга, с какого года дурак?
– С восемьдесят второго, – не задумываясь, ответил тот.
– Ну и я, стало быть, с энтова… А как ты, Серьга, думаешь, не пора нам с тобой поумнеть?..
После той ночи рота недосчиталась еще двух активных штыков.
Однако отчего же Капля?
Прозвище это пришло к Кузьме Никифоровичу Удальцову в более поздние времена. И вот теперь-то мы расскажем все по порядку.
В первый год уже после Отечественной войны одному из председателей колхоза (раньше их считали: первый, второй, третий, а ныне и счет потеряли), – так вот, одному из них пришла в голову совершенно удивительная мысль: назначить лучшего полевода артели, Кузьму Никифоровича Удальцова, колхозным пасечником, так как прежний обленился настолько, что даже мед перестал есть. Пасека составилась еще в тридцатом году из снесенных в одно место кулацких колод по тому же принципу, по которому образовался тогда массив колхозных амбаров, – с той лишь разницей, что кладовщика или сторожа для амбаров подобрать было куда легче, чем пчеловода.
На Кузьме Никифоровиче остановились, имея в виду его исключительную честность и порядочность: он не тащил из колхозного добра к себе домой, как это делали иные его односельчане.
– Мед сладок, а человек на сладкое падок, – сказал глубокомысленно председатель, изо всех сил стараясь сохранить серьезность, которая приличествовала бы глубине его афоризма, но не выдержал, расхохотался, радуясь собственному остроумию, коим, видать, вообще-то не был обременен. На сообщение Кузьмы Никифоровича о том, что о пчеле он знает только то, что она больно жалит, и что мед действительно сладок, и что на этом его сведения о полезном насекомом исчерпываются, председатель изрек:
– Ежели признаться честно, Кузьма Никифорович, из меня тоже председатель колхоза, как из козла пономарь. Приказали – работаю, как видишь. Руковожу вами. Не бог весть как, но руковожу. А что делать?
После таких-то доводов кто же посмеет отказаться? Принял Кузьма Никифорович пасеку, председатель купил в районе книжку о пчеловодстве, вручил ее новому пасечнику не без торжественности.
– Вот тебе, старик, пчелиная библия. Читай ее денно и нощно, и чтоб ни одна букашка в улье не погибла. Ясно?
– Ясно, – сказал Кузьма Никифорович и с благодарностью принял «библию».
Раскрыть ее еще не успел, когда явился какой-то уполномоченный, страсть как озабоченный пчелиным хозяйством. Вместо того чтобы честно и прямо сказать старику, что пришел полакомиться медком, он напустил на свой лик крайнюю строгость и тут же принялся экзаменовать новоиспеченного пасечника.
– Ну а трутней-то много ль? – спросил уполномоченный, важный и сердитый.
Кузьма Ннкифорович помедлил с ответом, дивясь неожиданному, но, в общем-то, вполне резонному вопросу. Он даже передернул лопатками, словно бы у него вдруг зачесалась спина.
«Знать, по-ученому ее, треклятую, этак величают – трутнем?» – решил он, подумав о постоянной спутнице теперь уже далекой окопной жизни.
Ответил:
– Да многонько было. Чего уж скрывать…
– Ну, и что же вы с ними делали?
– А мы их к ногтю…
Смех винтовочным залпом бабахнул в караулке.
– Ну, вот что, дед. Мне некогда. Тороплюсь в поле. Угостил бы медком-то. Мне одну каплю…
Кузьма Никофорович угостил.
И с той поры начал угощать так часто и многих из района и области, что подумал однажды: не есть ли это главная его обязанность? Угощал по капле, но капель этих собралось так много, что на трудодни ничего уж и не оставалось. Вот откуда выкатилась позорная капелюха, начисто замазавшая доброе имя Кузьмы Никифоровича Удальцова.
«Пчела берет взяток с цветка, а с пчелы берут взятку… кто?»
После такого вопроса, вставшего перед ним вдруг, внезапно, Капля как-то заскучал, сник, грустно задумался.
А во второй половине зимы пришла беда – пчелам не хватило меда, пасеке грозила погибель. Сахару ни в сельской лавке, ни в районе не было. Не было его даже в областном центре. Был, однако, сахар в сундуке, под семью замками у жены Настасьи. Самонька, племянник, прислал из Москвы посылку, тот самый Самонька, о котором вот уже много-много лет не было ни слуху ни духу и который обещал вскорости заявиться в родное село погостить.
Настасья была старуха высоченная, а по части дородности она и ее муж были величины столь несравнимые, что и говорить нечего. Если б Капля смог выпрямиться во весь свой рост, и то едва достал бы до ее плеча. И при таком-то несоответствии Капля ухитрялся время от времени колотить свою супругу – по старинной, знать, привычке. Как только она провинится перед ним – опять же с его точки зрения провинится, – он взбирается на сундук, зовет:
– Поди сюда, Настасья!
Та покорно подходит, подставляет голову. Капля потреплет за косы – слегка, для порядку, – скажет не очень сердито:
– Ну, будя с тебя. Ступай, дура!
Теперь он решил похитить у Настасьи сахар и спасти пчел. «Сами-то переживем. Вон в кооперации солодкие корни продают. Опять же свекла».
– Ты б, Настасья, рубаху мне новую вынула из сундука. В райком вызывают. Неудобно в этом.
Не подозревая о хитрости мужа, Настасья вынула рубаху, штаны и, не закрывая сундука, вышла в заднюю избу, чтоб рубельником погладить-покатать мужнину справу.
Капля с проворством хоря нырнул в сундук, выхватил сумку с сахаром и мигом выскочил из избы.
В тот же день в доме Капли произошла редкая по своей ярости и накалу баталия.
– Журавушке, поди, отнес сахар, старый ты кобелина! – кричала Настасья, утратив постоянную свою покорность, охаживая Каплю рубельником, которым еще недавно тщательно выглаживала его штаны.
Капле с великим трудом удалось вырваться из ее цепких рук и укрыться у Серьги Волгушева, где он провел трое суток кряду, забаррикадировавшись точно в дзоте.
Пчелы, однако, были спасены.
Но Капле, видимо, до конца его дней суждено будет оставаться Каплей, потому что прозвище оказалась так же прилипчиво, как мед пчелы, во имя которой старик натерпелся разных напастей.
– Пойду-ка я, мать, в сторожа к хлебу, – сообщил он о тайных своих намерениях старухе в первый же день их примирения. – Хлеб – дело сурьезное.
На следующее утро пришел в правление и объявил категорически:
– Ну, председатель, увольняй. Надоело мне это сладкое дело, как горькая редька.
Настасья же про сахар стала вспоминать все реже и реже: в последние годы в сельском магазине продукт этот водится в избытке, на радость всем и в особенности самогонщицам.
Самонька
Так звали в Выселках худущего, долговязого парнишку с большими оттопыренными ушами. Уши были очень приметной частью на круглой Самонькиной голове и потому, что они непомерно большие, и потому, что вечно горели жарким пламенем от частого и не слишком ласкового прикосновения к ним отцовской руки.
Помнится, Самонька принимал ежедневную трепку как должное, с мужеством провинившегося, когда, сколько ни ищи, не найдешь хотя бы самый малый довод в свое оправдание: к примеру, что ты можешь сказать, ежели тебя хватают в чужом саду или в огороде, хватают и ведут к папаньке?
Мой брат Ленька имел неосторожность состоять в дружбе с Самонькой и по этой причине часто получал от своего отца то же самое, что его приятель от своего. Нередко экзекуции вершились в один и тот же день, даже в один и тот же час, и это вроде бы уравнивало друзей, делало наказание не столь уж чувствительным.
Все-таки, думал Самонька, не меня одного отодрали, но и Леху. Ленька, в свою очередь, мог подумать точно также о Самоньке, и обоим было легче. Не зря же сказано: на миру и смерть красна. Во всяком случае, через какой-нибудь час они начисто забывали о полученной взбучке и, встретившись, уже планировали очередной набег на чей-нибудь сад или бахчу.
В школу Самонька и Ленька ходили лишь до Рождества – на большее у них не хватало усердия. Забежит, бывало, Самонька в заранее определенный ими срок к другу и торжественно объявит:
– Леха, кончаем!
При этом выпачканная чернилами сумка с истерзанными учебниками и тетрадями летит на печку, а плутовская рожица Самоньки сияет безмерным счастьем.
Ленька давно ждет этого часа и, разумеется, сразу же соглашается.
Неведомо как приятели все же докарабкались до третьего класса, но дальше продвинуться уж не могли. Так и сидели третий год в этом третьем, пока их не поперли совсем из школы.
Потом Самонька, как и многие в ту пору, исчез из села. Умер ли, никем не замеченный, в страшном тридцать третьем году, убежал ли куда, гонимый голодом, никто не знал. Даже его приятель Ленька, которому, видать, было не до Самоньки.
О Самоньке почти все уже позабыли, когда – лет двадцать спустя, вот теперь – он объявился вновь в родных Выселках. Сейчас это был высоченный детина годов этак тридцати семи, в военной форме, по которой невозможно было определить, к какому роду войск причислен ее владелец.
Близких родных на селе у Самоньки не было: мать и отец умерли в том же тридцать третьем, а единственный дружок Ленька убит на войне, затерялась его могила где-то в смоленских лесах.
Словом, не перед кем было особенно похвастаться и своей великолепной формой, и городским благоприобретенным выговором, презирающим местное, волжское, оканье. И – что самое главное – не перед кем погордиться необыкновенной должностью в самой аж столице Москве. А как ему, бедняге, хотелось похвастаться! Если признаться честно, только для этого одного и припожаловал он в родное село.
С досады дернул как следует сорокаградусной в обществе своей семидесятилетней и непьющей тетки Настасьи, у которой остановился квартировать, и сейчас же почувствовал жгучую потребность поведать ей, кто он и что…
– Знаешь, тетенька, где я служу?
– Нет, милый, откель же мне знать?
– В Москве!
– В Москве? Слыхала, сказывал старик… В самой Москве? – удивилась Настасья, и Самоньке показалось, что старуха глядит на него с крайней завистью. – Оттель, значит, сахарку-то мне присылал, сынок?
– Оттуда, из Москвы.
– И где же ты там, сынок, кем?
Самонька глянул в одну, в другую сторону, покосился на окно, как бы боясь, что их подслушают, и шепотом, как величайшую тайну, доверительно сообщил:
– Важный объект охраняю.
– Сторожем, значит? Трудно, поди? Вон мой старик кой уже год колхозные амбары охраняет, сторожит, стало быть. Ране-то при пчелах был, да больно, вишь, кусаются пчелы энти… Теперь при хлебе. Ни дня, ни ночи покоя нету. Придет, прозябнет весь…
Самонька нетерпеливо перебивает:
– Не сторожем я, тетенька, пойми ты!.. Важный объект! Понимаешь?
– Как же, как же, голубок!.. Вот я и говорю: простоит, сердешный, с ружьишком всю ночь. А ночи-то зимой длинные-предлинные, морозы лютые, стужа… Поставлю ему самовар. Весь как есть выпьет… Легко ли сторожем-то быть? Понимаю, чай, не первый год на свете живу…
Самонька в отчаянии крутит головой:
– Да пойми ты наконец, старая, не сторож я, не караульщик, а командир… охраны. Это тебе не амбары стеречь, а важный объект!
Но бабушка Настасья продолжает свою линию:
– Я и понимаю, я и говорю: нелегко тебе, сынок. Сторож – должность беспокойная, ночная. Мой-то вон придет под утро домой – в бороде сосульки намерзли, отдираю ему их. «Шел бы ты, говорю, старик, на пенсию – сто семнадцать трудодней полагаются пенсионеру, хватит с нас…» – «Нет, говорит, старуха, рано мне на пенсию – людей не хватает в колхозе, как же я могу лежать на печи… Люблю, говорит, сторожить колхозное добро, особливо хлеб…» Так что трудная у вас с моим стариком должность, сынок! Как же, я все понимаю!
Самонька чуть не плачет.
– Пошла ты, тетенька, к дьяволу со своим сторожем!
– А я, милый, сама так думаю: бросьте вы с моим стариком это самое…
Самонька – в тупике: попробуй что-либо втолковать этой глупой старухе!
Вдруг его осеняет.
– Тетенька, вдов-то много, поди, в селе?
Настасья хитренько глядит на племянника, вновь усевшегося против нее за столом.
– Ты что же, сынок, ай не женатый?
– Не женатый, тетенька. Не успел. Война помешала… Так как же… есть такая, помоложе чтоб?
– Есть. Как не быть? Много их опосля войны, сынок, осталось. И детных, и бездетных…
– Ну, ну!
– Ты, милый, сходил бы к Журавушке. Рада-радешенька будет.
– А она что, того?..
– Молодая и личиком сходственная. Всех, сказывают, принимает, никого не обижает.
Самонька нетерпеливо ерзает на лавке, новые ремни на нем беспокойно скрипят, уши вспыхивают, как два ночных фонаря.
– Не прогонит, говоришь?
– Нет, нет. Поди, милый. Рада, говорю, будет.
– А живет-то она где?
– Да вот сразу же за мостом. Первый дом справа.
Самонька стремительно встает, привычным движением рук распрямляет под ремнем складки, смотрится в зеркало, рядом со своим видит отражение радиоприемника, притулившегося в углу, на божнице, в добром соседстве с темными ликами святых. Не оглядываясь, спрашивает:
– Почему приемник-то молчит, тетенька?
– Корму, вишь, нету. В воскресенье старик поедет в район, купит.
– Чего купит?
– Корму.
– Питания, что ли? Батареи?
– Ну да.
Оглядев себя раз и два в зеркале, Самонька собирается уходить. У двери задерживается.
– А как же ее зовут, Журавушку вашу?
– Так и зовут – Журавушка.
– Что же, у нее имени нет?
– Как же, есть. Марфушка. Да назвал ее покойный муж Журавушкой – любил вишь, очень, – так и осталась…
– Ну, я пошел! – с легкой от нетерпения дрожью в голосе сказал Самонька и вышел на улицу.
Вернулся перед рассветом. Не включая лампы, разделся в темноте, быстро улегся на отданной ему хозяйской кровати.
Тетка Настасья лежала на печи. Проснувшись раньше гостя, она увидела на лице спящего, под правым его глазом, преогромный синяк – он жутко лиловел в предрассветных сумерках.
Старуха хихикнула, быстро спустилась на пол и загремела у печки ухватом.
Самонька приоткрыл подбитый глаз и украдкой глянул на хозяйку – к великому своему конфузу, узрел в уголках сморщенных ее губ ехидную ухмылку.
«Ах ты, старая ведьма! – гневно подумал он, пряча под одеялом лицо. – Постой, я те покажу Журавушку! Я не позволю смеяться надо мной!»
На рассвете вернулся дед Капля.
Самонька и Настасья завтракали. Воспылавший было жаждой отмщения, гость вел себя сейчас более чем тихо и скромно. Очевидно, он был благодарен тетке за то, что у нее хватило душевного такта не спрашивать у племянника, где тот приобрел дулю под правым глазом.
Однако Настасья не успела предупредить Каплю, чтоб и он поступил точно таким же образом, и роковой для Самоньки вопрос все же был ему задан:
– Кто это тебе, товарищ командир, кхе… кхе… поднес?
Старый, стреляный солдат, Капля изо всех сил старался соблюсти субординацию и про себя очень огорчился, что у него вырвалось это обидное для «высокого гостя» словцо «поднес». Как истинный вояка, поспешил на выручку попавшему в беду товарищу, заодно ликвидируя и свою промашку:
– Не в яму ль какую угодил, в старый погреб?.. Их с тридцатых годов вон сколько осталось… как после бомбежки. Сколько одного скота покалечено!..
– Об косяк, в темноте, – чуть внятно пробормотал Самонька.
– Оно и так бывает. Я прошлым летом тоже вот, как и ты, звезданулся… чуть было совсем глаза не лишился… А ты, товарищ командир, осторожней будь… Они, косяки эти, почитай, у всех дверей имеются. Так что же мы… можа, выпьем маненько? А? Достань, старая, соленого огурчика. В городе, значит, Москве? Так, так… Ну и что?.. Много там народу?
– Много, дедушка, – живо отозвался Самонька, радуясь, что разговор перекинулся на другое, пошел в сторону от нежелательной для него темы. – Миллионов шесть будет.
– Фю-у-у! – удивленно свистнул Капля. – И что же, все они там важный объект охраняют?
– Зачем же все! – снисходительно улыбнулся Самонька. – Кто на заводе, кто в учреждении – кто где. Все работают, все служат.
– Все, значит? Это хорошо, коли все. Ну а ты насовсем к нам али как?
– Нет, дедушка, на побывку. Погостить. В отпуске я.
– В отпуске? А это что ж такое – отпуск?
– А как же – положено.
– Ах, вон оно как. Положено, стало быть. А мы, знать, при другом режиме живем. Нам не положено.
Самонька смущенно молчал.
Дед Капля и тут пошел на выручку.
– Ну, ну, сейчас, знать, нельзя. Работа у нас с вами разная. Вот будет поболе машин, тогда… Не желаешь, значит, в родном селе оставаться? Плохо. А то оставайся, передам тебе свою орудью, – хозяин показал на стену, где висело его старенькое ружье, – а сам на покой. Опыт у тебя есть. Важный объект в Москве охраняешь. А мой объект наиважнейший. Хлеб! Что могет быть важнее хлеба?! Хлеб – имя существительное! – Дед Капля вымолвил эти слова особенно торжественно и по-ораторски воздел руку кверху, приподнял за столом и стал вдруг как будто выше ростом. – Потому как все мы существуем, поскольку едим хлеб насущный! – От первой выпитой чарки лицо его, красное с мороза, покраснело еще больше, ликующие глазки сияли победоносно, и он повторил с хрипотцой в голосе: – Хлеб – имя существительное, а весь остальной пропродукт – прилагательное. Так-то, товарищ командир!
Самонька, как известно, и в школьные-то свои годы не шибко разбирался в существительных и прилагательных, тем не менее в словах Капли ему почудился обидный намек. Настроение его явно шло на убыль. Не желая вступать в рискованный диспут со стариками, он нашел предлог и быстро выбежал на улицу.
Но именно тут, на улице, честолюбивым Самонькиным мечтам был нанесен окончательный удар. Не сделав и десяти шагов от дома, он увидел человека в форме артиллерийского полковника, которому пришлось отдать приветствие со смертельным страхом быть задержанным и допрошенным относительно синяка под глазом, и сделать это на глазах любопытствующих женщин, среди которых, к немалой своей досаде, Самонька вмиг приметил Журавушку.
В течение того невеселого дня Самонька сделал еще одно поразительное открытие: оказывается, его родное село при желании могло бы насчитать добрый десяток офицеров, перед званиями которых Самонькин чин выглядел бы весьма и весьма скромно.
На третий день, наскоро попрощавшись с теткой Настасьей (деда дома не было: находился на охране своего «объекта»), Самонька быстрым, гвардейским шагом направился прямо на станцию. Длинные, оттопыренные уши его, поддерживающие форменную фуражку, полыхали таким жарким огнем, что от них можно было бы прикурить.
Почтмейстер
Звали его Зулин Николай Евсеевич. Фамилия, как видим, короткая, но землякам, неукротимым любителям придумывать прозвища и переделывать на свой лад подлинные имена, похоже, и она показалась длинноватой, и они ее чуток подрубили. Получилось – Зуля. Три слова – Николай Евсеевич Зулин – удобно поместились в одном этом. Теперь его так звал в Выселках старый и малый.
«Сбегай-ка к Зуле за пилой», – приказывает отец сыну. «Где пропадал?» – спросит сердитая жена. «У Зули», – охотно сообщит муж, так как знает, что самим этим ответом начисто исключается всякая возможность заподозрить его, мужа, в каких бы то ни было грешных делах. «Кто это тебе сказал?» – недоверчиво спросят собеседника, поведавшего какую-нибудь новость, в которую нелегко поверить. «Зуля сказывал», – услышат в ответ. Услышат такое и успокоятся: усомниться в столь достоверном источнике никто не решится.
Таков Зуля.
После войны у Зули заместо двух осталась одна рука, к тому ж левая, да еще жена с четырьмя ребятишками в придачу. До войны Зуля плотничал и столярничал, при надобности мог заменить и бондаря. Главное же – столяр, ну, лучшего на селе нельзя было сыскать. Зуля это и сам знал, а потому и не захотел оставлять своего ремесла и тогда, когда война так неосмотрительно обошлась с правой его рукой. Если же прибавить, что Зуля, помимо всего прочего, был подвержен еще и охотничьей страстишке, то совсем уж нетрудно понять, каково человеку остаться без руки. От одного заячьего или там лисьего следа пальцы левой начинают знобко вздрагивать, а комелек правой – неудержимо биться пол рубахой, как крыло подстреленной птицы.
Ко всему – по халатности, по неразумению ли – позабыл в госпитале, где пролежал без малого полгода, обзавестись необходимой бумагой, без которой совершенно немыслимо было убедить районный собес, что ты принес с войны не две, а лишь одну руку. Не помогло и то, как Зуля, не щадя ни себя, ни слушателей, с величайшими подробностями рассказал историю своего ранения где-то на Ленинградском фронте. Ранило его сразу двумя разрывными пулями – одна угодила в правую ногу, оттяпала начисто пятку, а вторая – в правую руку. На операционном столе просил, умолял сохранить ее, не отрезать. Хирург сумрачно молчал. Хлороформ погрузил солдата в глубокий сон. Очнулся уже на койке. Правый рукав рубахи, пустой, свешивался к полу, левая рука лежала на груди. Понял. Встрепенулся. Не заплакал – испугался.
– Где она? Покажите ее мне!
Принесли. Показали. Узнал – его рука. По татуировке узнал. «Зина» было выколото на запястье. И только теперь заплакал – страшно, по-мужски.
Бумагу, однако, позабыл прихватить с собой. Теперь оставалось натренировать левую так, чтобы она действовала сразу за две руки.
Через месяц Зуля мог уже косить траву, при этом левая рука действовала, как полагалось бы действовать правой при косьбе, то есть лежала на напалке окосева, а обязанности левой выполняла шея, соединенная с окосевом при помощи ремня или веревки.
Женщины-солдатки, давно овладевшие всеми мужскими профессиями, наблюдая за удивительным косарем, потихоньку завидовали Зулиной жене: не придется самой косить. Были б они понаблюдательней, то, верно, заметили бы, каких нечеловеческих усилий стоило такое занятие инвалиду. Пройдя один ряд, он падал в траву замертво, корчась от невыносимой боли во всем точно бы жестоко избитом теле, – разве только стрекот кузнечиков да жавороночьи трели в синем небе могли немного утишить, поубавить эту боль. Пролежав так с полчаса, начинал закуривать. Смастерить одной рукой козью ножку – опять же дело мудреное, но Зуля сравнительно легко овладел им, как и множеством других дел, которые ты, когда у тебя две руки, считаешь совершенно пустяковыми, исполняешь незаметно, механически, как дышишь, ешь, пьешь, которые, однако, для однорукого становятся почти непреодолимыми.
Труднее всего давалось Зуле столярное дело, то самое, ради которого, в сущности, и родился он, мастер, на свет Божий.
Выйдет в хлевушок, превращенный им в подобие мастерской (верстак, фуганок, рубанок, стамеска, долото, несколько буравчиков разной величины да остро отточенный топор), – выйдет с рассветом и не возвращается оттуда до вечерних сумерек. А вернется – и не узнать Зули: лицо осунулось, почернело, глаза глубоко запали, в них – бесконечная тоска, а бывало, что и слезы.
– Что с тобой? – спросит обеспокоенная жена.
– Ничего.
Скажет так, а наутро – опять в хлевушок, то есть в свою мастерскую.
Однажды он не вышел из него и ночью. Через дверную щель пробивался наружу тусклый свет от фонаря «летучая мышь», прихваченного Зулей загодя. Ни жена, ни дети не решались заглянуть к нему: знали, что может окончиться взрывом, – Зуля и прежде не любил, чтобы его отвлекали, а теперь подавно.
Часу в седьмом утра вернулся в избу. Прошел к столу и долго, сосредоточенно закуривал. Самокрутка никак не удавалась, но он не нервничал, как всегда в подобных случаях, не шумел беспричинно на жену и ребятишек, не ругал на чем свет стоит начальство – от председателя до бригадира плотницкой бригады, – мудрил над махоркой и клочком газетной бумаги тихо и мирно, только тяжело отдувался и посапывал. Соорудив наконец милую его сердцу козью ножку размера неправдоподобно великого, курил молча, устремившись взором в замерзшее окно, будто видел там что-то такое, чего другим видеть не дано. В уголке жестких, почерневших на холоде губ, там, где зажата самокрутка, таилась едва приметная улыбка.
Затянувшись в последний раз, он вдруг поднялся с лавки и, обращаясь к жене, сказал тихо, торжественно, с оттенком таинственности:
– Мать, ты никуда не уходи. Я сейчас…
Через минуту он внес новую табуретку. Поставил ее посреди избы, отошел сам в сторонку и, глядя то на свое детище, то на домашних, спросил:
– Ну как?
Он глядел на жену и детей со страхом и мольбою, словно бы то были не жена и не дети, а суровые, строгие судьи: они должны сейчас вынести окончательный приговор, от которого будет зависеть вся его жизнь.
– Ну как? – нетерпеливо, хриплым голосом повторил он, вновь подойдя к табуретке и осторожно дотрагиваясь до нее вздрагивающей рукой.
Жена ничего не сказала – заплакала. С печки, точно горох, посыпались дети и, один за другим вскакивая на батькину табуретку, испытывали ее на прочность.
А табуретка была груба, уродлива – это бы тотчас же увидел любой, но только не он, соорудивший ее мастер. Глядя на возившихся возле нее ребятишек, на жену со счастливыми слезами на усталых и почти всегда скорбных глазах, Зуля был в ту минуту, может быть, самым счастливым человеком на свете.
Потом он сделал рамку для семейных фотографий, несколько новых оконных рам для школы, потом пахтанку для жены, потом бочонок и, наконец, по заказу Журавушки стул, настоящий венский стул с кокетливо изогнутой спинкой, не преминув спросить у нее:
– Кого сажать-то собралась на такой стул?
– А хотя б тебя! – немедленно ответила Журавушка, так что Зуле ничего не оставалось, как опустить очи долу и поскорее уйти от озорной и гордой бабы.
Венский стул, над которым однорукий мастер трудился с особым тщанием, явился причиной того, что Зулина жена резко усилила семейную бдительность. С той поры она неукоснительно провожала мужа до колхозной мастерской, а к полудню, в положенный час, шла встречать и конвоировала вплоть до самого своего двора.
Доведенный до крайности неожиданно обрушившейся на него жениной ревностью, Зуля всерьез подумывал, не взять ли венский стул обратно, но в решительную минуту вспомнил, что выпил у Журавушки добрую чарку при получении заказа и еще большую при его исполнении…
Усиливая свою бдительность, Зулина супруга, по всей вероятности, приметила то, чего не мог приметить сам Зуля. Если бы он, коротконогий, носатый, однорукий, то есть некрасивый по всем статьям, в тот момент, когда к нему вернулся мастер, хотя бы на малое время мог заняться собою, а не своим ремеслом, он, очевидно, сделал бы для себя одно совершенно неожиданное и удивительное открытие – он обнаружил бы, что вновь, как в прошлые довоенные времена, стал нравиться женщинам. Приходя к Зуле со своими заказами, многие из них задерживали на нем украдкой тоскующий взгляд.
Не примечая всего этого и рискуя, таким образом, навлечь на себя гнев жены и всяческие наветы сельских сплетниц, Зуля брал заказы в основном у солдатских вдов. Одной починит кадушку, другой свяжет оконную раму, третьей поправит судную лавку, четвертой набьет обруч на квашню либо переберет пол в старой избе – и все это безвозмездно, разве что за стакан самогону.
С годами единственная рука Зули, не выдержав двойной нагрузки, начала сдавать, не могла держать топор более трех минут. Зуля всячески пытался скрыть это от бригадира, от своих товарищей по мастерской, закуривал все чаще и чаще, растягивая перекур елико возможно дольше.
Бригадир и плотники догадывались обо всем, но виду не подавали – жалко было мастера: придет, мол, срок, сам объявит, что с ним и как. И срок такой пришел.
– Не могу больше, Пашка, – сказал Зуля бригадиру. – Отмахался я. Будя. В пору кусок до рта донесть… Вот только кто мне его теперя заработает, тот кусок…
Положил на согнутую руку топор и, мрачный, вышел из мастерской.
Три дня кряду жестоко пил, мстя собственной немощи и заглушая душевную боль. На четвертый пошел в правление.
– Что мне делать?
– Почтальоном хотим тебя, Зуля, определить.
– Что?
– Почтальоном.
– Меня?
– Ну да.
– А другого вы ничего не придумали?..
На помощь председателю поспешил случившийся тут же дед Капля:
– А ты, Зуля, охолонь маленько. Знаешь, как в старину почтальона величали? Почтмейстер! А знаешь, что это означает по-нашему, по-русскому? Почтовых дел мастер. Во! Ране ты был мастер по столярному да плотницкому делу, а теперь по этому… самому…
– Пошел ты, Капля! – задохнулся от ярости и обиды Зуля, резко повернулся, свирепо хлопнул дверью, вернулся домой и пил еще три дня. Протрезвившись, пошел – на этот раз прямо на почту.
– Давайте вашу сумку.
Первые дни тяготился новой должностью, стыдился ее. Письма и газеты разносил, когда стемнеет, шумно воевал чуть ли не в каждом подворье с собаками, пока те не привыкли к новому почтальону.
Потом притерпелся, не заметил даже, как втянулся в службу; потом она пришлась ему по сердцу: плохо ли чувствовать на себе отражение чужой радости, когда принесешь в какой-либо дом добрую весть от сына, от дочери ли, выпорхнувших из родимого гнезда и теперь живущих Бог знает где: в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале? А когда случится принести в иную избу и худую весть, опять же неплохо поддержать людей в их горе добрым, заранее припасенным сочувственным словом.
Зуля наперед знал, какую – добрую, худую ли – новость несет он в своей старенькой брезентовой сумке, знал, поскольку все письма предварительно прочитывал самолично и этим действительно ничем не отличался от почтмейстера из гоголевского «Ревизора». Только гоголевский почтмейстер-прохвост делал это из чувства самосохранения да поганенького любопытства. Зуля же руководствовался соображениями исключительно гуманного свойства.
Зуля полагал себя как бы связным между человеческими сердцами, и какой же был бы из него связной, ежели б он был плохо осведомлен относительно того, что именно несет в тот или иной дом? Ведь худая весть может застать человека врасплох и, чего доброго, убить его. Зуля же, зная о ней заранее, мог смягчить ее удары. Люди вообще, не дай им хорошего совета вовремя, могут наделать немало глупостей, а то и натворить бед. К примеру сказать, недавно с позором бежавший из села Самонька, едва вернувшись к себе в Москву, обрушил на Журавушку бешеный поток писем, в которых клянется-божится, что полюбил ее с первого взгляда, что ее пощечина научила его многому, что жить без нее, Журавушки то есть, не может, что как-нибудь застрелится при охране своего важного объекта, если она не ответит ему взаимностью, что сердце его раскалывается в щепки от этой самой великой любви. А ведь врет, мерзавец! Получил отпор, вот в нем и взыграла жеребячья гордость – решил во что бы то ни стало сокрушить, сломить молодую вдову, чтоб окрутить ее в следующий свой приезд.
Ясно, что Зуля не мог быть безучастным во всей этой истории.
Когда в ответных письмах Журавушки, также ревниво прочитываемых Зулей, появились тревожные теплые нотки, почтмейстер решил действовать. Он не делал ничего такого особенного, лишь при каждом послании Самоньки добавлял в отношении последнего определенную толику хулы и, таким образом, добился, чего хотел: поссорил их вдрызг. Переписка прекратилась, к великой радости Зули.
– Так-то оно лучше, – доверительно сообщил он председателю колхоза, который в этой переписке видел определенную угрозу: если б Самоньке удалось переманить Журавушку в город, артель лишилась бы лучшей доярки. Были у председателя и другие соображения, но о них – потом. Сейчас скажем лишь, что действия почтальона председатель нашел в высшей степени благоразумными. Вдохновленный такой авторитетной поддержкой, Зуля не без бахвальства закончил: – А то увиваются возле бедной вдовы разные там хлыщи. Насмеются, а ей – слезы.
В Выселках все знали об этом грешке Зули – вскрывать чужую корреспонденцию, но не гневались на него: решили, что беды тут большой нету, а мастер на то и мастер, чтобы в каждое дело вносить всяческие усовершенствования.
Правда, Зуле могли бы сказать, что его действия противозаконны, но он не понял бы сказавшего эти слова, потому как всегда считал противозаконным лишь то, что приносит людям вред. Его же образ действий приносит только пользу, и потому он самый что ни на есть законный.
Так-то!
Диктант
Приезжая время от времени в Выселки, я чаще всего слышал имена двух женщин. Одну все зовут Журавушка, а другую – Анна Петровна.
То эта Анна Петровна выступит на общем колхозном собрании и выведет на чистую воду жуликов да лентяев, а заодно и тех, кто их прикрывает; то напишет сердитую статью в районную газету о неполадках в школе; то вдруг в разгар танцев объявится в клубе, приостановит эти танцы и примется чуть ли не до самого утра читать парням и девчатам новую книгу; а то совершенно неожиданно вырвет из школьной тетрадки по листку бумаги и заставит писать диктант.
Вероятно, Анну Петровну на селе считали чудачкой аль более того, потому что все потихоньку, снисходительно посмеивались над нею: что возьмешь с пенсионерки, чем бы, мол, дитя ни тешилось…
Прошлой зимою наконец увидел и я Анну Петровну.
Случилось это на новогоднем вечере в клубе. Разнаряженные, как водится, в маскарадное, девчата и парни хороводились возле елки, смеялись, пели. Одна из девушек все время звала:
– Анна Петровна, пойдемте с нами! Анна Петровна!..
«Не может быть! – подумал я, не решаясь посмотреть в ту сторону, где должна была стоять Анна Петровна. – Неужели это все-таки она? Не может быть!» Но сердце человеческое – вещун. И если оно сжимается в смутной тревоге всякий раз, когда при тебе произносится это имя, значит, оно что-то почуяло, доверься ему – оно не обманет.
Да, это была та самая Анна Петровна, человек, которого ты жестоко и несправедливо обидел и который останется вечным укором твоей совести.
В ту, далекую уж теперь, пору я заканчивал седьмой класс. Новая наша школа готовилась к первому выпускному экзамену. По такому случаю все было торжественно и празднично. Мы, семиклассники, чувствовали себя, как и должно, именинниками. Ко всему я был еще влюблен. Разумеется, тайно, потому как не может четырнадцатилетний парнишка открыто любить тридцатилетнюю, к тому ж свою учительницу.
Сейчас я не решился бы описать ее внешность. Знаю наперед – непременно навру, и мне было бы еще более стыдно. В тогдашнем моем представлении она была похожа на Анну Каренину. Я даже видел порхающую улыбку меж темных глаз ее и ее губ. И звали учительницу Анна Петровна. Я мысленно вносил поправку в отчество и про себя называл ее Анна Аркадьевна, а однажды назвал ее так вслух, и класс хохотал, а она улыбалась и глядела на меня своими прекрасными глазами.
У Анны Петровны был муж – преподаватель. Внешне он ничем не напоминал Алексея Алексеевича Каренина, но был, пожалуй, противнее того, с торчащими ушами и мерзкой привычкой трещать пальцами.
Кончив занятия, они уходили домой всегда вместе. Он брал ее под руку и шел, чуть меньше ее ростом, и у нее были грустные глаза. Об этом можно было догадаться по ее опущенным плечам, по тому еще, что она не оглядывалась вокруг, словно бы ее ничто не занимало. Было до слез обидно, что эта красивая, умная женщина была женою какого-то противного сухаря, который, кроме своих пробирок и колб, наверное, и знать-то ничего не хочет.
С приходом в нашу школу Анны Петровны я не пропускал ни единого дня, хотя до этого был далеко не самым дисциплинированным учеником.
Вот она входит в класс, высокая, уверенная в себе, и класс – то есть и ученики, и стены, и окна, и потолок, и даже доска, тщательно протертая мокрой тряпкой специально к ее приходу, – светлеет. Она улыбается широко и одновременно всем. Впрочем, мне-то кажется, что улыбка ее по большей части предназначена для меня, и оттого мне бывало и радостно, и тревожно, я краснел, от великого смущения на глазах моих появлялись слезы.
В воображении своем я совершал Бог знает какие подвиги, спасая Анну Петровну от воображаемых врагов, и знал наверное, что мог бы совершить эти подвиги и на самом деде. Мне иногда хотелось даже, чтоб на Анну Петровну напали хулиганы, а я бы бросился на выручку и измолотил бы их до смерти. Правда, я не очень ясно представлял себе, как мне все это удастся, но суть не в том. Главное – я с нетерпением влюбленного ждал случая, который дал бы мне возможность выручить Анну Петровну в трудную для нее минуту, в чем-то помочь ей.
И однажды, как мне показалось, такой случай явился.
Начались выпускные экзамены. В классе важно восседали представители районо, дирекции, сельского Совета и правления колхоза. Представителем Советской власти, то есть сельсовета, был Акимушка Акимов, вечный депутат, как его звали в Выселках. Волосы на его большой голове свалялись – свой малахай Акимушка не снимал нигде и ни при какой погоде. Должно быть, сейчас снял впервые, комкал его в огромных руках, которые, чувствовалось, не знал, куда деть: такими лишними и неуместными показались они кузнецу здесь, в этом чистом и светлом классе.
Нам предстояло написать контрольный диктант, очень важный и ответственный при всех экзаменах. Мы, понятно, волновались. Волновалась и Анна Петровна, хотя всеми силами старалась подавить это волнение. Она взяла текст и, прежде чем начать диктовать, долго ходила перед классом, успокаиваясь.
Потом стала читать.
Первое же предложение мне показалось знакомым. А после второго я окончательно уверился, что мы уже когда-то писали диктант по этому тексту. Должно быть, Анна Петровна забыла. Надо немедленно подсказать ей, напомнить, выручить…
И я закричал:
– Анна Петровна, мы уже писали это!..
И не успел еще погаснуть звук моего голоса, я понял, что совершил величайшую гадость, хуже – гнусное предательство. Я поднял голову и увидел, что весь класс смотрит на меня с крайним презрением. А сидевшая за одной со мной партой Марфуша – это ее все теперь зовут Журавушкой – заплакала и убежала от меня.
Директор школы подошел к побледневшей учительнице, отобрал у нее листок, взамен дал другой.
Диктант начался.
Но я уже не мог писать. Я вообще ничего не мог понять в ту страшную минуту.
Позже Анну Петровну куда-то перевели, а может, вообще отстранили от работы: как докажешь, что она по ошибке предложила ребятам знакомый текст?
Больше я не видел Анну Петровну вплоть до этого новогоднего вечера в сельском клубе. Где она была, что делала все эти годы?
Я так и не решился подойти и расспросить ее обо всем.
Что же все это значит? Почему самую большую обиду или самую большую боль мы, люди, чаще всего причиняем как раз тем, кого больше всего любим? Если это закономерность, то почему такая жестокая?
Впрочем, дед Капля, которому я в тот же вечер рассказал эту грустную историю, объяснил все очень просто:
– Любовь – это, сынок, такая штука… Человек от нее, любови этой самой, как слепой кутенок, неосторожный. Враз наделает всяких глупостей. Не с одним с тобой такое было.
От слов его мне, конечно, не стало легче.
Я грустно смотрю на деда Каплю, вспоминаю слова, сказанные им Самоньке, и тотчас же вижу их написанными на школьной доске стремительным и вместе с тем очень четким, чуть с наклоном в левую сторону почерком, какой чаще бывает у женщин: «Хлеб – имя существительное». Она стоит со спокойной и светлой своей улыбкой и просит учеников отыскать в этом предложении сказуемое. Всем почему-то кажется, что тут нет сказуемого. А сказуемое есть. Но почему я-то думаю обо всем этом?
– Дедушка, – спрашиваю я, – а Самонька что-нибудь пишет вам?
– Нет, голубок. Как уехал, так и молчок. Журавушке, кажись, строчит, а нам – ни-ни.
– Строчит, значит?
– Строчит.
– Ну а она?..
– Что – она?
– Тоже строчит?
Дед долго и с некоторым удивлением смотрит в мои глаза.
И, как бы вдруг поняв что-то, отвечает решительно:
– Ни-ни! Нужон он ей, такой шалопай!
От сердца маленько отлегло, а почему – не знаю.
Председателевка
О своем селе дед Капля говорит: «В коммунизм Выселки придут последними». Говорит вроде бы в шутку, а получается всерьез. Колхоз в Выселках отсталый по всем, что называется, показателям, хотя мог бы быть и передовым – также по всем показателям. Природные условия так хороши, что лучше и не придумаешь: черноземные поля, заливные луга, река и пойма при ней для огородов – во всем районе таких нет. Может быть, нет таких и во всей области. Почему же отстает? Отчего дела идут через пень колоду?
А спросите дедушку Каплю.
Вместо ответа он поведет вас в Поливановку – самую благолепную, утопающую в садах часть Выселок, укажет на полтора десятка добрых изб, выглядывающих из-под вишенья, и молвит:
– Вот она, наша беда-кручина.
– Что?
– А вы, дорогой товарищ, знаете, как энту улицу народ прозвал? Председателевка! Их, председателей то есть, меняют через каждые два-три года, бывает, что и через год меняют. Этого времени, понятно, маловато, чтоб своим собственным хозяйством обзавестись – домишко покрасивше наших спроворить, гусей-утей расплодить, сад заложить, коровку-симменталку, овечек, пару кабанчиков… Сымут с должности, а ему, председателю то есть, и горюшка мало… Во-о-на сколько их накопилось с тридцатых-то годов – не счесть! А работники из этих бывших, прости, дорогой товарищ, как из хреновины тяж. Пойти, скажем, рядовым на поле либо на трактор сесть – прежнее председательское звание не дозволяет, анбиция у каждого. К тому ж новому председателю норовят все время ножку подставить, авторитет ему подпортить. А вдруг у нового-то дела пойдут хорошо – им же, бывшим, как раз укор выйдет!
– Но только ли в председателях беда?
– Какое там! У нас бед этих немало. Я ж вам, дорогой товарищ, на одну беду указал. О других пока речи нету…
Дед Капля тронет пальцами козырек старенького кожаного картуза и распрощается. А вы еще долго будете стоять на пригорке и смотреть на ровный ряд аккуратных домиков, всем своим видом так и кричащих о благополучии, об уюте, о благоустройстве, о том еще, что избы эти не сродни тем, что горбятся под соломенными крышами там, наверху, и глядят на мир мутноватыми окнами, оправленными старыми, покосившимися рамами. Вам, однако, грустно смотреть на экс-председательскую улицу, убежавшую под гору будто специально для того только, чтоб поменьше глаз глядело на нее. Не всякому захочется подойти к добротным воротам такой избы и постучаться в них.
Но постучаться надо. Хотя бы вон в ту, самую крайнюю и самую, пожалуй, новую. Познакомьтесь с ее хозяином. Может быть, вам повезет, и хозяин окажется в добром расположении духа. Тогда он непременно поведает о своей жизни. Рассказ будет длинен и не шибко весел, так что вам не худо загодя обзавестись терпением.
Василий Куприянович Маркелов, единственный, кажется, на селе оставшийся без прозвища, всегда числится в активистах. Начал с сельского Совета, занимая должность, не предусмотренную никакими штатами, а придуманную лично секретарем Степаном Аверкиевичем, не любившим утруждать себя скучными канцелярскими делами.
Степан Аверкиевич когда-то слыл на селе трезвенником, но, преодолев врожденное чувство отвращения к спиртному, в конце концов стал-таки алкоголиком и, как большинство деятелей его типа, окружил себя небольшим по числу, но очень уж отстоявшимся кругом собутыльников.
Василий Куприянович не принадлежал к этому кругу и, вполне естественно, по прошествии определенного времени сменил Аверкиевича на его посту.
По той же причине вскорости сменил он и председателя и стал «премьер-министром» местного правительства, как назвал его однажды неутомимый книгочий и любитель иностранных словес Кузьма Капля. Случилось это в тот год, когда деревня приступила к сплошной коллективизации.
Для Василия Куприяновича приспели тяжкие времена. Район каждое утро, а то и несколько раз на дню запрашивал сводки о раскулаченных, спускал разнарядки: сегодня раскулачить столько-то семей, завтра – столько-то, причем число день ото дня росло, словно бы это была хлебозаготовка, когда количество вывезенных пудов действительно имеет решающее значение.
Раскулачивать приходилось и родственников, которые, узнав про то накануне, являлись к Василию Куприяновичу семьями прямо на дом, лили слезы горючие, совестили, угрожали, просили, всячески усиливались разбудить в нем родственные чувства, – не помогало.
Оставшись наедине с женою, на ее упреки в черствости и холодности к «сродникам» кричал, страшно матерясь:
– Тебя, дуру, посадить на мое место! Попробовала бы служить и Богу, и черту!..
Сам Василий Куприянович умудрялся служить и тому, и другому. Умный от природы, решительный, властный, он был груб и беспощаден к людям, которые стояли ниже его. К равным по должности – равнодушен. К начальникам – почтителен в их присутствии, за глаза – иронически-насмешлив и даже презрителен.
На должности председателя сельсовета продержался долго. И лишь в сорок третьем, когда очередь дошла до пятидесятилетних, Василия Куприяновича взяли на войну.
После первого же боя, из которого он чудом вышел живым и невредимым, решил про себя, что это ему совсем ни к чему, и при очередной дележке табака и хлеба явил редкостную виртуозность в исполнении столь ответственного дела, так что старшина роты немедленно обратил на Василия Куприяновича внимание, сделал его своим помощником и затем потихоньку перевел в обоз.
Помощник оказался весьма сообразительным и добросовестным, старшина стал поручать ему поездку на полковой склад ПФС, сопряженную, как известно, с немалым соблазном.
Прошло какое-то время, и ротное начальство вдруг заметило, что, собственно, все старшинские обязанности выполняет гвардии рядовой Маркелов, причем выполняет гораздо лучше, чем старшина, который обязан это делать по долгу службы.
Кончилось, разумеется, тем, что старшина распоряжением ротного перекочевал в окопы, а на его место был назначен Маркелов Василий Куприянович с одновременным присвоением ему звания старшего сержанта.
Как только поперек его зеленых, защитного, полевого цвета погонов легли широкие лычки, Василий Куприянович сфотографировался и был очень доволен, что гвардейский знак вышел на его гимнастерке не очень отчетливо и мог легко быть принят земляками за орден Красного Знамени.
Окопы все же были по-прежнему недалеко, и не менее двух раз в сутки старшина с термосом за спиной должен был навещать их. При этом ему частенько приходилось попадать под минометный обстрел. Однажды вражеский осколок пропел над ухом так близко, что и сейчас, вспоминая то мгновение, Василий Куприянович покрывался потом, и под сердцем у него холодело. Надо было что-то предпринять. А что именно?
Начал с того, что в непостижимо малый срок перезнакомился и завязал «деловые связи» сперва с самыми нижними (они нередко значили не меньше самых высоких), а затем уж и с более высокими чинами многочисленной тыловой братии полка. Особенно приглянулся он начальнику ПФС капитану Беленькому, и тот добился того, что приказом командира полка Василий Куприянович был назначен заведующим продовольственно-фуражным складом. И прощай, окопы!
Теперь можно было спокойно ждать окончания войны. Один только случай нарушил безмятежное житие Василия Куприяновича вблизи от мясных консервов и галет. О нем Василий Куприянович вспоминает с тем же противным холодком под сердцем, как и о близко пролетевшем вражеском осколке.
Было это на Одере. Полк форсировал реку и зацепился за противоположный берег, за самую его кромку, всего лишь тремя-четырьмя ротами, а дальше, жестоко обстреливаемый и атакуемый немцами, продвинуться не смог. Наблюдательный пункт командира полка находился там вместе с теми тремя-четырьмя ротами и подвергался свирепому обстрелу, не прекращавшемуся ни днем, ни ночью.
Где-то за полночь, измотанный до последней степени и злой, как сто чертей, командир полка потребовал водки. Ординарец сообщил, что водки нету; на складе ему отказали, Беленький на просьбу ординарца изрек свое обычное:
– Мне не дали на ДОПе, и я не дам. Мне дадут на ДОПе, и я дам.
Беленький излагал свою форму тоном, исключающим всякую возможность продолжать разговор.
Но командира полка сообщение ординарца привело в ярость.
– Сейчас же вызвать Беленького ко мне!
Беленького на месте не оказалось.
– Вызвать заведующего складом!
С великим трудом добрался Василий Куприянович до наблюдательного пункта: трижды его обстреляли, дважды лодка едва не опрокинулась от разорвавшегося поблизости снаряда; а в добавление ко всему весь жуткий поток брани, предназначенный Беленькому, был обрушен на голову Василия Куприяновича, едва голова эта показалась в командирском блиндаже.
Маркелов приплыл без водки, но командир полка о ней и не спрашивал.
– Солдаты третий день не получают горячей пищи. Это вы, знаете, там со своим начальником или толстомясых немок щупаете, растак вашу мать!.. Ишь рожи-то отъели, с похмелья не обойдешь!.. – И далее пошло такое, чего ни синтаксис, ни орфография не выдерживают. Это был воистину Ниагарский водопад отборнейшей ругани, столь сочной и изобретательной, что, не испугайся в ту минуту Василий Куприянович, он, сам великий мастер по этой части, мог бы значительно обогатить свой непечатный лексикон. Но Василию Куприяновичу было не до науки. То, что он услышал в конце живописной речи командира полка, было пострашнее ругани:
– Немедленно отправляйся на восточный берег! И к утру чтоб солдаты – все до единого, слышишь ты! – чтоб все получили горячую еду! Таскать будете в термосах вы лично с Беленьким. Иначе повыдергиваю ноги, откуда они у вас растут. Ясно?
– Ясно.
– Выполняйте приказание.
Выполнить такое приказание было также невозможно, как невозможно было его и не выполнить.
Запахло штрафной ротой – для него, Василия Куприяновича, и штрафным батальоном – для капитана Беленького.
Приказ был выполнен, но какой ценой!..
После той кошмарной ночи в жесткой щетине густых темных волос Василия Куприяновича впервые и напрочно поселились кудельные нити седины, а чуть позже поперек низкого, упрямого лба легли две новые глубокие складки – но это уж, видать, от беспокойных дум, которые с той ночи не покидали его. Он вдруг опять обнаружил, что передний край по-прежнему очень близок и не худо было бы перебраться куда-нибудь подальше в тыл, например в ДОП – дивизионный обменный пункт, как значится он в армейской терминологии. А то, чего доброго, перед самым Берлином можешь ни за что ни про что сложить буйную свою головушку.
Мечте этой не суждено было осуществиться, но скорбеть по такому поводу особенно не приходилось: кончилась война.
Василий Куприянович в числе самых старых по возрасту фронтовиков был демобилизован с первой очередью. Туго набив вещевой мешок трофейным барахлишком, а другой – харчами со склада, отправился на станцию.
Дома он увидел, что жена его Авдотья сильно постарела, хотя была четырьмя годами моложе его. Авдотья, в свою очередь, приметила не без удивления, что ее фронтовичек раздобрел, словно бы даже помолодел. Под новым, скрипучим офицерским ремнем у него завязался жирок, две плотные упругие складки наползали одна на другую на красной, короткой и крепкой шее, и седина на этой здоровой молодой голове казалась чужой, ненатуральной.
Первые дни Авдотья любовалась мужем, подавляя смутную, со временем все усиливающуюся тревогу, которая возникла тогда же, в первую минуту встречи, возникла и тотчас же затерялась, утонула в потоке бурной радости, вызванной возвращением главы семьи, ее кормильца и поильца.
Как-то она глянула на Василия Куприяновича, когда он заканчивал бритье, – рядом с его отражением увидела в зеркале и свое, это длилось одно лишь мгновение, но и мгновения оказалось достаточно, чтобы смутная тревога стала вдруг остро осознанной: Авдотья ухватила коротким взглядом, как молодое упитанное лицо мужа, до этого самодовольно-спокойное, гордое и любовавшееся самим собою, невольно поморщилось при виде ее постаревшего и оттого некрасивого лица.
Авдотья отошла к печке и долго смотрела то на истухавшие, то на разгоравшиеся, потрескивавшие, подпрыгивавшие угольки и не знала, что же ей делать. Пред ней промелькнули молодые лица овдовевших солдаток – Журавушки, Маруси Ягодихи, Марины Лебедевой и еще многих других, таких же красивых, привлекательных, ждущих терпеливо и долго своего счастья, на которое имели не меньше прав, чем и она, Авдотья, дождавшаяся мужа живым и невредимым.
Недавно еще женщины эти были дороги ей, со многими из них она дружила, многим помогала советами, многих учила, как надо жить, чтоб дети были обуты, одеты и не померли с голоду. Теперь же Авдотья не могла думать о них без ненависти, ненависти беспричинной и потому особенно лютой и неукротимой.
Отгуляв положенный срок, выпив положенную толику водки и самогона, Василий Куприянович включился в колхозные дела. Скоро его избрали бригадиром полеводческой бригады, а позже – и комплексной. И когда он распорядился подвезти вдовам соломы для износившихся крыш, Авдотья, всегда такая робкая и тихая, обернулась вдруг сущей тигрицей.
– Я знала, что ты только и думаешь об этих суках. – Она употребила выражение похлеще. – Старый ты кобелина! Недаром тебя видели восейка у Журавушки. Гляди, как бы тебе однорукий Зуля пулю в лоб не пустил. Он тоже к ней подмасливается. Эх, вы!..
В другое время Василий Куприянович не стал бы так долго и терпеливо выслушивать длинную и непочтительную, к тому же совершенно несправедливую речь жены, вмиг нашел бы на нее управу. Но сейчас терпел тихо, посмеиваясь, подтрунивая над ней:
– А ну еще!.. А ну поддай!.. Так, так его!.. – И, вздохнув, улучив минуту, когда она умолкла, говорил с неподдельным сокрушением: – Эх, дура ты, дура! Ну что ты только несешь? Опомнись! Нужны мне твои бабы! Помочь-то я им обязан ай нет? Как ты думаешь?
– Пущай председатель помогает. Это его дело, а ты, знать, расплачиваешься…
У Василия Куприяновича чесались кулаки, но страшным усилием воли он удерживал их, не пускал в дело.
Кулаки его не чесались бы и ему удалось бы сохранить в разговоре с женой свой обычный насмешливо-снисходительный, подтрунивающий, не принимающий всерьез ее слов тон, если б среди прочих она не помянула имени Журавушки, помочь которой он решил не без определенной цели. Но так как ничего еще не было и, может, ничего и не будет вообще, Василий Куприянович разозлился уж от одного того, что пойман еще в тайных своих намерениях; теперь ему все труднее становилось прикидываться простодушно-насмешливым, то есть пользоваться не раз проверенным средством, единственно способным успокоить жену.
Словом, он ненавидел ее сейчас за то, что провинился перед ней всего лишь в мыслях, и в особенности за то, что ей каким-то образом стали известны эти его тайные мысли, – и за это-то ему страшно захотелось отколотить жену.
И все-таки Василий Куприянович не пускал в дело кулаков. Отчасти, вероятно, потому, что боялся не рассчитать удара; главным же образом потому, что сейчас было уж очень не ко времени заводить скандал, пускай даже семейный: скоро Василия Куприяновича должны были принимать в партию. По этой же причине он не стал торопить свое сближение с Журавушкой, полагая, что для этого наступят лучшие времена.
Пока что с головой ушел в работу. Через какой-нибудь месяц дела его в бригаде заметно поправились, и Василия Куприяновича, хоть он и был еще беспартийным, впервые пригласили на районный партактив, где он выступил с недлинной, но толковой речью.
Было это в начале сорок седьмого года.
После актива велели зайти к первому. Первый для порядку, видать, спросил о том о сем, затем сказал:
– Есть у нас, товарищ Маркелов, такая мысля. – Сделав ударение на последнем слоге, он улыбнулся, замолчал на минуту, как бы приглашая собеседника оценить должным образом простецкое к нему обращение. – Есть, стало быть, мысль, – продолжал уже вполне серьезно и строго, – чтоб вы, товарищ Маркелов, возглавили колхоз в Выселках. Как вы на это?..
– Но захотят ли меня колхозники? – спросил также после значительной паузы Василий Куприянович, гордясь предложением секретаря райкома, хотя заранее знал, что именно за тем его и позвали к первому. Более того он гордился, пожалуй, тем, что не даст своего согласия, потому что не наступил еще срок, которого он ждал; не дав же своего согласия сейчас, он оставит о себе впечатление, как о скромном человеке, менее всего думающем о карьере, и таким образом еще выше станет в глазах районных руководителей. Пройдет какое-то время, и к Василию Куприяновичу обратятся с тем же предложением во второй раз, и вот тогда-то он примет его.
«Захотят ли меня колхозники?» – сказал Василий Куприянович скорее из кокетства, нежели из опасения, что его действительно могут и не избрать. Еще по довоенным летам он знал об установившемся и ставшем уже традиционным правиле, по которому председателя колхоза рекомендует райком, где вопрос о назначении, в сущности, уже решен, общее же собрание колхозников – акт формальный. Нередко на такие собрания представитель райкома привозит совершенно неведомого колхозникам человека, долженствующего стать главою их артели, и добрый час, употребив все свое красноречие, расхваливает, перечисляя все его настоящие и потенциальные добродетели, хотя мог бы этого и не делать: авторитет райкома достаточно высок, чтобы рекомендуемый им человек был избран единогласно и при тайном голосовании, не говоря уже о голосовании открытом.
Впрочем, Василию Куприяновичу были известны два-три случая, когда колхозники проявили характер, не посчитались с волей райкома и при голосовании провалили таинственных незнакомцев. Но зато какой был переполох! В «крамольные» колхозы выезжало чуть ли не все областное и районное начальство. Бюро заседало чуть ли не круглые сутки. Десятки тревожных бумаг были сочинены с лихорадочной быстротой и покоились за несокрушимыми дверцами сейфов, молчаливо и грозно стоявших по углам кабинетов…
Василий Куприянович в Выселках был своим и всеми уважаемым человеком и потому не опасался за провал. Истинная причина его отказа состояла в том, что не наступил еще срок, определенный им самим. Он видел, что авторитет нынешнего председателя не настолько утрачен, чтоб колхозники могли отпустить его с богом, без всякого сожаления. Надобно еще некоторое время, в течение которого они убедились бы в том, что настоящий-то руководитель – вот он, живет у них под боком, живет вместе с ними, и этим настоящим является не кто иной, как Василий Куприянович Маркелов. А для этого он должен усиленно помогать нынешнему председателю в организации дела, помогать так, чтобы однажды все вдруг обнаружили: батюшки мои, а ведь делами-то в артели правит он, Куприяныч, а не председатель, и, обнаружив это, решительно потребовали бы замены.
Так в конце концов и случилось.
На общем собрании, где проходило избрание, Василий Куприянович как бы в шутку, но, в общем-то, довольно строго предупредил, обращаясь почему-то к одним мужикам, хотя взгляд его то и дело останавливался на сидевшей в первом ряду и смотревшей на него Журавушке:
– Ну, вот что, землячки, коль настаиваете, я согласный. Только наперед говорю: спуску никому не будет. Никому! – повысил он голос, краем глаза ловя взгляд Журавушки и радуясь тому, что она внимательно слушает и одобрительно кивает головой.
– Правильна-а-а! – закричали женщины, которых было, по крайней мере, в три раза больше и которые были довольны тем, что это строгое предупреждение Василий Куприянович обращал не к ним, а к мужикам, успевшим давно распределить между собою все должности, позволявшие считать себя хоть и не бог весть какими, но все же начальниками: завхоз, бригадир, кладовщик, учетчик, счетовод, ну и так далее.
Василий Куприянович начал с того, что распорядился обеспечить все вдовьи семьи дровами и соломой и тем самым сразу же упрочил свое положение: вдов на селе было куда больше, чем тех, у кого сохранились мужья. Авдотья, правда, ворчала, но на ее ворчание Василий Куприянович теперь не обращал решительно никакого внимания.
День ото дня его сильные, широченные в запястье, поросшие буроватыми волосами руки все туже натягивали поводья как в отношении членов своей семьи, так и в отношении членов артели. При этом ему все чаще стал припоминаться эпизод на Одере, в такие минуты строгость его переходила пределы и становилась уже жестокостью: ежели люди имели право быть столь беспощадны к нему, почему же он не может быть так же беспощаден к другим? В ту ночь солдаты все же были накормлены, и, следовательно, жестокость командира полка к одному или двум лицам обернулась благоденствием к сотням людей. Отчего же и ему, Василию Куприяновичу, не поступать точно таким же образом?
К тому же отдельно взятый человек может быть и неблагодарен к своему благодетелю. В этом Василий Куприянович убедился вскоре после своего избрания. Как-то за полночь он постучался в дверь к Журавушке. Она откинула крючок и, белая, источавшая тревожный, волнующий запах постели, появилась в темном проеме двери.
– Можно? – спросил он дрогнувшим голосом и хотел уже занести ногу за порог, как раздался ее притворно-удивленный голос:
– А зачем?
На такой вопрос нельзя было отвечать, да она и не ждала ответа. Вздохнула горестно-гневно:
– И ты… эх, вы!.. – И сенная дверь оглушительно захлопнулась перед Василием Куприяновичем.
Вернулся он домой туча тучей. Придравшись к жене, доставшей ему из погреба снятое якобы молоко, он свирепо избил ее, учинил погром в горнице, а утром в правлении всех своих помощников грубо обозвал лодырями и пьяницами и с того дня был вообще невыносим.
В середине зимы обнаружилось, что кормить колхозный скот нечем – заготовленного хватило лишь до Крещения, то есть до той поры, когда только и начинались самые лютые морозы. О приближении катастрофы Василий Куприянович догадывался уже давно и, не в силах что-либо сделать, все более мрачнел, начал – сперва потихоньку, а потом уже и не таясь, даже с каким-то злым, отчаянным вызовом – пить. Кто-то из собутыльников в разгар очередной невеселой пирушки услужливо предложил выход: отобрать корма – сено и солому – у колхозников.
– Судить за это не будут. Не для своей, чай, скотины отбираем…
Василий Куприянович тотчас же припомнил острамок на дворе у Журавушки и зло просиял. Сказал бригадиру, точно приказ о наступлении отдал:
– Завтра, в пять ноль-ноль начинаем!
– Можа, собрание провесть? – осторожно предложил дед Капля, случайно оказавшийся в компании.
– Никаких собраний! – отрубил Василий Куприянович. – Сам поеду по дворам. – И лицо его налилось кровью. Начинавшие седеть волосы ощетинились.
Еще затемно множество подвод разъехалось по селу. На одной из них сидел председатель, подвода направлялась к Журавушке. Пока навьючивали сено из острамка, хозяйка, как и в ту памятную для Василия Куприяновича ночь, стояла в темном проеме двери, наспех покрывшись поверх белого черной шалью, и похожа была на большую птицу, в молчаливом недоумении следившую за разгромом своего гнезда. Василию Куприяновичу, вероятно, было бы легче, если бы женщина, выламывая руки, кричала, обзывала б его последними словами. Молчание же ее было невыносимо и обещало что-то очень недоброе впереди.
Вот так же, покрывшись шалью, сидела она месяц позже и на открытом выездном суде в сельском клубе, когда Василий Куприянович держал ответ за содеянное беззаконие. Он один только раз оглянулся назад, на густо набившуюся публику, и опять, как в тот вечер, когда его выбирали председателем, встретился с ее взглядом, – тогда-то ему стало особенно страшно. Насмешливо-укоризненный и вроде бы жалеющий, недоумевающе-удивленный, взгляд этот лучше всего определял и его жестокий поступок, и нынешнее его унизительно-постыдное положение. Потом ему подумалось, что женщина могла жалеть и самое себя за то, что так ошиблась в нем, когда улыбалась, радуясь его словам на общем собрании.
Василий Куприянович быстро перевел глаза на другие лица, и одно из них – деда Капли – успело сказать добрым своим и все же осуждающим взглядом:
«Вот оно, милок, как получается…»
Через два года Василий Куприянович вернулся из тюрьмы и, не сломленный духом, всею силою упрямой натуры отдался одной всеобъемлющей страсти – наживе. Ненависть к колхозному, общественному хозяйству, принесшему ему вместо ожидаемых благ лишь горе и унижение, самым естественным образом ужилась с его дьявольской любовью к хозяйству своему, личному. Двор его в непостижимо малый срок наполнился скотиной – корова и телка-полуторница, десятка полтора овец, коз, куры, гуси, утки. Сена накашивал на две зимы. И когда ему указывали на эту странную непонятную страсть, отвечал насмешливо-ядовито:
– Материальную базу создаю. Без нее, базы этой самой, коммунизм не построишь…
Вскоре он переселился в Поливановку, где уже стояло несколько домов бывших колхозных начальников, и стал как бы правофланговым на знаменитой Председателевой улице. Там они, бывшие, собирались по вечерам и вовсю поносили деятельность нынешнего руководителя, находя ее никудышной.
Астрономы
В один год мальчишки эти остались круглыми сиротами. Отцы и матери их померли в тридцать третьем, а старшие братья да сестры, какие остались живыми, разлетелись бог знает куда и не давали о себе никакого знаку.
Петька и Васька – так звали мальчишек, – чтобы не пропасть совсем, принуждены были жить вместе, под одной крышей, хотя не были даже далекими родственниками. Да и дружили-то прежде не очень. И характеры у них разные. Петька тихий и мечтательный, совершеннейший фантазер и выдумщик. Васька же в каждом деле видел только его практическую ценность, не любил, да и не умел в мыслях своих отрываться от грешной земли и, вероятно, потому тяжелее переносил трудные времена, хотя именно эта черта его характера и спасла приятелей от голодной смерти. Петькиными фантазиями сыт не будешь, Васька глядел в самую суть обстоятельств, перед ним всегда была конкретная цель – каждый день добыть небольшой кусок хлеба или, на худой конец, две-три картофелины. И не велика беда, ежели Васька то и другое добывал не совсем законным способом: никому из односельчан и в голову не придет упрекнуть их за то, что ребята так отчаянно отстаивали свои маленькие жизни.
Петькина изба была получше – в ней поселились ребята. Первое, что они сделали, – это обучили корову исполнять обязанности лошади, поскольку к той поре ни одной кобыленки в колхозе не осталось: подохли от бескормицы все в том же, тридцать третьем. Должно заметить, что Лысенка взялась за науку без особого энтузиазма, и если ни один из ее учителей не оказался на рогах, то объяснить это можно скорее их изворотливостью, нежели смиренным нравом Лысенки. Корова определенно не хотела стать лошадью. И все-таки она стала ею. Через какую-нибудь неделю спокойно шла в ярме, влача за собой сани.
Почин Петьки и Васьки оказался настолько заразительным, что вскоре все оставшиеся в Выселках коровы превратились в тягловую силу. Первым отозвался Капля. Ему даже не пришлось мастерить ярма. Коровенка у него была комолая, то есть без рогов, и Капля быстро приспособил на ней сбрую, сохранившуюся от обобществленного Бухара. Умолкший было на селе тележный скрип вновь родился, усиливаясь день ото дня. Выселки малость повеселели. И хоть была зима, до морозных окон, до хат, до холодных сумрачных печей чуть внятно повеяло хлебным духом: колхозники знали, что теперь смогут распахать землю и бросить в нее зерно, с величайшим трудом сбереженное, протравленное формалином, кажется, не столько от вредителей, сколько для того, чтобы не растащили голодные люди. Над соломенными крышами из печных труб живо заструился густой дымок – дворы обеспечили себя дровами, привезли из лесу на своих буренках. Ничего, что коровы поубавили молока, – они принесли в избу тепло и надежду.
Петька продолжал ходить в школу, в четвертый класс. Васька бросил еще со второго, и потому основная тяжесть забот о доме, о Лысенке лежала на нем. Обносились настолько, что вскорости пришлось бы из двух рваных штанов латать одни и носить их по очереди. То же самое они сделали б и с пиджаками, с валенками. Правда, на головах была хорошая справа: Петьке в наследство от батьки осталась буденовка – предмет бесконечной Петькиной гордости; на большой и круглой Васькиной голове ловко лежал великолепный отцовский малахай. И все-таки до зарезу нужны были еще одни штаны, еще одни валенки и еще один пиджак. А где их взять? Можно при случае стащить кусок хлеба, даже чугунок с кашей, выставленный для остывания на подоконник неосторожной хозяйкой, можно незаметно нырнуть в чей-нибудь погреб и набрать карман картошки, и если не попадешься на месте преступления – все хорошо и кончится. А пиджак, штаны и валенки надобно носить – так что разоблачение будет немедленным со всеми вытекающими из него последствиями. И все-таки что-то надо было делать, не то пропадешь.
Однажды Васька, против обыкновения возбужденный и суетливый, предложил Петьке запрячь Лысенку в глухую и вьюжную полночь. Прихватили топор, пилу.
– В лес, что ли? – спросил Петька.
– В лес… там увидишь, – ответил Васька загадочно.
Через гумна выехали на могилки. Васька остановил Лысенку и взялся за пилу.
– Ты чего это надумал? – встревожился Петька.
– Ничего. Слезай… Напилим, наколем и прямо отсюда на базар. Понял?
– Я не буду.
– Будешь!
– Не буду!
– Бу-у-удешь! – взвыл жутко Васька. Топор в правой руке шевелился, а пила тонко повизгивала.
Меж смутно маячивших крестов свистел ветер, металась колючая поземка. И сами эти темные кресты напоминали Петьке бредущих куда-то в ночи мертвецов, которые вот сейчас окружат их и задушат, унесут в преисподнюю. Петька покосился на корову – та спокойно пережевывала жвачку, шумно дышала, отрыгиваясь, от нее пахло молоком и хлевом. Васька стоял у первого, ближнего креста, размахивал топором – похоже, торопил. Петька подошел, взялся за один конец пилы, наклонились – и страшная работа началась. Спилив один крест, они, почти не разгибаясь, подходили к другому и пилили. Визжание пилы заглушало свист ветра, пот застилал глаза, а вместе с ними и жуткие видения, и потому-то хотелось все время пилить. Лысенка терпеливо и безропотно ждала у дороги.
Часу в пятом утра сани были нагружены отличными, сухими дубовыми дровами. И прямо с кладбища мальчишки поехали в районный центр, на базар, верст за семнадцать от Выселок. На другой день, вечером, вернулись домой довольные собой и счастливые. На вырученные деньги – шутка сказать! – купили сразу двое штанов и буханку хлеба. И – кум королю – полезли на печь с очевидным намерением поблаженствовать. Буханка тут же, на печи, была наполовину съедена.
От сытости, от благополучного завершения рискованного дела, оттого, что они живы, здоровы, а Лысенка стоит в теплом хлеву, ест сено, прихваченное по пути из колхозного стога, и, по-видимому, тоже довольна, ребятам захотелось помечтать. Петька достал с пригрубка «Астрономию» – книгу, добытую им неведомо где, раскрыл нужную ему страницу, сыто икнул и принялся вслух читать, а Васька – слушать. Сам читать он как следует не научился, да и не хотел, а слушать любил. Любил перебивать Петьку вопросами, нередко совершенно нелепыми.
Сейчас он не перебивал долго – верно потому, что был в хорошем расположении духа, и Петьке уже казалось, что дочитает до конца без всяких помех. Но в каком-то месте Васька вдруг зашевелился, фыркнул иронически и возгласил:
– Враки все это!
– Что враки? – не понял Петька.
– Все враки, – повторил Васька.
– Как же это – все? – смешался сбитый с толку Петька.
Васька решил пояснить:
– Вот пишут в этой книжке, что земля вертится. Враки это!
– Почему же враки? Она действительно вертится.
Васька самодовольно ухмыльнулся:
– Если б она вертелась, мы б с тобой давно в Саратове были. А то сидим на печи в Выселках.
– Чудак ты, Васька! И Выселки, и печь наша крутятся вместе с землей.
– Ну, уж это дудки! Избы давно бы рассыпались. Одни гнилушки остались бы от них. – Васька говорил все это с такой убежденностью, что вразумить его было совершенно немыслимо.
Спор их обычно длился до той минуты, пока усталость не брала свое, – и наши астрономы, разметавшись на теплой печи, засыпали снами великих праведников.
Утром Петька уходил в школу, а Васька оставался один на один с не очень-то ласковой к ним действительностью: буханка съедена окончательно, пиджака и валенок по-прежнему не было, а зиме не видно конца. Петька, конечно, запищит, но делать нечего – придется ночью опять ехать на могилки, а оттуда – на базар, торговать дровами. Пятнадцать рублей за один воз – это, брат, деньги! А Бог, если он действительно есть и если он действительно создал все на свете, в том числе и их, Петьку и Ваську, то он должен простить им этот грех. Сходят они к отцу Леониду, исповедуются, признаются во всем – и делу конец. А может, и правду говорят в Петькиной школе – Бога нет? Если бы он был, зачем же столько бед наслал на Петькину и Васькину головы?..
Так мысленно Васька искал оправдания их кощунственным деяниям.
Ночью Лысенка вновь стояла у дороги, возле крестов. А две маленькие фигурки смешивались с крестами, пыхтели где-то в снежной сумятице. С густым кряканьем падали в снег спиленные кресты. Сани наполнялись. На базаре покупатели быстро догадывались о происхождении великолепных дров, но брали, и охотно, ни о чем не расспрашивая ребят. Тем более что продавали они свой воз в общем-то по сходной цене.
Однажды ехали Васька и Петька в лунную ночь. Снег серебрился. Лес, мимо которого шла дорога, покрылся густым инеем. От какого-то невидимого движения деревья чуть вздрагивали, иней хлопьями падал вниз. Вздрагивали и мальчишки. Особенно Петька. За каждым кустом ему виделся волк.
Волк же, настоящий, не созданный Петькиным воображением, а натуральный, лобастый, короткоухий, поджарый, сидел, как мраморное изваяние, на лунной дороге, на той самой, по которой они ехали. Первой его заметил Лысенка и остановилась. Потом увидели и Петька с Васькой. Волк сидел по-собачьи и глядел в их сторону. Петькина буденовка зашевелилась, шишак ее словно бы вытянулся. Петька прильнул к Ваське, но сразу же почувствовал, что Васька дрожит мелкой щенячьей дрожью.
– До-лой! – что есть моченьки закричал Васька.
Волк не шевельнулся. Свет луны, неровный, призрачный, струился вокруг его литого тела. Отсюда, от саней, волчья морда казалась даже ласковой, как у ручной собаки, но это потому, что ребята не видели его глаз – глаз холодного и расчетливого убийцы.
– Говорят, волк на людей не нападает, – робко сказал Петька, нисколько не утешившись сам и не успокоив товарища этой обычной в таких случаях сентенцией.
Васька промолчал. Теперь они чувствовали себя обреченными и находились в том положении, когда ничего не оставалось делать, кроме как сказать: «Что будет, то и будет». Но, видать, ребята народились на свет удачливыми. Где-то далеко впереди послышался скрип полозьев. Вот он все ближе и ближе. Из лунной дрожащей сумеречи показалось что-то темное, это темное постепенно стало коровой. А вот уже и мужичок возле коровы – постукивает голицами, покашливает, покрякивает от морозца. Это спасение!
Волк забеспокоился. Литая, негибкая его фигура стала ворочаться туда-сюда. Вот он приподнялся, потянул носом воздух и одним большим прыжком очутился в лесу. Затрещал там кустами, осыпался снежной пылью и сгинул, как недоброе привидение.
Спаситель подъехал, остановился. То был Зуля.
– Ну что, струсили? – спросил он ребят.
– А то рази нет! – признался Васька.
– А что это вы по ночам разъезжаете?
– А сам?
– Я большой. Мне можно.
– Ну, и нам можно.
– Вижу. Дровишки-то откель? Ну ладно, езжайте, купцы сопливые.
Купцы тронулись, донельзя счастливые, что опять так хорошо все кончилось. Луна висела чуть ли не над их головами. Она-то и овладела Петькиным воображением.
– Ты, Васька, знаешь, какая она большущая?
– Кто?
– Луна.
– Ну?
– Она чуть поменьше нашей земли будет.
– Враки.
– Опять ты свое… Говорю – большая-пребольшая!
– С кроильное решето – не больше.
– А знаешь, Вась, почему она светится?
– Не знаю.
– Солнышко на нее светит, а она этот свет на землю лукает. Понял?
– Враки.
– Эх ты, Фома неверный! – вздохнул Петька от великой досады и безнадежно махнул рукой.
А по ночному студеному небу спокойно катилась луна – такая же загадочная, как все на этом свете. Лысенка шла не шибко. Полозья однообразно скрипели, тонко, как свирель пастушья, пела соломинка, попавшая на полоз, думали свою думу мальчишки. А земля, мать и праматерь их, словно бы и забыла, зачем, для каких дел, для какой жизни породила эти крохотные, теплые, беспокойные комочки, отчаянно ищущие своего места под этой холодной и равнодушной ко всему на свете луной.
Весна для Петьки и Васьки была недолгой. Немножко поиграли в лапту на первых проталинах, немножко в козны, немножко в чижик, всего один раз сходили за растом да за слезками на залитые еще полой водой луга – и все. Потом началась посевная. Тринадцатилетние, они хорошо знали, что такое посевная. Знали и пословицу, сложенную по случаю посевной: «Один день год кормит». Пословицу эту особенно часто повторял Кузьма Удальцов (ныне Капля), назначенный полеводом. Это он прекратил весенние радости мальчишек. Пришел как-то поутру, разбудил Петьку и Ваську, спавших в обнимку прямо на полу, дождался, когда они протрут кулачонками глаза, да и объявил:
– Завтракайте, ребятишки, и на поле. Вместе с Лысенкой.
О завтраке надо было бы еще позаботиться, дома ничего не было. Но Капля знал про то и вытащил из кармана по ломтю наполовину ржаного, наполовину кукурузного хлеба, скрепленного, чтоб не рассыпался, прошлогодней лебедой да толченой картошкой. Васька подоил Лысенку, налил себе кружку и Петьке кружку парного молока, друзья позавтракали на славу.
Выехали в поле. Вытянулись в длинную колонну. Впереди этих колыхавшихся на целую версту рогов ехал на своей комолой Капля. Прикидывал, подбадривал необычайное это шествие. На его подводе развевался, похлопывал, пощелкивал на весеннем ветру красный флаг, роль которого распрекрасно исполнял Настасьин платок. Лысенки и буренки шли в степь бойко, охотно, полагая, что гонят их на пастбище. Когда же их заложили в плуги, сохи и бороны, настроение коров быстро переменилось к худшему. Лишь немногие согласились исполнять и эту новую работу. Большая же часть животных взбеленилась. Одни полегли у борозд с решительным намерением не подниматься ни в коем случае. Несчастных секли плетьми, палками, осыпая отборнейшей мужицкой бранью. Причем в искусстве этом равно преуспевали и женщины, и даже подростки. Коровы только вздрагивали, шевелили хвостами и косили на своего палача кроваво-выпуклые, бесконечно печальные глаза. Кто-то, изощряясь в экзекуции, предложил выкручивать коровам хвосты, но и это дало слабые результаты. Две-три приподнялись на ноги, но дальше не отступали. Наиболее отважные, задрав хвосты, мчались обратно в село прямо с бороной или сохой. От них в панике разбегалось все живое. По селу подымался переполошный бабий крик.
На другой и на третий день повторилась та же картина. Но человек в борьбе за хлеб неукротим. В конце концов животные покорились, и дело пошло на лад. Сев хоть и не в сжатые сроки, был все же произведен.
Петька и Васька ночевали в поле. Практичный Васька тотчас же оценил выгодную сторону такой ночевки. Во-первых, дома их не ждали никакие блага и, стало быть, спешить туда нет никакого резона; во-вторых, оставшимся на ночлег варили на полевом стане какой-никакой ужин, а Лысенка могла пастись тут же, неподалеку, на склоне балки, где высыпала молодая травка. Капля, командовавший на севе, к концу посевной возвел Петьку и Ваську в чин ударников, привез из школы новые пионерские галстуки, которые теперь пламенели на их тощих шеенках, поначалу пугая коров и приводя в свирепую ярость забредавших сюда изредка бугаев, соскучившихся без своих невест. Посевная кончилась, ее сменила кампания прополки, так что ребятишкам незачем было возвращаться домой. Лысенку до самой зимы они передали на попечение взрослым, потребовав лишь две кружки молока ежедневно. От осота да молочая Петькины и Васькины руки вспухли, покрылись кровавыми мозолями и по ночам нестерпимо зудели. Поутру, однако, мальчишки надевали свои красные галстуки и шли, купая босые ноги в росе, полоть пшеницу, подсолнухи, просо. Ночью, перед тем как заснуть, Петька глядел в далекое, усыпанное звездами небо и мечтательно шептал: