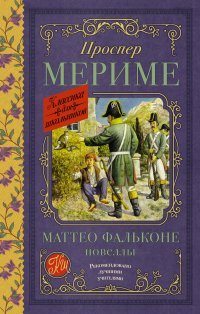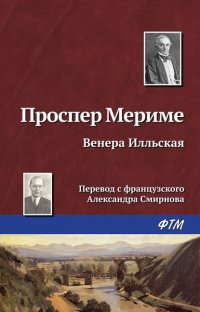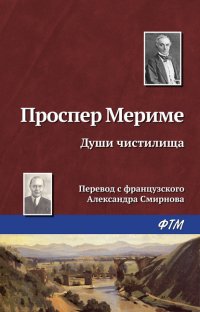
Читать онлайн Души чистилища бесплатно
- Все книги автора: Проспер Мериме
Проспер МЕРИМЕ
ДУШИ ЧИСТИЛИЩА
Цицерон где-то говорит – кажется, в трактате «О природе богов», – что существует несколько Юпитеров: Юпитер Критский, Юпитер Олимпийский и еще много других, так что нет почти ни одного сколько-нибудь значительного греческого города, который бы не обладал собственным Юпитером. Из всех этих Юпитеров сделали впоследствии одного, приписав ему все происшествия, случившиеся с каждым из его тезок в отдельности, чем и объясняется огромное количество любовных приключений, которые приписали этому богу.
Такое же смешение произошло с доном Хуаном, личностью почти столь же знаменитой, как особа Юпитера. Одна только Севилья насчитывает несколько донов Хуанов, но многие другие города также имеют собственных. Каждый из них некогда обладал своей собственной легендой. Но с течением времени они слились в одну.
Однако, если всмотреться внимательнее, нетрудно выделить каждого из донов Хуанов, по крайней мере различить двух: дона Хуана Тенорьо, который, как всем известно, был отправлен на тот свет статуей, и дона Хуана де Маранья, кончина которого была совсем иной.
О жизни обоих рассказывают одно и то же; только развязка отличает эти рассказы. Развязки здесь можно найти на всякий вкус, как в пьесах Дюсиса, кончающихся счастливо или плачевно, сообразно чувствительности читателей.
Что до правдивости этой истории или, скажем, этих двух историй, то она несомненна, и местный севильский патриотизм сильно бы оскорбился, если бы вы подвергли сомнению существование этих озорников, бросающих тень на родословные самых знатных севильских фамилий. Иностранцам показывают дом дона Хуана Тенорьо, и ни один из ценителей искусства не может побывать в Севилье, не осмотрев церковь Милосердия. Он может увидеть там гробницу кавалера де Маранья с надписью, продиктованной его смирением или, если хотите, гордостью: Aquíуасе el peor hombre que fuéen el mundo [1]. Возможно ли после этого сомнение? Правда, показав вам эти два памятника, чичероне вам еще расскажет, как дон Хуан (неизвестно только который) сделал странное предложение Хиральде – бронзовой фигуре, увенчивающей мавританскую башню собора, и как Хиральда его приняла; или о том, как однажды дон Хуан, выйдя под влиянием винных паров прогуляться по левому берегу Гуадалкивира, попросил огня у человека, с сигарой во рту шедшего по правому берегу, и как рука курильщика (оказавшегося не кем иным, как дьяволом) удлинилась настолько, что перекинулась через реку и протянула дону Хуану сигару, о которую тот закурил свою, даже не поморщившись и не обратив внимания на это предупреждение свыше – настолько очерствело его сердце…
Я пытался размежевать этих донов Хуанов, отнеся на долю каждого ту степень зла и преступности из общего предания, которая ему причитается. Не располагая более надежным методом, я постарался наделить героя моего, дона Хуана де Маранья, лишь теми приключениями, которые не связаны по укоренившейся привычке с именем дона Хуана Тенорьо, столь известного у нас благодаря шедеврам Мольера и Моцарта.
Граф дон Карлос де Маранья был одним из самых богатых и чтимых дворян Севильи. Он происходил из славного рода и в войне против восставших морисков доказал, что доблесть его не уступала доблести его предков. После падения Альпухарры он возвратился в Севилью со шрамом на лбу и огромным числом за–хваченных в плен детей неверных, которых он озаботился окрестить и выгодно распродал христианским семьям. Его раны, отнюдь его не безобразившие, не помешали ему понравиться девушке из благородной семьи, отдавшей ему предпочтение перед множеством других искателей ее руки. От этого брака родилось сначала несколько дочерей, из которых одни вышли замуж, а другие поступили в монастырь. Дон Карлос де Маранья уже отчаивался иметь наследника своего имени, как вдруг рождение сына доставило ему великую радость, укрепив его в надежде, что древнее родовое имение его не перейдет к младшей линии.
Дон Хуан, этот желанный его сын и герой нашей правдивой истории, был избалован отцом и матерью, как и полагается единственному наследнику громкого имени и большого состояния. Еще ребенком он делал почти все, что хотел, и никто во дворце его отца не решался ему прекословить. Беда только в том, что мать хотела сделать его набожным, подобно ей самой, а отец – таким же храбрецом, как он сам. Мать с помощью ласк и лакомств склоняла его к перебиранию четок, заучиванию литаний и всех прочих обязательных и дополнительных молитв. Она убаюкивала его чтением житий святых. Со своей стороны, отец знакомил мальчика с романсами о Сиде и Бернардо дель Карпьо, рассказывал ему о восстании морисков и убеждал его упражняться целыми днями в метании копья, стрельбе из арбалета или даже аркебузы в куклу, одетую мавром и водруженную по его приказанию в конце сада.
В молельне графини де Маранья была картина, написанная в сухой и суровой манере Моралеса; она изображала муки чистилища. Все виды пыток, какие только пришли на ум художнику, были представлены на ней с такою точностью, что даже палач инквизиции не мог бы указать в ней ошибку. Души чистилища были помещены в какой-то огромной пещере, в верхней части которой виднелась отдушина. Ангел, стоявший около этого отверстия, протягивал руку душе, выходившей из обители скорби, между тем как нарисованный рядом с ним пожилой человек с четками в сложенных руках, видимо, с большим жаром молился. Человек этот был жертвователем картины, заказанной им для церкви в Уэске. Во время восстания мориски подожгли город, и церковь погибла от пожара, но картина чудом уцелела. Граф де Маранья вывез ее оттуда и украсил ею молельню своей жены. Обыкновенно маленький Хуан, всякий раз как заходил к матери, подолгу простаивал перед этой картиной, пугавшей и в то же время пленявшей его. В особенности не мог он оторвать глаз от человека, которому змея грызла внутренности, в то время как он был подвешен над пылающей жаровней с помощью железных крючков, вонзившихся ему в бока. С тоской впиваясь взором в отдушину, грешник, казалось, просил у жертвователя молитв, которые бы его спасли от такой муки. Графиня никогда не упускала случая пояснить сыну, что несчастный терпит такую пытку за то, что плохо знал катехизис, смеялся над священниками и бывал рассеян в церкви. Душа, уносившаяся в рай, была душой одного из членов рода де Маранья, за которым, по-видимому, числились кое-какие грешки. Но так как граф де Маранья молился за него и роздал духовенству много денег, чтобы выкупить его душу из мук пламени, то ему и удалось переправить душу своего родственника в рай, не дав ей долго скучать в чистилище.
– Однако, Хуанито, – прибавляла графиня, – я тоже, может быть, когда-нибудь буду так мучиться и проведу миллионы лет в чистилище, если ты не будешь заказывать мессы для спасения моей души. Как жестоко будет с твоей стороны обречь на муки мать, вскормившую тебя!
Тогда ребенок принимался плакать, и, если у него было в кармане несколько реалов, он спешил отдать их первому встречному попрошайке с кружкою для душ чистилища.
Входя в комнату своего отца, он видел там латы, помятые аркебузными пулями, шлем, бывший на голове графа де Маранья при штурме Альмерии и хранивший след от удара мусульман–ского топора. Мавританские сабли, копья, знамена, отбитые у неверных, украшали его помещение.
– Вот этот палаш достался мне от вехерского кади, нанесшего мне три удара, прежде чем я поразил его насмерть, – пояснял граф. – Это знамя подняли восставшие на горе Эльвиры. Они разрушили христианскую деревню. Я поспешил туда с двадцатью всадниками. Четыре раза пытался я врезаться в гущу врагов, чтобы схватить это знамя, и четыре раза они нас отражали. На пятый раз я осенил себя крестным знамением, воскликнул: «Святой Иаков!» – и смял ряды язычников. Видишь золотую чашу, украшающую мой герб? Один мавританский альфаки похитил ее из церкви, которую он осквернил ужасными кощунствами. Он кормил лошадей овсом в алтаре, а его солдаты разбросали мощи святых. Альфаки пил из этой чаши святых даров замороженный шербет. Я настиг его в палатке, когда он подносил чашу к губам. Прежде чем он успел крикнуть: «Аллах!» – я рассек бритую голову этого пса, еще не успевшего проглотить напиток, моим добрым мечом, острие которого врезалось в нее до самых зубов. В память об этой священной мести король разрешил мне украсить мой герб золотой чашей. Я тебе сообщаю это, Хуанито, для того, чтобы ты рассказал своим детям, которые должны знать, почему твой герб не такой же, как герб твоего деда, славного дона Дьего, изображенный, как ты видишь, под его портретом.
Колеблясь между военным искусством и благочестием, ребенок проводил целые дни, делая из планок крестики или поражая деревянной саблей тыквы из Роты, очень похожие, по его мнению, на головы мавров в тюрбанах.
В восемнадцать лет дон Хуан был довольно слаб в латыни, но хорошо знал церковную службу и владел рапирой и мечом для обеих рук не хуже Сида. Отец, полагая, что дворянину из рода Маранья следует научиться еще кое-чему, решил послать его в Саламанку. Приготовления к отъезду были быстро закончены. Мать дала дону Хуану множество четок, ладанок, образков. Кроме того, она заставила его выучить много молитв, весьма спасительных в разных случаях жизни. Дон Карлос дал ему шпагу, эфес который с тонкими серебряными жилками был украшен его фамильным гербом.
– До сих пор, – сказал он ему, – ты жил среди детей; отныне ты будешь жить среди мужей. Помни, что достояние дворянина – его честь; твоя же честь – честь дома Маранья. Пусть лучше погибнет последний отпрыск нашего дома, чем на его честь падет малейшее пятно. Прими эту шпагу; она защитит тебя, если на тебя нападут. Никогда не обнажай ее первый, но помни, что предки твои никогда не влагали ее в ножны, не победив или не отомстив за себя.
Вооруженный духовным и земным оружием, потомок рода Маранья сел на коня и покинул дом своих отцов.
Саламанкский университет в ту пору переживал расцвет своей славы. Никогда еще студенты его не были более многочисленны, а профессора более учены; но никогда вместе с тем горожане не страдали так от дерзости буйной молодежи, проживавшей или, лучше сказать, царившей в городе. Серенады, кошачьи концерты, всевозможные бесчинства по ночам являлись обычным ее времяпрепровождением, однообразие которого изредка нарушалось похищением женщин или девушек, воровством и потасовками. Первые дни после приезда дон Хуан разносил рекомендательные письма друзьям своего отца, посещал профессоров, обходил церк–ви, осматривал святыни. Выполняя волю своего отца, он вручил одному из профессоров довольно крупную сумму для раздачи бедным студентам. Такая щедрость вызвала всеобщий восторг и доставила ему множество друзей.
Дона Хуана обуревала жажда науки. Он собирался воспринять как Евангелие каждое слово, которое слетит с уст его профессоров; чтобы ничего не упустить, он решил поместиться как можно ближе к кафедре. Войдя в залу, где должна была состояться лекция, он увидел свободное место около самой кафедры и сел. Какой-то засаленный, всклокоченный, одетый в рубище студент, каких немало бывает во всех университетах, на минуту оторвался от книги и устремил на дона Хуана взгляд, выражавший необычайное удивление.
– Вы сели на это место! – сказал он ему почти испуганно. – Разве вы не знаете, что его обычно занимает дон Гарсия Наварро?
Дон Хуан возразил, что, насколько ему известно, места принадлежат первому пришедшему и что, найдя это место свободным, он счел себя вправе занять его, если только почтенный дон Гарсия не поручил своему соседу удержать это место для него.
– Сразу видно, что вы здесь новичок, – сказал студент, – и что вы приехали к нам недавно, раз ничего не слыхали о доне Гарсии. Знайте же, что это один из самых…
Тут студент понизил голос из страха, как бы его не услышали другие:
– Дон Гарсия – страшный человек. Горе тому, кто оскорбит его. У него короткое терпение и длинная шпага. Будьте уверены, что если кто-нибудь займет место, на которое дон Гарсия садился дважды, этого достаточно для ссоры, ибо он необыкновенно щепетилен и вспыльчив. Когда он ссорится, он берется за шпагу, а взявшись за нее, убивает. Ну, я вас предупредил, а вы уж поступайте, как вам заблагорассудится.