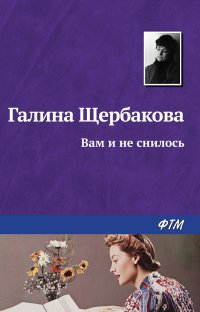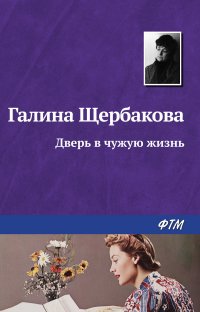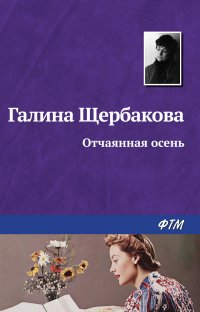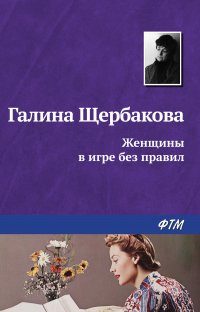Читать онлайн Митина любовь бесплатно
- Все книги автора: Галина Щербакова
* * *
Однажды я рассказала своему приятелю, что временами, ни с того ни с сего, на ровном, можно сказать, месте у рукописи начинают заворачиваться углы. Я объяснила приятелю, как я выравниваю их своим рабочим локтем, выравниваю и держу, а уголки потом сворачиваются уже не просто так, а со свистом…
– Это тебе, дуре, знак, что все цивилизованные литераторы давно перешли на компьютер. Углы у нее, видите ли, свистят.
И он сделал специфический жест у виска.
Я стала выяснять все про компьютеры – где, как и почем. Но одновременно продолжала держать локтем угол живой и горячей рукописи. Это была повесть про учительницу географии, которая все мое детство лезла мне в глаза сухими шершавыми пальцами, чтоб заглянуть под веки, а потом, клацнув зубом, объясняла маме бесспорность моего недолголетия.
Учительница пахла свежеоструганными досками, а это было для меня тогда запахом гроба. Хоронили прадедушку, во дворе стояла крышка и остро пахла, как мучительница географии. Одним словом, мы обе, прикасаясь друг к другу, содержали в себе некую информацию о смерти другого. Но если ее положение в мире по отношению к моему позволяло ей говорить, что «дит o недолговечно», то обреченное дит o сказать ей про запах гроба не могло. У дитя были строгие понятия, что можно говорить, а что нельзя.
На уроках в пятом классе учительница рассказывала нам, что степь – истинная степь в географическом смысле слова – способна скрыть травой идущих по ней в рост высоких мужчину и женщину. Малолетки, мы перемигивались, хихикали, и в нас рождалось сомнение – дева ли наша географичка, именуясь старой девой?
Вот про нее, горемычную деву-недеву, и была рукопись, углы которой завернулись, и я подумала: компьютер. Приятель прав – нельзя оставаться такой позавчерашней. Я даже кассеты в видак вставляю задом наперед. И я положила на уголок рукописи кусок чароита, который однажды нашла на дороге. Шла, шла, а под ногами – фиолетовый камень-чудо. «Возьми меня!» – сказал камень. А потом узналось – чароит с сибирской речки Чары. Как он попался мне на тротуаре в Москве? Но, взяв его в руки, чтоб прищемить угол, я поняла: не зря заворачивается рукопись. Отпусти ее дрейфовать в прибрежных водах фантазии, кто знает, может, обернется дева-географичка русалочкой и я найду ее, выброшенную на берег, лапочку мою хвостатую, и расскажу про ту самую расступившуюся степь.
И тут меня пронзило. Как же я буду понимать глубинные подмигивания компьютера и скумекаю, что он мне заворачивает уголочки? Поэтому мне нужен на столе камень, не важно, чароит он или какая каменная дворняга, но именно камень, а не диод с триодом, с которыми нет у меня общего языка, хоть застрелись. Даже лампочка Ильича мила мне, когда служит иначе – когда сидит в носке и сверкает в дырке… Мне хорошо с ней и уютно…
По всему тому, исходя из каменьев, степей и дырок в носке, я отвергла компьютер как предмет мне лично не подходящий. Одновременно я отвергла евроремонт и привычку есть лягушек в Париже. Ладно им всем! Единственное, что я могу сделать, – вдеть для понта в одно ухо серьгу. Но это тоже по обстоятельствам… Если уж очень приспичит.
А пока я отодвинула рукопись с завернутыми углами и вынесла принадлежащие ей вещи.
…Тетрадь по географии для пятого класса. Она, гуляющая по полю учительница, почему-то любила письменные работы. Например, мы писали сочинение про город К o нигсберг. Чтоб вы знали – это Калининград с 1946 го-да. Но писалось сочинение в сорок седьмом, и именно про К o нигсберг и о князе Радзивилле, и я получила двойку, потому что дважды написала К o нинсберг. Двойка была больше самого сочинения… Страстная, злая… Как напоморде. Откуда я могла знать, что географичка родом из тех краев и переименование ее возмутило, как бы отняв у нее вкус и запах детства. Отняли же у меня сейчас Украину… Мне, конечно, нравится ее самостийность, я ею горжусь, но меня напрягают малые с ружьем на ее границе. Ну, не люблю я ружье. И с ним этот оксюморон – «мирная цель». На границе я себя ощущаю.
В общем, стала я выкидывать географический скарб – и мало не показалось…
В возникшей пустоте гуляло, как хотело, эхо… Мне кто-то умный сказал, а я поверила, что природа не терпит пустоты, поэтому я стала ждать наполнения, чтоб в пустоте что-то завязалось. Вот тогда и появился в доме бидон, который стоит у меня на подоконнике и в котором зелено подкисает вода на случай отключения московского водопровода.
1
Я тогда тащилась по улице, а навстречу мне шла моя собственная дочь с этим самым бидоном. Во-первых, тут все совершенная фантастика, хотя все абсолютно достоверно. Я тащилась в старом смысле этого слова, в смысле еле-еле шла, едва передвигая ноги, а не пребывала в состоянии восторга (кайфа) или наслаждения. Я тащилась от усталости и обострения болезни коленной чашечки, а навстречу мне шла дочь. Красивая, молодая, раскрепощенная, а в руке несла бидон.
Надо ли описывать бидон? Не надо. Он известен.
Соединить в одно целое бидон и элегантную женщину в легких летящих одеждах, вкусно пахнущую то ли «пленэтюдом», то ли «проктер энд гемблом», невозможно, но это все невозможное идет мне навстречу. Пока я совмещаю в голове несовместимое, моя дочь с партизанским гиком кидается ко мне и всучивает мне бидон. Я понимаю, что девочка давно несла в себе мысль о несоответствии себя и бидона, и вручение мне бидона было идеальным выходом из положения: все-таки, что ни говори, он мне личил больше. Или там хорошо в меня вписался.
Вот в этот момент – допускаю – и началось сворачивание страниц на моем столе.
Недавно некий ведущий в телевизоре благостно-противным голосом объяснил нам, дуракам, что неправда, что стихи растут из сора, у него лично не так… Подтверждаю. Они, эти чудики, растут и из бидонов, и из больных коленок, они не ведают стыда ни от чего, потому что сам процесс рождения для них свят. Да ну его, ведущего… Главное – другое. Я стою и уже держу бидон.
– Ты знаешь, – кричит мне дочь, – у метро его продавала такая хрупкая, интеллигентная, печальная бабушка. Я отдала ей за него пятьдесят тысяч. Конечно, я переплатила. Но ты ведь меня понимаешь? Да?
Я молчу. Я слышу, как на шестнадцатом этаже моего жилья утихает эхо. И еще я перевожу пятьдесят тысяч на старые цены.
Это тяжелое заболевание – считать на несуществующие деньги, подавать тысячу и ждать сдачу, как с десяти.
Я понимаю, как они заходятся, придумщики нового счета, глядя на наши трясущиеся пальцы. Мы – как та батарея Тушина, про которую им хочется забыть.
С этим чувством я покупала билет в Ростов, где живет моя сестра Шура. Одна дама из Минкульта давным-давно объясняла мне научную силу «зигзага», петли в сторону. Когда все вываливалось из рук, мол, самое время купить билет. Я дала отбой панике и пошла покупать. У Шуры поспел день рождения, у меня душевный и всяческий кризис, черт знает что может получиться из коктейля нервов и радости.
Было еще одно. Полтора года назад, «до заворачивания углов», произошла трагедия, в которую я была глупо вляпана. Слова плохие, нетрагедийные, но ничего не поделаешь, именно так и было. Временами я винила ту беду за свои последующие неудачи, а потом била себя по башке за свинство таких мыслей.
Поездкой к Шуре я хотела изжить этот грех и просто убедиться, что жизнь идет своим чередом.
Поездка случилась тихая до противности. Разговоры переговорили быстро, пошли по новой, к старому никто не возвращался, а когда уже в пятый раз стали мусолить подлость коммунистов и свинство демократов, я поняла: надо бечь, чтоб не взрастить раздражение уже к Шуре, которую я нежно люблю, и не виновата она, что я нагрузила родственную поездку к ней подспудной задачей, а теперь, как дура, жду незнамо чего.
Тут и позвонила Фаля.
Полтора года тому мы с ней попрощались навсегда. Во всяком случае, я была в этом уверена. После такого горя, думала я, старуха не выживет. Хотя все это чепуха. Люди живут странно: они могут пройти через невозможные потери, а могут не пережить хамство соседа. В этой жизни количество горя не аргумент ни для чего…
Тем более что количество его и степень не имеют определения. Сразу скажу – смерть отдельного человека в тройку претендентов на лидерство по горю могла бы и не выйти. Ну что тут сделаешь? Такие мы.
– Сходи, – сказала Шура, – а то будет звонить и конючить…
Что-то во мне торкнулось, как будто ворохнулась живущая внутри птица. Но тут же все усмирилось, я вполне могла объяснить торканье причудами того полушария, которое отвечает за дурь и фантазию.
Была неловкость в том, что сама я Фале звонить не собиралась. Это говорит дурно обо мне, и только. Хотя и хотела посмотреть на то, «как стало». «Нечестно поступаешь», – сказала бы моя маленькая внучка. Так она определяет сверхплохое.
Нечестно.
– Господи! – говорит Шура. – Ну ничему нас жизнь не учит! Ничему! Иди уж к ней, иди! Ну что мы за неучи такие проклятые! Что мы за идиоты?
Митя начинается с этого ключевого слова.
Со слова бабушки:
– Митя, ты идиот!
Было у него замечательное качество: он покупал на базаре самое-пресамое не то – исключительно из чувства жалости к продавцу. Он приносил траченные жуками листья щавеля, червивые яблоки, тапки, сшитые на одну ногу, картины, нарисованные на еще неизвестном человечеству материале, он покупал рассыпающиеся мониста – одним словом, все, что было «нэа тебе, Боже, что мне не гоже».
– Такая старенькая бабуля, – оправдывался он. После чего моя бабушка произносила безнадежное:
– Идиот ты, Митя! Круглый!
То, что в моей дочери однажды вдруг взбрыкнул дяди Митин ген и она купила ненужный бидон, вся ошеломительность такой возможности, конечно, отбросила меня на десятки лет назад.
– Знаешь, – сказала я, – у тебя был родственник, который очень хорошо бы тебя понял. Митя… Да я, по-моему, тебе рассказывала…
Дочь делает поворот кругом.
– Мама! – кричит она. – Я забыла. Мне в другую сторону!
Ну конечно… Она «сдала» мне бидон. А мои истории ей даром не нужны.
Я его несу. Я несу бидон, как беременность… Время расступилось… Я запросто вошла во вчерашние воды. Какой дурак сказал, что это невозможно?
Моя мама пикантная женщина. Она рисует себе на левой щеке мушку. Ступленный огрызок черного карандаша лежит в саше. Я подставляю табуретку, достаю карандаш и рисую на щеке нечто черное и жирное. Потом беру помаду и щиро, от души малюю себе рот. (Из меня так и прут украинизмы детства, которые можно вырвать только с кровью. Так вот, «щиро» – это щедро, если хотите – жирно.) Оторваться от такой красоты невозможно, и я увеличиваю ее в объеме. И понимаю невозможность остановиться, ибо красоты никогда не может быть достаточно.
Потом это во мне и осталось: все, что я делаю в первый раз, я делаю «густо намазанным». Первую увиденную дыню я съела одна – не могла удержаться. И ненавижу с тех пор дыни. Когда-нибудь я напишу «Историю первого раза». Но это я сделаю потом, а пока я на табуретке и нечеловечески прекрасна. Глаз от себя не оторвать. Такую красоту нельзя таить, ее надо предъявить человечеству.
Счастливо выдохнув, я слезаю с табуретки и иду в люди.
На крылечке стоит вусмерть выкрашенное дитя. Я вижу восторг (или ужас?) мамы и бабушки и то, как они с криком бегут ко мне, а наперерез им бросается Митя. Он хватает меня за руки, сажает на плечи и уносит вдаль. Я получаю главный женский опыт. Сверхсчастье – быть красивой и уносимой на руках мужчиной.
Как все помнится! Как чувствуется! Я знаю точно: женское в девочке есть сразу.
В конце сада стоит ржавая бочка с дождевой водой. Митя подносит меня к водяному зеркалу: в нем я выгляжу еще лучше! Я смотрю, замерев от восторга, а Митя мне шепчет, что надо умыться, чтоб не украл упырь, он на красоту падкий, хорошенькие девочки – это ему самый цимес.
«Цимес» я понимаю. Поднеся деревянную ложку ко рту с борщевой жижей, бабушка причмокивает и говорит: «Цимес!» Так и упырь причмокнет, глядя на меня.
Я замираю над строчкой. Я должна разобраться. Звоню одной из своих умных подруг:
– Слушай, а цимес – это что?
– Изюм, – отвечает она.
Она у меня девушка без сомнений, поэтому ее надо обязательно перепроверять. Звоню другой.
– Курага, – отвечает другая, очень осведомленная в искусствах и науках.
То-то и плохо. Осведомленные врут больше всех.
– Выпаренный сок цитрусовых, – говорит третья, тоже из горнего мира литератур.
Я нажимаю на виски. «Виски! – говорю я им. – Тут что-то не так…» – «Конечно, – вспоминают виски. – Цимес – что-то совсем нелепое».
Ночью мне приснилась морковка, желтая, корявая, с невкусной зеленоватой сердцевиной. «Я – то самое слово!» – сказала она. И это была правда.
К чему этот пируэт? К тому, что ни бабушка, ни Митя тоже не знали про морковку. Что лишний раз доказывает, что все мы – чертовы идеалисты и наше глупое сознание придумывает, что хочет, и часто то, чего на свете нет вообще. Этим мы и отличаемся. Я даже подозреваю, что платье датскому королю шили русские заезжие портные. И они видели это платье, видели, черт возьми, на самом деле! А датский мальчик как раз был из местных, и у него был другой глаз, совсем другой. Дамский глаз. Он бы сроду не дал старому слову нового содержания, сроду!
Ну да ладно… Просто грешно было не объясниться наконец по поводу слова «цимес».
А теперь едем дальше, то есть совсем наоборот: вперед назад!
Мы с Митей взбаламучивали воду в бочке в четыре руки, мы смывали мою неземную красоту, чтоб не досталась она упырю. Носовым платком Митя довершает превращение красоты в обыкновенность, вытирая разводы помады под моим носом. Потом смотрит на пропащий платок и говорит:
– Ты свидетель! Это не то, что люди подумают!
Я понимаю: они подумают про Ольку.
Олька, большая, рыжая, делает уколы и пахнет болью. Возможно, она упырь… А Митя не догадывается. Я тут же начинаю плакать, а он качает меня на руках:
– Птица ты моя, птица…
В меня входит тоненькая игла – опыт женского счастья: утешающий, любящий мужчина.
Митя – странный, вневременной человек.
Он родился у старой, сорокапятилетней женщины, моей прабабушки, которая была убеждена, что у нее «краски ушли», то есть кончилась менструация. Она считала, что полнеет по этой причине. Что живот у нее «возрастной». А Митя возьми и выбулькни. К этому времени моя бабушка носила младшую мамину сестру Зою. Бабушка была в напряженных отношениях со своей матерью, потому что та в сумятице двадцатых годов, будучи уже пожилой дамой, спрыгнула с семейного поезда к молодому маркшейдеру, потом ободранной кошкой вернулась в стойло, муж принял ее кротко и радостно, но моя бабушка никогда не могла ей этого простить. Митя родился много позже истории с маркшейдером, след его давно остыл, но старую беременность матери – своей матери – бабушка каким-то причудливым образом связывала с ее грехом. «Все должно быть в свой час, но идиот может сбить свое время», – говорила она.
Митя – результат сбитого времени.
У пожилой матери не было молока, бабушка, родившая тетю Зою, кормила сразу двух младенцев. Собственная дочь и это «черт-те что». Маленькэ, худенькэ, страшненькэ…
Головку Митя не держал, вес не набирал, глазками не лупал… Знакомая акушерка, взяв Митю за мошонку, сказала, что он вообще неполноценный. «Нема, – сказала, – в йом мужеского».
Я думаю, эти слова – как и слово «идиот» – были ключевыми. Откуда нам знать, как запускается в нас мотор выживания, но ключ где-то есть, обязательно есть! Некие силы, которые клубились возле хилого тельца и отвечали за «быть или не быть», были оскорблены этим хамским хватанием ребенка за деликатное место. А если тебе – в смысле акушерке – залезть под юбку и смыкнуть за шерсть, хорошо тебе будет? Возмутительно так обращаться с младенцем! И они – силы! – сделали что-то только им известное и раскочегарили Митину печку. Хлопчик пошел в рост, бабушка, уверенная, что сила была в ее молоке, полюбила свое творение нечеловеческой любовью и уже несколько критически смотрела на свою собственную дочь, которая оказалась неспособной употребить на пользу замечательное кормление. И коротконога. И «агу-агу» только с третьего раза понимает. И вообще…
А Митя так и рос у двух матерей. Перекормленный любовью, он сам раздавал ее направо и налево, никого не обходил: ни нищего, ни собаку, ни муху меж стекол, ни траву-лебеду.
– Закохали, – с осуждением говорила моя мама. – Занянчили… Так нельзя.
Весной сорок первого у Мити на освидетельствовании в военкомате нашли каверну. Я хорошо помню панику в доме, отчаяние, ужас. Видимо, поэтому я не помню начала войны. Мне его подробно описала моя младшая сестра Шура, удивляясь моей невнимательности к такого рода событиям. Я ей объясняла, что с ужасом ждала смерти Мити. В доме тогда снова появилась та самая акушерка (а может, она всегда приходила?), она была глубоко удовлетворена точностью своего дальнобойного прогноза.
– Я ж помню его нежизнеспособную мошонку, – говорила она, – я мальчиков проверяю исключительно так! У меня в пальцах есть опыт.
– Лида! Перестаньте! – кричала бабушка. – При чем тут это? Мошонка, видите ли!.. У него каверна… Это, Лида, совсем в другом месте, чтоб вы знали. Вы принесли столетник?
– А я вам говорю – у мальчиков там все записано! И про каверну тоже. Вот ваш столетник… Мне, что ли, жалко?..
Я дала себе слово: умереть вместе с Митей. Я видела себя лежащей с ним в одном гробу, с белым веночком на голове. Я ложилась на диван напротив трюмо и складывала руки. Сгорбленные на груди косточки пальцев вызывали во мне невероятную к себе жалость. Трудно было удержаться от слез по своей рано загубленной жизни, все-таки лет почти нет, Митя, тот хоть успел прожить почти двадцать – можно сказать, вполне долгая жизнь. А тут совсем ничего…
Я мучаюсь, я страдаю… Я пропускаю, не заметив начала войны. Видимо, здесь и взошли всходы моего индивидуализма, а также и его крайней формы – солипсизма.
Для Митиного лечения был куплен собачий жир – вдобавок к толстомясому алоэ Лиды. Бабушка варганила смесь по имени «Смерть палочке Коха».
Митя тогда работал после техникума на железной дороге, снимал угол у дальних родственников на узловой станции Никитовка. Узнав о его болезни, хозяева отказали ему в жилье, и Митя, взяв баночку собачьего жира, стал собираться в Ростов, где его должны были положить на поддувание в туберкулезную больницу.
Помню день отъезда. Плач и голос мамы и бабушки, приход Ольки, которая подала Мите для прощального поцелуя краешек уха, а потом все оттирала его и оттирала носовым платком. Помню, как подставили Мите мою голову и он, прикусив мне легонько волосы, сказал:
– Я залатаю эту дырку, птица!
Уже уехала подвода, а они выли над Митей, как над покойником, бабушка и мама. И зря.
Как потом выяснилось, поцеловав меня в макушку, Митя сел в поезд по ходу движения, поэтому успел увидеть (а мог ведь, дурачок, сесть к дороге спиной), как колготится на перроне молодая женщина с узлами и чемоданами, норовя ухватить их все сразу. Митя – как Митя – рванулся человеку на выручку, втащил ее в вагон, да еще к себе в купе и поехал с девушкой со странным именем Фаля навстречу поддуванию, войне, судьбе и, можно даже сказать высокопарно, – смерти.
Я, уже сейчас, полезла в разные справочники, чтоб понять, откуда у нее это имя – Фаля Ивановна. Я ведь ее поначалу звала Валей, пока она, не изломив бровь и не отведя меня в сторону, не объяснила мне, что она – Фаля… «Фэ»…
Я почувствовала ее раздражение не только в изломленной брови, но и в наклоне ее прямой спины ко мне. Откуда ей, Фале, было знать, какой необыкновенной красавицей казалась она мне, как мечтала я, выросши, быть на нее похожей, как заворачивала я свои прямые лохмы за уши, чтоб обузить свое скуластое лицо, как втягивала внутрь щеки и стучала себя по челюсти: это же надо иметь такие широкие зубы! Тогда как у Ф(Фэ!)али во рту росли белоснежные дынные семечки, мелкие, продолговатые и такие плотненькие, что не заковыряешь никакой спичкой. Когда я бывала одна, я училась четко произносить букву «Фэ», чтоб даже в быстрой речи она ненароком не выскочила из меня вэ-звуком.