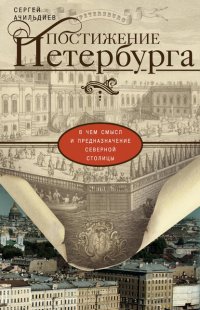
Читать онлайн Постижение Петербурга. В чем смысл и предназначение Северной столицы бесплатно
- Все книги автора: Сергей Ачильдиев
Постижение Петербурга
В гостах у Раскольникова
Из тяжёлых, подпираемых крышами туч сеет мелкий дождичек. Резкие порывы ветра пронизывают насквозь. Температура – чуть выше нуля, влажность – под сто процентов. Идёшь, словно по дну моря. Нормальная питерская погодка…
В преддверии трёхсотлетнего юбилея города старую Сенную площадь, чрево Питера, уже начали теснить новомодные торговые павильоны с затемнёнными стёклами. Но пока здесь по-прежнему кишит народ: крикливые цыганки и небритые кавказцы, интеллигенты с пудовыми кошёлками и тихие старушки с вязаными шерстяными носками по двадцатке, бомжи и приблудные собаки. Кто продаёт, кто покупает, кто надеется на милостыню, а кто просто норовит стянуть, что плохо лежит.
Выбираюсь из этой толчеи к переулку Гривцова. Изначально он именовался Конным, и в «Преступлении и наказании» обозначен как «К-ный». А значит, вот оно, то самое место: здесь, ««у самого К-ного переулка, на углу», Раскольников случайно услыхал разговор, из которого понял, что ««завтра, ровно в семь вечера», Алёна Ивановна, знакомая ему старуха-процентщица, ««останется дома одна».
В сотне шагов – мост через канал Грибоедова, бывший Екатерининский. В романе он упоминается неоднократно и всякий раз презрительно – «канава». С тех пор вода стала чуть чище, мальчишки даже ловят в ней рыбу. Но, говорят, этот улов не едят даже кошки.
Сразу за мостом поворот налево: Гражданская улица (бывшая Средняя Мещанская) – узкая, тихая и чистенькая, впритык уставленная теми же четырёх-пятиэтажными домами.
Вот и пересечение Гражданской со Столярным переулком, а на нём то самое здание, известное как «дом Раскольникова». Тесная подворотня, на редкость ухоженный двор и ничем не приметная дверь в первый правый подъезд. Внутри – узкая крутая лестница. Тут же на стене аккуратно выведено фломастером: ««Вперёд к Роде!», – и стрелка вверх.
Медленно одолеваю первый пролёт, второй, третий… С каждым этажом надписей на стенах всё больше. На четвёртом они уже наползают друг на друга.
Самое распространённое – объяснения в любви:
««Родя – ты прикольный чел.!»;
««Хоть я не фанатка Достоевского, но я люблю тебя, Родя! Инна, 10-а»;
««Пусть всегда будет Родя!»;
Ему, кумиру, здесь адресованы целые лирические послания:
««Родя! Это место твой храм…Мы поставим свечку в твоём храме. Свеча погаснет, но её свет останется в нас. Он вечен, как вечна жизнь. Ты бессмертен»;
«За ни за что тебе спасибо,
за ни за что тебе, мой друг.
И, словно тень, проходит мимо
волнобаржовый бороздюк! Морозный. Псков».
Есть и явные следы молодёжной агрессивности:
«Бей старух, спасай Россию!»;
«Родя, убей мою соседку!!! P S. Пожалуйста».
Рядом краткие философские эссе:
«Родя! Ты не её убил, а себя! Мурка, Ann, М.-О.»;
«Раскольников тоже не знал, зачем он шёл к Сонечке – ему нужны были её слёзы… Маша»;
«Дорогой мой Родя! Ты – дурак! И зачем, зачем ты сделал это?! Но ты выстрадал – и этим возродился… Твои Наташа и Катя!»;
«Родя, не обманывай себя, ведь ты любишь смерть, я тоже её люблю» (ниже приписка: «Ну и дурак»).
Наконец, под самой крышей, – низкая дверь. Та самая, за которой в каморке, более походившей на шкаф, обитал Родион Раскольников. К этой двери ведут тринадцать ступеней, отделяющие каморку от последнего, четвёртого этажа. Сразу вспомнилось: «Он… прислушался, схватил шляпу и стал сходить свои тринадцать ступеней». Справа от косяка старательно выведено белой краской: «Ждите меня, и я вернусь. Вернусь однозначно! Родя».
Берусь за дверную ручку и осторожно тяну на себя. Нет ни каморки, ни «трёх старых стульев, не совсем исправных», ни «крашеного стола в углу», ни «неуклюжей большой софы». Только укрытый полуистлевшими тряпками полосатый матрас, пустая водочная бутылка, пара грязных тарелок и уходящий куда-то вдаль засиженный голубями чердак: бомжеубежище.
В этот момент на четвёртом этаже – где жила хозяйка, у которой квартировал Раскольников, – щёлкает дверной замок, и передо мной возникает строгая старуха в видавшем виды плаще и шляпке «были и мы молодыми».
– Тоже гадости малюешь?! – вопрошает она, грозно стукнув длинным зонтом об каменный пол.
– Да нет, я только читаю.
– Нашёл, что читать! Глупости всякие, особенно про старух. Страшный дом, и жить тут страшно. Вон моя внучечка, начиталась да пошла на меня с топором. «Хочу, – кричит, – жить одна!». А чем мы, старухи, вам помешали? Дотягиваем своё в нищете. Пенсия такая – без топора помрёшь!..
И она ползёт вниз, кляня дороговизну, дурацкие надписи на стенах и современную молодёжь. С каждым пролётом лестницы стук каблуков и зонтика всё глуше. Потом где-то внизу бабахает входная дверь на тугой пружине, и лестница снова затихает. Только муха, жужжа, бьётся в оконное стекло…
Петербург – город, как известно, мистический. Ещё Гоголю здесь примерещился нос, разгуливающий сам по себе, Блоку – «Христос в белом венчике из роз», по Михайловскому замку, говорят, и теперь время от времени бродит, скрипя паркетом и тяжко вздыхая, призрак императора Павла… И тем не менее, кто мне поверит, расскажи я про эту старуху и её внучку, которая, живя в «доме Раскольникова», ринулась на родную бабушку с топором? Я бы не поверил, сказал бы: выдумки! Потому что сам не знал, как объяснить столь частые, но всегда такие удивительные столкновения петербургского прошлого с настоящим, реального с вымышленным…
Спускаюсь вниз и сворачиваю в подворотню. Справа в стене, несколькими ступеньками ниже асфальта, чернеет дверь. Та самая – в старую дворницкую, тоже чуть приоткрытая, как и тогда, когда подворотню миновал Раскольников, направляясь к Алёне Ивановне. Но я уже не проверяю, лежит ли там по-прежнему топор под лавкой, и выскакиваю на улицу.
Дождь перестал, ветер утих. Стало почти темно, однако фонари пока не зажигали. В вечерней мгле всё кажется ещё более призрачным, размытым, ирреальным. Возвращаюсь на Сенную и шагаю по Садовой в сторону Невского…
А на следующий день отправляюсь в библиотеку, и начинается новое путешествие – по научным трактатам, мемуарам, трёхвековой художественной литературе города. И постепенно петербургский материк вырастает передо мной во всём своём трагедийном величии. Город-счастливец и город-страдалец. Город грандиозных замыслов и несбывшихся надежд. Город немеркнущего мужества и позорного безволия. Неповторимый в своём историческом центре и заурядный в спальных районах. Богатый и бедный. Независимо-строптивый и покорно-послушный. Любимый и проклинаемый…
Шаг за шагом неясное и загадочное становилось – во всяком случае, так мне чудилось – ясным. И тогда появлялись отдельные заметки, цитаты, и размышления складывались в очерки. Но тут же вырастали новые вопросы, и вновь надо было отыскивать тропки в этом тёмном, топком лесу, пытаясь понять причинноследственную связь событий, неожиданность исторических метаморфоз, игру человеческих судеб и поступков.
Наконец, книга вроде бы сложилась. Оставалось отнести её в издательство. Но, перечитав написанное, я с ужасом убедился, что до окончания работы ещё очень далеко. Слишком многое осталось невыясненным, недосказанным, необъяснённым… И тогда стали возникать новые главки и очерки.
Так продолжалось до тех пор, пока я, в конце концов, не понял: написать эту книгу до конца невозможно. Потому что постижение Петербурга может быть только процессом, таким же огромным и нескончаемым, как сам город. И авторская цель вовсе не в том, чтобы отыскать ответы на все вопросы. Она гораздо скромней – чтобы будущий читатель стал соавтором этих заметок.
… Книга вышла в конце 2006 года. Она получила немало положительных откликов. Но были и отрицательные. И я им тоже был по-своему рад: значит, моя работа не оставила читателей равнодушными. Причём интерес к книге не угасал даже после того, как весь тираж давно разошёлся. Кто-то просил почитать авторский экземпляр, кто-то отыскал текст в Интернете, кто-то спрашивал, где можно купить книгу в бумажном варианте…
Но главное – читатели интересовались, почему я ничего не написал про такую-то эпоху, про таких-то знаменитостей и про такую-то коллизию в истории Петербурга, и мне нечего было ответить, потому что читатели были правы. Тем более я и сам уже подумывал о том, чтобы вернуться к этой книжке. И потихоньку даже начал собирать материал и размышлять над некоторыми темами. И чем дальше, тем больше захватывала меня эта работа. Может быть, даже сильнее, чем в первый раз.
Так родился новый вариант книги. Последний ли? Бог весть…
Месте гения
Александр Вагин
- В минувшее гляжу… Так из окна,
- Что в комнате на верхнем этаже,
- глядят во двор-колодец: мутный взгляд
- летит, вертясь, цепляясь за карнизы,
- туда, туда – где мусорные баки,
- заплёванные крышки водостоков,
- исхоженный, измученный асфальт
- и редкие случайные шаги…
Одна из самых трудных загадок, которые хранит Петербург, – что считать его божеством, духом-хранителем, genius loci?
Как только ни называли этот город!
Фёдор Головин, один из сподвижников Петра I, нарёк едва народившийся городок на Неве Петрополем [12. С. 88]. Потом, очень скоро, появилось новое имя, тут же ставшее официальным, – Санктпитербурх. Первая часть – из латыни, вторая и третья – из голландского. И нет ничего удивительного, что народ сразу и навсегда сократил сей заковыристый триптих до простого и общепонятного – Питер. Именно так: на голландский манер. Потому что в ту пору учителями были голландцы, да и сам Пётр с удовольствием откликался на «Питера». Когда и почему произошла перелицовка в немецкий «Санкт-Петербург», неизвестно до сих пор. Можно только догадываться, что самим жителям вся эта иностранщина была не очень-то по сердцу. Частенько они всё же называли город чисто по-русски: Петроград. Помните, у Пушкина в «Медном всаднике»: «Над омрачённым Петроградом / Дышал ноябрь осенним хладом» [16. Т. 4. С. 384]?
Кроме того, многие ещё при жизни царя-основателя обходились без всякого «Санкт», словно запамятовав, что новая столица поименована в честь апостола, а вовсе не царя Петра. Что ж, дело понятное – до святого далеко, а до государя, который разгуливает по городским стройкам с увесистой палкой, – ох, как близко. К тому же сам царь, с присущей ему скромностью, на забвение святости имени города никому не пенял.
Спустя 211 лет после рождения, 18 августа 1914 года, в антинемецком угаре в связи с начавшейся войной Санкт-Петербург – по инициативе Николая II – был переименован в Петроград. Решение славянизировать имя столицы было сущей нелепостью. Ведь воевать взялись не с немецким языком и даже не с немецким народом, а с германским государством (кстати, в ту войну, соблюдая полную, как сказали бы сейчас, политкорректность, противника именовали – и официально, и в уличной толпе – не немцем, а именно германцем). Но главное – город, таким образом, лишался своего небесного покровителя. И уж совсем было обидно, что новое название ставило северную столицу в один ряд с Елисаветградом (Херсонской губ.), Константиноградом (Полтавской губ.), Новоградом (Волынской губ.), Павлоградом (Екатеринославской губ.)…
Многие горожане, обладавшие иммунитетом против националистической бациллы, выражали недовольство сменой имени столицы. Художник Константин Сомов называл это позором [19. С. 10]. Александр Бенуа часто повторял, что это наименее простительная ошибка из всех многочисленных ошибок Николая II, ибо она – «измена Петербургу» [8. С. 320]. Даже некоторые представители самой власти были против инициативы царя. Бывший министр народного просвещения, а в ту пору петербургский голова Иван Толстой записал в личном дневнике: «Такого рода шовинизм мне совсем не нравится, являясь довольно печальным предзнаменованием…» [9. С. 189].
Однако недаром подмечено, что чехарда с переименованиями – одна из любимых русских забав. Всего через два дня после смерти первого большевистского вождя, 26 января 1924 года, по решению II Всесоюзного съезда Советов город получил новое официальное имя: Ленинград. Именной ряд выстраивался явно по нисходящей: от святого – к помазаннику Божьему, а от него – и вовсе к политическому деятелю с сомнительной репутацией. Но в стране воинствующего атеизма это уже мало кто замечал. Новый угар, вождистского фанатизма, туманил головы. Причём настолько, что даже «некоторые ретивые цензоры требовали переименовать петрографию в ленинграфию…» [15. С. 318].
Справедливость восторжествовала только 6 сентября 1991 года, когда в результате городского референдума Ленинград, наконец, снова стал Санкт-Петербургом.
Параллельные заметки. Кстати, по-разному называли этот город не только в самой России, но нередко и за рубежом. Историк Михаил Талалай отмечает, что до сих пор «греки называют наш город Петрополь (точнее, Агия-Петрополис), чехи со словаками – Петрохрад (без приставки Свято-), финны – Пиетари» [20. С. 254].
Впрочем, метафорических названий у города было намного больше.
Пётр I любовно сравнивал своё детище с «парадизом», раем земным. Кроме того, царь частенько величал юную столицу то «северным Амстердамом», то «северной Венецией». В таких ассоциациях для него раскрывались две важнейшие ипостаси будущего города – функциональная и архитектурная: новая столица России должна была вырасти в крупнейший порт и стоять на реках и каналах. Обычно все деспоты – великие мечтатели, и невский мечтатель мало чем отличался от своего кремлёвского наследника.
При Екатерине II столицу стали вдобавок называть «Северной Пальмирой», намекая тем самым на сравнение российской императрицы с прославленной Зиновией, властительницей древней сирийской Пальмиры, которая противостояла всесильному Риму.
Однако гордая мечта основателей и первостроителей Петербурга в дальнейшем кое-кому стала казаться одним из проявлений пресловутого русского квасного патриотизма, стремлением заткнуть за пояс весь мир, а потому все эти величественные эпитеты они заменили ироничным: «северная вторичность». В частности, Александр Герцен с насмешкой утверждал, что «…Петербург тем и отличается от всех городов европейских, что он на все похож…» [10. Т. 2. С. 392].
Поэты любили именовать Петербург «Петрополем» или «Петрополисом» (от греч. petros – камень, polis – город). Захватившие власть коммунисты – «городом Ленина» и «колыбелью революции». Журналисты, уже на моей памяти, – «великим городом с областной судьбой». Наконец, на исходе ХХ века первый президент России Борис Ельцин подписал указ о присвоении Петербургу звания «культурной столицы». Но чего в таком статусе оказалось больше – уважения или горестной насмешки, – понять было трудно, ведь почти все ведущие центры культуры, а также большинство выдающихся деятелей на этом поприще давно находились в Москве.
Собрание определений, которые когда-либо давали Петербургу, настолько обширно, а главное, разношёрстно, что подчас даже не верится, будто всё это сказано об одном и том же городе. Николай Карамзин называл Петербург «блестящей ошибкой», Тарас Шевченко – «городом-упырём», Фёдор Достоевский – «умышленным», «самым угрюмым» и «самым фантастическим из всех городов земного шара», Константин Аксаков – «памятником насилья», Николай Некрасов – «роковым», Александр Блок – «неуловимым», Николай Бердяев – «катастрофическим», Николай Агнивцев – «гранитным барином», «блистательным» и «странным».
Ещё говорили: «город-выскочка», «город-декорация», «город-театр», «город-компиляция», «город-Вавилон» и, наконец, «четвёртый Рим» (в противовес Москве – «третьему Риму»).
В народе Питер «любовно» именовали «полковой канцелярией», «чиновничьим департаментом»; говорили: «Питер все бока вытер», «Кому город, а кому и ворог»…
* * *
Какофония названий и прозвищ отражала не только переменчивый российский политический климат да наш особый талант выдумывать всякие клички, но также неуловимость сущности этого города, неустанную попытку его разгадать.
Петербургское краеведение можно смело назвать ровесником самого города. Ещё в 1704 году вместе с пятью сотнями моряков, которые были завербованы в Нидерландах для строящихся русских кораблей, на берега Невы прибыл флотский капеллан Вильгельм Толле. Став духовным отцом лютеранской общины города, он вскоре первым взялся за систематическое изучение местной природы, этнографии, истории, и не только у себя в кабинете, но также на местности – в частности, собирал ботанические коллекции на Островах и проводил археологические раскопки в Старой Ладоге [14. С. 58].
К тем же, первым годам существования Петербурга, когда он был ещё крепостью, относится и одно из первых его изображений. Правда, сделано оно было не краеведами, а противниками-шведами, которые создали «План основания крепости и города С.-Петербурга в 1703–1705 гг.». «В пояснительном тексте приводится сообщение шведского генерал-лейтенанта И.Г. Майделя от 24 июля 1704 г.: “Петербург очень хорошо основан и укреплён; его положение таково, что он может стать одновременно и сильной крепостью, и процветающим торговым городом; если царь сохранит его в течение нескольких лет, то его власть на море станет значительной"» [5. С. 46]. Подлинник этого документа до сих пор хранится в Швеции.
В дальнейшем традиции петербургского краеведения развивали Антиох Кантемир («Описание Кронштадта и Петербурга», 1738), Андрей Богданов («Историческое, географическое и топографическое описание Санктпетербурга от начала заведения его по 1751 год», 1779), Иоганн Георги («Описание российско-императорского города Санктпетербурга и достопамятностей в окрестностях оного», 1794), Ф. Шрёдер («Новейший путеводитель по Санктпетербургу», 1820), Павел Свиньин («Достопамятности Санкт-Петербурга», публиковались отдельными выпусками с 1816 по 1828 год и были иллюстрированы гравюрами С. Галанскова по рисункам самого автора), Александр Башуцкий («Панорама Санктпетербурга», 1834), Иван Пушкарёв («Исторический указатель достопамятностей Петербурга», 1846), Владимир Михневич («Петербург весь на ладони», 1874) и многие другие.
Особое место в исторической петербургиане, несомненно, занимают труды Михаила Пыляева, прежде всего его «Старый Петербург» (1887) и «Забытое прошлое окрестностей Петербурга» (1889), а также книги Петра Столпянского «Петербург. Как возник, основался и рос Санкт-Питер-Бурх» (1918), «Петропавловская крепость» (1923), «Музыка в старом Петербурге» (1926) и другие (к сожалению, хранящийся в Российской национальной библиотеке огромный архив исследователя, включающий, в частности, свыше миллиона библиографических карточек, до сих пор доступен только узкому кругу специалистов).
Зарождавшийся на рубеже ХХ века российский «серебряный век» сразу обрёл явно выраженный петербургский акцент. Причём выразилось это не только в искусстве, но и в краеведении, которое благодаря работам мирискусников – прежде всего Александра Бенуа, Игоря Грабаря, Мстислава Добужинского, а также их младших современников, в частности, Георгия Лукомского и Владимира Курбатова, – поднялось на уровень поиска петербургской самоидентификации.
Но расцветом петербурговедения, его «золотым десятилетием» по праву считаются конец 1910-х – 1920-е годы. Причём, как это нередко бывало в России, не благодаря сложившимся условиям, а вопреки им. В те годы Петроград, вместе со всей Россией, переживал культурную катастрофу: подозрение, а зачастую и прямое обвинение в политической неблагонадёжности, закрытие частных учебных заведений, падение или полное отсутствие спроса на такие отрасли гуманитарных знаний, как история религии и церкви, медиевистика и востоковедение, философия и история философских знаний, – всё это лишило работы многих высококвалифицированных специалистов. Значительная часть гуманитарной интеллигенции бывшей столицы оказалась вытесненной на обочину интеллектуальной и общественной жизни. И петербурговедение явилось для неё той отдушиной, где она ещё могла применить свои знания и творческую активность. В этой новой реальности «экскурсионный институт и общество “Старый Петербург" стали методическими центрами для всей России» [13. С. 25].
Именно тогда началось научное осознание петербургского социально-урбанистического феномена. Иван Гревс, крупный специалист по истории античного мира и Средневековья, ввёл в отечественную науку «определение города как личности…новое понимание города как системы, исторически сложившейся “целокупности”. Главное – не архитектурные шедевры, не монументы, не ландшафты. Главное – соединение, слияние, взаимодействие и взаимопроникновение всего того, что определяет влияющую на людей их жизненную среду.» [6. С. 136].
Иван Гревс, его товарищи и последователи, опираясь на исторические факты, поставили принципиально новые вопросы, превратившие краеведение в научную дисциплину. В чём глубинный смысл и высшее предназначение Петербурга? Зачем он был основан и почему именно здесь? Какова его роль для России и каково его место в Европе и мире? Как со временем трансформировались образ, характер и стиль этого города? Какой на протяжении разных эпох представала северная столица в литературе, живописи, музыке и какой видели её сами жители? Каким, наконец, видится будущее Петербурга?..
* * *
Пожалуй, один из самых сложных вопросов, на которые вот уже почти сто лет пытается дать ответ петербурговедение, – вопрос о гении места, божестве, духе-хранителе Санкт-Петербурга: genius loci.
Понятие это уходит в глубину тысячелетий, когда религия ещё не знала не только монобожия, но и кровавых жертвоприношений. В те незапамятные времена божеству места люди приносили цветы и делали возлияния вином и молоком. В Петербурге таким местом многие считают воздвигнутый в 1782 году памятник Петру I работы Этьена Фальконе. Вино и молоко, само собой, никто к подножию памятника никогда не приносил, но цветы у гром-камня и нынче можно увидеть даже в лютые морозы. В городе давно бытует легенда, согласно которой северная столица будет жить до тех пор, пока восседает на бронзовом коне её основатель.
Однако Николай Анциферов, один из учеников Гревса, тоже считавший, что питерский гений места – Медный всадник, откровенно признавал: «…описать этот genius loci Петербурга сколько-нибудь точно – задача совершенно невыполнимая» [3. С. 31]. Ничего удивительного, ведь в трактовке монумента – как, впрочем, и в трактовке самой исторической фигуры Петра – всегда существовало два прямо противоположных мнения.
Одно – официально-державное. «Крутизна горы суть препятствия, кои Пётр имел, производя в действо свои намерения, – писал Александр Радищев другу в Тобольск сразу после торжества по случаю открытия памятника, – змея, в пути лежащая, коварство и злоба, искавшие кончины его за введение новых нравов; древняя одежда, звериная кожа и весь простой убор коня и всадника суть простые и грубые нравы и непросвещение, кои Пётр нашёл в народе, который он преобразовать вознамерился; глава, лаврами венчанная, победитель бо был прежде нежели законодатель; вид мужественный и мощный и крепость преобразователя; простёртая рука покровительствующая… и взор весёлый суть внутреннее ускорение достигшия цели, и рука простёртая являет, что крепкия муж, все стремлению его противившиеся пороки, покров свой даёт всем, чадами его называющимся» [17. С. 12–13]. Трудно сказать, в какой степени сам Радищев верил в такую трактовку. Вполне возможно, он просто больше верил в любопытство отечественных почтмейстеров, а потому в письме постарался «отгадать мысли творца» в полном соответствии с тем, как их отгадывала Екатерина II. И тем не менее, не удержавшись, одну оговорку допустил: «победитель бо был прежде нежели законодатель», – явный намёк на то, что первый император чуть не ежедневно писал свои указы, но к законодательству в общепринятом понятии они не имели никакого отношения.
Городские легенды – кстати, первые появились ещё задолго до открытия памятника – объясняли монумент основателю Петербурга совсем по-иному. В одних случаях говорилось, что царь «за один скок» дважды перепрыгивал через Неву на своём коне, а на третий раз навеки замер. В других – будто Петра удержала змея, обвившая ноги коня. А в иных – что таким образом Бог наказал императора за гордыню. В 1815 году Алексей Мерзляков интерпретировал эти легенды так:
- На пламенном коне, как некий бог, летит:
- Объемлют взоры всё, и длань повелевает;
- Вражды, коварства змей, растоптан, умирает;
- Бездушная скала приемлет жизнь и вид,
- И росс бы совершён был новых дней в начале,
- Но смертьрекла Петру: ««Стой! ты не бог, – не дале!» [1. С. 56].
В 1859 году ещё критичней высказался Николай Щербина, кстати, не какой-нибудь там нигилист, а крупный чиновник Министерства внутренних дел:
- Нет, не змия Всадник медный
- Растоптал, стремясь вперёд, —
- Растоптал народ наш бедный,
- Растоптал простой народ [2. С. 167].
Немало было и прочих авторов, видевших в Медном всаднике исключительно олицетворение тёмных сил, бед и гибельного ужаса. Писатель-символист Евгений Иванов утверждал: «…он силён, как Смерть – чёрен, как бездна» [11. С. 311]. Архитектор и теоретик искусства Давид Аркин считал: «…пусть голова Змея придавлена копытом Петрова коня. – он жив и делит со Всадником владычество над городом» [4. С. 361].
Сам Александр Сергеевич Пушкин, непререкаемый гений, не мог со всей определённостью разобраться, что за смысл скрывается в великом изваянии:
- Какая дума на челе!
- Какая сила в нём сокрыта!
- А в сём коне какой огонь!
- Куда ты скачешь, гордый конь,
- И где опустишь ты копыта? [16. Т. 4. С. 395].
Три восклицательных знака и всего один вопросительный, однако в действительности в этих пяти строках, которые сегодня знает каждый школьник, – сплошные вопросы. О чём же дума царя? Какая таится в нём сила? Куда он несётся и где остановится? Автор не даёт читателю ни единого ответа. Лишь в предыдущей строке – «Ужасен он в окрестной мгле!» – содержится своего рода перекличка с двустрочием из «Полтавы»: «… Лик его ужасен. / Движенья быстры. Он прекрасен.» [Там же. С. 296]. Словно намёк на двойственность образа первого российского императора, которая навсегда осталась и в отечественной истории, и в литературе.
Я уж не говорю о тех многочисленных случаях, когда Медный всадник воспринимался не иначе, как всадник Апокалипсиса.
А теперь скажите: изумительный в художественном отношении, но предельно дуалистичный и оттого не поддающийся пониманию – может ли такой памятник быть полноправным гением места огромного города?.. Не лучше ли взять на эту роль иную, более однозначную скульптуру Петра I, установленную в середине 1990-х годов во дворе Петропавловской крепости?
Конечно, этот император – работы Михаила Шемякина – не столь величественен, хотя бы уже потому, что сидит не на взмывшем высоко над всеми богатырском коне, а на обычном жёстком кресле. Но это кресло и эта близость делают фигуру более понятной. Как отмечала старший научный сотрудник Пушкинского Дома Мария Виролайнен, «если памятник Фальконе – это памятник сакрализованной власти, то памятник Михаила Шемякина… отчётливо связан с десакрализацией власти, с совлечением с неё сакрального ореола» [7. С. 273]. Очевидно, поэтому даже голый, без парика, череп, свирепое выражение маленького одутловатого лица, могучее каменное тело, непонятно как передвигаемое этими худыми короткими ногами, и руки с длинными, как змеи, хищными пальцами, никого не пугают. Государство наше испокон веков было именно таким – жестоким, всесильным и неповоротливым. Страшное, но своё, а потому привычное. Во всяком случае, малые дети без малейшего страха забираются к шемякинскому Петру «на ручки», а доброхоты приносят ему цветы и частенько кладут их прямо грозному царю на колени.
* * *
Современный собиратель петербургского фольклора Наум Синдаловский рассказывает, что первый, ещё пушкинский, выпуск лицеистов решил оставить по себе память. В лицейском садике, около церковной ограды, выпускники соорудили из дёрна холм и укрепили на нём мраморную доску со словами: «Genio loci». Однако со временем земля осела, и к 1840 году самодельный памятник окончательно разрушился. Восстановить его взялись лицеисты одиннадцатого выпуска. В 1843-м Лицей переехал из Царского Села в Петербург, на Каменноостровский проспект. Вместе со всеми учебными пособиями сюда перевезли и восстановленный памятник «Гению места». На протяжении нескольких десятилетий он украшал сад нового Лицея, но потом тоже исчез под влиянием неумолимого времени [18. С. 219]. Теперь навсегда. Прошли ещё годы, и, поскольку уже мало кто помнил, как выглядел тот памятный знак, возникло предание, будто он представлял собой скульптурное изображение Пушкина…
Так, может быть, лучше всего провозгласить гением места Петербурга не один из монументов его основателю, а памятник Александру Сергеевичу? Скажем, работы Михаила Аникушина, установленный на площади Искусств в 1957 году. Спору нет, власть российская всегда отличалась непомерным могуществом, да только русская культура оказывалась ещё сильней, и её нерукотворные памятники, как известно, частенько возносились выше не то что Медного всадника, но даже самого Александрийского столпа.
Литература
1. Петербург в русской поэзии (XVIII – начало ХХ века): Поэтическая антология. Л., 1988.
2. Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград в русской поэзии: Антология. СПб., 2003.
3. Анциферов Н.П. Душа Петербурга // Анциферов Н.П. «Непостижимый город.». Л., 1991.
4. Аркин Д.Е. Град Обречённый // Москва-Петербург: pro et contra. Диалог культур в истории национального самосознания: Антология. СПб., 2000.
5. Базарова Т.А. Санкт-Петербург на шведском плане начала XVIII века // Петербургские чтения-96: Материалы Энциклопедической библиотеки «Санкт-Петербург-2003». СПб., 1996.
6. Богуславский Г. А. 100 очерков о Петербурге. Северная столица глазами москвича. М., 2011.
7. Виролайнен М.Н. О петербургских идолах: два Петра // Феномен Петербурга: Труды Третьей Международной конференции, состоявшейся 20–24 августа 2001 года во Всероссийском музее А.С. Пушкина. СПб., 2006.
8. Волков С. История культуры Санкт-Петербурга с основания до наших дней. М., 2001.
9. Ганелин Р.Ш., Нардова В.А. Первая мировая война и петроградская оппозиционность // Феномен Петербурга: Труды Международной конференции, состоявшейся 3–5 ноября 1999 года во Всероссийском музее А.С. Пушкина. СПб., 2000.
10. Герцен А.И. Сочинения: в 9 т. М., 1955–1958.
11. Иванов Е.П. Всадник: Нечто о городе Петербурге // Москва-Петербург: pro et contra. Диалог культур в истории национального самосознания: Антология. СПб., 2000.
12. Исупов К.Г. Диалог столиц в историческом движении // Москва-Петербург. Российские столицы в исторической перспективе. М.; СПб., 2003.
13. Кобак А.В., Марголис А.Д. Анциферовская премия // Петербургские чтения-96: Материалы Энциклопедической библиотеки «Санкт-Петербург-2003». СПб., 1996.
14. Лебедев Г.С. Феномен Петербурга: архетип как прототип (Имперское наследие – генератор будущего «маргинальной столицы России») // Феномен Петербурга: Труды Второй Международной конференции, состоявшейся 27–30 ноября 2000 года во Всероссийском музее А.С. Пушкина. СПб., 2001.
15. Любищев А.А. Об идейном наследстве Н.В. Гоголя // Любищев А.А. Расцвет и упадок цивилизации. СПб., 2008.
16. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. М., 1963–1966.
17. Радищев А.Н. Избранные сочинения. М.; Л., 1949.
18. Синдаловский Н. История Санкт-Петербурга в преданиях и легендах. СПб., 1997.
19. Соболева И.А. Утраченный Петербург. СПб., 2012.
20. Талалай М. «Leningrado» или «San Pietroburgo»? (реакция в Италии на возвращение городу исторического названия) // Феномен Петербурга: Труды Третьей Международной конференции, состоявшейся 20–24 августа 2001 года во Всероссийском музее А.С. Пушкина. СПб., 2006.
Небывальщина
Александр Блок. Возмездие
- О, город мой неуловимый,
- Зачем над бездной ты возник?..
Почему Петропавловская крепость была основана, по велению Петра I, в самом устье Невы, и как она вдруг превратилась в столицу?
В этой истории почти всё известно и почти всё непонятно…
Во второй половине апреля 1703 года 16-тысячный корпус под командованием Бориса Шереметева вышел к Неве и осадил шведскую крепость Ниеншанц, стоявшую на мысу в месте впадения Охты в Неву. Через неделю начался штурм, и после 10-часовой массированной бомбардировки комендант Якоб Аполлов счёл за благо сдать фортецию, гарнизон которой состоял всего из 800 человек и 49 пушек. Произошло это 1 мая.
Других укреплений и войск у шведов поблизости не было, но не приходилось сомневаться, что очень скоро они обязательно попытаются вернуть себе и крепость, и прилегающий к ней городок Ниен. Устье Невы, открывающее путь в Балтийское море, имело важное стратегическое значение.
Как свидетельствует «Журнал, или Подённая записка Блаженныя и вечнодостойныя памяти государя императора Петра Великаго» – документ, составлявшийся кабинет-секретарём царя Алексеем Макаровым и редактируемый лично Петром, – «по взятии Канец (Ниеншанца. – С. А.) отправлен воинский совет, тот ли шанец крепить, или иное место удобнее искать (понеже оный мал, далеко от моря, и место не гораздо крепко от натуры), в котором положено искать новаго места, и по нескольких днях найдено к тому удобное место остров, который назывался Люст Елант (то есть весёлый остров), где в 16 день майя (в неделю пятидесятницы) крепость заложена и именована Санктпитербурх» [40. С. 113].
Уже в ночь на 31 августа 1703 года неожиданно взбурлившая Нева поднялась и смыла едва начатую постройку вместе с заготовленными материалами. Судя по сохранившемуся в архивах письму, которое австрийский посланник в России вскоре направил своему правительству, при этом первом петербургском наводнении погибли две тысячи русских [11. С. 608]. Но Петра подобные «мелочи» никогда не пугали. Сразу после отступления стихии возведение Петропавловской крепости было продолжено с тем же упорством и размахом.
Параллельные заметки. Молодой царь воспринимал невские наводнения как ещё одну забаву, которыми он так любил услаждать свою жизнь. В 1706 году в письме к «мин херцу» Алексашке Меншикову он с нескрываемым весельем сообщал: ««Третьего дня ветром вест-зюйд такую воду нагнало, какой, сказывают, не бывало…И здесь было утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям, будто во время потопа, сидели – не точию мужики, но и бабы» [34. С. 110].
Секретарь прусского посольства в России И. Фоккеродт свидетельствовал, что первым идею о возведении в невском устье крепости с гарнизоном и складами подал генерал-адмирал и великий канцлер Фёдор Головин.
Впервые топоры застучали на Заячьем острове 16 мая (27-го по н. ст.) 1703 года. Этот день и принято считать днём рождения северной столицы.
По официальной историографии и многочисленным легендам, в том числе явно верноподданническим, долгое время считалось, что Пётр лично не только участвовал, но и руководил закладкой нового города. Такой версии долгое время придерживались многие серьёзные исследователи. Например, Михаил Пыляев, утверждавший, будто «государь положил первый камень постройке» [34. С. 10]. Что уж говорить об официальной историографии. Вот как повествовал о том знаменательном дне В. Авсеенко в панегирическом очерке истории Санкт-Петербурга, созданном накануне 200-летия города и переизданном в 1993 году в качестве «чтения для юношества»: «16 мая, в день сошествия Святого Духа…отслужена была литургия, после чего Пётр с большой свитой. присутствовал при освящении избранного места и вслед затем, с заступом в руках, подал знак к началу землекопных работ. Когда первый ров достиг уже двух аршин глубины, в него опустили высеченный из камня ящик, в который Пётр поставил золотой ковчег с частицей мощей Апостола Андрея и, закрыв ящик каменной же плитой, убрал его собственноручно вырезанными кусками дёрна» [2. С. 18].
Далее следует второй рассказ того же рода, но уже со ссылкой на некую «любопытную старинную рукопись»: «Когда Пётр взялся за заступ, с высоты спустился орёл и парил над островом. Царь, отойдя в сторону, срубил две тонкие берёзки и, соединив их верхушки, поставил стволы в выкопанные ямы. Таким образом, эти две берёзки должны были обозначать место для ворот будущей крепости. Орёл спустился и сел на берёзки; его сняли оттуда, и Пётр, обрадованный счастливым предзнаменованием, перевязал орлу ноги платком и посадил его к себе на руку. Так он взошёл, с орлом на руке, на яхту при торжественной пушечной пальбе» [2. С. 20]. И только после этого автор, видимо, несколько смущённый видом орла, который совсем по-голубиному усаживается на царской руке и даже никак не реагирует на грохот пушек, осторожно добавляет, что «сохранившиеся исторические сведения об основании Петербурга не отличаются безусловной достоверностью» [2. С. 20].
Насколько не безусловна эта достоверность, легко догадаться, вспомнив, что, по преданию, не кто иной, как орёл, указал византийскому императору Константину Великому место, где должен быть основан Константинополь. Иными словами, легенда об орле – явный официоз. Дескать, царь строил не чуждый город, как проповедовали противники Петровых реформ, а исконно русский, продолжающий незримую, но прочную связь отчизны с Византией, великой духовно-религиозной предшественницей святой Руси.
Параллельные заметки. Прошлое мировой цивилизации, насчитывающее около десяти тысячелетий, настолько многообразно, что в нём всегда отыщутся удобные для историка параллели. Как тут при мифологизации русского северного демиурга, который закладывает новую столицу, не прочертить прямые стрелы к великим его предшественникам далёких эпох!
И вот уже вспоминают Александра Македонского, основавшего в 331 году до н. э. новый полис в самом центре торговых путей и назвавшего его своим именем. Дескать, по легенде, «место для города было подсказано полководцу во сне», и план города он начертал рожью на песке [30. С. 72–73]. А ещё, конечно, выплывает из древних веков образ того же императора Константина, которому тоже, мол, накануне закладки Константинополя было «сонное видение» и являлся орёл [29. С. 259]. И вывод напрашивается сам собой: ««Мечтая создать вторую Венецию или Амстердам, государь строит третью Александрию» [30. С. 73].
В действительности, миф – не только появление орла, вещий сон и прочие «исторические подробности», но и само присутствие царя на острове в тот дорогой нам теперь день. В том же Преображенском походном журнале – или, как он в ту пору именовался, «юрнале» – говорилось, что ещё 11 мая Пётр отправился в Шлиссельбург, 14 мая побывал на сясськом устье, 16 мая проехал ещё дальше и 17 мая посетил Лодейную пристань.
Отсутствие основателя в тот день, когда закладывался город, заметно портило благостную картину начальной истории северной столицы. А потому, едва этот факт вошёл в научный оборот, нашлось немало патриотически настроенных историков, которые пытались доказать, что в день Святой Троицы Пётр всё же был на Заячьем острове. С особым жаром дискуссия разгорелась в начале ХХ века и продолжалась несколько лет. Но угольки того спора дотлевали ещё долго. Последним сторонником концепции царского присутствия на Заячьем острове в столь знаменательный день был Александр Шарымов. Он аргументировал свою правоту не только скрупулёзным анализом архивных материалов, но и доводами, основанными на психологии царя: «Эту крепость… Пётр просто не мог не заложить сам. Он любил обряды закладки крепостей, их освящения, наименования. Любил всё, что их окружало: праздничный шум, веселье, торжественные тосты, шутки, пушечную и ружейную пальбу, услады застолья, возможность находиться среди друзей. Такой человек – не царь, а просто человек. – не мог упустить радости участия в начале нового большого дела» [40. С. 162].
Однако единственное документальное подтверждение присутствия царя Петра на закладке крепости 16 мая – анонимная рукопись «О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга», издавна хранившаяся в собрании Эрмитажа и опубликованная в 1863 году в журнале «Русский архив» [31. С. 43]. В ней и рассказывается апокрифическая история про то, как царь Пётр соединил вершины двух берёзок, как появился орёл и всё остальное.
Допустим, Пётр 16 мая и вправду участвовал в основании города. Но тогда закладка крепости наверняка ознаменовалась бы «праздничным шумом, весельем, торжественными тостами, шутками, пушечной и ружейной пальбой», которые царь – в этом Александр Шарымов совершенно прав – действительно любил. Между тем ни документальных свидетельств, ни даже легенд об этом не существует. Зато хорошо известно, что 29 июня, когда в день святых Петра и Павла на острове был заложен храм обоих апостолов, торжества и вправду состоялись, в частности «был отправлен банкет уже в новых казармах» [34. С. 11].
На самом деле нет ничего противоестественного в том, что 16 мая Пётр находился в Лодейном Поле, а значит, своими руками «царствующий град» не основывал. Ведь ни о каком городе, а тем более о новой столице, он тогда ещё не помышлял, речь шла, повторяю, только о крепости. А также о возможной царской резиденции. 7 мая канцлер Фёдор Головин направил письмо послу при польском дворе, и тот, на основании этого послания, известил местный дипломатический корпус, что «царское величество… в нынешнем времяни от неприятеля немалую крепость взял и порт на Балтийском море… где ещё может (курсив мой. – С. А.) заложить и свою монаршескую резиденцию, чего ради его государство лутчие будет иметь с их государствы торги и корешпонденцию» [8. С. 280].
И по поводу того, в какой день новый город получил своё имя, долгое время тоже не было ясности. В уже упоминавшемся «Журнале, или Поденной записке.» говорилось: «…в 16 день майя (в неделю пятидесятницы) крепость заложена и именована Санктпетерсбург». Да и один из сподвижников царя Феофан Прокопович в «Истории Петра Великого» писал: «Когда же заключён был совет быть фортеции на упомянутом островку и нарицати ея оной именем Петра Апостола Санктпетербург». В 1885 году П.Н. Петров, автор «Истории Санкт-Петербурга», первым усомнился в этой дате наименования новорождённого града. «Он вообще заявил, что город основан не 16 мая, а 29 июня, и именно с этого дня нужно вести отсчёт его истории, – пишет один из самых глубоких современных исследователей первого века жизни северной столицы Евгений Анисимов и объясняет: – Петров сделал столь неожиданный для многих вывод потому, что в исторических документах до 29 июня название города не упоминается вовсе, и только с Петрова дня, когда митрополит Новгородский Иов освятил деревянную церковь во имя святых апостолов Петра и Павла на Заячьем острове, в документах появляется название “Санкт-Петербург"» [6. С. 38–39]. Той же версии придерживается и сам Евгений Анисимов: «Мне кажется, что нужно различать закладку крепости и её освящение. Закладка была делом чисто техническим, менее значимым, чем её освящение. Точно известно, что Петра I не было при основании форта Кроншлот в 1703 г., а потом крепости и города Кронштадт в 1720 г. Примечательно, что оба раза при закладке отсутствовало и духовенство, непременно участвовавшее во всех государственных торжествах в России. Но зато царь счёл для себя обязательным прибыть к моменту освящения церкви в 1720 г. в новооснованной Кронштадтской крепости в присутствии духовенства» [6. С. 41].
Подтверждением таких выводов могут служить документы почтового ведомства. «…На письме от 18 июня этого года, посланном Ф. М. Апраксиным Петру I к берегам Невы, имеется помета: “Принета с почты в новозастроенной крепости, июня 28 день 1703-го”. Назавтра, в день тезоименитства царя, произошло торжественное освящение возведённой из дерева и земли крепости “с приличной событию церемонией”, а 30 июня письмо Т.Н. Стрешнева из Москвы было помечено: “Принето с почты в Сант-Питербурхе, июня 30 день 1703-го”» [24. С. 62]. И ещё один аргумент: «…в петровское время среди “праздничных и викториальных дней, которые повсегодно празнуемы бывают”, день основания Петербурга никогда не значился» [28. С. 294–295].
…Итак, в мае основали крепость, а в июне она уже получила статус города. Но недаром говорят, что аппетит приходит во время еды. Спустя ещё год с небольшим, 28 сентября 1704-го, в одном из писем к Александру Меншикову Пётр вдруг заявляет: «…чаем, аще Бог изволит, в три дни или четыре быть в столицу (курсив мой. – С. А.) Питербурх» [8. С. 284]. Когда именно, при каких обстоятельствах, по какой причине и кто именно нарёк Санкт-Петербург столицей – обо всём этом история хранит молчание.
Однако назвать едва начавшуюся стройку столицей легко. Гораздо труднее сделать её столицей на деле. Царская семья впервые появилась в Петербурге только в 1708 году, но приезжала сюда лишь на время, живя большую часть времени в Москве и её окрестностях. Да и самого двора, в его допетровском и послепетровском понимании, в Петербурге не было. Петра и Екатерину, бывшую «ливонскую пленницу», окружала прислуга, необходимая в походных условиях, которые, в общем-то, и были характерны для первых, по крайней мере, десяти лет строящегося города.
Принято считать, что Петербург стал официальной столицей в 1712 году, когда в своём любимом «парадизе», а не в Москве, как предписывала традиция, Пётр сыграл пышную свадьбу с Екатериной. И на церемонии вынуждены были присутствовать все члены царской фамилии, а также дипломатический корпус. Кроме того, в том же году по приказу Петра на берега Невы переехал Правительствующий сенат, высший орган государственной власти. «До этого пребывание Петра на берегах Невы в официальных документах именовалось “походом", – отмечает Евгений Анисимов. – Так назывался любой выезд царя из Кремля ещё в допетровскую эпоху. “Поход” затянулся на многие годы, и только в 1712 г. упоминание о “походе” исчезает из официальных документов» [6. С. 87].
Параллельные заметки. Парадокс, но всегда, вплоть до 1918 года, Санкт-Петербург являлся столицей Российской империи лишь де-факто, а не де-юре. Москва неизменно оставалась «царствующим градом». Неслучайно все императоры после Петра продолжали венчаться на царство именно в Первопрестольной.
И это ещё одна загадка: отчего Пётр не озаботился юридическим оформлением такого важного в государственной жизни события, как смена столицы? Может, при своём царском всемогуществе не считал это таким уж нужным? Мол, к чему переводить бумагу, если достаточно одного государева слова, подкреплённого угрозой ссылки или батогов? Ведь все прекрасно знали, как умел Пётр карать непокорных: чуть что – в пыточную, а оттуда – в Сибирь, на галеры или прямо на небеса. А может, во множестве забот и дел царю просто не достало времени на юридические формальности?
Энергии, властных полномочий и забот у Петра и вправду хватало с лихвой. Однако в данном случае и то и другое никак нельзя признать достоверными причинами. Пётр I, хотя и писал, как известно, с чудовищными ошибками, на ниве сочинения указов страдал острой формой графомании. В течение своего 36-летнего правления он собственноручно настрочил свыше 20 тысяч (!) указов. В среднем – почти по два указа в день. Причём многие были откровенно абсурдны и касались таких мелких деталей в жизни миллионов подданных, о которых впору заботиться не главе огромного государства, а деревенскому старосте.
И тем не менее столь важное событие, как перенос столицы из Москвы на невские берега, ни указа, ни иного письменного распоряжения так и не удостоилось. Возможно, истинная подоплёка этого казуса в том, что Пётр принадлежал к тому большинству в длинной череде российских правителей, которые считали, что для нашего отечества закон – деталь не обязательная, а в иных случаях и вовсе лишняя?..
* * *
В дельте Невы люди селились с незапамятных времён. И всегда маленькими деревушками. Местный климат был слишком суров, чтобы кто-то по собственной воле захотел тут образовать крупное поселение. 60-я параллель – это севернее Магадана и Новосибирска, всего на два градуса южнее Якутска. Современные учёные считают 60-ю параллель критической для существования человека. Ещё до основания Петербурга о здешнем климате говорили: «Здесь Сибирь сходится с Голландией» [36. С. 226]. Да и лес был далеко не парковый, к которому мы привыкли теперь, а настоящие таёжные дебри. Неслучайно Великий Новгород, которому устье Невы принадлежало на протяжении шести столетий, не предпринял ни одной попытки основать здесь город или хотя бы крепость.
Только шведы в XVI веке отважились поставить при впадении реки Охты в Неву крепость Ниеншанц, рядом с которой вскоре появился городок Ниен, разросшийся к началу XVIII века до четырёхсот домов. Но это всё же на почтительном расстоянии от невского устья.
К тому же чухонцы, славяне, шведы – все, жившие здесь, отлично знали, что такое внезапные и сокрушительные невские наводнения. Ещё в одной из древних новгородских писцовых книг упоминалось, как в 1541 году у некоего «Васюка с братией», обитавших «на устье Невы-реки», «дворы и землю море взяло и песком заскало» [13. С. 33]. Сейчас, через три с лишним сотни лет после основания Петербурга, культурный слой в городе значительно поднялся, многие реки, речушки и протоки давно засыпаны и вместо былых ста с лишним островов осталось всего чуть более сорока. Если в первом десятилетии прошлого века Нева выходила из берегов, когда вода поднималась минимум на полтора метра, в XIX веке – чуть менее, чем на метр, то в начале XVIII столетия достаточно было всего 40 сантиметров, и вся территория нынешнего исторического Петербурга превращалась в одно сплошное болото, а то и в настоящее море [36. С. 330].
Ганноверский резидент в России (1714–1719) Фридрих-Христиан Вебер в книге «Преображённая Россия» писал: «Прежние обитатели сей местности никогда не хотели строить настоящие дома на реке Неве в месте расположения нынешнего Петербурга. Вместо домов они поставили только несколько убогих рыбачьих хижин, которые, как только опыт подскажет приближение наводнения, – быстро разбираются» [13. С. 33–34]. После этого разобранная хижина превращалась в плот, который накрепко привязывали к одному из деревьев, а сами аборигены садились в лодки и отправлялись вверх по течению Невы, чтобы переждать разгул стихии в безопасном месте. Когда вода спадала, люди возвращались, и плоты вновь превращались в хижины. Не мог же царь не ведать того, что знает даже иностранный посол!
Впрочем, если Пётр при всём его упрямстве не хотел верить местным жителям, Нева сама не замедлила дать ему наглядное доказательство своего буйного нрава. После августовского наводнения 1703 года в октябре 1705-го разразилось ещё одно. А в сентябре 1706-го – третье: в царских «хоромах» на Петербургской стороне вода стояла на 21 дюйм выше пола, то есть больше, чем на полметра! Всего, по словам летописца петербургских наводнений П. Каратыгина, при жизни Петра юный город пережил десять приступов водной стихии [4. С. 304].
Одновременно с природными свидетельствами того, что нельзя здесь возводить столицу, грянули геополитические. Северная война ещё только разгоралась, и было совершенно неизвестно, какая судьба ожидает Россию с её плохо подготовленной армией и отчаянной нехваткой кадровых, профессиональных командиров. Уже в ближайшие несколько лет после основания Петербурга шведы предприняли шесть попыток отвоевать невские берега обратно [27. С. 70–73]. В июне 1704-го шведским полкам удалось выйти сперва на Каменный остров, а затем к Ниеншанцу. Следующим летом они вновь явились на Каменный остров и даже «заложили на правом берегу Малой Невки батарею, сосредоточив тут свои силы…» [6. С. 71]. Тем летом, по оценке Евгения Анисимова, положение было настолько серьёзно, что «судьба Петербурга повисла на волоске» [6. С. 74]. В последующие годы вновь «несколько раз обстановка вокруг Петербурга становилась критической. Шведы пробовали выбить русских из устья Невы согласованными ударами с суши (с севера и востока) и с моря.» [6. С. 71].
К счастью, все атаки удалось отбить. Но разве это не служило подсказкой: столицы не ставят у самой границы государства! А по сути, вообще за рубежом, ведь невское устье официально стало российской территорией только по Ништадтскому миру, который был подписан в августе 1721 года, через 18 лет после основания Петербурга.
Параллельные заметки. На протяжении последних двух столетий Россия участвовала в трёх тяжелейших войнах: Отечественной 1812 года, а также Первой и Второй мировых. И все три раза возникала реальная угроза захвата Петербурга иноземцами.
«До прибытия неприятеля в Петербург дней двадцать необходимо пройдёт, – писал император Александр I председателю Государственного совета и незадолго до того учреждённого Совета министров фельдмаршалу Николаю Салтыкову. – За это время надо подготовить и осуществить эвакуацию (на север, в Архангельск и в Казань) государственных учреждений с их архивами, дворцовых драгоценностей и художественных сокровищ Эрмитажа, восковой фигуры Петра из Кунсткамеры и петровских подлинных вещей из “домика” и Монплезира, редчайших книг из Публичной библиотеки, важнейших церковных ценностей, мраморных статуй из Таврического дворца, “Минералогического кабинета” Горного института, воинских трофеев – короче, драгоценностей, с которыми не хотим расставаться». Кроме того, предполагалось подготовить к эвакуации два памятника Петру I и памятник Суворову, а также Сестрорецкий оружейный завод вместе с его ведущими мастерами [9. С. 282].
Во второй раз, в 1914 году, уже не только готовились к эвакуации, но и вывозили ценности: книги, многие музейные шедевры, прежде всего из Эрмитажа… В третий, накануне ленинградской блокады, – пытались отправить в безопасные районы всё, что есть ценного в городе: наиболее значимые произведения искусства, промышленное и научное оборудование… Летом 1941 года из Ленинграда на восток вывезли 92 института (не считая специальных научно-исследовательских), 86 промышленных предприятий, часть собраний крупнейших музеев…[19. С. 94–95]. Тем не менее 8 сентября, в день начала блокады, в осаждённом городе оставались два с половиной миллиона мирных граждан и тысячи тонн так и не отправленных ценностей.
Конечно, в ходе этой третьей эвакуации имели место серьёзные, порой преступные просчёты, о чём речь ещё впереди, но главный просчёт был допущен намного раньше, в начале XVIII века, когда царь основал новую столицу на самом краю страны. И если за всю историю Петербурга-Петрограда-Ленинграда ни разу нога врага не ступала на его территорию, то причиной тому или счастливая игра исторического случая, как это произошло в 1812 году, или результат беспримерной стойкости защитников города и его жителей, как это было в 1941–1944 годы.
Все и всё были против замысла Петра. На огромной стройке постоянно не хватало материалов и специалистов. А главное – продовольствия. Окружающие скудные и малонаселённые земли не могли прокормить городских строителей. Едва ли не весь провиант приходилось завозить из других губерний, при почти полном отсутствии дорог, особенно по весенней и осенней распутице, а потому обходилось это втридорога. «По отзыву англичанина Дж. Перри, из-за плохих дорог стоимость продуктов в Петербурге возрастала в 3–4 раза, а что касается фуража для лошадей – то и в 6, и в 8 раз» [3. С. 74].
Ф.-Х. Вебер писал: «Если бы продовольствие, особенно муку, сюда не привозили из Новгорода, Пскова и Москвы и даже из Казанского царства – это всё зимой доставляют на многих тысячах саней за 200–300 миль, а летом водой по реке Волхов и Ладожскому озеру, также по озеру Онега и реке Свирь (тоже через Ладожское озеро), – то не только Петербург, но и часть края вымерла бы от голода» [10. С. 118]. Даже после смерти Петра власти Петербурга ещё долго вынуждены были контролировать цены на продукты питания. Полиции вменялось в обязанность следить, чтобы до полудня торговля шла исключительно по твёрдым ценам (дабы «обывателям можно тою покупкою без повышения цен удовольствоваться»), и только после полудня – по свободным. Такой порядок сохранялся в городе и в XIX столетии [35. С. 7].
Люди знатного рода не желали перебираться на север, потому что на болоте живут лишь кикиморы, лешие да прочая нечисть. Кроме того, переезд в новую столицу «на вечное жительство» означал сильный удар по карману, а также разрыв всех житейских связей. Если б ещё можно было поселиться в этом самом Петербурге, а потом время от времени ездить на побывку на старое место, но ведь «обязанные селиться в столице не только не могли жить в других городах, но даже и отлучаться из города на долгое время было запрещено» [39. С. 38]. И нет ничего удивительного, что, хотя из Петербурга год за годом рассылались по всей стране указы, предписывающие лицам боярских и дворянских фамилий срочно прибыть на берега Невы, никто в путь не спешил.
Вот всего один пример того, как привилегированный класс относился к перспективе петербургского житья при Петре. Даже «на повторные запросы Сената 1715, 1716 и 1717 годов сибирскому губернатору Гагарину по поводу того, что до сих пор “царедворцы к Санкт Питербурху не высланы и не построились”, ответом из Сибири было полное молчание. Ему и другим губернаторам писали из столицы в январе 1717 года, что “люди” (то есть слуги) тех, кто не построился, будут держаться за караулом, пока их хозяева не явятся в канцелярию Сената. Если же и это не возымеет действия, то “отписать их имущество бесповоротно”. В случае смерти кого-то из внесённых в списки их должны заменить наследники. Наконец, в 1718 году от Гагарина в Сенат поступил ответ, что “царедворцев”, которые были бы “не у дел”, в Сибирской губернии не имеется и высылать в Петербург некого» [20. С. 23].
Шляхетство всеми силами уклонялось от «вечного житья» в новой столице. «…В 1720 г. из списка в 703 человека, определённых в “парадиз”, 17 процентов (122 человека и 124 имени) числились в графе “В Сенате приезду своего не объявили, и ныне, где они, того не ведома” По социальному составу это были: 2 боярина, 2 окольничих, 3 думных дворянина, 5 стольников комнатных, 58 царедворцев, 2 ландрихтера, а также вдовы и дети умерших дворян. Все они просто сбежали от возможности пополнить ряды обитателей рая-“парадиза”» [3. С. 112].
Для купцов освоение новой столицы и вовсе грозило катастрофой. Дом, имение ещё можно продать, но куда девать уже налаженное дело? Оставить кому-то из родственников, сбыть конкурентам? И на какие капиталы заводить новое «кумпанство», которое к тому же неизвестно когда принесёт барыши на голом-то месте?
Не хотели жить в новой столице также ремесленники. «В 17101711 гг. в Петербург следовало “поставить" “на вечное жильё” 4720 мастеровых разных специальностей. Из доношения УА. Синявина от 6 июня 1712 г. следует, что прибыло в город всего 2210 человек, из которых сбежало 365, умер 61 и оказалось “дряхлыми за старостью” 46 человек. Дополнительно вышедшие указы также не были выполнены, и власти набрали нужное число мастеровых – 262 человека – из рекрутов» [3. С. 110].
Дело было не только в неимоверных трудностях, связанных с переездом и обустройством на новом месте. Никто не знал, чем обернётся государева блажь после его смерти – а ну как следующий царь откажется от петербургской затеи и вернётся в Белокаменную? Основатель новой столицы и сам предвидел эту возможность. «Знаю, – говорил Пётр I противникам своего дела, – что вы чувствуете отвращение к Петербургу, я помру, и возвратитеся в вашу любезную Москву…» [18. С. 343].
Параллельные заметки. Поначалу так и вышло. После недолгого правления Екатерины I на царство заступил внук первого императора Пётр II, которому в ту пору ещё не сравнялось 12 лет. Испанский посол в Петербурге герцог Лирийский доносил своему королю: «Юный монарх… ненавидит морского дела и окружён русскими, кои, не терпя отдаления своего от родины, всегда толкуют ему ехать в Москву, где жили его предки…» [25. С. 197]. Одним из таких близких советчиков был князь Дмитрий Голицын, убеждавший юного царя, что Петербург – ««охваченная гангреной конечность, “которая должна быть отсечена, дабы не заразилось от неё всё тело”» [14. С. 35].
В конце концов, Пётр II, всего через три года после смерти Петра I, изрёк: «Не хочу гулять по морю, как дедушка», – и 9 января 1728 года весь двор вслед за малолетним государем с радостью потянулся в Первопрестольную. Уехали все высшие должностные лица, даже обер-полицмейстер, вместо которого в Петербург был назначен воевода, как в обычный провинциальный город.
Брошенная новая столица быстро приходила в запустение: улицы и площади зарастали травой, недостроенные здания ветшали под ударами сырого ветра, снега и дождя, банды мародёров грабили то, что ещё было в опустевших домах… Оставленные «на хозяйстве» чиновники с прискорбием доносили, что сваи и щиты, коими были укреплены берега рек и каналов, неудержимо разрушаются ««и от того каналы заносит, и в тех местах тако ж и по берегу Невы реки, при обывательских домах берега и мосты весьма попортились… и от такой долговременной непочинки пришли оные каналы и речки в такую худобу, что занесло землёю в половину, от чего проход и мелким судам весьма с трудностью» [17. С. 73–74].
Правда, 17 июля 1729 года, за полгода до смерти Петра II, был издан указ, ««по которому заселение Петербурга опять сделалось поголовным налогом: велено было немедленно выслать на бессрочное житьё в Петербург всех выбывших из него купцов, ремесленников и ямщиков, с их семействами; а за неисполнение или медленность повелено было отбирать всё имение и ссылать вечно на каторгу» [34. С. 89–90]. Однако, как пишет Михаил Пыляев, ««эти строгие меры не привели ни к чему, народ тяготился житьём в Петербурге…» [34. С. 90]. Впрочем, нежелание возвращаться в Петербург объяснялось не только этим. Страна, разорённая правлением Петра I, стонала под бременем чиновников, непомерных расходов на армию, да ещё и возведения новой столицы. Неслучайно члены Верховного тайного совета во главе с князем Дмитрием Голицыным, которые после смерти Петра II попытались ограничить самодержавную власть, при определении ближайших наиболее важных государственных задач предусматривали вернуть столицу обратно в Москву.
Петербург вновь обрёл столичную функцию лишь после того, как вступившая на престол Анна Иоанновна сама перебралась на невские берега. «Считается, что одной из причин, побудивших Анну Иоанновну переехать в Петербург, стало неприятное путешествие, случившееся зимой 1731 года, – рассказывает писатель Яков Длуголенский. – Императрица – с челядью и придворными – возвращалась из подмосковного Измайлова, как вдруг часть дороги перед ними разверзлась, и первая карета (Анна была во второй) – вместе с лошадьми, кучером и форейтором – рухнула в образовавшийся провал. “Есть полное основание думать, – сообщал своему правительству французский дипломат Маньян, – что дело это было подготовлено заранее". Злоумышленников искали, но не нашли. Да и вряд ли они были, если вспомнить, как прокладывались и до сих пор прокладываются наши дороги: обвалы и провалы случаются по сей день, и виной тому – изумительная строительная неграмотность» [16. С. 43].
Даже если история с рухнувшей в провал дороги каретой всего лишь легенда, Анна и без того прекрасно знала, что в Москве у неё немало противников, которые считают её, а тем более любимого ею Бирона чужаками и ненавидят их обоих. ««В деле полковника Давыдова, начатом в Тайной канцелярии в 1738 году, упоминается интересная деталь – одной из причин переезда двора в Петербург был случайно подслушанный Анной и Бироном разговор гвардейцев, возвращавшихся после тушения пожара во дворце. Они, проходя под окнами царицы, говорили между собой о её временщике: “Эх, жаль, что нам тот, которой надобен, не попался, а то буде его уходили!”» [5. С. 428–429]. И когда Бурхардт Миних посоветовал вернуться в Петербург и заодно вернуть на невские берега столицу, императрица не могла не согласиться с этим предложением.
««Газета “Санкт-Петербургские ведомости” 17 января 1732 года сообщала: “Третьего дня ввечеру изволила Её Императорское Величество, к неизречённой радости здешних жителей, из Москвы счастливо сюда прибыть”. <…> В заброшенную столицу вновь перебрались двор, Кабинет министров, Сенат, Синод, коллегия, гвардия, дипломатический корпус» [16. С. 40]. Встречал царицу петербургский генерал-губернатор Миних. «По сторонам Большой першпективной дороги (будущего Невского проспекта) были выстроены войска и толпились любопытствующие обыватели…» [16. С. 41].
Несмотря на то что большинство его подданных всеми правдами и неправдами противилось царскому приказу ехать в Петербург, Пётр I был преисполнен решимости продолжать начатое строительство любимого детища. Его мечта о грандиозном городе, который должен затмить могуществом и красотой европейские столицы, была настолько неземной, что всё земное рядом с ней теряло всякий смысл. Царь упорно называл Петербург «парадизом» и в письмах не уставал повторять: «В раи Божии зла быти не может». А непокорных опять-таки бил указами, за неисполнение которых ослушники подвергались страшным пыткам и лютым казням; неслучайно Пушкин говорил, что Петровы указы «нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом» [33. С. 11].
* * *
Итак, 16 мая 1703 года на Заячьем острове началось возведение крепости. Этот остров показался больше того, на котором стоял Ниеншанц, и удобней, поскольку был ближе к невскому устью, да вдобавок пушки с него могли держать под прицелом всю акваторию Невы.
Однако на поверку выяснилось, что Заячий остров не столь уж велик. «Современные архивные изыскания и археологические раскопки показали, что на том пространстве Заячьего острова, куда в первый раз высадился Пётр, поместились только Зотов, Головкин и Меншиков бастионы, а для остальных остров пришлось расширять. Когда с 1706 г. вместо земляных бастионов начали возводить каменные, линию южного берега отодвинули ещё дальше в Неву. В итоге центральный Нарышкин бастион фактически целиком построен за береговой чертой, то есть “в Неве”, а Трубецкой и Государев большей своей частью “вылезают" за линию бывшего Заячьего острова» [21. С. 200]. По меткому замечанию историка Евгения Анисимова, строящаяся «крепость напоминала порой севший на мель полузатопленный корабль» [6. С. 51]. Поэтому приходилось отвоёвывать у реки её пространство да к тому же наваливать камни и землю, чтобы повысить уровень островной почвы на несколько метров.
К тому же дальность Ниеншанца от моря не так уж огромна – между Заячьим островом и Охтинским мысом всего несколько межевых вёрст, то есть пять-семь километров. Поэтому логичнее было ставить Петропавловскую крепость именно там, где располагался Ниеншанц, а заодно и город начинать рядом. В этом месте и болот нет, и земля выше, и наводнения не так опасны. Начальник Санкт-Петербургской археологической экспедиции Пётр Сорокин отмечает, что Ниеншанц был расположен очень удобно: это «сухое возвышенное место с хорошей гаванью для стоянки судов могло использоваться купцами и путешественниками. Сам же мыс, защищённый с трёх сторон водными преградами, можно было легко укрепить, тем более что единственный подход к нему по суше – с юга был покрыт заболоченным лесом. <…> Судя по планам XVII в., устье Охты в то время было метров на 10 шире, чем сейчас, и его ширина достигала 45 м» [38. С. 20].
Кроме всего прочего, и расчёт на то, что из крепости с Заячьего острова можно будет контролировать вход в Неву, тоже сомнителен. «…Наши северные реки на добрых пять месяцев замерзают, и так бывает ежегодно, – указывает историк Георгий Прошин. – Обороноспособность крепостей снижается. неприступной крепость становилась два раза в год: в начале зимы, в пору ледостава, и весной, в ледоход. Неприступной для врагов. Для своих тоже» [32. С. 313]. Г. Прошин делает однозначный вывод: «Ниеншанц перекрывает Неву много надёжнее. Нева против шведской крепости течёт в одном русле. Оно в этом месте узкое, значительно более сильное, чем против Петропавловской крепости; обстрел проходящих, преодолевая встречное течение, кораблей возможен с трёх бастионов (как и на Петропавловской крепости), и это стрельба в упор… Собственно, если бы шведам удалось осадить Петропавловскую крепость, то они спокойно могли бы проводить корабли в Ладогу, не опасаясь обстрела с бастионов. На Неве существовал ещё один фарватер» [32. С. 316].
Кстати, на том самом знаменитом военном совете никто не одобрил выбор царя, и Пётр просто приказал возводить крепость на Заячьем острове.
Параллельные заметки. Петропавловская крепость никогда не участвовала в сражениях. Её предназначение оказалось совсем иным. Прежде всего, она стала политической тюрьмой: в Европе, да нередко и в России, её так и называли – «русской Бастилией».
Считается, будто первым политическим узником стал цесаревич Алексей, сын Петра I. Но это не так. ««Здесь, по сведениям… Берхгольца, <ещё раньше> сидели пленные шведские офицеры. В 1717 г. сюда для расследования привезли 22 моряков с погибшего корабля “Ревель”, здесь же содержали участников так называемого “Бахмутского дела” о похищении казённых денег. Из политических узников Петропавловской крепости первым стал, по-видимому, племянник Мазепы Андрей Войнаровский, схваченный русскими агентами в 1717 г. на улице Гамбурга и тайно привезённый в Петербург и впоследствии ставший героем знаменитой поэмы Адама Мицкевича. Перед тем как сгинуть в Сибири, Войнаровский просидел в крепости пять лет» [6. С. 202–203]. А уж после того как весной 1718 года в крепость переехала Тайная канцелярия, Петропавловка стала главной в стране следственной тюрьмой политического сыска [7. С. 122].
И Петропавловский собор, расположенный в крепости, никогда не был ни кафедральным, ни придворным и даже не имел своего прихода. Он стал уникальным в своём роде храмом-усыпальницей. Причём опять-таки первым здесь был погребён не Пётр I, как многие считают. За десять лет до этого, «когда строительство собора ещё только начиналось, осенью 1715 года в полу соборной колокольни была погребена 21-летняя кронпринцесса Софья-Шарлотта, жена цесаревича Алексея; в том же году – годовалая дочь Петра, Маргарита. В 1716 году “у Петра и Павла" перезахоронили вдову брата Петра, Ивана Алексеевича, Марфу Матвеевну. В июне 1718 года рядом со своей женой был погребён царевич Алексей Петрович» [9. С. 419].
Маркиз Астольф де Кюстин, автор знаменитой книги «Николаевская Россия», со свойственной ему едкой наблюдательностью заметил: «…в петровской цитадели покоятся останки императоров и содержатся государственные преступники: странная идея – чтить таким образом своих покойников» [1. С. 66].
* * *
Ни сам царь, ни его соратники не оставили никаких письменных свидетельств, которые объясняли бы замысел учредить новую столицу да к тому же в столь неподходящем месте. Историки до сих пор теряются в догадках, пытаясь понять, что всё-таки толкнуло Петра на такой неожиданный шаг.
Самый распространённый аргумент: России был необходим выход на Балтику, а значит, в Европу, потому что только благодаря этому «окну» страна могла совершить экономический прорыв, чтобы в последующем занять, наконец, своё законное место в ряду крупнейших держав. Вот что в связи с этим, в частности, пишет историк Ольга Агеева: «Перенесением столицы к Балтике Пётр I сразу поставил себя в ряд исторических деятелей, осуществлявших подобные акции, например, киевского князя Святослава или Карла Великого. Существует точка зрения (она высказывалась, например, К. Марксом в «Секретной дипломатии», а в последние годы при изучении семиотики Ю.М. Лотманом), что в таких случаях перенесение столицы имеет непосредственный политический смысл: оно, как правило, свидетельствует об агрессивных замыслах – приобретении новых земель, по отношению к которым новая столица окажется в центре. Однако у Петра I смысл перенесения столицы состоял в другом и соответствовал специфике взаимоотношений между странами в Новое время. Географическим приближением своей столицы прямыми связями по морю царь де-факто вторгался в мир европейских государств, ставил Петербург в один ряд с их столичными городами. Это было политическое, культурное и торговое вторжение в Европу, хотя война и являлась одним из его самых действенных средств» [3. С. 206].
Что ж, допустим. Но в таком случае непонятно, почему с той же целью нельзя было воспользоваться уже готовыми городами-портами – скажем, Нарвой или Выборгом, отвоёванными на Балтике чуть позже. Ведь там не пришлось бы начинать с нуля, да и климатические условия не в пример лучше. Может, причина была в том, что эти города были слишком европейскими, а Петру нужен был лишь европейский парадный лоск, причём версальский, а не североевропейский?..
Параллельные заметки. Казалось бы, оспаривать плохой петербургский климат и низкое плодородие окружающих земель бессмысленно. Однако апологеты Петра и его «великих деяний» даже тут нашли оправдание своему кумиру. ««…Что касается неудобств климата и почвы, – говорил историк Сергей Соловьёв в своих ««Публичных чтениях о Петре Великом», – то нельзя требовать от людей, физически сильных, чтоб они предчувствовали немощи более слабых своих потомков» [37. С. 89].
Кроме того, Финский залив, примыкающий к устью Невы, совершенно не годился в качестве подходов к большому порту. Вода здесь на протяжении долгой зимы покрыта льдами да к тому же довольно пресная, что для деревянных судов – вредный показатель. Вдобавок фарватер между Кронштадтом и Петербургом был мелковат. Уже в XIX веке морские крупнотоннажные паровые суда приходилось разгружать в кронштадтском торговом порту, и затем на мелкосидящих лихтерах грузы переправлялись к петербургским причалам. Из-за этого товары, доставляемые, скажем, из Лондона, добирались до российской столицы вдвое дольше, и цена их, соответственно, вырастала тоже вдвое. В итоге пришлось строить Морской канал, который соединил малый Кронштадтский рейд с Гутуевым островом. Сложнейшее инженерное сооружение (длина – 26,5 версты, глубина – 22 фута, ширина по дну – 30–50 саженей) возводилось свыше десяти лет, и было открыто к началу навигации 1885 года, через 182 года после основания Петербурга.
Ещё одна гипотеза, призванная объяснить причины возникновения северной столицы, основана на широко распространённой концепции, повествующей о борьбе царя-реформатора с косным большинством тогдашнего российского общества. Дескать, «Петербург строился не только как “окно в Европу" в стратегически выгодном, пусть и малопригодном для жизни месте, но и как антитеза боярской и косной Москве» [1. С. 53]. Иными словами, в понимании Петра, болото московской стоячей жизни было куда опасней для будущей России, чем то болото, из которого предстояло поднять новую столицу. Здесь не надо было рвать путы косных, замшелых традиций. Ведь всем известно: легче строить новое, нежели перестраивать старое.
По поводу прогрессивного царя, окружённого реакционерами, можно бы и поспорить. К началу царствования Петра российское общество вовсе не было столь примитивно ретроградным, как пытались нас уверить многие дореволюционные и особенно советские историки. Благотворный пример Европы не мог оставить равнодушным всякого здравомыслящего человека. Одним из таких людей был, в частности, князь Василий Голицын. «По свидетельству француза Невилля, которому князь Василий Васильевич подробно излагал свою программу, он собирался заменить стрелецкое войско регулярной армией европейского образца, открыть Россию для широких международных связей, послать русских юношей в Европу для обучения, оживить торговлю, заселить Сибирь, заменить натуральное хозяйство денежным. Но при этом ему представлялось в перспективе общественное устройство, о котором Пётр и думать не думал, – полная свобода вероисповедания, а затем и освобождение крестьян от крепостной зависимости. Причём – с землёй» [15. С. 125]. Приводя этот и другие аналогичные примеры, Яков Гордин делает совершенно обоснованный вывод: «…некоторые из тех, кто был в оппозиции Петру, были в гораздо большей степени европейцами, чем он сам» [15. С. 74].
Однако, даже если принять версию, согласно которой основание новой столицы являлось единственным способом вырваться из паутины отсталой Московии в прогрессивную Европу, – всё равно непонятно: почему это «пустое место» надо было выбирать за пределами собственного бескрайнего царства, на чужой, по сути, территории, которая к тому же нисколько не подходила для крупного города?
Иные исследователи, изо всех сил стараясь разгадать логику северного демиурга, вспоминают летописный путь из варяг в греки, который за тысячу лет до того вёл как раз отсюда, с Балтики и Невы, в Средиземноморье. Мол, тогда, в незапамятные времена, здесь начинался «путь от северного языческого варварства к эллинистически-христианской духовности» [23. С. 62], а теперь великий реформатор из той же варварской точки проложил дорогу в цивилизованную Европу. В результате сам собой напрашивается вывод: «Санкт-Петербург, основанный Петром I в истоке великого водного пути России из Балтики к Чёрному морю, пути из Варяг в Греки “Повести временных лет", стал закономерным звеном не только российского, но общеевропейского процесса» [22. С. 47].
Идея, как говорится, красивая. Однако – чересчур, поскольку явственно отдаёт кабинетной придуманностью. Трудно поверить, чтобы сам Пётр руководствовался такими рассуждениями, разворачивая строительство северной столицы. Во всяком случае, по этому поводу никаких исторических свидетельств опять-таки нет.
Параллельные заметки. «Странный народ русский: была столица в Киеве – здесь слишком тепло, мало холоду; переехала русская столица в Москву – нет, и тут мало холода: подавай Бог Петербург!», – иронизировал Николай Гоголь в «Петербургских записках 1836 года» [12. Т. 6. С. 188]. Эх, если б знал Николай Васильевич, что Иван Грозный, как только открылись возможности торговли с Англией, пытался перенести столицу поближе к морю, в Вологду, и «только случай не дал этому осуществиться» [26. С. 195]! Если б знал писатель, что в закрытых в его пору материалах декабристов содержится намерение Павла Пестеля в случае победы на Сенатской площади устроить столицу вообще в Нижнем Новгороде!
Впрочем, тому, что в глазах Гоголя служило предметом для насмешки, некоторые историки старались дать серьёзное объяснение. «…У нас переносятся столицы из одного места в другое, из Новгорода в Киев, из Киева во Владимир, из Владимира в Москву… – писал уже упоминавшийся историк Сергей Соловьёв. – Причина уясняется при первом взгляде на карту. Чрезвычайная обширность государственной области, особенно при малочисленности народонаселения и отсутствии цивилизации, необходимо условливала это явление… правительство чрезвычайно обширной страны принуждено переносить своё местопребывание из одной части страны в другую по мере надобности, по мере прилива и отлива сил народных в ту или другую страну, по мере сосредоточения народных интересов, народного внимания здесь или там…» [37. С. 88]. При всём почтении к выдающемуся учёному такой аргумент принять трудно. Ведь если следовать этой логике, столицы обширных государств – например США, Канады, Китая – должны кочевать с одного места на другое с удручающей регулярностью, особенно в последние века, когда в связи с техническими революциями «приливы и отливы сил народных», а заодно и «сосредоточение народных интересов» менялись намного чаще прежнего.
Существует, наконец, ещё одна гипотеза, в её основу положены личные особенности Петра. Например, фанатически болезненное пристрастие к морю: «По сути, он хотел иметь здесь не просто красавец-город, а город-амфибию», – писал советский исследователь В. Голант [13. С. 40].
Параллельные заметки. Многие, кто окружал Петра, прекрасно понимали, что форпост России здесь, в устье Невы, нужен – крепость, небольшой город, но никак не новая столица. В частности, такую роль в будущем готовы были отвести Петербургу сын царя Алексей и его сторонники, обвинённые в заговоре. Причём это были вовсе не какие-нибудь ретрограды, желавшие вернуть страну обратно в «боярское сонное царство», а убеждённые сторонники реформ, только более глубоких, по-настоящему европейских. Евфросинья, любовница Алексея, показывала на следствии, что «царевич, говаривал: когда он будет государем, и тогда будет жить в Москве, а Питербурх оставит простой город…» [15. С. 62].
…Но не может же быть, чтобы прекрасная северная столица родилась лишь от царской блажной импульсивности и болезненного упрямства! Неужели появление великого города не имело изначально великой идеи? Идея должна была существовать. Её просто не могло не быть.
* * *
В дождливую ночь на 7 мая 1703 года к самому устью Невы подошла шведская эскадра под командованием вице-адмирала Гидеона фон Нуммерса. О взятии русскими Ниеншанца вице-адмирал ещё не знал, но поводы для осторожности у него, видимо, имелись, потому что сперва он отправил в Неву на разведку шняву «Астрильд» и бот «Гедан». Пётр с Меншиковым посадили на лодки Преображенский и Семёновский полки и, внезапно атаковав шведов, перебили их. Оба судна противника по своим размерам и боевым возможностям были весьма скромны, однако Пётр радовался ночному бою, как великой победе. За сию викторию оба «полководца» были удостоены высшей награды – ордена Андрея Первозванного, «офицерам даны медали золотые с цепью, а солдатам – малые без цепей». На обороте медалей была изображена беспримерная победа и её объяснение, данное самим царём: «Небываемое бывает».
По сути, эти два слова – эпиграф ко всей судьбе Петербурга. Город, который по всем законам природы и здравого смысла должен был остаться не более, чем военным форпостом на северо-западе России, – «вознёсся пышно, горделиво» и два с лишним века являлся столицей неохватной империи.
Литература
1. Санкт-Петербург: Автобиография / Сост. М. Федотова, К. Королёв. М.; СПб., 2010.
2. Авсеенко В. Г. История города С.-Петербурга: В лицах и картинках, 1703–1903: Исторический очерк. СПб., 1993.
3. Агеева О.Г. «Величайший и славнейший более всех градов на свете» – град святого Петра (Петербург в русском общественном сознании начала XVIII века). СПб., 1999.
4. Агеева О.Г Петербургские слухи (К вопросу о настроениях петербургского общества в эпоху петровских реформ) // Феномен Петербурга: Труды Международной конференции, состоявшейся 3–5 ноября 1999 года во Всероссийском музее А.С. Пушкина. СПб., 2000.
5. Анисимов Е. Куда ж нам плыть? Россия после Петра Великого. М., 2010.
6. Анисимов Е.В. Петербург времён Петра Великого. М., 2008.
7. Анисимов Е.В. Русский застенок. Тайны Тайной канцелярии. М., 2010.
8. Беспятых Ю.Н. Основание Петербурга: государственная необходимость или государева блажь? // Феномен Петербурга: Труды Международной конференции, состоявшейся 3–5 ноября 1999 года во Всероссийском музее А.С. Пушкина. СПб., 2000.
9. Богуславский ГА. 100 очерков о Петербурге. Северная столица глазами москвича. М., 2011.
10. Вебер Ф.-Х. Из книги «Преображённая Россия» // Беспятых Ю.Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991.
11. Вейдле В. Петербургские открытки // Москва-Петер-бург: pro et contra. Диалог культур в истории национального самосознания: Антология. СПб., 2000.
12. Гоголь Н.В. Собрание сочинений: В 7 т. М.,1966–1967.
13. Голант В. Укрощение строптивой. Л., 1966.
14. Голь Н. Первоначальствующие лица: История одного города. СПб., 2001.
15. Гордин Я. Меж рабством и свободой. СПб., 1994.
16. Длуголенский Я.Н. Век Анны и Елизаветы. Панорама столичной жизни. СПб., 2009.
17. Игнатова Е. Записки о Петербурге: Жизнеописание города со времени его основания до 40-х годов ХХ века. СПб., 2003.
18. Каган М. Град Петров в истории русской культуры. СПб., 1996.
19. Карасёв А.В. Ленинградцы в годы блокады: 1941–1943. М., 1959.
20. Кошелева О. На вечное жительство: Как заселялась северная столица // Родина. 2003. № 1.
21. Лебедев Г.С. Археологи в Петропавловской крепости // Нева. 1981. № 8.
22. Лебедев Г. Рим и Петербург: археология урбанизма и субстанция вечного города // Метафизика Петербурга: Петербургские чтения по теории, истории и философии культуры. Выпуск 1. СПб., 1993.
23. Лебедев Г.С. Феномен Петербурга в региональном контексте // Феномен Петербурга: Труды Международной конференции, состоявшейся 3–5 ноября 1999 года во Всероссийском музее А.С. Пушкина. СПб., 2000.
24. Лелина Е.И. Первый комендант Санкт-Петербурга // Петербургские чтения-96: Материалы Энциклопедической библиотеки «Санкт-Петербург-2003». СПб., 1996.
25. Лирийский, герцог. Записки о пребывании при императорском российском дворе в звании посла короля испанского // Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л., 1989.
26. Лихачёв Д. Русская культура в современном мире // Лихачёв Д. Избранные труды по русской и мировой культуре. СПб., 2006.
27. Мавродин В. Основание Петербурга. Л., 1983.
28. Мезин С.А. Об авторе сочинения «О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга» // Феномен Петербурга: Труды Третьей Международной конференции, состоявшейся 20–24 августа 2001 года во Всероссийском музее А.С. Пушкина. СПб., 2006.
29. Неизвестный автор. О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга // Беспятых Ю.Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991.
30. Переслегин С.Б. Петербург как транслятор культур // Феномен Петербурга: Труды Третьей Международной конференции, состоявшейся 20–24 августа 2001 года во Всероссийском музее А.С. Пушкина. СПб., 2006.
31. Пирютко Ю. Питерский лексикон. СПб., 2008.
32. Прошин Г.Г. «Понеже оный мал…»? // Феномен Петербурга. Труды Третьей Международной конференции, состоявшейся 20–24 августа 2001 года во Всероссийском музее А.С. Пушкина. СПб., 2006.
33. Пушкин А.С. Исторические заметки. Л., 1984.
34. Пыляев М.И. Старый Петербург. М., 1991.
35. Семёнова Л.Н. Снабжение хлебом Петербурга в XVIII в. (Правительственная политика) // Петербург и губерния: историко-этнографические исследования Л., 1989.
36. Синдаловский Н.А. Санкт-Петербург: Энциклопедия. СПб., 2008.
37. Соловьёв С.М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984.
38. Сорокин П.Е. Из предыстории Санкт-Петербурга // Москва-Петербург. Российские столицы в исторической перспективе. М.; СПб., 2003.
39. Столпянский П.Н. Петербург. Как возник, основался и рос Санкт-Питер-Бурх. М., 2011.
40. Шарымов А. Был ли Пётр I основателем Санкт-Петербурга? // Аврора. 1992. № 7–8.
Жестокий «парадиз»
Не какой-нибудь продуманный, прочувственный план был положен при основании российской столицы, нет, и здесь играл первенствующую роль случай, всесильный, всемогущий фактор российской жизни. Он же являлся главнейшим основанием и в дальнейшей истории Северной Пальмиры…
Пётр Столпянский. Петербург. Как возник, основался и рос Санкт-Питер-Бурх
На чём возводилась северная столица – на болоте или «на костях человеческих»?
«Великое посольство» велико было прежде всего своим размахом. Свита главного посла генерала Франца Лефорта, а также обоих его заместителей – сибирского наместника Фёдора Головина и думного дьяка Прокофия Возницына – составляла больше двухсот человек. Исколесили они чуть не пол-Европы. Сам царь, находившийся в свите под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова, пробыл за границей почти полтора года, с марта 1697-го по август 1698-го, остальные и того дольше.
Официально ехали «для подтверждения древней дружбы и любви, для общих всему христианству дел, к ослаблению врагов креста Господня, салтана турского, хана крымского и всех бусурманских орд, и к вящему приращению государей христианских» [10. С. 158]. Однако заключить союз с Западной Европой против «бусурман» так и не удалось.
Вторая задача состояла в том, чтобы учиться. Служа всем примером, Пётр неустанно осваивал премудрости артиллерийского дела, кораблестроения, врачевания и наук… Лифляндия, Курляндия, Пруссия, Голландия, Англия, Австрия – всюду царь старался постичь всё новое, неустанно осматривал промышленные предприятия, порты и судостроительные верфи, военные и торговые суда, достопримечательности и диковинные редкости, кунсткамеры и обсерватории.
Параллельные заметки. Сервильная историография трёх последних столетий всегда с умилением восхищалась неуёмной страстью Петра в освоении наук и ремёсел, однако люди независимого характера относились к этому школярству весьма критически. Так, ещё Екатерина Дашкова, одна из самых образованных и проницательных русских женщин XVIII века, говорила: «Пётр I имел средства нанять не только корабельщиков и плотников, но адмиралов откуда угодно; по моему мнению, он забыл свои обязанности, когда губил время в Саардаме, работая сам и изучая голландские термины, которыми он, как это видно из его указов и морской фразеологии, засорил русский язык» [12. С. 174].
Не только в мемуарах, но и в исторической литературе Саардам фигурирует часто. Тем не менее в этом городе Пётр прожил всего лишь чуть больше недели, хотя из полутора лет своего тогдашнего пребывания в Европе он действительно львиную долю, девять месяцев, посвятил работам на верфях, причём четыре с половиной месяца в Амстердаме ««на Ост-Индской верфи… учась систематически кораблестроению под руководством мастера Геррита Клааса Пооля» [10. С. 156, 172–173].
Пётр собирался завернуть ещё в Италию, но в последний момент передумал и срочно помчался в Москву. По общепризнанной версии – в связи с вестями о новом заговоре сестры и стрелецком бунте. Но, надо думать, ещё и потому, что не терпелось увиденное и заученное во время путешествия поскорей пересадить на русскую почву. Первым делом – брить ненавистные московские бороды, переодевать всех в европейское платье, а затем – вводить новое летосчисление и переименовывать всё и вся на немецкий и голландский лад.
То было начало петровских реформ, которые потом большинство отечественных историков, включая советских, назовут революцией, превратившей азиатскую Московию в европейскую державу.
Но как рождались эти реформы, обычно не говорится, потому что более или менее масштабного, глубокого замысла попросту не было. Василий Ключевский отмечал, что Пётр «из первой заграничной поездки вёз в Москву не преобразовательные планы, а культурные впечатления с мечтой всё виденное за границей завести у себя дома и с мыслью о море, т. е. о войне со Швецией, отнявшей море у его деда» [19. Т. 3. С. 68].