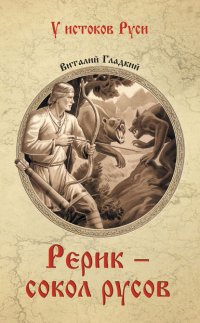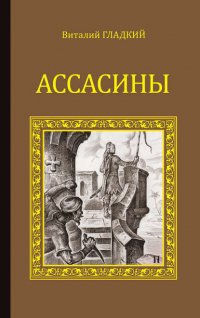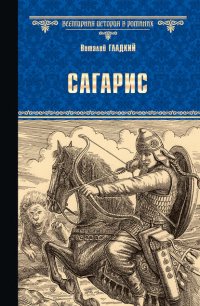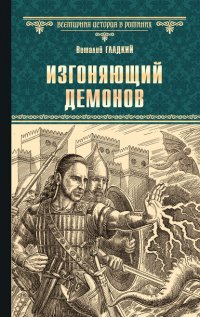Читать онлайн Приключение ваганта бесплатно
- Все книги автора: Виталий Гладкий
© Гладкий В. Д., 2015
© ООО «Издательство «Вече», 2015
* * *
Глава 1. Юный ловелас
В вечерние часы река Эндр, приток Луары, потрясающе прекрасна. Она сверкает и переливается разными оттенками синего цвета и кажется драгоценным ожерельем из сапфиров, небрежно брошенным божественной дланью на земли Бургундии. Клонящееся к закату солнце, укутанное вечерней дымкой, уже не вонзает свои лучи с яростным напором в окружавшие реку лесные заросли и виноградники, как в обеденный час, а стелет сияние мягко, словно невесомый сарацинский флёр[1], вышитый золотыми нитями. Верхушки деревьев светятся позолотой, вода в речных заводях неподвижно застыла и стала похожа на дорогое венецианское зеркало, нигде не слышно ни единого дуновения ветра, не видно ни единого шевеления лоз, отягощенных созревающими гроздьями винограда. Речная долина томится в предвечерней неге. Природа будто прислушивается к неслышной походке ночи, которая подкрадывается с востока, неся в подоле жменю звезд.
И только в развалинах замка Азей-лё-Ридо, который когда-то гордо высился на островке посреди Эндры, слышны тихие переборы струн. Казалось, ангелы спустились на землю, чтобы отдохнуть от дел небесных и насладиться звучанием сладкоголосой лютни. Вот только место для своего пикника они выбрали явно неудачно.
Название замку в XII веке дал хозяин местных земель по имени Ридо, или Ридель, д'Азей. Благодаря своему жестокому нраву Ридо д'Азей получил прозвище Дитя Дьявола. Замок стал грозной оборонительной крепостью. Главной ее функцией была защита пути из города Тур. Спустя какое-то время все владения Ридо были захвачены Генрихом II Плантагенетом, однако Филипп Август вернул их туреньскому рыцарю Гуго, сыну д'Азея, верному вассалу короля, который принимал участие в битве при Бувине.
В 1418 году дофин[2] Франции, будущий король Карл VII, оставив Париж, вынужден был искать пристанище в замках Луары. Однако на тот час гарнизон Азей-лё-Ридо находился в союзе с герцогом Бургундии, и когда дофин прибыл под его стены, то был встречен насмешками защитников крепости. Солдаты называли его незаконнорожденным ублюдком. Взбешенный Карл приказал осадить замок и после его захвата повесил всех уцелевших солдат гарнизона на стенах замка. Крепостные сооружения Азей-лё-Ридо были разрушены и преданы огню, а окрестные деревни разграблены и тоже сожжены.
С той поры крохотный городишко (скорее большая деревня), расположенный неподалеку от замка и носивший его имя, стал называться Азей-лё-Брюле – «Азей Сожженный».
Среди желтых цветов дрока, сплошным ковром покрывавших развалины замка, уютно расположилась влюбленная парочка – юная деревенская девушка и парень, судя по одежде, из дворянского сословия. Ему, как и его подружке, было от силы семнадцать лет, но в широкоплечей фигуре юного дворянина уже чувствовалась мужская сила, которая добывалась не праздным времяпровождением, а многочасовыми тренировками с оружием. В руках он держал видавшую виды лютню, и его тонкие длинные пальцы исторгали из музыкального инструмента потрясающе нежные и мелодичные звуки.
По всему было видно, что в музыке он знает толк. Так же как и в любовных интрижках. Казалось, что юный дворянин всецело захвачен игрой на лютне, даже глаза прикрыл от вдохновения. Однако его прищур был хитрым и лихим. Он внимательно наблюдал за девушкой, которая была на седьмом небе от его музыкальных упражнений.
Наконец парень убедился, что первый акт пьесы сыгран успешно, и приступил ко второму – к решительным действиям. Отбросив в сторону лютню, юный музыкант схватил разомлевшую, мало чего соображавшую девушку в объятия и начал ее страстно тискать и целовать. А затем сорвал с себя рубаху и опрокинул девицу навзничь. Дальше ничего объяснять не нужно – дело в общем-то житейское, молодое…
Вскоре кустики дрока были смяты так, словно по ним прошелся конный отряд рыцарей, притом несколько раз. А благолепие природы нарушили звуки, совсем не гармонирующие с тишиной, царившей в речной долине.
Все-таки иногда нужно заглядывать в глаза женщинам более пристально. Даже когда они бывают на вершине блаженства и в них царит абсолютная пустота. В этом юный ловелас убедился на личном опыте. В какой-то момент, почувствовав, что девушка неожиданно оцепенела, он посмотрел на ее лицо и увидел огромные глазищи, в которых светился ужас. А спустя мгновение молодой дворянин услышал за спиной подозрительные шорохи.
Его реакция была молниеносной. Крепко обхватив девушку руками, он мигом откатился вместе с ней в сторону, а на то место, где они только что забавлялись, обрушился сильнейший удар обычными крестьянскими граблями. Сделаны они были на совесть, из грушевого дерева, поэтому обладали повышенной прочностью, но от сильного удара о землю все равно сломались.
Подхватившись на ноги, юный дворянин схватил лютню и помчался к изрядно порушенным и сбитым на скорую руку мосткам, которые соединяли берег Эндры и островок. Однако бежать со спущенными штанами (скорее не бежать, а прыгать, как заяц) – еще то занятие, особенно когда за тобой гонятся с увесистой дубиной, обломком граблей. Одной рукой натянуть штаны и завязать пояс не было никакой возможности (о том, чтобы бросить лютню, молодой человек даже не помышлял), остановиться – тем более, поэтому ловеласу пришлось на бегу освободиться от пут, в которые превратились его портки, что оказалось несложно. После этого, сверкая голым задом, он припустил со скоростью оленя, спасающегося от охотничьих псов. Юный музыкант не выпустил лютню из рук даже тогда, когда дубинка преследователя просвистела у него над головой.
Ловелас прогрохотал досками мостков и скрылся в кустарнике, которым густо заросли берега Эндры, а со стороны островка послышались девичий плач и грубая мужская брань:
– Шлюха! Грязная девка! Убью! Трам-тара-рам!..
Пусть извинит меня читатель, но бургундский диалект старофранцузского языка не всегда поддается точному переводу, особенно когда он звучит из уст необразованной деревенщины. В общем, на островке бушевали семейные страсти, а молодой человек, спрятавшись в кустах, тем временем решал непростую задачку: как добраться домой в голом виде? Ведь для того, чтобы попасть в отцовский замок, ему придется пересечь Азей-лё-Брюле с одного конца в другой, причем по центральной улице.
Конечно, можно идти полями и огородами, да вот только псы крестьянские, к сожалению, не разбирались в сословных отличиях и не были мирными, безобидными шавками. Война между Англией и Францией за Фландрию и французские провинции Гиень, Нормандию и Анжу, длившаяся столетие, заставила бургундских крестьян позаботиться о сохранности тех скудных ценностей, которые не смогли отобрать отряды воюющих сторон, занимающиеся откровенным мародерством. Но самым главным сокровищем для вояк была еда, поэтому ее реквизировали в первую очередь.
Деревни и небольшие города грабили не только солдаты двух армий, но и дезертиры, а также шайки разбойников, расплодившиеся в лихолетье в большом количестве. Кроме того, по Франции нескончаемым потоком шли разоренные войной крестьяне и паломники, которые пытались вымолить у Господа не только прощение грехов, но и лучшую жизнь. Вместе с ними бродили по дорогам Французского королевства музыканты, жонглеры и ваганты[3], скрашивающие своими представлениями тяжелую, серую обыденность как простолюдинов, так и дворян. И вся эта масса нищих и голодных путешественников набрасывалась на сады, поля и огороды земледельцев словно саранча. Поэтому бургундские вилланы[4] обзавелись мощными сторожевыми псами породы алан, второе название которых было «катающиеся в грязи».
Юный ловелас, отмахиваясь веткой от комаров, привлеченных его голым, пышущим жаром телом, мучительно размышлял, как ему быть дальше. В конечном итоге он решил подождать, пока отец девушки (а это его грозный голос гремел над островком) уберется восвояси, забрав свое беспутное чадо, и поискать штаны. Вскоре опять загремели доски мостков под грубыми крестьянскими башмаками, и над развалинами замка воцарилась благостная тишина. Испуганно оглядываясь по сторонам, юноша выбрался из своей засады и возвратился на островок. Однако там молодого человека ждало большое разочарование – его шоссы (штаны-чулки) исчезли.
Он обшарил весь остров, но штанов и рубахи нигде не было. Похоже, крестьянин забрал их с собой. Одежда стоила очень дорого, тем более – дворянская, и он, видимо, решил таким образом компенсировать урон, нанесенный юным ловеласом чести его семейства. Тогда смекалистый юнец надрал лыка и сделал себе некое подобие юбки – чтобы прикрыть срам. А затем, преодолев неширокое открытое пространство от кустов до дороги, залег за пнем в ожидании повозки.
Его надежды на транспортное средство сбылись со сказочной быстротой. Вскоре послышались понукания, и на дороге показалась кляча, запряженная в возок. Возчик-виллан, испуганно поглядывая по сторонам и на изрядно потемневшее вечернее небо, то и дело охаживал бедную животину по ребристым бокам длинной хворостиной. Но старая кобыла и в молодости не отличалась прытью, а нынче и вовсе еле копытами двигала. Иногда она поворачивала свою безобразную голову и с укором смотрела на хозяина изрядно потускневшим от старости фиолетовым глазом, словно хотела его спросить: «За что?! За что бьешь? Я и так спешу, из последних сил выбиваюсь».
Виллана можно было понять. Разбойники и мародеры могли и днем напасть, а уж вечером и по ночам для них и вовсе начиналось раздолье. Из-за войны, которая перемолола в своих беспощадных жерновах большинство крепких молодых мужчин, за порядком и законами в провинции следить практически было некому. Конечно, у возчика была и дубина, утыканная гвоздями, и длинный нож, но что он мог сделать, попадись в руки хорошо вооруженных дезертиров? Виллан дрожал как осиновый лист и мысленно просил защиты у всех святых, которых помнил.
Когда перед повозкой вырос практически голый человек с лютней в руках и юбке из лыка, бедняга решил, что тут-то ему и конец пришел. В сгустившихся сумерках лютня напоминала какое-то неведомое грозное оружие, а «одежда» неизвестного и вовсе могла свести с ума кого угодно. Ведь так одеться мог только сумасшедший, потерявший разум на войне. Их тоже было немало. Поговаривали, что эти несчастные не брезгуют и человечиной.
– Н-не… н-не… – заикаясь, забормотал совсем потерявший голову виллан, который забыл, что позади него лежит защитница-дубина. – Не убивайте, смилуйтесь Христа ради!
Юный дворянин присмотрелся к его перекошенной от страха физиономии, затем радостно осклабился и с облегчением воскликнул:
– Старина Кошон! Чертовски рад тебя видеть! Да не трясись ты, как припадочный! Это я, Жиль.
Виллан был хорошо знаком молодому человеку. Он не раз привозил в отцовский замок сено и всегда одаривал маленького Жиля искусно вырезанными из дерева игрушками. В этом деле Кошон был непревзойденным мастером, несмотря на свое не очень благозвучное имя. Его деревянные поделки, в том числе миски и плошки, шли нарасхват. Вот и сейчас он вез хорошо высушенные деревянные заготовки для своих изделий. Понятное дело, чурбаки за его спиной были ворованными из господского леса, поэтому Кошон боялся не только разбойников, но и слуг графа, которому принадлежали лесные угодья.
– Жиль? Господин, это правда вы?
Виллан быстро обрел душевное равновесие, что и неудивительно. Многие крестьяне Бургундии промышляли браконьерством, поэтому всегда были готовы к любому повороту событий. Но только не в том случае, когда на их пути вырастал нечистый. А Жиль со своей взлохмаченной головой и в дикарском наряде, да еще в сгустившихся сумерках, как раз и выглядел пришельцем из потустороннего мира. Или лесным языческим божеством. Несмотря на христианскую веру, прочно утвердившуюся в сознании простонародья, древние языческие верования и обычаи продолжали бытовать в крестьянской среде.
– А то кто же, – ответил юный ловелас и облегченно вздохнул.
Теперь серьезная проблема добраться домой незамеченным уже не выглядела столь неразрешимой.
– Что это вы так вырядились? – спросил Кошон.
– Э-э… пока я купался в реке, какой-то негодяй стащил мои шоссы и рубашку, – быстро нашелся Жиль.
– Понятно… – Кошон хитровато осклабился. – Бывает…
Он не поверил ни единому слову молодого господина. Жиль был еще тем проказником.
– Довези меня до замка, – попросил Жиль. – За это – и не только за это! – ты получишь денье[5].
Он мог бы просто приказать Кошону подвезти его до дома, но тогда не было никакой уверенности, что тот не развяжет язык.
– Простите, господин, но что значит «и не только за это»? – спросил осторожный Кошон.
– А то и значит, что ты должен держать язык за зубами! – ответил Жиль. – Если проболтаешься кому-нибудь по поводу моего «наряда» – и вообще, что встретил меня на дороге в столь поздний час, – я отрежу тебе уши. Клянусь святой Пятницей!
Это уже было серьезно. Кошон ни на миг не усомнился, что Жиль сдержит обещание. Он пошел в своего отца, властного и своевольного рыцаря Ангеррана де Вержи. Отец Жиля происходил из старинного дворянского рода, первые упоминания о котором относятся к VII веку. Название рода произошло от замка Вержи, считавшегося неприступным. Он располагался в гористой местности около Бона в Бургундии.
Со временем ветвь де Вержи, к которой принадлежал Ангерран, сильно обеднела (чему в немалой мере поспособствовала Столетняя война), и рыцарь, женившись, едва наскреб нужную сумму, чтобы в 1432 году купить возле Азей-лё-Брюле крохотное поместье с изрядно порушенными строениями, именуемыми замком. Тем не менее среди его родственников значился даже камергер короля, Антуан де Вержи, граф де Даммартен, маршал Франции и рыцарь ордена Руна, который благополучно почил в 1439 году.
Ангерран де Вержи редко когда был в хорошем настроении. Он постоянно злобился оттого, что в конце Столетней войны бургундцы сильно продешевили и он получил сущие гроши.
В мае 1430 года Жанна д’Арк пришла на помощь Компьеню, осажденному бургундцами. А 23 мая в результате измены (был поднят мост в город, что отрезало Жанне путь отхода) ее взял в плен отряд под командованием Ангеррана де Вержи. Король Карл, который был обязан ей очень многим, не сделал ничего, чтобы спасти Орлеанскую деву. Бургундцы продали Жанну д’Арк англичанам за десять тысяч золотых ливров[6], большая часть которых оказалась в кошельках бургундского герцога Филиппа и нескольких графов. А рыцари, пленившие Жанну, получили за свое «геройство» лишь жалкие крохи.
Похоже, они забыли, что позорные тридцать сребреников никогда и никому не приносили счастья и достатка…
– Не сомневайтесь, ваша милость. Я буду нем как рыба, – проникновенно ответил Кошон. – Устраивайтесь поудобней, – кивнул он на задок своей повозки. – Там это… кгм!.. – прокашлялся он несколько смущенно. – Там есть кусок старого армейского шатра, так вы прикройтесь. Он хоть и рваный, но все же… А то народ у нас сами знаете какой. Особенно бабы. Трещат как сороки. Такое иногда плетут, что ни в какие ворота не лезет…
Жиль благоразумно послушался совета Кошона и спустя час уже входил в ворота отцовского замка. Ему открыл привратник, старый и немного глуховатый Гуго.
– Вечер добрый, старина! – весело сказал Жиль, довольный тем, что его никто не увидел.
Что касается Гуго, то он не обратил никакого внимания на одежду молодого господина, с детства отличавшегося сумасбродством. Мало ли что ему взбредет в голову. Да и время было позднее. Главным делом Гуго было следить за воротами, чтобы никто чужой не смог проникнуть в замок без позволения хозяина. А там хоть трава не расти. Кроме старика-привратника по ночам замок охраняли стражники, но надежда на них была малая. Все они были выпивохи, любители хорошо покутить днем в таверне Азей-лё-Брюле и всласть отоспаться ночью на посту.
Во дворе замка, возле коновязи, стояло несколько чужих лошадей. Похоже, у отца были гости. Жиль мимоходом подивился, почему не поднят мост, который вел к воротам и который был переброшен через изрядно обмелевший ров, но теперь понял, что послужило причиной этому. Обычно ловкий и сильный ловелас после своих тайных похождений, которые заканчивались ближе к полуночи, перелезал через стену как белка. Скрежет подъемного механизма, которым управлял Гуго и который, казалось, бодрствовал в любое время дня и ночи, мог переполошить не только стражу, но поднять с постели и отца. А тот относился к сыну как к обузе. Старый рыцарь, мечтавший вырастить достойного продолжателя рода, относился к его увлечению музыкой более чем прохладно.
Отцовский замок не впечатлял ни размерами, ни мощью. Когда-то он был серьезным крепостным сооружением, но военное лихолетье превратило его в обычную манору – укрепленную усадьбу. Прежний хозяин замка насыпал высоченную гору земли и окружил ее глубоким и широким рвом. Верхняя часть насыпи была укреплена толстой стеной из бревен, накрепко соединенных между собой, которая не раз и не два горела и чинилась. Внутри рва и крепостной стены находился дом-крепость, который был центром всей постройки.
Первый этаж дома служил складом. Там были сложены огромные ящики, бочки, лари и другая домашняя утварь. На втором этаже находилось помещение для приема гостей и комната, где спали хозяева – Ангерран де Вержи и мать Жиля, которую звали Шарлотта. От гостевой ее отделяла тяжелая ширма. В глубине хозяйской спальни имелась небольшая потаенная комната, где по вечерам, во время болезни или кровопускания, или для того, чтобы просто согреть грудных детей, разжигался камин. В чердачных помещениях находились спальни для детей и немногочисленной прислуги. Дом соединялся с кухней – двухэтажной каменной пристройкой к дому – лестницами и переходами. Лестницы также вели из дома на просторный балкон, где жильцы дома часто сидели и разговаривали, а оттуда – в молельню.
В дворовых постройках располагались конюшня, сарай для хранения сена, зерновой амбар и мастерская, которой заправлял Гийо. Он был ленив до неприличия, его редко можно было увидеть трезвым, но Ангерран де Вержи терпел Гийо лишь потому, что тот был мастер на все руки. В трезвом виде он умел делать все: чинить сбрую, столярничать, мог подковать лошадь, отремонтировать доспехи и оружие и даже читать библейские тексты не хуже городского каноника.
Впрочем, в прежней жизни Гийо довелось побыть и монахом. А до этого он учился в Парижском университете – Сорбонне. Но лень, страсть к спиртному и обжорство в конце концов опустили его на житейское дно, где он и пребывал как у Бога за пазухой – в теплоте и относительном уюте, не голодный и всегда подшофе. Строгий хозяин смотрел на все его грешки и проделки сквозь пальцы.
Жиль, тая дыхание, тенью метнулся по лестнице на чердак, в свою комнату. Но даже скрип ступенек не мог отвлечь Ангеррана де Вержи от весьма интересной и содержательной беседы с гостем – боевым товарищем, а теперь соседом, рыцарем Гю де Ревейоном. Быстро натянув старые шоссы, Жиль спустился на второй этаж и посмотрел на стол, за которым сидели отец и гость. Посмотрел и сокрушенно вздохнул – на столе, кроме вина, ничего не было. А ужин (вернее, его остатки), который должен был предназначаться Жилю, доедали под столом две борзые.
Юный шалопай прислушался. Говорил Гю де Ревейон, считавшийся большим знатоком по части охоты на оленей. Правда, с некоторых пор все лучшие охотничьи угодья считались королевскими, и вместо оленей дворянам приходилось довольствоваться охотой на диких кабанов. Немногие из них, в основном герцоги и графы, имели привилегии по этой части, сравнимые с королевскими.
– …Церковь вообще была враждебно настроена по отношению к охоте как таковой. Поэтому охота на оленя отцам церкви представляется наименьшим злом, – Гю де Ревейон сделал большой глоток вина из кубка, который стоял перед ним, и продолжил: – Она не такая дикая, как охота на медведя или охота на кабана, и не заканчивается кровавым поединком человека со зверем. На ней погибает меньше людей и собак, охота на оленя не столь разорительна для полей вилланов. Конечно, она не такая спокойная, как птичья охота, а осенью, в период гона, когда олени особенно возбуждены, оленья охота даже приобретает ожесточенный характер. Но вне зависимости от времени года преследование оленя не вводит охотника в состояние, близкое к бешенству, в которое его может погрузить схватка с медведем или кабаном.
– Как по мне, – фыркнул Ангерран де Вержи, – так лучше уж сразиться с медведем или огромным вепрем, нежели носиться по полям за оленями. Убить оленя из арбалета на расстоянии или перерезать ему горло, когда он ранен, много ли нужно для этого хладнокровия, силы и смелости? В этом ли состоит главное достоинство настоящего охотника?
– Конечно, в ваших словах, дорогой мой Ангерран, есть крупица истины. Но вспомните легенду о Евстафии – римском военачальнике и яром охотнике. Преследуя оленя, он узрел распятие у него между рогами, после чего вместе со всей своей семьей обратился в христианство. А как вам история Губерта, сына герцога Аквитанского, у которого было такое же видение во время охоты в Страстную пятницу, вследствие чего он совершенно изменил свою жизнь, уехал проповедовать в Арденны и стал первым епископом Льежским?
Ангерран де Вержи скептически ухмыльнулся и ответил:
– Мой добрый друг, я не горю желанием стать епископом. Святости во мне не прибавится, даже если я повстречаю стадо оленей, которое покажет мне не просто распятие, а целый храм. Я старый солдат, и этим все сказано. Пусть уж короли охотятся на оленей. Это дело вполне по силам помазанникам Божьим, а мы уж как-нибудь обойдемся и кабанами… – в голосе хозяина замка прозвучала ирония.
Он не очень праздновал ни герцога Бургундии, ни короля Франции. Собственно, как и многие другие дворяне. Столетняя война наложила на них особый отпечаток, который выражался в свободолюбии и весьма прохладном отношении к сюзеренам. Особенно это касалось пожилых рыцарей, которым на своем веку довелось много чего увидеть и перенести: победы и поражения, ранения и увечья, гибель друзей, вероломство и предательство. Они освободились от романтических представлений, свойственных молодости, и больше думали о хлебе насущном, нежели о куртуазности.
– Однако же гибель короля Франции Филиппа Красивого в конце 1314 года произошла в результате несчастного случая, произошедшего на охоте в Компьенском лесу при столкновении с кабаном, – сказал Гю де Ревейон. – Или вспомните поистине странную смерть принца Филиппа, сына Людовика VI Толстого, примерно за двести лет до этого. В октябре 1131 года на улице Парижа под ноги коню, на котором ехал юный принц, кинулся поросенок, в результате чего Филипп упал с лошади и умер. А династия Капетингов покрылась несмываемым позором, который не могут скрыть даже девственно чистые лилии на королевском гербе. Обычная беспризорная свинья стала причиной смерти коронованной особы! Ночной образ жизни дикого кабана, темная масть, глаза, словно мечущие искры, огромные клыки – все заставляет видеть в нем зверя, который вышел из самой бездны ада, чтобы терзать людей и бунтовать против Бога. Кабан безобразен, он брызжет слюной, дурно пахнет, поднимает дикий шум, у него полосатая щетина, дыбом стоящая на спине, а из пасти растут рога. Святые отцы утверждают, что кабан – воплощение Сатаны.
– Тем не менее жаркое из кабана не хуже оленины, – улыбаясь, отвечал Ангерран де Вержи. – В чем мы завтра, надеюсь, и убедимся…
Жиль не стал дальше слушать треп старых боевых товарищей. Сбежав вниз, он направился не на поварню, где, по идее, должно было остаться хоть что-то съестное, а в мастерскую Гийо. Повар, а заодно и эконом замка де Вержи по имени Ватье был страшным педантом и скрягой. Поэтому Жиль был уверен, что на кухне не осталось даже обглоданной косточки, все котлы давно вымыты и остатки еды выброшены псам. А есть ему хотелось со страшной силой, ведь с самого утра у него не было во рту ни крошки.
Гийо развлекался – учил своего пса Гаскойна ходить на задних лапах с тарелкой на голове. Он где-то подобрал совершенно беспородную дворняжку, которая оказалась весьма смышленой, и теперь развлекал дворню представлениями. Народ охал и ахал. Гаскойн вытворял потрясающие штуки, заставившие местного кюре прозрачно намекнуть Гийо, что тот благодаря своему дьявольски умному псу уже почти готов познакомиться со святой инквизицией. На что сразу же получил ответ:
«Ваше преподобие, по-моему, собаки – весьма уважаемые животные. Церковь это давно признала. Чего стоит случай, когда мать святого Доминика увидела во сне пса с пылающим факелом в зубах. После чего отцы доминиканцы сделали его своей эмблемой, а их самих стали называть «псами Господними». Так в чем же моя провинность? В христианской любви к живому созданию, тем более такому важному в жизни церкви?»
Кюре пришлось отступить. Не шибко образованный деревенский священник не мог тягаться в схоластике с бывшим студиозом[7] и монахом. У Гийо всегда был ответ на любые казуистические вопросы.
– А, это вы, мессир… – Гийо расплылся в довольной улыбке. – Милости прошу. Поскучаем вместе.
Он называл Жиля «мессиром», хотя тот не был посвящен в рыцари и не имел права на этот титул. Впрочем, юный Жильбер де Вержи не очень и стремился получить рыцарские шпоры; его с неодолимой силой влекла музыка, а также сочинительство стихов и баллад.
– У тебя есть чем перекусить? – нетерпеливо спросил Жиль.
– Ах, мессир, ну что за вопросы в такой поздний час? Ведь чревоугодие относится к одной из восьми греховных страстей. Обжорство вызывает телесные и духовные страдания, так как предмет радости сластолюбца не является истинным благом. И уж тем более нельзя ложиться в постель с набитым чревом. Любой лекарь скажет вам, что это вредно для здоровья…
– Хватить болтать! – раздраженно перебил его Жиль. – Иначе я тебя самого слопаю с потрохами. Тащи все, что у тебя припрятано.
Он точно знал, что Гийо, который за свою хитрость и оборотистость получил прозвище Пройдоха, никогда не ложится спать голодным. Он ел за троих, но, что самое удивительное, был худым как палка. Ангерран де Вержи не мог похвалиться богатством и кормил своих домочадцев, а тем более слуг, весьма скудно, однако Гийо как-то ухитрялся наедаться до отвала. Это было загадкой, которую не мог разрешить даже пронырливый Жиль. Впрочем, и не пытался. Он знал, что у Гийо всегда найдется для него вкусный кусочек чего-нибудь. А это было главным.
– Что ж, коли вы не цените свое здоровье… – кряхтя, Гийо полез куда-то в угол достаточно обширной мастерской, порылся там, и притащил нечто объемистое, завернутое в листья лопуха. – Милостивый Господь сегодня сжалился над бедным самаритянином и послал мне эту птичку. Я хотел съесть ее завтра, на утренней трапезе, но разве можно отказать вам, мессир? Похоже, у вас очередная любовная интрижка? – глаза Гийо лукаво блеснули. – О да, тогда мне все понятно. Ничто так не способствует здоровому аппетиту, как любовь.
– Ты много себе позволяешь! – зло огрызнулся Жиль.
Но тут же растаял, пуская голодные слюнки. В обертке из лопухов находились жареный каплун и несколько лепешек.
– Откуда это у тебя? – удивился молодой человек.
– Я же говорю – Бог послал… – Гийо сложил ладони лодочкой и поднял глаза к закопченному потолку. – Так возблагодарим Всевышнего за его милости! – загнусавил он в точности как местный кюре.
Жиль небрежно изобразил крестное знамение, оторвал ножку каплуна и жадно вгрызся в нежное мясо своими крепкими молодыми зубами.
– Э-э, господин, не так резво! – всполошился Гийо. – Под такой превосходный ужин всенепременно нужен хороший кларет из Бордо.
С этими словами он достал из-под стола пузатый глиняный кувшин. Жиль с подозрением посмотрел на Пройдоху, но тот сделал невинное лицо и быстро разлил вино по оловянным кружкам. Юный дворянин мог поклясться, что уже видел такие кувшины в винном погребе отца. Вино старому рыцарю привезли в подарок боевые друзья, и он держал его до помолвки старшего сына и наследника Этьена, которая намечалась на осень. Похоже, Гийо не надеялся получить приглашение на торжество и, не дожидаясь свадебного пира, решил самостоятельно обмыть столь важное событие в жизни замка Вержи.
Вскоре на столе остались лишь одни кости. Звучно рыгнув и погладив себя по животу, Гийо бросил их песику, который скулил от голодного нетерпения, а затем сказал, прихлебывая вино:
– Вы бы, мессир, отправлялись спать. Мне, конечно, хочется пообщаться с вами подольше, но наш господин назначил на завтра охоту на кабана. Так что вас поднимут с утра пораньше. А сонному болтаться в седле никак негоже. Можно мигом свернуть себе шею.
Жиль мысленно застонал. Опять охота на кабана, и снова придется вставать ни свет ни заря! Охотиться он любил, как и все окрестные дворяне, но какого дьявола садиться в седло в такую рань?! То ли дело – охота на птиц, когда вокруг много девушек и женщин и все действо идет неторопливо, обстоятельно, белым днем. Многозначительные взгляды, томные вздохи, от которых замирает сердце в груди, стремительный полет охотничьего сокола… А затем пикник на траве, много песен и музыки и веселая, ни к чему не обязывающая болтовня.
И самое главное – с трудом продрав в темноте глаза, не нужно мчаться сломя голову на конюшню, где запросто можно схлопотать удар копытом, ведь для лошадей столь ранняя поездка тоже не мед.
– Что-то на сон меня совсем не тянет, – пожаловался Жиль.
– Это бывает, – ответил Гийо. – По молодости и я мог сутками не спать, шляясь по тавернам и беспутным девицам.
– Однако же, – вдруг вспомнил Жиль только что закончившийся вкусный и сытный ужин, – откуда у тебя этот каплун? Господь, конечно, изредка посылает нам разные милости, но что-то я никогда не видел и не слышал, чтобы с неба падали жареные каплуны.
– Ах, мессир, вы так молоды! Поэтому много чего не знаете. В мире хватает разных чудес.
– Гийо, лгать своему господину негоже! Говори правду, мошенник.
Гийо тяжело вздохнул и с невинной миной на своей живой физиономии, изрядно окрашенной бурым винным румянцем, ответил:
– Понимаете, ваша милость, тут вышло такое происшествие. Иду я мимо речки по меже, где заканчиваются огороды вилланов, и вдруг слышу, что-то шуршит в камышах. Поначалу я испугался и хотел дать деру – вдруг там притаился разбойник или зверь какой, – а потом все же любопытство пересилило страх. Заглянул в камыши и вижу, что какой-то изверг поставил у кромки воды петлю, в которую и угодил этот каплун. Я быстро освободил птичку, да вот беда, ей уже пришел каюк. Вот мне и пришла в голову мысль, что выбрасывать каплуна – грех.
– А отдать бедную птицу хозяину у тебя рука не поднялась… – с иронией сказал Жиль.
– Мессир, что вы такое говорите?! – ужаснулся Гийо. – Или вы не знаете наших вилланов? Они сначала бьют, а потом разбираются, что там и как. Ну нет уж, увольте. Мне мое здоровье дороже какого-то каплуна. И потом, я не согласен отвечать за чужие грехи.
– Ну да, ну да… – Жиль расхохотался. – У тебя и своих грехов хватает, зачем тебе лишний. Это я понимаю… Экий ты плут, однако. Плесни еще вина…
Он был уверен, что петлю на крестьянских кур поставил именно Гийо. Молодой человек знал, что гуси вилланов свободно плавают в речке, а по бережку, выискивая червячков и жучков, бродят стайки кур. В летнее время на свободном выпасе им не нужна никакая подкормка, что для крестьян было очень важно. Этим и воспользовался Пройдоха. А Жиль все удивлялся: откуда в мастерской Гийо время от времени появляется куча костей?
И самое главное: его чересчур умный пес Гаскойн был до такой степени избалован, что ел только мясо, а от всего другого воротил нос. Похоже, тайное стало явным…
Гийо был странной и даже загадочной личностью. Его прошлое было туманно и весьма неопределенно. Он был не просто грамотен, а очень хорошо образован, хотя и старался скрыть свою ученость под маской простака. Жиль подозревал, что Гийо не тот, за кого себя выдает. В некоторые моменты он вел себя как хорошо воспитанный дворянин, что уже само по себе было странно. Но почему Гийо поселился в такой глуши, как Азей-лё-Брюле? Над этим вопросом Жиль задумался только сейчас.
Как-то так получилось, что Гийо стал его учителем. Мать Жиля была вдовой, когда вышла замуж за Ангеррана де Вержи. Она даже не успела родить дитя своему первому мужу, когда тот погиб в очередной военной заварушке. Замуж ее отдали очень рано, в двенадцать лет, и после смерти мужа она решила устроить траур по убиенному на целое десятилетие. А все это время, чтобы хоть как-то скрасить горечь одиночества, она музицировала и усиленно штудировала разные науки, благо ее семья была хорошо обеспечена и юная Шарлотта могла делать все, что ей заблагорассудится.
Когда родились первые двое детей Ангеррана де Вержи – сын Этьен и дочь Рошель, она была под властной пятой Ангеррана де Вержи, который считал, что мужчинам грамотность только во вред, а женщины в лучшем случае должны уметь читать с горем пополам, и то Библию, да поставить свою подпись, где нужно. Поэтому Этьен вырос малограмотным и знал лишь денежный счет, а более способная к обучению Рошель пристрастилась к чтению рыцарских романов и витала в розовых облаках.
Но, когда на свет появился Жиль, матушка Шарлотта уже командовала в доме. Характер у нее оказался как бы не жестче, чем у мужа. Она подчинила его своей воле всецело, и рыцарь в ее присутствии боялся даже голос повысить. Поэтому Жиль стал учить азбуку, едва научившись говорить. К десяти годам он знал почти все то, что знала его матушка. Затем мальчика отвели к сельскому кюре, чтобы тот продолжил обучение. Но священник, проэкзаменовав своего нового ученика, в диком удивлении пришел к выводу, что тот более силен в грамоте, чем он сам.
Кюре был человеком честным и не стал хитрить, чтобы выцыганить у семьи де Вержи несколько серебряных монет. Он вернул мальчика в замок, развел руками и сказал, обращаясь к госпоже, что больше того, что знает Жиль, он дать ему не сможет. Разочарованию Шарлотты де Вержи не было пределов; она мечтала видеть сына не военным (двух рыцарей – мужа и сына Этьена – семье вполне достаточно), а ученым, тем более что Жиль все схватывал на лету. И главное, он начал писать стихи и замечательно играл на лютне, что для госпожи было как елей на сердце.
И тогда в жизни юного Жильбера де Вержи появился Гийо – настоящий кладезь разнообразных знаний. Правда, некоторые его уроки попахивали еретическим душком, но Жиль об этом не задумывался, потому как мало что понимал из тех откровений, которые изрекал Гийо. Вскоре юный де Вержи трещал на латыни как сорока и благодаря Гийо стал более-менее сносно разговаривать на фламандском языке, который был очень похож на нидерландский и немецкий. Гийо из каких-то своих соображений всегда представлялся валлонцем, но Жилю почему-то казалось, что он родом из Фландрии.
Здесь нужно отметить, что Гийо учил его не только грамоте. Он был главным наставником по любовной части. К семнадцати годам Жиль познал женскую ласку и совсем не терялся, как многие его сверстники, в обществе дам. Мало того, юного де Вержи смешил романтизм приятелей, которые обожествляли разных дурочек с невинными коровьими глазками. Жиль обещался стать циником и развратником (что, впрочем, в те времена среди дворян не было чем-то из ряда вон выходящим).
Спать Жиль ушел далеко за полночь – лишь тогда, когда кувшин бордоского показал дно. Он уснул сразу как убитый. До самого утра ему снился один и тот же кошмар: он бежит со спущенными штанами по стерне и никак не может их снять, а за ним гонится страшное чудище. Иногда Жилю удавалось взлететь над полем, и тогда он радостно смеялся, наслаждаясь полетом, и корчил рожи преследователю – попробуй, достань! – но витание в небесах было коротким, и ему снова приходилось бежать по колючей стерне, выбиваясь из последних сил.
Глава 2. Андрейко
Андрейко с интересом рассматривал грозные вежи и башни Литовского замка. Он сопровождал своего пана, Якова Немирича, у которого было какое-то дело к киевскому воеводе. Раньше в литовском замке находились киевские князья, но теперь они имели свой замок на левом берегу Днепра, напротив Подола. Там сейчас обитал княживший в Киеве Олелько Владимирович. А Литовский замок стал местом пребывания воеводы.
Подросток был одет худо. Жена пана, Галшка Немиричева, держала слуг в жесткой узде и кормила их абы чем и абы как, и на одежду не шибко тратилась. Тем не менее даже в своих обносках Андрейко выглядел как шляхтич, случайно надевший одежду простолюдина: высокий, стройный, очень смуглый, с густой гривой черных волос. Он смотрел на мир как паныч – черными, слегка раскосыми глазами, независимо и даже дерзко. Похоже, в его жилах текла немалая примесь восточной крови.
Для столь представительного выезда пани Галшка выдала Андрейке старенькие башмаки своего сына Ивашки Немирича, но они сильно жали, поэтому подросток снял их и, связав куском бечевки, перекинул через плечо. Яков Немирич ехал на добром коне, раскланиваясь со знакомыми, а Андрейко топал рядом, держась за стремя. Когда конь переходил на рысь, подростку приходилось бежать, но его легкие работали как лучшие кузнечные меха и он совершенно не чувствовал усталости.
В Литовский замок вело двое ворот: Воеводские со стороны Щекавицы (к ним шла крутая дорога, на которой зимой приходилось вырубать во льду ступени), и Драбские. От них можно было попасть в Верхний город и на Подол. Сбоку от ворот лежала куча земли – недавно углубляли ров, через который был переброшен подъемный мост на двух цепях. Одни и другие ворота защищали две башни под вежами. Кроме ворот из замка на Подол вела калитка, но она всегда была закрыта на замок.
Стража у ворот пропустила Немирича во двор замка без задержки. В Киеве род Немиричей пользовался большой известностью, поэтому драбы[8] не стали звать своего начальника, ротмистра, чтобы тот дал разрешение на въезд. Охрану Драбских ворот несли солдаты киевского гарнизона, а Воеводские охраняли киевские мещане.
Бросив поводья Андрейке, Яков Немирич с важным видом направился к дому воеводы. Двор замка был застроен густо. Здесь находились дома воеводы и ротмистра, казармы солдат гарнизона и многочисленные хозяйственные и военные постройки. В Литовском замке были четыре деревянные церкви – три русские и одна латинская. В свое время посреди замкового двора киевляне вырыли жизненно необходимый колодец глубиной свыше тридцати сажень с деревянным срубом. Он имел коловорот, крышу и был замкнут, чтобы лихие люди или лазутчики не отравили воду.
Замок был укреплен боевыми башнями. Их насчитывалось пятнадцать. Стены башен для предохранения от огня облепили толстым слоем глины (местами толщиной до двух пядей[9]), а возле земли – и того больше. Башни имели бойницы в три этажа и завершались высокими шатровыми крышами.
Стены представляли собой ряды срубов, которые назывались «городни». Они засыпались землей, а поверху шло «блинкование»: защитная стенка с бойницами и крытым верхом с «подсябитьем» – выдвинутой вперед части блинкования с отверстиями снизу для сбрасывания камней на осаждающих. Перед Драбскими воротами находилось Лобное место, и киевляне, если им приходилось здесь бывать, испуганно крестились: отведи, Господи!
Замковая гора возвышалась над Подолом примерно на сорок сажень. Раньше она называлась просто Горой. Замок был построен в эпоху, когда огнестрельное оружие еще не было совершенным. Поэтому окружающие Литовский замок горы были равны по высоте, а некоторые поднимались даже выше Замковой. К примеру, с горы Щекавицы хорошо просматривалась часть замкового двора, а гора Уздыхальница была выше Замковой на пять сажень, что сильно мешало обороне замка.
Андрейко отвел коня к коновязи, но сена там не было, и он решил найти хоть клок свежескошенной травы. Найти в его понятии было, мягко говоря, позаимствовать корм у лошадей стражи. Они хрумкали отавой возле конюшен, где находились ясли – длинный желоб, сбитый из нестроганых досок. Воровато оглядываясь по сторонам, Андрейко крадучись приблизился к лошадям, но траву из яслей брать не стал, а собрал ту, что лежала на земле.
Едва он положил охапку отавы перед конем своего пана, как вдруг над ухом раздался грозный голос:
– А что это ты творишь, шибеник?! Воровать вообще негоже, а уж казенное добро – тем более. Ты кто? Ну-ка, отвечай!
Андрейко поднял голову и увидел мужика в годах с добродушным лицом и длинными усами. Судя по его одежде, он был конюх: кожаная безрукавка, белая вышитая рубаха без ворота не первой свежести, изрядно изгвазданные шаровары, широкий кожаный ремень с ножом и на плече длинный кнут с толстым резным кнутовищем, на который Андрейко посмотрел с опаской.
Ему уже приходилось видеть подобные кнуты. Точно такой имел конюх Немиричей. Его делали о трех концах, и в каждый из них вплели по свинцовой бите. Пастух, который гонял лошадей в ночное, таким кнутом с одного удару перешибал волку хребет.
– Андрейко я… Нечай, – виновато потупившись, ответил подросток. – Простите, дяденька, я больше не буду…
– Нечай, говоришь?
– Ага…
– Уж не старичища Кузьмища ли ты внучек? Того, что живет на Подоле?
– Ну да, его…
– Вишь-ко, как вымахал! – удивился конюх. – Помню тебя вот таким мальцом… – он показал. – От горшка два вершка. Кузьмище-то живой?
– Живой.
– Вот и добре. Хоть он и на лешака смахивает, а человек порядочный. Никогда не бросит человека в беде. Ужо было…
Тут конюх умолк, нахмурился, повздыхал немного – видимо, своим воспоминаниям, а затем спросил:
– Голоден, поди?
Андрейко замялся. По правде говоря, в его пустом животе черти в бубен били. С утра пораньше пан засобирался нанести визит киевскому воеводе, чтобы пригласить того на праздник – Петров день. Андрейку, который уснул поздно из-за срочной работы, с постели кое-как подняли и даже разбудили, но накормить забыли, а может, и не захотели, притом по наказу прижимистой пани Галшки, как уже не раз бывало. Какая-никакая, а экономия в хозяйстве. Она не сомневалась, что такой оборотистый хлоп, как Андрейко, найдет себе завтрак где-нибудь на стороне.
– Вижу, вижу… – конюх улыбнулся. – Голодный, как цуцик. Молодики всегда хотят есть. Ну-ка, ходь со мной. Твой хозяин задержится у воеводы надолго, не беспокойся. Паны только что за стол сели.
Они прошли в конюшню, где был отгорожен жилой закуток. Там дядька Карп (так звали конюха) поставил на стол миску, в которой лежал большой говяжий мосол с изрядным количеством мяса, и дал Андрейке ломоть хлеба.
– Жуй, – сказал он, присаживаясь на лавку напротив подростка. – Вон стоит жбан квасу, так ты пей, не стесняйся, сколько душе угодно.
Андрейко и не думал стесняться. Он вгрызся в жестковатое холодное мясо как оголодавший молодой волк, благо зубы у него были крепкие. Пока Андрейко ел, Карп расспрашивал его про деда, про семью, а подросток с набитым ртом отвечал.
Собственно говоря, поначалу имя подростка было не Андрейко. Мать долго не могла родить первенца, а когда на свет появился мальчик, ему дали «охранительное» имя Нечай с целью отвращения злых сил. В те времена, чтобы не искушать судьбу и отвести зло, малышам давались имена со значением, прямо противоположным тому, что желали родители для детей. Поэтому отец, надеясь иметь красивого и здорового мальчика, назвал его Нечаем, тем самым подчеркнув, что его будто бы не чаяли – не ждали. И только когда ему исполнилось семь лет, он получил имя Андрейко. А когда поступил в услужение к Немиричам, то его записали как Андрейко Нечай. Так подросток получил два имени, одно из которых стало фамилией.
Он был круглым сиротой. Отец погиб три года назад, сражаясь с татарами, а мать умерла еще раньше, при вторых родах, вместе с неродившимся дитем. Вот и вышло, что из родни у Андрейки остался лишь один «старичище Кузьмище». Так прозвали на Подоле за угрюмый, неразговорчивый нрав его деда Кузьму. Он был кряжистый, словно столетний дуб, бородищу имел пегую, а волосы подстригал раз в пять лет. Поэтому издали они казались мохнатой шапкой. Впрочем, старичище Кузьмище и впрямь надевал головной убор лишь в самые лютые морозы, да и то он представлял собой не меховой малахай, а колпак из тонкого войлока.
Дед Кузьма рыбачил. Немало киевлян занималось рыбным промыслом, благо рыбы в Днепре хватало. Особенно много было огромных осетров, поднимавшихся вверх по реке. Однако поймать их было нелегко, требовалась большая сноровка, но дед Кузьма в этом деле был мастак. Он считался официальным поставщиком рыбы к княжескому двору и даже пребывал в дружеских отношениях с самим князем Олелько Владимировичем. Поговаривали, что однажды Кузьмище спас князя от верной гибели, когда того окружили поляки, но дед об этой истории не распространялся, а Олелько Владимирович, князь киевский милостью великого князя литовского и короля польского Казимира IV, – тем более.
Пожалуй, только Андрейко знал, что дед Кузьма в молодости был княжеским дружинником. Притом не простым, а сотником. Он в совершенстве владел любым оружием, и можно только представить, каким грозным был в бою с его богатырской силой старичище Кузьмище, которую не растерял и к преклонным годам.
Пока Андрейко был маленьким, дед Кузьма брал его с собой на рыбалку. Ловля осетров мальчика особо не привлекала; он больше любил охоту, тем более что метко стрелять из лука научился с раннего детства, едва встав на ноги. Его неудержимо влекло другое – отдых после того, как под крышкой в большой бадье, прикрепленной на корме лодки-долбленки, заплещется улов. Старичище Кузьмище отличался от других рыбаков тем, что привозил в княжеский замок не снулую рыбу, а живую, что особенно ценила жена Олелько Владимировича, которую звали Анастасия Васильевна. Она была дочерью великого князя московского Василия I Дмитриевича.
Мест на Днепре для отдыха хватало – укромных островков по речному руслу было не счесть. Некоторые из них облюбовали рыбаки, на других обустроились нищие, попрошайки или просто темные личности неведомо из каких краев. Их часто можно было видеть на папертях киевских церквей, где они просили милостыню. А по ночам они нередко шалили на Подоле, когда шебутной народ возвращался домой из шинков.
Обобрав пьяного до нитки, грабители садились в лодку и скрывались на одном из островков. Найти их не могли ни княжеские дружинники, ни киевские ополченцы. Чтобы обыскать все островки, полжизни не хватит. К тому же они густо поросли лесом, кустарниками и камышом.
Присмотрел себе островок и старичище Кузьмище. Несколько лет назад шайка пришлых пыталась оспорить его право владеть этим небольшим клочком суши посреди Днепра, и наглецам пришлось немного поплавать. Могучей рукой деда Кузьмы они были брошены в реку и добрались до берега чуть живые. С той поры разбойный люд обминал его островок стороной. Что касается рыбаков, то они иногда причаливали к мосткам, устроенным дедом, особенно в непогоду, когда на Днепре поднималась буря и шел дождь. На островке стоял добротный и просторный курень и кабица – углубленная в землю и обложенная диким камнем печь с крышей. На ней можно было готовить еду в любую непогоду.
В шалаше дед Кузьма хранил сети, большие кованые крючки на осетров, запасные весла, остроги, багры и прочие рыбацкие принадлежности. Там же была и посуда. Но главное лежало в тайнике неподалеку от шалаша. В неглубокой яме с крышкой находилось завернутое в промасленную бычью шкуру оружие – щит, кривая татарская сабля, добрый лук, топор, булава и кистень. Крышка была замаскирована дерном и придавлена сверху бревном, поднять которое не смогли бы и пять человек. А дед Кузьма поднимал.
«Деда, зачем ты прячешь оружие здесь, а не хранишь дома?» – как-то с удивлением спросил его Андрейко.
«Дальше положишь – ближе возьмешь, – рассудительно ответил старик. – В мою хату на Подоле кто хошь может войти без спросу. Хитников в Киеве хватает… А для защиты мне вполне достаточно дубины».
Здесь Андрейко был с ним вполне согласен…
На островке дед занимался с внуком военным делом. Он обучал его драться на саблях, орудовать кистенем, рубиться топором, прятаться от вражеских ударов под щитом и наращивать силу. Это были самые нелюбимые упражнения для Андрейки. Дед Кузьма давал ему в руки тяжелый камень и гонял до седьмого пота вокруг острова по давно протоптанной тропинке. К шестнадцати годам мышцы Андрейки стали железными, а ноги неутомимыми. Особенно много он занимался стрельбой из лука и достиг большого мастерства. Андрейко даже на бегу попадал в цель. Иногда ему казалось, что он не столько целится, сколько руководит стрелой в полете, направляя ее силой воли туда, куда нужно.
Конечно, после того как он стал пахолком[10] у Немиричей, занятия воинским делом стали гораздо реже, от случая к случаю. Но тут уж нужно было выбирать – или остаться на всю жизнь рыбаком-нищебродом, или попытаться выйти в люди и разбогатеть, ведь Андрейко был не холопом, а вольным человеком. По уговору платы он за свою работу не получал, но его кормили и одевали, а главное, Андрейко обучался вместе с Ивашкой Немиричем, сыном хозяина, грамоте. Это для сироты, у которого за душой не было ни гроша, дорогого стоило.
Подкрепившись и поблагодарив конюха, Андрейко поторопился к коновязи. И как раз вовремя – Яков Немирич вышел во двор в сопровождении воеводы Олехно Киселя. Он не пользовался в Киеве таким уважением и почетом, как Юрша, прежний киевский воевода, поэтому вел себя с гостем несколько суетливо и предупредительно. Что ни говори, а Немиричи – известный и уважаемый в Киеве род.
Юрша считался спасителем Киева. В октябре 1437 года великий князь литовский Сигизмунд Кейстутович решил окончательно покончить со своим соперником князем Свидригайло (которого он свергнул с трона в 1432 году) и организовал нападение на принадлежавшие тому города. Литовские войска выступили в поход на Луцк и Киев. На помощь осажденному гарнизону Киева был отправлен воевода Юрша, выдающийся военачальник, отличившийся во время обороны Луцка, который сопровождал Свидригайло во время его переговоров с галицкой шляхтой во Львове. Юрша соединился с татарскими отрядами хана Сеид-Ахмета и разгромил литовское войско в битве под Киевом.
Вскоре против Сигизмунда возник заговор. Он был подозрителен, злопамятен и свиреп. Его мстительность в отношении прежних сторонников Свидригайло и жестокие казни возбудили всеобщее недовольство литовской знати. Заговор возглавили князья – братья Иван и Александр Чарторыйские. С помощью виленского воеводы Довгирда и трокского воеводы Лелюша 20 марта 1440 года они убили Сигизмунда в Трокском замке. Для этого заговорщики отправили в Троки дворянина родом из Киева по имени Скобейко. Они дали ему триста возов сена, а на каждом возу под сеном прятались пятеро хорошо вооруженных дружинников. Отряду удалось проникнуть в сильно укрепленный Трокский замок и свершить задуманное.
Сделать это было непросто. Сигизмунд не доверял даже своей охране и всегда запирал все двери на засов. Обычно князь, не выходя из своей спальни, слушал обедню, совершавшуюся в соседнем покое. Его верным сторожем служила ручная медведица, которая в это время гуляла по двору замка. Возвращаясь в комнату Сигизмунда, она царапала когтями дверь, после чего он впускал ее. Зная это, Иван Чарторыйский стал царапать дверь загодя припасенной медвежьей лапой. Сигизмунд открыл засов, братья ворвались внутрь и закололи его вилами.
После этого на великое литовское княжение был избран брат польского короля Владислава III Варненьчика князь Казимир (младший сын Ягайло), который с 1444 года стал одновременно и польским королем. Он вынужден был пойти на уступки литовским феодалам. Многих выпустили из-под ареста, среди них и князя Олелько Владимировича с семьей (его содержали в Кернове, а жену с двумя сыновьями, Семеном и Михаилом, – в Утянах). Были восстановлены Киевское и Волынское удельные княжества. На первое сел Олелько Владимирович, а на второе – князь Свидригайло.
Став княжить в Киеве, Олелько Владимирович первым делом расправился с народным героем, воеводой Юршей. Он отстранил его от должности и отнял земли в Киевском повете. Так уж издревле повелось, что правители во все времена не шибко привечали героев, слава которых затмевала их собственные достоинства.
Поэтому Олехно Кисель, новоиспеченный воевода, а по сути дела временщик, приглашение Якова Немирича на пир по случаю Петрова дня принял с радостью. Он знал, что к нему съедутся богатые шляхтичи не только со всего Киева, но и со всей округи. С некоторыми из них Олехно был знаком, а с другими желал познакомиться. Ему хотелось подольше остаться на столь почетной и, главное, денежной должности, а значит, ему требовалась поддержка уважаемых и богатых людей.
Андрейко помог своему хозяину забраться в седло (что оказалось непросто: Яков Немирич изрядно накушался доброго заморского вина, которым угощал его воевода), и они неспешным шагом покинули Литовский замок. Теперь главной задачей пахолка было не дать своему пану свалиться с коня. Путь к дому Немиричей был недлинным, но очень опасным, особенно для человека, не очень твердо сидевшего в седле. Ведь Якову Немиричу предстояло спуститься по очень крутому Боричеву узвозу. Как это ни странно, но именно по нему купцы заезжали в Киев.
А происходило это потому, что возле Литовского замка находилась мытница. В Киеве за все нужно было платить: за проезд по городу, за проезд по мосту, за право торговли, за наем амбара, за представление товара на заставу, за наем торгового места на гостином дворе и прочее. Существовали «роговая» и «привязная» пошлины – за привязывание скота в месте торговли – и «узольцовое» – за обвязку товара с приложением таможенных печатей в качестве гарантии продажи его только в местах, где установлены мытные знаки. На этом многие наживались, но больше всего – воевода и мытники. С купцов, проезжавших через Киев (его границы простирались от речки Почайны на Подолье до Золотой брамы в Верхнем городе), мыто собиралось не с товаров, а с каждого воза, на котором их везли. И не важно, сколько было товара, считали возы.
Тогда купцы пошли на хитрость – не доезжая до мытницы, перегружали возы таким образом, чтобы их стало меньше. Но тяжелые, с верхом груженные возы были мало приспособлены для киевских гор, особенно Боричева узвоза. И конечно же на этом крайне неудобном месте они часто ломались, рассыпая тюки и бочки, чего с нетерпением ждала зорко наблюдавшая за ними замковая стража. Как только это случалось, возы вместе с товарами реквизировали в воеводскую казну.
Однажды к воеводе пришли жаловаться иноземные купцы, у которых отобрали товары. Воевода им отвечал: «При чем тут я, разве мои это горы? Это ведь горы киевские. Зачем же было накладывать четыре воза на один? Чтобы не платить пошлину? Здесь все подчиняется киевскому закону: если возы поломались от Почайны до Золотых ворот, попрощайтесь с ними».
В общем, что с воза упало, то пропало…
Вечером Андрейку отпустили погостить до утра у деда. Галшка Немиричева, узнав, что воевода Олехно Кисель будет присутствовать на пиру, сильно подобрела и даже передала деду Кузьме большой сдобный калач в качестве гостинца, но приказала, чтобы к утру Андрейко вернулся. По правде говоря, она немного побаивалась старичища Кузьмища. Однажды он нечаянно стал свидетелем, как пани Галшка дала его внуку подзатыльник неизвестно за какую провинность, да так посмотрел на нее, что она обмерла. С той поры единственное, что пани Галшка позволяла себе по отношению к Андрейке, – так это дернуть его за ухо, и то не очень больно.
Зато с остальными пахолками и служанками она не сильно церемонилась. Могла и нагайкой по плечам пройтись. Галшка Немиричева была вздорной бабой с очень развитым самомнением. Она всеми силами подвигала мужа на то, чтобы тот занял более высокое положение среди киевской знати. Поэтому согласие киевского воеводы отпраздновать у них Петров день пани Галшка восприняла как доброе предзнаменование.
Сойдя с дороги и оказавшись на колдобистой тропе, Андрейко вскоре услышал шум речки Киянки, которая была перегорожена плотиной. Она бежала по дну Кожемяцкого яра – резвая и быстрая. Ее берега были обшиты почерневшими от времени досками. Вскоре он добрался до дна глубокого ущелья – Гончарного яра, где под почти отвесными склонами горы издревле находились мастерские гончаров и кожемяк. Там же приютились и слободы. Жалкие хаты горшечников и кожевников, крытые соломой, лепились по склонам оврагов как ласточкины гнезда под стрехой.
Поравнявшись с Фроловской обителью, Андрейко едва не увяз в болоте, сплошь поросшем камышом. Он задумался и пошел напрямик. Но одно дело – идти днем, а другое – по темноте. Теперь придется искать более удобную, обходную тропинку. Хорошо, что он догадался взять длинную палку, чтобы собак отгонять. Да и месяц над головой светил как фонарь, правда, время от времени прятался за тучки.
Выбравшись из грязи на сухое место, Андрейко начал искать улицу, которая вела к жилищу деда Кузьмы. Месяц снова скрылся среди туч, и леса на холмах стали еще темнее и таинственнее. В камышах заухал филин, над головой Андрейки бесшумно пролетела сова, раздался шелест быстрых крыльев летучих мышей. Подросток невольно поежился – страшновато! Благодаря деду Кузьме он мало чего боялся, к тому же на шее у него висел кипарисовый крестик, а у пояса нож – кто ж не знает, что нечистая сила боится светлого металла? И все же на душе у Андрейки стало муторно.
Узкие, кривые и тесные улочки Подола тонули в грязи. Только кое-где лежали деревянные мостки. Андрейко шел, стараясь не сильно шуметь; мало ли чего, вдруг встретится какой-нибудь вор или разбойник. Да и собак не хотелось тревожить, иначе поднимут такой лай, что его будет слышно даже на Замковой горе.
Неожиданно впереди замелькали факелы, и послышался звон оружия. Это была замковая стража. Солдаты заглядывали на все подворья и в окна деревянных домишек. И на то была веская причина. Если стража замечала горящую лучину, то изо всех сил колотила в дверь, с бранью требуя огромный штраф в городскую казну и грозя тюрьмой.
Для Киева с его сильно скученной и сплошь деревянной застройкой самым страшным врагом были пожары. Поэтому киевские воеводы запрещали жечь лучину в хатах ремесленного люда. Целую ночь замковая стража рыскала по посадам и ремесленным «концам» – предместьям – в поисках непогашенной лучины. Ремесленники часто из-за этого бунтовали, и королю Сигизмунду пришлось отменить этот запрет, но князь Олелько Владимирович снова все вернул на круги своя.
Деду Кузьме воевода был не указ. Он словно ждал внука, потому что на столе стояла глубокая деревянная миска, в которой поблескивали янтарным жиром куски недавно зажаренного осетра и лежала краюха свежего хлеба. Чтобы с улицы нельзя было заметить огонь лучины, дед закрыл окно ставнями и занавесил его плотной тканью.
Глядя, как Андрейко уминает за обе щеки выставленное угощение, обычно мрачное лицо деда Кузьмы вдруг потеряло жесткость черт, а в глубоко посаженных коричневых глазах появилось выражение огромной любви. И печали. Вскоре все стало понятно. Дед какое-то время мялся, не решаясь сказать внуку главное – то, что думалось ему с того часа, когда он решился погадать на судьбу своего внука.
Мало кому было известно, что старичище Кузьмище – ведун. Имелась у него такая особенность. Правда, он практически никогда ею не пользовался и никому о ней не говорил. По крайней мере на Подоле, где о его способностях никто не знал. Кроме Андрейки.
Несмотря на то что дед Кузьма был крещен, в душе он остался язычником. И ворожба его была языческой. Как он гадает, дед не открылся даже Андрейке. «Для тех, кто похож на пустой кувшин, ворожба смерти подобна», – кратко ответил он на его вопросы. При чем здесь кувшин, да еще пустой, Андрейко так и не понял.
Гадание представляло собой долгую ночную церемонию, после которой дед Кузьма несколько дней ходил как бы немного не в себе. Зато почти всегда его ведания сбывались. По малости своих лет Андрейко не очень прислушивался к словам и наущениям деда, но когда стал старше, то призадумался. Поэтому первые же слова деда Кузьмы заставили его насторожить уши.
– Расстанемся мы скоро, внучок… – голос деда был тих и на удивление мягок.
– Это еще почему? Никак, ты умирать собрался? – тут Андрейко рассмеялся. – Вот ужо не поверю, хоть убей.
– Нет, не о том я печалюсь. Есть надежда, что проживу я долго. Так судьба решила. А вот тебе предстоит дальняя дорога. И свидимся ли мы когда-нибудь, неизвестно. Ведание не дало ответ на этот вопрос.
– Деда, я никуда не собираюсь! Я никогда тебя не брошу! – загорячился Андрейко.
– Эх, молодо-зелено… Кабы человек самолично управлял своей жизнью, в мире могла бы случиться большая беда. Да-да, Ондрейко, это так. Богатеи все под себя подгребут, и простому люду не останется иного пути, как в могилу. К счастью, человек зависит от верхних сил, и только они имеют право и возможность указывать ему путь.
– Но у меня и в мыслях не было оставить Киев!
– В мыслях не было, но Макошь[11] уже завязала на пряже твой узелок…
Дед Кузьма умолк и склонил голову. Его примеру последовал и Андрейко. Ему сразу перехотелось есть, хотя он еще не насытился. В убогой хате старого рыбака воцарилась гнетущая тишина.
Глава 3. Нечаянная удача
Утром Жиля стянули с постели за ногу. Он никак не хотел просыпаться и отбрыкивался до последнего. Но ловчий Рожар был неумолим. Он исполнял строгий наказ господина: молодого господина поднять и посадить на лошадь, что бы он там ни говорил и как бы ни упирался.
Утро выдалось чертовски холодным. Поле покрыла роса, а промозглый ветер так и норовил залететь под одежду. Жиль, хоть и выпил кубок подогретого вина с пряностями, дрожал, словно осиновый лист. И не столько от холода, сколько от недосыпа. Солнце, такое же сонное, как и юный дворянин, с трудом покинуло свою пуховую облачную постель и было бледным и немощным. Даже птицы, обычно приветствующие рассвет радостным щебетом, и те почему-то молчали. Лишь одинокий и тоскливый писк какой-то крохотной пичужки время от времени раздавался из близлежащей рощицы.
Подъемный мост у ворот замка уже давно был опущен, и возле него толпились охотники с собаками. Среди них находился под присмотром берньера (псаря) и удивительно красивый лервьер белой масти по кличке Траншон – борзая Ангеррана де Вержи, его любимица. Она даже спала возле постели своего хозяина. Кроме нее среди собак было много гончих-лимьеров. Они были разного роста – крупные, с мощным телосложением, и невысокие, коренастые, но очень крепкие. Окрас у лимьеров был разный – чисто белый, темно-серый, желтовато-рыжий, рыжевато-коричневый, иногда с более темным или черным чепраком.
Но главной ударной силой охотников на кабана были конечно же аланы – как благородные, так и «катающиеся в грязи». А среди них – несколько очень крупных матенов[12]. Это были личные псы рыцарей, собравшихся на охоту, которые служили им телохранителями и спали, как и борзая Ангеррана де Вержи, возле ложа своих хозяев. Любой из матенов мог остановить кабана и какое-то время удерживать его, правда, победить зверя с его толстенной шкурой и густой колючей щетиной даже матенам было не под силу.
Возле ворот находились только ближайшие соседи и единомышленники. Их еще с вечера оповестили, что следопыт Ангеррана де Вержи нашел участок леса, где, по его предположению, находилась лежка матерого вепря, и теперь рыцари предвкушали будущие охотничьи страсти. Права на охоту в лесах, окружавших Азей-лё-Брюле, принадлежали не только отцу Жилю, но еще нескольким рыцарям. Помимо лесников охрана охотничьих угодий осуществлялась также лучниками собравшихся на охоту дворян. И все они в данный момент нетерпеливо ждали хозяина замка и его гостя – славного рыцаря Гю де Ревейона.
Жиль (как и остальные охотники) был одет в короткий зеленый кафтан, плотно опоясанный кожаным поясом. У пояса висели тесак в ножнах и мешочек, вышитый бисером, с огнивом, трутом и кремнем. Кафтан был новый, вот только панталоны подкачали. Их сшили из толстой материи, сделанной из гнилых ниток, и юный де Вержи боялся, что в один прекрасный момент его панталоны расползутся и он явит миру свои телеса. Чего после случая в развалинах замка Азей-лё-Ридо ему очень не хотелось бы. Хорошо хоть гамаши на ногах были прочными и прикрывали бедра.
Через плечо у него была перекинута перевязь с рогом, а на голове плотно сидела невысокая шапочка, украшенная фазаньим пером. Жиль считал, что ему вполне хватит тесака и арбалета (он не очень верил в свою охотничью удачу), но ему едва не насильно всучили кабанье копье, хотя он намеревался взять лютню, чтобы найти где-нибудь укромное местечко и наиграть новый мотив, который сложился у него в голове во сне. Копье было коротким и тяжелым, с широким наконечником и перекладиной, поперечной древку. Древко сделали из ясеня и обмотали ремнем – для надежности хвата. А поперечная перекладина обеспечивала безопасную дистанцию, если кабан останется жив после первого удара копьем.
Наконец хозяин замка и его уважаемый гость выехали из ворот, и кавалькада всадников, сопровождаемая большим собачьим хором (охотничьих псов насчитывалось по меньшей мере две сотни), начала выдвигаться на исходную позицию. Жиль незаметно наблюдал за отцом. Неподвижное и бесстрастное лицо Ангеррана де Вержи не выражало никаких эмоций, но в глубине глаз таился гнев. «Неужели матушка опять начудила?!» – со страхом подумал молодой человек.
Облачаться в походное снаряжение отцу помогала мать, так как из-за неважного финансового состояния семейства де Вержи и по причине скаредности старого рыцаря он не пожелал иметь оруженосца, ведь ему нужно было платить жалованье, а также кормить его и одевать. В отличие от Жиля, отец был суеверен до смешного. Как и все рыцари, он даже на охоте не расставался со своим боевым мечом и шлемом. Но упаси Бог, если мать по рассеянности подавала ему меч! Бодрое, приподнятое состояние духа сразу же менялось на раздражительность, и настроение портилось. Ангерран де Вержи был убежден в неизбежности неудачи, если при снаряжении на охоту меч возьмет из рук женщины.
Жиль нашел себе премиленькое укромное местечко. Он не горел желанием лазить по буеракам и лесным зарослям, обдирая в кровь руки и царапая лицо. Коней охотники оставили на большой поляне под присмотром вооруженных до зубов конюхов (вдруг нагрянут разбойники, что уже случалось), а сами, построившись в цепь, начали продвигаться к месту лежки кабана, попутно стреляя из арбалетов во все, что двигалось и что можно было зажарить на костре и съесть.
С другой стороны лесного массива шли загонщики и псари со своими гончими и мощными аланами, способными порвать не только кабана, но и быка. Загонщики орали, били по стволам деревьев палками, свистели, дудели, крутили трещотки… В общем, делали все возможное, чтобы поднять кабана с лежки и погнать его на охотников. Судя по рассказам лесников, этот вепрь был сущим дьяволом. Он никогда подолгу не останавливался на одном месте и забивался в такие чащобы, куда не ступала нога человека.
Но и это еще не все: злобный и хитрый зверь уже растерзал двух охотников и лесника, которые оказались у него на пути. Он появился в лесах возле Азей-лё-Брюле недавно, а до этого разбойничал в соседнем графстве. Так определили следопыты по отпечаткам его копыт на илистом берегу речки. Судя по ним, вепрь был впечатляющих размеров.
Молодому человеку все эти охотничьи байки были малоинтересны. Он забрался в развилку старого дуба и, спрятавшись в густой кроне, принялся сочинять стихи. Ближе к обеду распогодилось, и ласковое солнце укладывало на его румяное лицо резные тени от дубовых листьев. Шум охоты ему нисколько не мешал, даже помогал, – Жиль не чувствовал себя одиноким в той глуши, куда он забрался, – и стихотворные строки всплывали в голове сами собой:
- Когда-то – к сведенью людей –
- Я первым был средь лебедей
- На родине моей.
- Терпеть изволь
- Такую боль:
- На раны сыплют соль!
Тут ему показалось, что в кустах неподалеку от дуба раздались подозрительные шорохи, и Жиль начал всматриваться и прислушиваться. Но вокруг царило полное благолепие, и муза снова властно овладела мыслями юного поэта:
- …Ощипан шайкой поваров,
- Лежу на блюде. Я – готов!
- И слышу лязг зубов.
- Терпеть изволь
- Такую боль:
- На раны сыплют соль!
«А что, чертовски неплохо! – восхитился Жиль. – Осталось только переложить на музыку, и дело в шляпе. Порадую матушку! Отцу мои музыкальные упражнения кажутся фиглярством, а вот мать пророчит мне большое будущее. Вот и разберись тут, кто из них прав, а кто нет…»
Кабан, казалось, соткался из воздуха. Какое-то мгновение назад его не было в том месте, куда Жиль бросил взгляд, а когда он опять взглянул туда, огромный вепрь, подняв вверх свою клыкастую башку, обнюхивал воздух. Юный дворянин хорошо знал, что зрение у кабана неважное, зато слух и обоняние – отменные, поэтому прикипел к древесному стволу, стараясь даже не дышать. Ему здорово повезло, что ветер дул со стороны вепря, поэтому кабан, постояв какое-то время в полной неподвижности, словно колеблясь в своем выборе, неторопливо двинулся в сторону дуба, на котором притаился юный стихоплет.
Похоже, зверя мало волновал шум охоты. Он был спокоен и сосредоточен. Это сильно удивило Жиля – что ж это за зверюга такая?! Кабан словно обладал способностью мыслить, выбрав именно то направление, где находился юный дворянин. Жиль прекрасно понимал, что не может справиться с таким чудовищем, но об этом, похоже, знал и кабан, хотя и не видел человека. Что делать, что делать?! Мысли в голове молодого человека проносились как сумасшедшие – бестолково и суетливо.
А вепрь тем временем оказался как раз под тем местом, где сидел Жиль. И тогда юному дворянину ударила в голову кровь его знаменитых предков-рыцарей, которая напрочь лишила его благоразумия и растворила в себе страх. Иногда так бывает. Серый, незаметный человечек, тля, на которую и глядеть тошно, вдруг совершает такие поступки, которые не снились и героям. Что его подтолкнуло на эпический подвиг, он и сам не может объяснить. А все очень просто: в нем проснулось первобытное мужество, которое помогло человеку не просто выжить, но и стать тем, кто он есть.
Крепко сжав древко кабаньего копья, Жиль примерился и прыгнул вниз. Удар острым наконечником попал точно в сердце вепря. Своей массой юный де Вержи придавил кабана к земле, но ненадолго. Рана была, конечно, опасной, даже смертельной, однако кабаны обладают уникальной живучестью, а уж про силу и говорить нечего. Вепрь яростно завизжал и сбросил с себя охотника. Он явно намеревался разорвать его на куски. Но Жиль, хоть с таким зверем ему приходилось сражаться впервые, не выпустил древко из рук.
И началась смертельная пляска. Кабан рвался к молодому человеку, а Жиль изо всех сил сдерживал его натиск. Они крутились вокруг дуба, связанные друг с другом древком копья. Хорошо, что Жилю вручили именно кабанье копье, а не обычное. Перекладина не позволяла кабану приблизиться к нему, но огромная силища зверя давала о себе знать. Изо рта вепря шла кровавая пена, но он продолжал напирать на юного охотника. Жиль чувствовал, что слабеет, у него даже возникло желание бросить копье и дать деру, и лишь ретивое, охотничий азарт не позволяли это сделать.
И тут словно белая молния мелькнула перед его глазами. Откуда-то из зарослей выскочил верный отцовский пес Траншон. Его кличка (Рвущийнакуски) вполне соответствовала натуре лервьера. Траншон был злобным, быстрым и бесстрашным. Завидев Жиля в незавидной позиции, пес, нимало не колеблясь, бросился на кабана и рванул его за ухо. Вепрь дернулся, крутанулся и сделал попытку распороть своими огромными клыками бок Траншона. Но тут уже вступил в дело Жиль.
Неожиданная поддержка со стороны верного пса вдохнула в него новые силы. Юный охотник поменял позицию, удобнее перехватил древко и провернул острие копья в ране. Вепрь снова завизжал – похоже, боль была непереносимой – и снова кинулся на Жиля, но Траншон рванул его сначала за другое ухо, а затем прошелся своими клыками по пятачку кабана.
Это уже было чересчур. Пятачок был самым больным и уязвимым местом вепря. Какое-то время он мотал своей огромной башкой, словно отгоняя назойливых мух, а затем вдруг издал громкий хрип и упал у ног Жиля. Провернув копье в ране, юный охотник совсем изрезал кабанье сердце (а тут еще Траншон, исполосовавший морду), и оно не выдержало болевого шока. Жиль какое-то время наблюдал, как лервьер, злобно рыча, терзал тело поверженного вепря, а затем сел – вернее, почти упал – на землю. Ноги перестали его держать…
Когда к месту схватки подоспели остальные охотники во главе с отцом, Жиль сидел на огромной кабаньей туше и обнимал Траншона. Удивлению рыцарей не было предела. Чудеса: юнец, у которого еще материнское молоко на губах не обсохло, совершил настоящий подвиг! Опытные охотники сразу заметили взрыхленную землю под дубом и поняли, что схватка Жиля с кабаном была долгой, не на жизнь, а на смерть. Как мог такой неоперившийся птенчик сдержать натиск огромной кабаньей туши?! Это было загадкой.
Впервые за долгие годы Жиль почувствовал во взгляде отца тепло. Старый рыцарь был удивлен и озадачен не менее, чем его товарищи. Он считал Жиля никчемным стихоплетом, который недостоин рыцарских шпор, но, глядя на огромного зверя, которого убил его ни к чему не приспособленный сын (как он прежде думал), Ангерран де Вержи начал думать несколько по-иному…
Однако опустим занавес над сценой под дубом и даже над тем, с какими победными песнями возвращались рыцари с охоты в замок, изрядно приложившись к походным фляжкам с вином (хотя бы потому, что голоса у них, конечно, были сильными, но, мягко говоря, им не хватало благозвучия), а перенесемся сразу на пир, устроенный Ангерраном де Вержи.
Нужно отметить, что он мало напоминал пиры, которые устраивали герцоги и графы. На нем не было прекрасных дам, за исключением Шарлотты де Вержи, хозяйки замка, и ее дочери Рошель, совсем юной девицы. Но и они долго не задержались среди буйного мужского общества. Благовоспитанная Шарлотта терпеть не могла громких разговоров ни о чем, криков, споров, а особенно когда мужчины, совершенно не стесняясь дам, громко портили воздух. От этого ее просто воротило.
То ли дело в богатом отцовском замке! Разноцветные шелка, мех, галуны, драгоценности на гостях, много прекрасных дам, одежда у всех опрятная, манеры сдержанные, а за столом никто не позволял плоских двусмысленных шуток, от которых несло казарменным духом. И уж тем более никто не пускал ветры, потому как в замке отца Шарлотты это было не принято.
Тем не менее Шарлотта де Вержи стол накрыла по всем канонам. Он не был чересчур изысканным, богатым, но вполне достойным, что сразу же отметили рыцари, давние приятели Ангеррана де Вержи, которым было известно его незавидное финансовое положение. Конечно, и охоту, и пир можно было не устраивать, но это значило потерять друзей и приятелей, что предполагало потерю репутации. Noblesse oblige – положение обязывает…
Посуда на столах была серебряной. В замок Ангеррана де Вержи юная Шарлотта привезла ее в качестве приданого. А посреди стола возвышалась большая серебряная с позолотой солонка, ее гордость, с надписью: «Cum sis in mensa, primo de paupere pensa: cum pascis eurn, pascis, amice, Deum»[13]. Шарлотта, несмотря на свой жесткий характер, прорезавшийся после десяти лет совместной жизни с Ангерраном де Вержи, относилась к бедным вилланам с участием, помогала им, чем могла, а они платили ей за это добрым словом, потому как больше было нечем.
Вепря запекли на костре, насадив на вертел, потом разрезали на куски и приправили острым соусом. Кроме кабаньего мяса на столе присутствовали пироги с мясной начинкой, рыба, а также зайцы и кролики; их загодя наловили лесники. Было много разных приправ: имбирь, мускатный орех, перец, гвоздика… Все это возбуждало аппетит, и, как следствие, вино лилось рекой. Пиршество продолжалось до самых сумерек, пока гости не вспомнили, что им чего-то не хватает.
– Эй, Жиль, ты куда запропастился? – крикнул один из рыцарей. – Где там наш герой? Потешь стариков хорошей песней. Мы знаем, что в этом деле ты большой мастак.
Довольный сверх всякой меры таким отношением к своему «никчемному» сыну, Ангерран де Вержи милостиво кивнул, и Жиль взял лютню. Ему очень хотелось спеть песенку про пьяного рыцаря и веселую вдовушку, но он поостерегся гнева отца. Да и матушка выглядывала из двери кухни. А она очень не любила скабрезностей.
Жиль ударил по струнам и запел:
- …Скорбя о ней душой осиротелой,
- В Святую землю еду на Восток,
- Не то Спаситель горшему уделу
- Предаст того, кто Богу не помог.
- Пусть знают все, что мы даем зарок:
- Свершить святое рыцарское дело.
- И взор любви, и ангельский чертог,
- И славы блеск стяжать победой смелой!
Эту балладу не он сочинил, и Жиль знал, что для собравшихся рыцарей она будет новой (кто знает, как ее примут пирующие?), тем не менее гром восторженных криков, когда умолкли последние аккорды, его оглушил.
– Ангерран, а сын-то твой – большой мастер по части музицирования, – разгладив пышные усы, сказал самый старый из рыцарей, Пьер де Лерель. – Клянусь святой Пятницей, никогда не слышал столь чистого звука лютни и такого красивого звучного голоса. Ну-ка, сыграй и спой нам еще что-нибудь, мой мальчик.
– Для вас – с большим удовольствием… – Жиль приветливо улыбнулся; он и впрямь сильно уважал заслуженного рыцаря, о подвигах которого ходили легенды.
«Что ж, потешу старичков, – подумал он, подстраивая струну. – Пусть вспомнят молодые годы…» И запел:
- Боярышник листвой в саду поник,
- Где донна с другом ловят каждый миг:
- Вот-вот рожка раздастся первый клик!
- Увы, рассвет, ты слишком поспешил.
- Ах, если б ночь Господь навеки дал,
- И милый мой меня не покидал,
- И страж забыл свой утренний сигнал.
- Увы, рассвет, ты слишком поспешал…
И на этот раз Жиль услышал восхищенный рев в свой адрес. Похоже, рыцари, волосы которых изрядно тронула седина, и впрямь ударились в воспоминания. Жиль спел еще с десяток песен и баллад, а затем удалился – его неудержимо клонило ко сну…
Пир продолжался почти до утра. Когда Жиль проснулся, в замке стояла удивительная тишина. Только мыши скреблись под полом, да где-то вдалеке тоскливо брехал пес. Наверное, от скуки.
Жиль потянулся до хруста в костях и спустился во двор. Там все еще тлели уголья костра, а на охапках сена вповалку спали гости Ангеррана де Вержи – мест в спальнях всем не хватило. Впрочем, никто и не рвался в душный дом. Погода стояла сухая, теплая, и свежий воздух отрезвлял лучше всяких похмельных напитков.
Есть не хотелось, а вина у жадины Ватье не допросишься; да еще с утра! Поэтому Жиль, не мудрствуя лукаво, направился в мастерскую Гийо. Пройдоха спал, растянувшись прямо на полу, среди стружек и обрезков кожи. Похоже, до своего ложа, представлявшего собой поставленную на четыре пенька раму с матрасом, набитым сеном, он добраться не смог. Рядом с Гийо лежал кувшин, в котором кое-что плескалось, и Жиль жадно припал к горлышку, потому что жажда мучила его еще с ночи, да лень было вставать.
– А, мессир… – Гийо оторвал голову от пола и глянул на Жиля мутными глазами. – Что так рано?
– Рано? Скоро обед. У тебя вино осталось?
– Вот уж чего не знаю… – Гийо сел и развел руками. – А хорошо бы пропустить пинту[14] доброго винца…
– Так вставай и поищи! Уверен, что у тебя есть заначка.
– Э-хе-хе… – кряхтя, Гийо встал. – Однако же, мой господин, я вчера не успел поздравить вас с великолепным охотничьим трофеем. Если так пойдет и дальше, о вашей милости начнут слагать баллады.
В его голосе прозвучала слегка завуалированная ирония.
– Как же – поздравить! – Жиль фыркнул. – Да ты втихомолку урвал себе приличный кус свинины и поторопился запереться в своей мастерской с приятелями. Не спорь, я все видел! Где уж тебе было до поздравлений…
– Мессир, не судите меня слишком строго. Когда еще нам, беднягам, выпадет удача отведать мясца с господского стола. Тем более что повар Ватье смотрел за слугами, которые подавали блюда, как коршун. Пришлось изловчиться…
– Да уж, ловкости тебе не занимать. Никогда тебя не спрашивал, а сейчас спрошу: в той, прежней жизни ты, случаем, не был вором? Больно ухватки у тебя странные.
– Ваша милость, как вы могли такое подумать?!
Гийо изобразил страшную обиду.
– Да ладно, будет тебе… – Жиль примирительно похлопал его по плечу. – Коль сказал что-то не то, извини. После вчерашнего у меня в голове псарня, а во рту – скотный двор. Ну так что, винцо у тебя найдется?
– Поищем, – коротко бросил Гийо и зарылся в барахло, загромоздившее мастерскую.
Спустя какое-то время он издал торжествующий крик и явил миру пузатый кувшин – точь-в-точь как тот, из которого он потчевал Жиля вечером перед охотой.
– Спасибо, Боже, за сей дар! – с наигранным благочестием Гийо воздел руки к низкому потолку. – Милости твоя, Господи, вовек воспою, ибо… – тут он запутался и махнул рукой: – В общем, мессир, нам повезло. Бывает же такое…
– Экий плут! – Жиль грозно нахмурился. – А не сказать ли мне отцу, что ты перетаскал в свою мастерскую половину винного погреба?
– Ваша милость, вы никогда так не поступите с бедным Гийо… – Пройдоха изобразил напускное смирение.
– Почему?
– Потому, что душа у вас добрая. Вы не сможете себе простить, если мою спину исполосуют кнутом до крови. Да и что такое какой-то кувшин дрянного бордоского винца, когда в погребе лежат полсотни полных бочек бургундского? А скоро новый урожай винограда подоспеет, молодое вино запенится в кубках…
– Дрянного, говоришь? Это выдержанное бордоское – дрянное?! Да за него платят только золотом!
– Ну, это как кому. На вкус и цвет товарища нет. По мне, так кипрские вина гораздо лучше. И ароматней, и крепче. А что касается этого бордоского, то я думаю, что вашего батюшку надули, подсунув ему дешевку. Нет-нет, я это категорически не утверждаю! – Гийо опасливо отодвинулся от Жиля, который готов был взбелениться. – Может, я ошибся… А чтобы согласовать наши мнения по этому вопросу, предлагаю побыстрее откупорить кувшин и наполнить кружки.
Жилю ничего другого не оставалось, как безропотно согласиться…
Они сидели битый час, рассуждая о достоинствах разных вин и время от времени «дегустируя» бордоское, как вдруг во дворе замка раздался какой-то шум. Жиль прислушался. Казалось, что во двор ворвалась шайка разбойников, которую возглавляла женщина. Ее визгливый голос заглушал голоса остальных, и Жиль с Гийо недоуменно переглянулись. Это никак не могла быть госпожа Шарлотта или Рошель, а служанки, зная строгий нрав Ангеррана де Вержи, вряд ли устроили бы такой тарарам.
Жиль вышел из мастерской. И тут же хотел нырнуть обратно, да Гийо, который подпирал сзади, помешал. А в следующий момент уже стало поздно прятаться.
– Вот он! – вскричал коренастый виллан с багровым лицом пьяницы. – Узнал! Я узнал его!
– Ага! – завизжала женщина, стоявшая рядом с ним. – Попался, голубчик! А вот и его шоссы! – она взметнула над головой штаны Жиля, словно это было знамя.
– Что здесь творится? – раздался грозный голос, и перед толпой крестьян, которых впустил в замок бестолковый привратник Гуго, появился Ангерран де Вержи с мечом в руках. – Кто такие и какого дьявола вам здесь нужно?!
За ним толпились и остальные рыцари, гости хозяина замка, – суровые, решительные, готовые драться не на жизнь, а на смерть с любыми врагами, даже если их огромное количество. Завидев рыцарей, вилланы стушевались; они предполагали, что в замке только Ангерран де Вержи с семьей. Какое-то время во дворе царила испуганная тишина, а затем виллан с красным лицом все-таки решился продолжить наступление и завел речь:
– Господин рыцарь! Мы – народ простой, бедный, но честь свою блюдем не хуже дворян. Перрин, поди сюда!
Из толпы вытолкнули девушку, в которой Жиль без труда узнал юную прелестницу, с которой миловался на развалинах замка Азей-лё-Ридо, хотя она и стояла, низко опустив голову. А старая ведьма с визгливым голосом, похоже, была ее мать.
– Вот! – торжествующе сказал виллан. – Посмотрите на это бедное дитя! Ваш сын, мессир, ввел в искушение мою непорочную дочь, затащил ее в укромное местечко и лишил девственности!
«Ну, предположим, это несколько не так, – подумал Жиль. – Эта чертовка Перрин теряла свое целомудрие много раз, притом до меня. Да вот беда – крайним оказался я…»
– Жиль! – громко позвал Ангерран де Вержи. – Поди сюда.
Юный ловелас, стараясь выглядеть независимым, приблизился к толпе вилланов и встал рядом с отцом.
– Ты знаешь эту девушку? – спросил рыцарь.
– Откуда? – Жиль изобразил удивление. – Первый раз вижу.
– Он врет, врет! – возопила старая ведьма. – А шоссы, шоссы чьи?! И рубаха!
– Действительно – чья это одежда? – Ангерран де Вержи мрачно посмотрел на сына.
Ему очень не хотелось ссориться с вилланами. Рыцарь хорошо знал, на что способны крестьяне, если их сильно разозлить. В том, что Жиль замешан в истории с Перрин, он совершенно не сомневался. И теперь размышлял, как притушить разбушевавшиеся страсти. После Столетней войны рыцари стали более обходительными с крестьянами. Особенно те, кто жил в деревенской глуши. Они уже испытали на своей шкуре примитивное оружие, которое имелось у виллан. Дразнить ос может только глупец.
– По-моему, они совсем не отличаются от других штанов, которые носят люди, – ответил Жиль. – К тому же рванье. А мои шоссы на мне.
Здесь нужно сказать, что утерянные штаны и рубаха и впрямь не блистали новизной. Семейство де Вержи не могло себе позволить большие траты на одежду младшего отпрыска хотя бы потому, что вскоре намечалась свадьба старшего сына, на которую требовалась куча денег.
– Что ж, резонно, – сказал Ангерран де Вержи. – А почему молчит девушка?
– Скажи, Перрин, скажи! – снова завизжала мать девушки. – Скажи, как этот змей-искуситель увел тебя от родного порога, попользовался и сбежал!
Девушка бросила вороватый взгляд на Жиля, но не сказала ничего, лишь прикусила нижнюю губу. Ей было стыдно, что заварилась такая история. Она знала, что не может иметь виды на дворянина, но с Жилем ей было интересно, не то что с деревенскими оболтусами, которые сразу же лезли под юбку.
– Понятно… – Ангерран де Вержи тяжелым взглядом заставил закрыть рот старую ведьму, готовую опять завизжать. – Это дело мы обсудим с отцом семейства. А сейчас прошу вас покинуть замок.
От его вежливости потянуло могильным холодом, и вилланы поторопились очистить двор. Остался лишь отец Перрин. Жиль тяжело вздохнул. Он знал, чем закончится вся эта история. Отцу снова придется раскошелиться, как это уже было несколько раз. Весь вопрос будет заключаться лишь в том, насколько виллан жаден и во сколько он оценит «невинность» своей дочери. А еще Жиль подумал, что теперь ему серьезного наказания точно не избежать, так как было слишком много свидетелей перепалки во дворе замка.
Глава 4. Меткий стрелок
Усадьбу Немиричей обнесли высоким забором, представлявшим собой вкопанные в землю толстые дубовые колья, заостренные вверху. Ворота были двустворчатые, тоже дубовые, с железной оковкой и козырьком от дождя. Изнутри вдоль забора шли мостки, чтобы при надобности по ним могли передвигаться вооруженные пахолки. Это если на усадьбу нападут татары, что уже несколько раз случалось. Небольшие татарские отряды (чамбулы) постоянно рыскали по Руси в поисках добычи и ясыра – пленников, которые высоко ценились в Турции.
В последние годы в Киев они забредали редко и в основном по ночам. Большой поход татарской орды на Киев был давно, сорок лет назад, в 1416 году. Татары, возглавляемые ханом Эдигеем, разграбили почти весь город и сожгли Киево-Печерский монастырь. Но Литовский замок они так и не взяли. С той поры лишь единичные представители степных разбойников отваживались добираться до киевских круч, привлеченные златоглавыми киевскими церквями, что в их жадных раскосых глазах считалось немыслимым богатством, и большей частью в родные улусы они уже не возвращались.
Подворье Немиричей было просторным. За домом находились конюшни, амбары и прочие хозяйские постройки, а также несколько хижин для слуг. Прямо перед домом еще старый Немирич вырыл глубокий колодец с журавлем, вода в котором обладала удивительным вкусом. Дом – скорее терем – строил уже Яков Немирич, вернее, перестраивал. Он был просторным, двухэтажным, с сенцами, большим крыльцом и покрыт красной заграничной черепицей, что являлось главным предметом зависти киевской шляхты. Немногие могли позволить себе такую роскошь – керамическая черепица стоила очень дорого.
Дом сложили из толстенных сосновых бревен, заткнув щели между ними мхом, – для утепления. Старый Немирич, у которого ныли кости в сырую погоду, сложил в доме печь с просторной лежанкой, а Яков отделал ее изразцами. Кроме того, дом стоял на фундаменте из плинфы – тонкого обожженного кирпича, потому что местность, где находилась усадьба, поначалу была сильно обводнена. Первый этаж был хозяйственным (в нем находились разные службы, в том числе поварня и кладовые для продуктов), а второй – жилым.
В дальнем конце усадьбы находился ледник – глубокая яма, укрытая толстым слоем соломенных снопов, куда зимой набивали лед из Днепра. В нем хранилась дичина. Солонину киевляне не очень любили и привечали лишь «живое» мясо с ледника. «Готовизну» – запасы зерна, круп, муки, жиров, рыбы – держали в амбаре и глубоком погребе. В погребе хранилось и «варево» – квашеные и соленые овощи.
К дому вела широкая улица – около десяти локтей[15], замощенная бревнами, а между домами зажиточные киевляне устроили деревянные мостки, чтобы не плюхать по грязи. Ее на Подоле хватало даже в том районе, где жила шляхта.
За хозяйскими постройками тянулись огороды и большой сад. Андрейко очень любил прятаться в саду, особенно когда он расцветал. Улегшись где-нибудь за кустом малины, он глядел на небо и мечтал. О чем именно, он и сам толком не знал. Обо всем понемножку. Просто ему было хорошо: аромат первоцвета кружил голову, щебетали птички, сияло ясное солнышко, на небе ни тучки, а вокруг разливалась неземная благодать. Даже противный голос пани Галшки и тот весной казался ему весьма благозвучным.
Пир Немиричи затеяли по высшему разряду. Яков плюнул на свое шляхетное достоинство и на наказ отца беречь дворянскую честь и ударился в купечество. Голова у него варила, как должно, и вскоре все вложения Немирича обернулись большой прибылью.
Два раза в год в Киеве проходили большие ярмарки. Сюда сгоняли многотысячные стада волов со всего Поднепровья и Побужья, а также из Молдавии. Кроме того, через Киев шли торговые пути в Европу и на Балканы. Важнейшую роль в торговле Киева играли его связи с различными русскими городами – Москвой, Тверью, Новгородом, Смоленском, Рязанью. По мирному договору 1371 года, заключенному великим князем литовским Ольгердом и князем Дмитрием Донским, разрешалась взаимная свободная торговля на территории обоих государств.
Через Киев московская торговля велась преимущественно со странами Востока, поскольку этот путь считался самым безопасным и, с точки зрения местных властей, единственно легальным, так как киевская мытница обладала правом «склада»: приезжие купцы обязывались продавать свои товары здесь, а проезд дальше им был запрещен. Купцы должны были ездить строго по определенным дорогам, где располагались мытницы и «складские» города. Караванам, которые уклонялись от указанных дорог, чтобы не платить пошлин, власти не гарантировали безопасности и лишали права на возмещение убытков.
В Киев привозили меха, железные и деревянные изделия, седла, сбрую, сафьян, бархат, тафту, конскую сбрую, кожаные изделия, оружие, кожи и прочее, а из него в Крым и Константинополь вывозили лошадей, овец, соль, поташ, смолу, зерно, мед, воск, шапки, пояса, мечи, ножи, серпы, стрелы для луков, ювелирные изделия. Киев изобиловал иностранными, в том числе и восточными, товарами. В нем торговали дорогими каменьями, шелковыми тканями, ладаном, благовониями, шафраном, перцем и другими пряностями. Караваны иноземных купцов нередко насчитывали до тысячи человек и состояли из многочисленных тяжело нагруженных возов и навьюченных верблюдов.
Особую статью торговли с Крымом составлял аргиш – степные стада коней, овец и всякого иного «быдла». В причерноморских степях процветало скотоводство, и у татар скапливалась масса аргиша, которая нуждалась в сбыте. Значительную роль в киевской торговле играла также соль, которую привозили из Галича и Качибеевских лиманов. Качибеевскую соль киевские «соляники» вывозили целыми партиями. Излишек соляного привоза отправляли из Киева вверх по Днепру и Припяти на Мозырь и дальше.
В общем, Яков Немирич, что называется, попал в нужную струю и теперь пожинал сладкие плоды своей оборотистости…
Гости у Немиричей собрались знатные – сплошь шляхта из Киевского повета: Дашковичи, Служки, Балакири, Ельцы, Кмитичи, Тышковичи, Горностаи, Лозки, Обухи, Дедовичи и другие, не менее известные и уважаемые личности. Столы накрыли прямо во дворе. Зал для разных торжеств у Немиричей, конечно, был, и, возможно, народ вполне разместился бы там, – как говорится, в тесноте, да не в обиде, – но пани Галшка знала, чем заканчиваются подобные праздники. И ей вовсе не хотелось, чтобы потом в доме неделю несло кислым духом, оставшимся от тех гостей, кто некрепок желудком.
Столы обустроили просто: положили длинные доски на козлы и накрыли красивыми вышитыми скатертями. Что касается скамей, то они давно дожидались своего часа в сарае. Это была первая необходимость во время многочисленных праздников, и скамьи сделали на совесть – тяжелые, прочные, из дуба, отполировав сиденья до блеска и натерев их воском, чтобы не портились от влаги.
Подавали на стол строго по уставу, утвержденному пани Галшкой: сначала – тройную уху (в которой варилась разная мелкая рыбица и осетр), затем – слегка подвяленную и густо наперченную солонину, потом – жареную птицу, после которой подали тельное – жареную рыбу, за рыбой пошли несладкие пироги и кулебяки, каша с орехами, сладкие пирожки и разные заедки. Еды было столько, что столы ломились. Она лежала грудами, возбуждая и так немалый аппетит шляхты, которая минимум двое суток перебивалась с хлеба на воду, – чтобы оставить в желудках побольше места для разных вкусностей, приготовленных Немиричами. По киевским законам праздничного гостеприимства перемен должно было насчитываться не менее пятнадцати, и пани Галшка конечно же не ударила в грязь лицом, тем более что воевода Олехно Кисель все же милостиво явил свой пресветлый лик на торжестве.
Что касается хмельного, то его было очень много. В Киев иноземные купцы привозили лучшие фряжские вина, и зажиточная шляхта с удовольствием пополняла ими свои винные погреба. Были у Немиричей и французская романея, и греческая бастра, и португальский мушкатель, и бордо, и даже мальвазия, совсем уж царское вино[16]. Правда, вин заморских было не море разливанное, а по кубку-другому, под закуски, однако все это выглядело богато, и гости должным образом оценили щедрость и гостеприимство Якова Немирича.
А уж местных напитков, как хмельных, так и освежающих, трудно было перечесть, тем более – попробовать. Мёд малиновый, можжевеловый, белый, ставленый, смородиновый, с гвоздикой, с кардамоном… Разные квасы – житный, медвяной, яблочный, мятный и прочая, березовица пьяная, пиво… В общем, гости веселились, не скучали и набивали брюхо с пребольшим удовольствием, благо кухня у Немиричей была отменной, а спиртные напитки вызывали зверский аппетит.
Андрейко, как и все остальные слуги Немиричей, с раннего утра мотался словно заведенный. Все силы были брошены на помощь поварам, и ему досталась самая неблагодарная работа – колоть дрова для печки, ведь на стол все подавалось с пылу с жару. Кроме холодных закусок. Андрейко едва успевал махать тяжеленным топором, так быстро уносили поленья. Он уже совсем замаялся, когда повар, мужик в годах с печальными глазами, которого звали Верига, окликнул подростка:
– Ондрейко, ходь сюды…
Андрейко с раздражением бросил топор и пошел на зов. Верига встретил его с куском жаркого и сдобным калачом в руках.
– Заработался, поди? На, – сказал он, вручая Андрейке еду. – Подкрепись. Да только не на виду! А то заметит пани Галшка, будет орать как оглашенная.
– Понял. Спасибо, дядя Верига!
– Беги, скройся с моих глаз! – с деланой суровостью насупился повар.
Андрейко шмыгнул, как белка, в конюшню и присел на охапку сена. Он относился к Вериге с сочувствием и пониманием. Повар был одиноким. Его семью татары забрали в полон, а хату сожгли. После этого он и прибился к Немиричам, где его определили на кухню, в повара. А вскоре слава о поварских талантах Вериги Тетерина (это было его полное имя) разнеслась по всему Киеву.
Откуда он брал рецепты ранее невиданных блюд, никто не знал, а Верига не говорил. Но отобедать у Немиричей считалось престижным, что хозяину семейства было только на руку. Поэтому он очень дорожил своим поваром, и даже пани Галшка старалась не повышать на него голоса, что удавалось ей с трудом.
Насытившись, Андрейко стал наблюдать за игрищами, которые устроили подпившие гости. Сначала шляхтичи хотели размяться в товарищеских поединках на саблях, но Яков Немирич не разрешил. Он знал, чем чаще всего заканчивается эта поначалу невинная забава. Изрядно подогретые спиртным, поединщики теряли над собой контроль, и тогда начиналась рубка всамделишная, и даже не до первой крови, а до серьезных увечий и ран.
Поэтому при общем согласии решили поупражняться в стрельбе из лука. В этой забаве приняли участие и жены некоторых шляхтичей. В этом не было ничего необычного. Часто в отсутствии мужчин, которые ходили в боевые походы, им приходилось защищать свои усадьбы с оружием в руках от набегов татарских чамбулов и просто разбойничьих шаек.
Двор Немиричей с постройками не имел достаточной длины, чтобы гости могли в полной мере продемонстрировать свое стрелковое искусство, и тогда начали прибегать к разным ухищрениям. Сначала стреляли в дощечку, затем в кольцо, сплетенное из лозы, потом в жердь, но для пана Миколая Щита, общепризнанного вояки, не раз и не два раза ходившего против татар и поляков, такие мишени показались детской забавой. Он пошел в дальний конец двора и установил там в расщепе доски золотой веницейский дукат[17]. Это были большие деньги даже для далеко не бедной шляхты.
– Ну-ка, кто тут у нас настоящий стрелок? – пан Миколай с видом победителя огладил свои вислые усы. – Чья стрела попадет в дукат, тот его и получит!
Он точно знал, что попасть в крохотный желтый кружочек на таком расстоянии был способен разве что конный стрелок-ногаец, который на скаку мог поразить бегущего зайца. Дукат еле просматривался, как по нему целиться? Тем более что по двору гулял ветер. Сам же Миколай Щит постоянно упражнялся дома в стрельбе из лука, потому как знал, что быть искусным стрелком значило охранить себя от многих бед. Схватки с татарами его многому научили. Но и он сам вряд ли попал бы в монету, тем более с первого выстрела, как оговаривалось. Второй выстрел можно было сделать лишь после тех, кто уже стоял в очереди.
Всех охватил безумный азарт. Стреляли и мужчины, и женщины, даже те, кто совсем плохо управлялся с луком, – на удачу. Ведь на кону стоял большой приз – за дукат можно было приобрести две пары волов. Некоторые стрелы ложились совсем близко к золотой монете, однако ни одна из них не попала в желанную цель. Шляхтичи горячились, злились, а от этого конечно же точность стрельбы оставляла желать лучшего.
Андрейко следил за состязанием, превратившись в одну натянутую струну. Эх, разрешили бы и ему поучаствовать! А что, если?.. Он нашел глазами сына хозяев, Ивашку Немирича, и подошел к нему.
– Слышь-ко, – нагнулся он к уху Ивашки, – дело есть…
– Не мешай глядеть! – отмахнулся Ивашко.
– Одно слово – и все.
– Ладно, выкладывай, что там у тебя, – досадливо поморщившись, сказал Ивашко, не отрывая взгляда от очередного стрелка, занявшего позицию.
– Замолви за меня словечко, штоб я тоже поучаствовал в игрищах.
– Ты в своем уме?! Вишь какой знатный люд здесь собрался. А ты кто? Всего лишь слуга, холоп.
– Ивашко, мы ведь товарищи, – начал умолять Андрейко. – Сделай для меня доброе дело. Век буду помнить.
– Вот прилип… Как смола! – Ивашко немного поколебался, а затем сказал: – Ладно, быть по сему! – и, решительно схватив Андрейку за рукав, потащил его за собой к пану Миколаю Щиту, который важно восседал в качестве судьи на крышке колодца.
– Пан Миколай! – обратился Ивашко к гостю. – Вот наш пахолок тоже хочет поучаствовать.
– Пахолок, говоришь? – шляхтич смерил Андрейко с головы до ног, а затем милостиво кивнул: – А пусть попробует. Все ж человек, а человецы пред Богом все едины… Но ежели этот нахальный сукин сын не попадет в цель, скажи своему отцу, чтобы выпорол его как следует на конюшне. За дерзость… – пан Миколай довольно хохотнул и погладил себя по заметно округлившемуся животу.
– Всенепременно, пан Миколай! – уважительно ответил Ивашко и подмигнул Андрейке – получилось!
Они были погодки и дружили. Конечно, отношения слуги с панычом дружбой можно назвать лишь с большой натяжкой. Но Андрейко обладал независимым, дерзким характером и в какой-то мере довлел над Ивашкой, который был несколько мягкотелым, в отличие от своего отца, а тем более – от пани Галшки.
Очередь Андрейки подошла быстро. Гости загомонили, увидев неважно одетого подростка с луком, но пан Миколай строго прикрикнул: «Тихо!» – и все умолкли. Андрейко действовал словно во сне. Лук Немиричей был хорош – составной, с прочной кибитью (основой) из грушевого дерева. Для большей упругости лука мастер наклеил на спинку жгут из бычьих сухожилий, а на рогах установил резные роговые накладки. Тетиву лука свили из многочисленных шелковых нитей, поэтому она была очень прочной.
Стрелы тоже были непростыми. Слава киевских стрельников, изготовлявших стрелы для лука с каленым стальным наконечником и орлиным пером, достигла не только Крыма, но и Константинополя. За десяток знаменитых киевских стрел давали барку соли с Качибеевского лимана. Такую стрелу и держал в руках Андрейко, только она была с тупым наконечником – чтобы не повредить дукат.
Глаза у Андрейки были очень зоркими. Это мало кто знал, только дед Кузьма. Он так ясно различал дукат, что ему казалось, будто он видит даже отчеканенное на нем изображение. А может, и впрямь видел. Но не это было главным. Насторожив стрелу, Андрейко ловил момент, когда ветер утихнет хоть на короткий миг. Сердце, которое поначалу билось в груди со страшной силой, постепенно замедлило темп ударов, почти замерло, и наконец желанное случилось – ветер словно рухнул с высоты на землю и прильнул к ногам подростка.
В полной тишине гулко и басовито загудела тетива – гости Немиричей, что удивительно, неожиданно притихли, хотя до этого галдели, как стадо гусей, потревоженных лисой, а затем раздался громкий возглас пана Миколая, в котором прозвучали и досада, и восхищение:
– Ай да стервец! Попал-таки! Яков, ты где такого молодца нашел? – спросил он, обращаясь к Немиричу. – Мне бы его в мою дружину. Ему там самое место, а не на кухне среди баб. Отдашь?
– Пан Миколай, он не холоп, он свободный человек, – сдержанно ответил Яков Немирич. – И потом, у меня самого на него есть виды.
– А жаль… Жаль! Тебя как зовут? – обратился он к подростку.
– Андрейко… Нечай.
– Добрым воином будешь, Андрейко Нечай. Это я тебе говорю, Миколай Щит! А у меня глаз верен. Что ж, дукат твой. Купи себе саблю и лук. Оружие пригодится. Слух пошел, что татары снова вострят ножи, готовят большой поход на киевские земли.
Андрейко низко поклонился, поднял монету, которую сшиб стрелой, и поторопился исчезнуть не только с глаз панов, но и со двора Немиричей. Он опасался, что пани Галшка заберет дукат под каким-нибудь предлогом и вернуть его обратно вряд ли удастся: что у жены Якова Немирича прилипало к рукам, то нельзя было вырвать и кузнечными клещами…
На другой день, ближе к обеду, когда последние гости приняли по чарке на дорожку и разъехались, Андрейко, который переночевал у деда Кузьмы, тихо проник на подворье Немиричей, где в этот час началась генеральная уборка, и, никем не замеченный, пробрался на конюшню. Впрочем, если кто из дворни его и видел, то все равно общаться с юным пахолком им было недосуг.
В конюшне, как всегда под хмельком, распоряжался панский конюх Шимко Чиж. Из-за большого пристрастия к мёдам и наливкам он постоянно имел неприятности со стороны пани Галшки. Шимка уже давно бы выставили за ворота, но лучшего знатока лошадей нельзя было сыскать на всем Подоле. На конной ярмарке он с первого взгляда определял все достоинства и недостатки коня и назначал истинную цену. А если хозяин одра, чаще всего цыган из Валахии, начинал спорить и доказывать, что у него конь-огонь и ему от силы пять лет, Шимко Чиж тут же рассказывал, каким напитком он опоил свою клячу, что впрыснул в глаза, чтобы они молодо заблестели, какой краской покрасил ее шкуру и чем отбелил зубы.
Глядя вслед Шимку, ошарашенный цыган чесал в затылке, качал головой, цокал языком и говорил своим: «Ай-яй-яй, какой человек… Все знает. Коня чует на расстоянии, как собака старые вонючие ноговицы. Будь он цыганом, цены бы ему не было».
– Ты где ходишь? – спросил Шимко, работая скребницей.
Он как раз холил хозяйского жеребца.
– А что?
– Пани-матка уже обыскалась тебя. Злая, как ведьма, у которой украли метлу. Беги к ней быстрей, а то пришибет.
– Уже бегу…
Галшка Немиричева и впрямь была сама не своя. Она метала на служанок громы и молнии. Увидев Андрейку, пани Галшка сначала хотела и его облаять, но потом вдруг резко остановилась и уже почти спокойным тоном сказала:
– Беги на рынок.
– Зачем?
– Завтра в дорогу. Купи себе добротную одежду, обувку и оружие. Денежка у тебя есть… – тут ее лицо омрачилось; наверное, пани Галшка в который раз пожалела, что золотой дукат выскользнул из ее цепких рук.
Андрейко оторопел: какая дорога, куда, с какой стати?!
Задать эти вопросы он не успел. Пани Галшка, словно прочитав его мысли, объяснила:
– Байдаки[18] уже нагружены товаром, пойдут к порогам. Их поведет Олифер Радогощанин. Там вы разгрузитесь и на обратный путь возьмете соль. Почему ты идешь вместе с караваном? Потому что так захотел Ивашко. Отец приучает его к делу. Тебе все понятно?
Андрейко сумрачно кивнул и ушел со двора. Меньше всего ему хотелось бросать деда Кузьму и плыть к порогам, где опасность поджидала купцов за каждым поворотом днепровского русла. Он не боялся, нет, но с некоторых пор его начала раздражать панская властность, которая стала проскальзывать в речах младшего Немирича. Ивашко, видите ли, захотел потащить его к черту на кулички! Хоть бы слово сказал… И вообще, он не холоп, не раб, а свободный человек! На Немиричах свет клином не сошелся. Лучше уж всю жизнь провести в плавнях, будучи рыбаком, свободным человеком, нежели ходить в панском ярме.
В свое время он был приставлен Яковом Немиричем к сыну в качестве не только слуги, но и товарища. Отец Ивашки был очень неглупым человеком и видел, что Андрейко во всех отношениях выше на голову его сына, хотя они и были погодками. К тому же старшему Немиричу не хотелось, чтобы его Ивашко вырос таким же оболтусом, как и сыновья соседей, с которыми ему приходилось общаться. Подростки и впрямь сдружились, и их приятельство (друзьями они никак не могли стать из-за общественного положения) оказалось полезным обоим. Андрейко учил Ивашку обращаться с оружием (в чем преуспел благодаря деду Кузьме), а от сына Немиричей ему перепала немалая толика грамотности.
Андрейко, как и многие отпрыски киевлян разных сословий, умел писать, читать и знал счет. Об этом озаботилась еще мать, пока была жива. Она отвела его за руку к дьячку-забулдыге, и тот за малую мзду обучил юного Нечая грамоте. Оказавшись у Немиричей, Андрейко тайком почитывал разные книги, которые Яков заказывал у торговцев из Львова. Чтение сильно его увлекало. Книги открывали перед ним незнакомый, огромный мир, наполненный тайнами. Он читал преимущественно по ночам, в своей каморке, которую ему милостиво выделила пани Галшка по просьбе Ивашки. Для этого Андрейке приходилось воровать свечные огарки и горючее масло для каганца.
Конечно, красиво оформленные рукописные книги с рисунками и в драгоценных окладах ему бы никто не дал. Пани Галшка дрожала над ними, как наседка над цыплятами, потому что стоили они баснословно дорого. Да и, по правде говоря, Яков Немирич не испытывал никакого влечения к чтению книг. Он покупал их, повинуясь моде, по принципу «у всей киевской знати книги есть, а мы чем хуже?». Но Ивашко мог брать их в свою комнату невозбранно. Только он не читал книги на сон грядущий, а рассматривал рисунки.
Когда Ивашко засыпал, Андрейка умыкал книгу и бывало, что читал ее до самого утра. А затем возвращал книгу на место. Это был самый опасный момент: вдруг пани Галшка проснется раньше обычного? Андрейко даже думать боялся, что потом будет…
А затем наступил период, когда в его жизнь вошла латынь. Без латыни в те времена невозможно было ни вести дела с иноземцами, которые приезжали в Киев, ни торговать с Европой, выезжая за рубеж. Латинский язык понимали во всех европейских странах, он был средством общения купцов, ростовщиков, менял, монахов, ученых, знати и даже простого люда (правда, в изрядно исковерканном виде). Поэтому Яков Немирич нанял для Ивашки учителя латыни, некоего господина Шарля Тюлье, франка (хотя все называли его немчином).
Пока господин Шарль (он просил называть себя мосье) занимался с Ивашкой, Андрейко сидел у приоткрытой двери и жадно внимал тому, что говорил «немчин». Память у него была потрясающей, в отличие от младшего Немирича. Все услышанное Андрейко даже не запоминал, а вырезал резцом в своих мозгах, как искусный резчик по камню.
Однажды мосье Шарль снизошел до разговора со слугой молодого господина и был потрясен, когда Андрейко довольно бойко ответил ему по латыни. После этого он намеренно становился поближе к приоткрытой двери, где в сенцах таился Андрейко, и говорил громко и внятно, чтобы пахолок мог все хорошо слышать.
Шарль Тюлье на поверку оказался милейшим человеком. Почему судьба забросила его в «варварскую» Русь, он никогда не говорил, но, похоже, в жизни учителя латыни была какая-то тайна. Она мало интересовала Андрейку. Он лишь хотел побольше узнать о Франции, о быте, нравах и обычаях этой далекой страны.
Когда у него выпадала свободная минутка, Андрейко торопился пообщаться с мосье Шарлем. Тот был рад любому собеседнику, ведь дворня шарахалась от ученого «немчина» (многие считали, что он знается с нечистым, так как франк был очень смуглым коротышкой с черными длинными волосами и жгучим «нехорошим» взглядом), а пани Галшка и Яков Немирич редко снисходили до разговора с учителем. Твое дело – учить. За это тебе платят немалые деньги. А нам недосуг разводить с тобой трали-вали, чай, неровня. Вот и все, что думали Немиричи по поводу мсье Шарля.
Постепенно место латыни уступил французский язык, который Андрейко постигал с немыслимой быстротой. Если мосье Шарль больше мучился с Ивашкой, чем учил его (младший Немирич был неглуп, но очень ленив), то во время общения с Андрейкой он просто расцветал и начинал обретать веру, что и впрямь обладает выдающимся учительским талантом. А все дело было в том, что многие киевляне знали польский и татарский языки, а также «руську мову», которая была в ходу в Великом княжестве Литовском. Так что чужие языки они схватывали на лету – привыкли.
Узнав о том, что Немиричи отправляют Андрейку к порогам, дед Кузьма помрачнел.
– Похоже, мое ведание сбылось раньше, чем я думал, – сказал он глухо. – А ведь по всему выходило, что так скоро мы не расстанемся…
– Деда, я ведь ненадолго. Только к порогам и обратно.
– Легко слово сказывается, да тяжело дело делается. Нужно еще вернуться. А татарские чамбулы так и шастают по округе. Да и встреча с бродниками, этими разбойниками, тоже не мед. Большие купеческие караваны щипают, а ужо несколько байдаков твоего хозяина и подавно могут растребушить в пух и прах.
– Все может быть. Но выбирать-то мне не из чего…
– И то верно. Ладно, чему быть – того не миновать. Ты уже подрос, вона какой вымахал, так что пора попробовать себя в деле. Все зависит от судьбы. Ежели она к тебе милостива, значит, долго жить будешь. А твой выигрыш золотого дуката – это добрый знак, не сомневайся, я уже погадал.
– Деда, мне нужен этот дукат, чтобы купить одежду и оружие…
Андрейко оставил монету у деда Кузьмы, справедливо полагая, что у него дукат будет в целости и сохранности. Если бы не жадность пани Галшки, которая поскупилась на снаряжение слуги, то он никогда бы не разменял монету. Она могла послужить залогом его будущего состояния. Увы, богачи Немиричи всегда находили способ, как ущучить бедняка…
– Насчет оружия не беспокойся. Возьмешь мое – и саблю, и лук. Мне оно уже вряд ли пригодится. Стар я стал, внучек, очень стар…
– Что ты такое говоришь, деда?! Да ты… ты и двух здоровых молодцев за пояс заткнешь!
– Может, и так. Но все равно с молодыми воинами мне не сравниться. Они выносливы, а я пройду немного и хриплю. Раньше я мог махать саблей с утра до вечера, а нонче хоть бы на полчаса духу хватило. Так что мне как-то сподручней дубиной. Ежели, конечно, придется. Ну все, все, хватит разговоров! С оружием все ясно, а теперь посмотри на свой панцирь. Я как знал, что нужно побыстрее с ним справиться. Примерь-ка…
Кожаный панцирь, изрядно потемневший от обработки, сидел на Андрейке как влитой. Он был гораздо легче железных, но не менее прочный. Дед Кузьма был большим мастером по части кожаных изделий и мог бы зарабатывать немалые деньги, открыв собственную мастерскую, но река тянула его к себе с властной силой. Он просто не представлял себя в тесной комнатушке, наполненной запахами распаренной кожи и гнилостной вони мездры. То ли дело раннее утро на Днепре, когда воздух такой свежий и чистый, что его хочется пить. А вокруг – простор, необъятность от горизонта до самого неба. И звенящая тишина, которую изредка нарушает крик какой-нибудь ранней птички, да плеск гуляющей рыбы.
Панцирь Андрейко и дед Кузьма делали вместе. Только рисунок на нем дед наносил один; это была работа долгая, кропотливая и требующая терпения, чего юному Андрейке не хватало. Старик хотел, чтобы внук знал, как из мягкой кожи сделать материал, который не берут ни стрелы, ни мечи. Но главным его секретом было то, что кожаные панцири и наручи других мастеров служили от силы два-три года, а кожа, выделанная дедом Кузьмой, могла храниться в оружейной хоть полста лет, при этом совершенно не теряя своих выдающихся качеств.
Сначала дед дубил толстую бычью кожу, добавляя в раствор соки разных растений. А затем приступал к главному – к варке, чтобы она стала прочнее. Обычно мастера варили кожу в простой воде, доводя ее до кипения. Иногда они добавляли в нее соль. А дед Кузьма делал специальный клеевой раствор из свиных ножек и варил кожу при более низкой температуре, чем добивался того, что клей заполнял все ее мельчайшие поры. Такая пропитка делалась несколько раз, кожа значительно уменьшалась в размерах, упрочнялась еще больше и становилась вязче, что было особенно важно для такого изделия, как панцирь.
После варки дед обрезал ненужные куски по заранее сделанному трафарету и натянул кожу на деревянный манекен, в точности повторяющий фигуру Андрейки, обвязав ее грубой холстиной (веревка могла оставить нежелательные следы). В процессе сушки он наносил на панцирь рисунок – разные языческие фигурки-обереги, а когда кожа высохла, то оказалось, что она покрыта красивым сетчатым узором, повторяющим плетение холста.
Но и это еще было не все. После всех этих процедур дед Кузьма упрочнял кожу еще и воском, защищая ее таким образом от сырости и гниения. Это была, пожалуй, самая сложная процедура. Воск следовало нагревать лишь до момента расплавления. Если подогреть его слишком сильно, то он обожжет кожу, которая сначала свернется, а затем станет хрупкой. А еще нужно было следить за временем. Панцирь в растворе воска можно было держать не более получаса. После этого панцирь снова натянули на манекен, а когда он высох, дед Кузьма тщательно его отполировал.
– Ну как? – спросил он, когда Андрейко затянул завязки панциря и надел кожаные наручи, тоже сделанные дедом.
– Здорово! – Андрейко подвигался, попрыгал, несколько раз взмахнул рукой. – Совершенно не мешает! А красивый какой – аж светится!
– Что ж, носи на здоровье. Сходи в церковь к вечерней службе, свечу поставь угодникам, чтобы этот панцирь был тебе надежной защитой. А что касается одежки…
Дед Кузьма полез в ларь, достал оттуда кошелек и сказал:
– Дукат я припрячу, пусть полежит. Чует мое сердце, в будущем он тебе здорово пригодится. А пока возьми мои деньги. Здесь у меня двенадцать грошей[19], этого вполне хватит на одежду и обувь. Я с тобой на Торг не пойду, мне нужно срочно отправляться на ловы. У князя Олелько Владимировича намечается пир, так что осетров понадобится много. Поэтому попрощаемся сейчас…
Дед и внук обнялись.
– Иди… – дед Кузьма перекрестил внука. – Храни тебя Господь…
Житный Торг (или, по-иному, Подольское Торжище) был самым бойким местом в Киеве. В отличие от знатного и дорогого Бабина Торжка в Верхнем городе, которым пользовались в основном зажиточные и родовитые киевляне, Торжище было более массовым и демократичным. Сюда приезжали купцы со всех стран: варяги, византийцы, немцы, арабы, хазары, бухарцы, булгары. А еще на Житном Торге собирались народные веча. Правда, они назывались «черными», потому как там собирался простой люд. Обычно всесословные веча происходили на площади возле Софийского собора.
В описываемое время Торжище стало главным торговым центром Киева. Здесь размещались иноземные торговые колонии: армянский квартал, греческий квартал, генуэзский, турецкий, русский, польский, византийский и иные «дворы». Особенно богатым был генуэзский торговый двор. А довольно обширная армянская колония имела на Подоле даже свою церковь.
На Житном Торге дважды в год собирались людные ярмарки. Вокруг Торжища возводились на средства ремесленных и торговых объединений церкви, в том числе и Церковь Богородицы Пирогощи, построенная стараниями торговавших хлебом купцов. Кроме знаменитой Пирогощи возле торговой площади кучно лепились и другие храмы, в том числе Михайловская церковь и Туровская божница. Это происходило оттого, что, согласно «Уставу» князя Владимира, именно церквям был отдан надзор за мерами и весами в городах, чтобы они берегли их справедливость. Именно в Пирогоще находились мерный локоть, кварта и ведро, а также городские весы.
Небольшая речушка Глубочица делила Житный Торг на две части. Ее берега обшили деревянными досками, и она текла в районе торговой площади как бы в канале. Кроме церквей Торжище окружали еще и ремесленные цехи, старавшиеся обустроить свой двор поближе к главной торговой площади. Там жили и работали стекловары, ювелиры, гончары, кожемяки, дегтяри и горшечники. Сам Торг был полностью застроен многочисленными деревянными лавками, конюшнями, складскими помещениями. Куда ни кинь глазом, тянулись ряды, где продавалась всякая всячина: мед, жито, крупная и пернатая дичь, сыр, яйца, масло, свежая и вяленая рыба…
Из сел привозили сено, солому, дрова, древесный уголь и строительный лес, охотники продавали бобровые, куньи и лисьи меха, кожевники торговали конской упряжью, оружейники – добрыми мечами и луками, на возах и прямо на земле высились горы мисок, горшков, кувшинов, киевских амфор, облицовочных плиток… Каждый гончар, заботясь о репутации, ставил на свои изделия специальное клеймо.
А еще были ряды, где торговали заморским товаром. Здесь продавали в основном разные вина, книги, ткани и украшения. Простой люд заходил сюда редко; он чувствовал себя в этих красочных рядах не в своей тарелке. Клиентами иноземных купцов большей частью были жены и дочери купцов, зажиточных мещан и киевской шляхты. Но и они не имели столько денег, чтобы купить все, что душа пожелает, поэтому большинство женщин ходило сюда как на смотрины. Для солидности они покупали какую-нибудь недорогую безделушку, а затем любовались переливами и многоцветьем шелка, мягкостью рытого бархата, вдыхали запахи восточных благовоний и приценивались к драгоценностям, один вид которых вызывал у модниц душевные страдания, а уж цены и вовсе вводили их в состояние, близкое к обмороку.
Андрейко любил бродить по Житному Торгу. Правда, такая удача ему выпадала редко. Прежде всего он направился к Пирогоще, чтобы не откладывать на вечер наказ деда. Церковь была с одним куполом, ее построили из плинфы на известковом растворе. В узкие высокие окна, расположенные в два яруса, мастера вставили цветные венецианские стекла, а в толще западной стены находилась лестница, ведущая на хоры. Внутри церковь по площади была небольшой, примерно тридцать на сорок локтей, но отделали ее богато.
Поставив свечу и помолившись, Андрейко направился в ряды, где продавали готовую одежду. Он был мрачен. У него из головы не выходила очередная блажь Ивашки. Да и Яков Немирич тоже хорош. Как может защитить себя его сынок, ежели приключится какая-нибудь баталия?! Ведь Ивашко и саблю-то в руках держать не умеет как следует, хотя Андрейко долго и упорно пытался обучить его мечевому бою.
Гулко ударил колокол, и над Подолом мягко разлился малиновый звон. К ясному небу взлетели дикие голуби, заржала испуганная лошадь, нищенки на папертях церквей начали истово креститься, шепча молитвы сухими старческими губами. Наступил час обедни.
Глава 5. Схватка в таверне
Гийо брюзжал:
– На этих клячах мы никогда не доберемся до Парижа. Я, конечно, уважаю вашего батюшку, мессир, но дьявол меня побери, как можно выпроводить в дальнюю дорогу родного сына, дав ему никчемных старых одров, место которых на живодерне?!
– Старина, что такое этот маленький пустячок по сравнению с тем, что нас ждет Париж? Ах, Париж… Париж, я еду к тебе! – в порыве вдохновения вскричал Жиль. – Сбежала от меня моя подружка Флора, – начал он декламировать чьи-то стихи; правда, несколько не по теме, видимо, сообразуясь со своими душевными коллизиями. – Не вынесу позора! Едва настала ночь, ты упорхнула прочь! А мы ведь так хотели понежиться в постели!
– Вы все о том же… – предосудительно заметил Гийо. – Это все из-за нее, из-за той блудной девки Перрин, мы сейчас трясемся на мешках с костями по скверной дороге в неизвестность.
– Что ты понимаешь в любви! – пылко воскликнул Жиль; тут Гийо тихо проворчал: «Однако! Телок учит матерого быка, как обращаться с коровой». – Наша прощальная ночь была прекрасна! На поле ее папаши не найти стога, в котором мы не кувыркались. Я ее простил, друг мой. И потом, что Перрин оставалось делать, если старый дуралей пристал к ней, что называется, с ножом к горлу? Мол, требуй своего, дочь, – и точка.
– Однако же эта дивная семейка изрядно опустошила кошелек вашего батюшки, – язвительно заметил Гийо. – Да и Перрин не очень похожа на наивную дурочку. Своего она точно не упустит. Теперь у нее есть недурная слава – как же, с ней переспал дворянин – и богатое приданое.
– Деньги – это песок, который не задерживается в наших ладонях, – философски заметил Жиль. – И потом, будем снисходительны к женщинам. У них так мало радостей в жизни. Конечно, отец был ко мне не очень щедр, и думаю, что тех денег, которые он дал на дорогу и обучение в Парижском университете, хватит ненадолго. Но, с другой стороны, ни случись со мной эта приятная неприятность, я бы так и прозябал в нашей глухомани.
Гийо что-то недовольно буркнул себе под нос, и они продолжили путь. Лошади едва плелись, но пустить их хотя бы рысью было страшновато; вдруг они падут раньше времени. Лучше медленно и плохо ехать, чем топать пешком по дороге, изрядно разбитой колесами крестьянских повозок.
Позади, высунув язык, носился по кустам ошалевший от свободы Гаскойн. Гийо категорически не захотел расставаться со своим знаменитым песиком и взял его с собой. Вот только Жиль никак не мог взять в толк, почему Гийо для своего любимца в качестве клички выбрал английскую фамилию. В этом тоже была какая-то тайна.
Ангеррану де Вержи пришлось откупиться от настойчивого виллана. В душе он был на стороне сына, потому что в молодости и сам не раз грешил подобным образом, но проказы Жиля начали влетать ему в немалые деньги, и он решил проблему кардинально. Посоветовавшись с женой, рыцарь вызвал к себе сына и коротко сказал:
– Собирайся. Ты уезжаешь.
– Куда?! – всполошился Жиль.
– В Париж. Таким шалопаям, как ты, там самое место. Будешь учиться в университете. Может, станешь каким-нибудь судейским крючкотвором, чтобы зарабатывать себе на хлеб насущный. Мать говорит, что ты ловок в науках. А рыцарем, увы, тебе никогда не быть… – тут отец горестно покривился: – Да-а, нынешняя молодежь совсем не та, что была в мое время…
На этом их разговор и закончился. Жиль выскочил во двор, переполненный разноречивыми чувствами. С одной стороны, ему не хотелось бросать родные места и своих подружек, а с другой – жить и учиться в Париже было его мечтой. (По крайней мере, так он уверовал, когда до него полностью дошел смысл сказанного отцом; до этого момента Париж казался ему сияющим храмом на горе, о котором даже думать не стоит.)
«Ах, матушка, как я тебе благодарен!» – радовался Жиль. Он понял, что это мать придумала такое «наказание» провинившемуся сыну. К ней он и подкатил, чтобы в качестве слуги с ним в Париж отправился Гийо. Ему Жиль полностью доверял, к тому же Пройдоха, как он сам утверждал, знает французскую столицу как свои пять пальцев, что для провинциала было очень важно. Конечно, Ангерран де Вержи возражал – ему очень не хотелось терять столь ценного слугу, – но его обожаемая Шарлотта настояла, а разве мог истинный рыцарь отказать в чем-нибудь своей возлюбленной?
Проезжая мимо церкви Сен-Симфорьен, Жиль невольно перекрестился. И не потому, что в этот момент на него нахлынуло благочестие. Молодого дворянина с детства пугали статуи, украшавшие ее фасад. Маленькому Жилю казалось, что мрачные фигуры вот-вот оживут и накажут его за многочисленные шалости. Может, такому восприятию статуй поспособствовала мать, которая часто грозила ему небесными карами за неблаговидные поступки. А возможно, поэтическая натура Жиля была чересчур чувствительной к вещам, которые выходили за пределы его познаний. Тем не менее, несмотря на все старания матери и местного кюре, в глубине души он относился к религии (а больше всего к церковникам) с некоторым скепсисом.
Вскоре пошли известняковые скалы, изрытые пещерами. Черные дыры на светлых камнях выглядели зловеще. Пещеры в скалах, вырубленные в мягких туфовых породах, многие века использовались как винные погреба и склады. Их даже приспосабливали под жилища, особенно во времена военного лихолетья. Солдаты вражеских армий боялись входить в лабиринты пещер, а те, кто все же отваживался, так и оставались в холодных и мрачных подземных ходах, упокоенные до конца света.
По окончании Столетней войны пещеры обезлюдели, но нельзя сказать, что надолго. Поговаривали, что теперь их облюбовали шайки разбойников, несмотря на расположенное поблизости аббатство Мармутье. Юный дворянин невольно напрягся, приготовившись в случае чего пустить своего одра вскачь, хотя насчет лошади у него были большие сомнения. Но человек живет надеждой, и Жиль по наивной молодости надеялся, что жизнь ему предстоит долгая, интересная и обеспеченная, а значит, у коня во время опасности вырастут крылья – как у сказочного Пегаса.
На счастье наших путешественников, все обошлось. Они не стали заезжать в крохотный городок Монбазон, а поехали дальше, в Тур. Монбазон был известен Замком Черного Сокола, который построил в конце X века злой и кровожадный граф Анжуйский Фулько Нерра, вознамерившись завоевать город Турень. Он решил окружить местность вокруг города укрепленными замками, предназначенными для того, чтобы задушить его. Так появились кроме Замка Черного Сокола замки Ланжэ, Самблансэ, Амбуаз, Шинон и другие укрепленные пункты.
Но вскоре Замок Черного Сокола был захвачен графом Блуа, злейшим противником Фулько Нерра, и в свои владения он вернулся лишь спустя сорок лет, на закате жизни. В 1040 году замок вместе с остальными военными укреплениями унаследовал сын Фулька – Жоффруа Мартель д'Анжу. Графы Анжуйские оставались хозяевами прилегающих поместий до тех пор, пока последний из их рода не женился на дочери герцога Нормандии, который был также королем Англии. И с 1175 года Замок Черного Сокола целое столетие находился под властью английских королей.
В XII веке Замок Черного Сокола был перестроен и укреплен сеньорами де Монбазон. Теперь он состоял из четырехугольной башни-донжона, укрепленной выступами, крепостной стены, украшенной башенками, и закрытого внутреннего двора. Замок был построен на холме, и его главная башня высотой в пятьдесят шесть локтей грозно возвышалась над городом и рекой Эндр.
Как это ни смешно, но, приближаясь к Туру, лошади вдруг перешли на рысь, притом без понуканий. Похоже, они здорово проголодались, и густой запах навоза от большой графской конюшни, которая располагалась за околицей города, навеял им мысль о доброй охапке сена, а может, и торбе овса. Удивленные Жиль и Гийо не стали придерживать своих «рысаков», и вскоре показался высокий остроконечный шпиль собора Сен-Гатьен. Его построили на берегу Луары, рядом с мостом, по которому наши путники перебрались на другой берег реки.
Жиль ездил вместе с родителями в Тур пять лет назад и был восхищен видом собора. Внешне Сен-Гатьен напоминал искусно сплетенные окаменевшие кружева. А его витражи поражали красотой. И только водостоки, выполненные в виде страшных чудовищ, заставили тогда совсем еще юного Жиля в испуге прильнуть к матери, которой по какой-то причине потребовалось заступничество святого Гатьена, который в давние времена был первым епископом города Тура. Именно этот святой (тогда еще Грациан) и отслужил первую мессу в пещерах, мимо которых проезжали Жиль и Гайо, тем самым дав толчок к заселению подземного лабиринта бездомными крестьянами и использованию его в хозяйственных целях.
Дома в Туре были под стать собору – красивыми и хорошо ухоженными. Собственно, как и сами горожане. Вот только эту благостную картину несколько портили многочисленные паломники, которые направлялись к знаменитой испанской святыне Сен-Жак-де-Компостель. Тур был для них местом общего сбора и отдыха. Почти все они напоминали нищих на паперти храма. Несомненно, среди них были и люди более-менее состоятельные, но кто же идет просить у Господа милостей в богатой одежде? Ведь всем известно, что он больше благоволит к беднякам, нежели к знати.
Город был знаменит во Франции тем, что в нем чеканили турский грош – гротурнуа – и делали шелк. Гугеноты организовали в Туре шелкопрядильное производство, которое процветало. Оно приносило городу большую прибыль, благодаря чему Тур усиленно строился. Поговаривали даже, что король намеревается перенести сюда столицу, потому что Париж стал чересчур шумным и воинственным. Редко какой год в Париже проходил без заварушек, чаще всего кровавых, – парижане были слишком свободолюбивы, вспыльчивы и независимы.
Несмотря на то что расстояние от Азей-лё-Брюле до Тура было небольшим, всего пять лье[20], Жиль и Гийо въехали в пределы города ближе к вечеру. Первым делом они начали подыскивать подходящий постоялый двор. Подходящий в смысле недорогой. Им не хотелось мыкаться среди паломнической братии, от которой шла вонь, как от свинарника, но и там, где обычно обретались дворяне, Жиль останавливаться на ночь не пожелал. Конечно, он был при мече, как и полагалось представителю его сословия, но больно уж одежонка у него была непрезентабельной. Хорошо, служанка матери, большая мастерица, так искусно починила видавшие виды шоссы и пурпуэн – короткую куртку с узкими рукавами, – что лишь вблизи можно было заметить следы ее работы.
Увы, Ангерран де Вержи не баловал непутевого сына одеждой, приличествующей дворянину. Возможно, мать Шарлотта и прикупила бы Жилю обновки, но прижимистый рыцарь, предполагая нечто подобное и считая, что такие траты лишние, решил сплавить его побыстрее с глаз долой, поэтому пришлось довольствовать тем скудным гардеробом, который имелся в наличии.
Наконец они остановили выбор на скромном постоялом дворе, который находился неподалеку от пристани. Паломники сюда не забредали, так как он был в стороне от дороги, дворяне пропахшие рыбой комнаты не жаловали, и жильцами постоялого двора были в основном капитаны рыболовецких судов и небогатые торговцы, занимавшиеся мелким рыбным оптом. Конечно, здесь снимали комнаты и проезжие, не имеющие никакого отношения к рыбному промыслу, но таких было совсем немного.
Комнатка на втором этаже, в которую хозяин постоялого двора определил Жиля и Гийо, была довольно чистой, но запах гниющей рыбной требухи на помойке неподалеку от таверны заставил их наморщить носы и немедленно спуститься в таверну, чтобы забить скверный дух кружкой вина. Да и поесть хотелось.
Таверна мало чем отличалась от множества себе подобных, рассыпанных по берегу Луары. Деревянные столы в винных пятнах, тяжелые скамьи и табуреты, засиженное мухами подслеповатое окно с мелким переплетом, камин, сложенный из дикого камня, в котором горел огонь, и аппетитно скворчала на большой сковороде какая-то рыба, изрядно замусоренный пол выстелен каменными плитами, стены оштукатуренные и побеленные, одна из стен до половины зашита вощеными деревянными панелями (возле нее находились столы для состоятельных постояльцев), а с противоположной стороны на подставках стояли бочки с вином и бутылки на полках.
Это было удобное новшество. Постоянно бегать в винный погреб, исполняя заказы, – труд нелегкий. За день так намаешься, что ноги не носят. А народ больше налегал на вино, чем на еду.
Жиль и Гийо уселись возле стены с панелями. Неподалеку от них, под потолком, висела птичья клетка, и щебет бойких пичуг вносил и свою лепту в шум и гам, наполнявший таверну. Шустрый гарсон мигом оценил, кто перед ним, и отнесся к новым клиентам с должным почтением. Заказав приличную порцию жареной рыбы и пару бутылок бордоского (на другое вино Гийо был не согласен), они начали осматриваться.
Похоже, таверна являлась чем-то вроде клуба для семейных рыбаков. Кроме мужчин за столами сидели и солидные матроны, а с полдесятка детишек гонялись за кошкой, которая хотела куда-нибудь спрятаться, но в помещении таверны не было таких укромных местечек. Кошка была старая и ленивая, ей хотелось покоя, и она не любила, когда ее тискали, пусть даже по доброте душевной, что обычно проделывали с нею неугомонные мальцы.
Были в таверне и не местные. Они сидели в дальнем углу сбитой кучкой и о чем-то тихо переговаривались. Глядя на их разбойничьи физиономии, Жиль немного забеспокоился, но тут принесли рыбу и вино, и он приналег на то и другое. Гийо от него не отставал (правда, он больше отдавал предпочтение вину), и вскоре в их душах поселилась сытая благодать и приятное томление разлилось по всему телу.
Рыба была просто отменной (в Туре умели ее готовить, как нигде по всей Луаре), да и бордоское не подкачало. Видимо, хозяин постоялого двора, которому принадлежала и таверна, дорожил добрым именем своего невзрачного заведения. Насытившись, Жиль прислонился к стене с кружкой в руках и начал неторопливо потягивать вино, сонно глядя на людей, наполнивших таверну под завязку. Гийо в это время беспокойно ерзал на скамье; он уже выпил свою бутылку и заказал себе еще одну, но гарсон почему-то не спешил выполнить заказ.
Как только начало темнеть, семейные пары стали уходить, и им на смену явились моряки, портовые грузчики и прочий беспокойный люд из бывших крестьян, согнанных дворянами со своих земель или бежавших от долговой кабалы. Они отирались на пристанях Луары в поисках случайного заработка. Именно такие бедолаги и затеяли Жакерию – народное восстание против феодалов в 1358 году. Да и теперь нет-нет и полыхнет в какой-нибудь французской провинции огонь, зажженный Жакерией.
Рядом с Жилем и Гийо находился стол, за которым сидели два дворянина. Судя по брезгливому выражению их лиц, они не ожидали, что попадут в такой низкопробный вертеп. Дорогая одежда на них была изрядно потрепана и запылена; похоже, они прибыли издалека и очень торопились, потому что ели быстро и не особо налегали на вино. Судя по всему, дворяне нечаянно набрели на эту таверну и после ужина готовились продолжить свой путь.
Жиль, будучи натурой творческой, поэтической, любил наблюдать за людьми, подмечая их достоинства и недостатки. Потом эти наблюдения он вкладывал в свои стихи и песни, которые получались очень живыми и озорными. Вот и сейчас Жиль исподлобья (чтобы не было заметно) следил за людьми, заполнившими таверну, и в особенности за подозрительной компанией, сидевшей в углу. До появления дворян они что-то живо обсуждали, но, едва завидев их, умолкли как по команде.
Юный де Вержи насторожился. Он всегда чуял надвигающуюся опасность каким-то неизвестным органом тела. Это чувство выработалось у него после ряда амурных приключений. Главным в этом деле было не столько насладиться объятиями какой-нибудь деревенской пастушки, сколько вовремя дать деру, чтобы не быть пойманным разъяренными вилланами. Деревенские парни очень не любили, когда юные дворяне тискали их подружек, и устраивали на них настоящие охоты. Но это лишь подогревало интерес крестьянских девушек к благородным, и они опрокидывались перед ними навзничь при малейшей возможности.
Сердце Жиля вдруг быстро-быстро заколотилось, а рука невольно погладила эфес испанской шпаги, которая стояла рядом. В принципе это был все тот же меч, но более узкий и тонкий, со сложной гардой, хорошо защищающей руку. Испанские шпаги были новинкой, однако Ангерран де Вержи, старый вояка, сразу оценил их достоинства. С распространением стальных доспехов, разрубить которые было крайне сложно, а в сражении и вовсе почти невозможно, рубящие удары стали применяться все реже. А колющий удар всегда находил щель в сочленении лат и легко проникал в слабые места защитного вооружения.
Ангерран де Вержи обучил Жиля приемам боя испанской шпагой и подарил ее сыну в момент прощания. Это был щедрый, поистине отцовский жест – шпага мастеров Толедо стоила баснословно дорого. У Жиля едва глаза не вылезли из орбит от удивления. Но рыцарь, зная горячий, импульсивный характер сына, совершенно не сомневался, что шпага ему точно пригодится, и не раз. Поэтому вручил Жилю шпагу как оберег, напрочь забыв о своей скаредности; жизнь сына, хотя и непутевого, была для старого честного вояки дороже всех сокровищ мира.