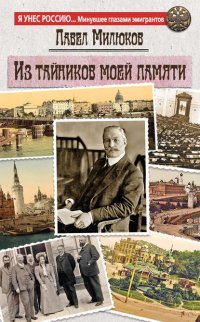
Читать онлайн Из тайников моей памяти бесплатно
- Все книги автора: Павел Милюков
© Издание, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015
В защиту автора
Мне идет 82-й год. Писание моих воспоминаний, на котором часто настаивали друзья, я обыкновенно откладывал до конца жизни, «когда ни на что другое не буду способен». Но, с одной стороны, ряд признаков показывает, что этот конец приближается, а с другой, обстоятельства военного времени так сложились, что я оказался отрезанным от своей нормальной деятельности как ученого, так и журналиста. В Виши я почти закончил обработку для печати второй части первого тома «Очерков» («Очерки по истории русской культуры») по заранее заготовленным материалам; с уходом редакции из Парижа оборвалось издание «Последних новостей», и условия складываются все более неблагоприятно для их возобновления – во всяком случае, для продолжения моей публицистической линии. Усиленное внимание друзей к состоянию моего здоровья, особенно с последнего юбилея, показывает, что я в этом внимании все более нуждаюсь. И докторские предписания уже в третий раз меня возвращают от попыток вернуться к нормальной деятельности – к сидячей или даже полулежачей жизни. Ослабление сердечной деятельности все настойчивее указывает место наименьшего сопротивления моего организма.
Итак, я оправдан в собственных глазах, если заполню свои невольные досуги воспоминаниями о моем собственном прошлом. Ничего и ни у кого я этим не отнимаю. Что из этого выйдет, не знаю. Я приступаю к писанию при отсутствии всяких материалов, кроме запаса моей памяти. Говорят, что в старости восстает в памяти особенно ярко и точно самое отдаленное прошлое. В своем случае я этого не нахожу. Слишком многое забыто, в том числе, вероятно, и много существенного. Прошлое выплывает из памяти в разорванных обрывках, отдельных эпизодах, врезавшихся в память, и чтобы восстановить из этих обрывков какое-нибудь целое, нужно сразу перейти из годов младенчества к годам, когда возникает сознание о себе, как части этого целого. Это сознание начинается довольно поздно, а складывается в общую картину еще позднее, и уже тогда, когда к Wahrheit примешивается значительное количество Dichtung («Wahrheit» – истина, «Dichtung» – вымысел). Но тогда эта Dichtung ретроспективно вмешивается и в попытки описать прошлое, пережитое в состоянии неполного сознания. Отсюда рядом с неполнотой и неизбежная недостоверность воспоминаний. Не мне судить, насколько я смогу преодолеть эти пробелы памяти и ошибки субъективизма.
Монпелье.
Сентябрь – ноябрь, 1940.
Часть первая
От детства к юности
(1859–1873)
1. Раннее детство
Я родился в 1859 г. 15 (28) января и получил имя Павла не от апостола, а от пустынножителя, в пустыни Фиваиды, – в силу обета родителей назвать меня именем святого того дня, когда я появлюсь на свет. Мне было очень обидно впоследствии, что мое рождение и именины совпадали в один день: от этого, естественно, уменьшалось количество подарков от родных и знакомых. Мой брат Алексей, на год моложе меня, был в этом отношении лучше наделен судьбой. Но еще позже, гораздо позже, я все же отдал предпочтение своему тихому источнику света перед «римским гражданином», мастером компромисса, прожившим под псевдонимом свою деятельную жизнь агитатора и организатора. Любители мистики могут найти в этом какое-то предзнаменование. Другие будут возражать. Можно примириться на том, что мне всю жизнь пришлось оставаться, так сказать, на «марже» событий и зато остаться себе верным.
Событие моего рождения, происшедшее в Москве, точно отмечено всеми словарями и не подлежит дальнейшему спору; но я не могу указать того участка и дома столицы, где я родился. Подлежит, напротив, сомнению проявление моего первого отношения к жизни: из океана забвения почему-то выплыл в памяти маленький эпизод. Меня только что выкупали в теплой ванне, одели в свежее белье, и нянька кладет в теплую постельку. Я испытываю величайшее удовольствие и блаженно дрыгаю ногами.
Очевидно, такое начало жизни готовило из меня оптимиста. Но дальше все опять заволакивается туманом. Мое новое пробуждение застает меня на Лефортовской улице, прямо упиравшейся в здание, где потом находилось Техническое училище. Я уже не младенец, а вождь дикого племени ребят, наполнявших обширный двор одноэтажного дома, выходившего на улицу, где была наша квартира. Наш главный штаб находился на деревянном крыльце, куда выходила черная половина квартиры. Организованность нашей армии доказывалась тем, что мы раздавали ордена, вырезанные из бумаги и раскрашенные разными красками, смотря по иерархическому достоинству участников. Меня, как предводителя, отличала особая сабля, выделанная из похищенного из кухни сухого березового полена. Особенно помню эту саблю в связи со следующим происшествием.
В нашей армии не хватало дисциплины, и, не помню почему, произошло восстание. Помню себя на высоте крыльца, держащим благородную речь к бунтовщикам, которые всем кагалом шумели внизу, под крыльцом. Так как моя речь, очевидно, не произвела благоприятного впечатления, а меры репрессии у нас не были выработаны, то я, в приливе негодования, вытащил из-за пояса свою деревянную саблю, признанный символ моего звания, и отбросил ее в «толпу», слагая тем с себя свою роль. Кажется, на этом происшествии наша военная игра и оборвалась, без ран и смертных повреждений. Не могу, во всяком случае, отрицать, что все мы, ребята всех званий и положений, объединившиеся на заднем дворе, оказались самыми решительными «беллицистами». Желающие могут принять это за некоторого рода предсказание будущего.
В качестве поправки приведу еще одно уцелевшее в памяти воспоминание. В здании училища, в двух шагах от нас, была домовая церковь, и в торжественные дни Страстной недели и Воскресения Христова духовенство устраивало процессии, обходя с хоругвями и пением все помещения в здании училища. Один раз и нас, меня и брата, удостоили присутствовать при выносе плащаницы. Долго мы готовились к этому таинственному для нас акту; наконец вечером нас повели по темному зданию училища и поместили на какой-то галерее. Мы были очень разочарованы, во-первых, долгим ожиданием в темноте, причем разговаривать не полагалось, а затем и краткостью момента между появлением и исчезновением процессии: мы слышали пение, видели двигающееся пламя свечей, оставлявших во тьме кучку участников процессии, и этим все кончилось: процессия скрылась в темноте, из которой вышла. Это было первое мое воспоминание, связанное с церковью. Но никакого воспитательного влияния оно не имело. Почему и чем мы были связаны с училищем, мы, конечно, не понимали. Позднее мы узнали, что отец наш был преподавателем в этом «Архитектурном» училище и что, следовательно, он был архитектором; что кроме того он был инспектором в Училище ваяния и зодчества. Значения этих званий мы все же себе не представляли.
Наше пребывание в Лефортове кончилось довольно трагически. Летом, не помню, какого года, вся наша семья – родители, я с братом и прислуга переехали в подгородную деревню Давыдково. Для нас это был целый, неизвестный до тех пор мир, – начиная с бревенчатой деревенской избы, в которой мы поселились, и кончая ближайшими окрестностями деревни. Много лет спустя я случайно попал в Давыдково – и был поражен: до такой степени все тогдашнее царство, созданное нашим воображением, поместилось теперь в прозаические тесные рамки. Если можно малое сравнить с великим, я еще раз в жизни испытал подобное же впечатление.
При выезде из Дарданелльского пролива мне показали холм, поднимавшийся вдали над прибрежной равниной. «Это – Хиссарлык». – «Как?» – «Это древняя Троя!» И, значит, вот тут, на берегу, был расположен лагерь греков, а в этом самом красочном заливе стояли корабли, которых не мог перечислить Гомер?! И на этом самом блюдечке происходили знаменитые бои? Невозможно! Так же трудно казалось мне уместить на деревенской улице Давыдкова нашу детскую эпопею. Но все действительно так, на своем месте! Вот, при въезде в деревню, опустевшая часовня, манившая нас своим таинственным предназначением. От нее идет между двумя рядами изб пыльная дорога, по которой по вечерам мы провожали расходившееся по домам стадо. А вот – конец так близок, а он казался далеким – уже и опушка рощи, и выгон, за рядом изб, где помещалась наша квартира. Вот внизу крошечный ручей, дугой охвативший зады изб и отделивший их от «того берега», сразу и круто поднимавшегося в какое-то другое неведомое царство: «Волынское»…
Для нас это была таинственная граница наших похождений. Дальше идти не полагалось. Через хрупкий мостик из нескольких жердей, перекрытых двумя тонкими досками, тропинка шла вверх по скату, казавшемуся высокой горой, в это недоступное для нас царство. Да, так, все стоит на своем месте – мостик и горка: только мы сами – не те. Между речкой, оказавшейся мелкодонным ручейком, и избами – расстояние всего в несколько десятков шагов.
Но эти несколько шагов – свидетели нашей драмы… Здесь мы сидели перед рассветом на кожаном диване и ревели; на нас ветер нес искры пожарища от ряда изб сразу загоревшейся ночью деревни. Теперь, позже, можно было понять, почему пламя разгорелось так близко, и кожаная обивка дивана раскалилась так, что сидеть на диване стало невозможно. А уйти – не велено. Родители и прислуга оставили нас одних, чтобы спасти, что было можно. Но пламя распространялось с такой скоростью, что кроме дивана, кажется, и вынести ничего не удалось. Потом у нас долго шутили, что растерявшийся отец вынес из избы одно свое мыло. В устах матери это звучало упреком, и отец конфузился.
Утром деревня догорала. Нас увезли в Москву и поместили на время у знакомых отца, в большом барском доме на Сивцевом Вражке, александровской архитектуры, на самом верху, вроде чердака, за фронтоном. Помню, мы страшно стеснялись сделать шаг в чужом доме, и несколько дней, проведенных там, были для нас тяжелым испытанием. Не помню даже, жил ли кто-нибудь внизу, под нами, или дом оставался пустым на лето. Но осталось впечатление унижения, барской милости. Наконец за нами приехали и отвезли нас, тут же по соседству, в найденную отцом квартиру – в Староконюшенном переулке, в большом каменном доме Спечинских.
Потрясение, произведенное на нас пожаром, было так сильно, что для меня пожар стал этапом, датой, с которой началась более сознательная жизнь. События с этих пор перестают выплывать из памяти островками, а тянутся длинной нитью. Пробелы, правда, остаются большие; общего смысла в цепи все еще нет; но отдельные эпизоды уже получают какую-то связь и даже какое-то значение для будущего.
2. Ранние впечатления
Наше пребывание в доме Спечинских было непродолжительно. Но оно все же оставило впечатления, от которых тянутся нити в последующие годы. Можно даже определить хронологию этого промежутка, послужившего как бы введением в более сознательную жизнь. Однажды к нам пришел полицейский с какой-то бумагой, на которой отец должен был расписаться. Появление полицейского само по себе было сенсацией. От нас, детей, не могло укрыться, что оно вызвало у родителей ощущение страха. Однако от нас скрыли причину произведенного в доме переполоха. Мы все-таки схватили одно собственное имя: Каракозов – и приступили к расспросам. Нам объяснили, что Каракозов важный государственный преступник, но не сказали, в кого он стрелял. Имени Комиссарова при этом, сколько помню, вовсе не было упомянуто, и никаких по этому поводу ликований мы не могли заметить.
Покушение Каракозова на Александра II произошло 10 апреля 1866 г. Следовательно, мне было тогда семь лет, брату шесть. Он проявлял больше живости, чем я.
На светлых обоях нашей детской, изображавших группы людей и сцен, он нашел подобие одной из лефортовских товарок наших игр, которую мы прозвали Анной Головастой. Упоминаю об этом, потому что это название надолго утвердилось затем у нас за одной московской церковью на Лубянской площади, купол которой был непропорционально велик. Видимо, наши экскурсии по улицам Москвы происходили довольно свободно. Но я предпочитал уединяться в тенистую липовую аллею сада Спечинских и подолгу засматривался на солнечную игру света и тени сквозь листву деревьев.
Хозяева дома, очень богатые люди, относились к нашим родителям любезно, но с оттенком покровительства, и я здесь впервые почувствовал отчетливое значение социальных различий. В торжественные дни хозяева иногда приглашали всю семью к столу; вероятно, от них же шло приглашение в ложу театра. Это первое впечатление надолго запечатлелось в моей памяти. Шел балет «Царь Кандавл». Музыкой я не заинтересовался; но сцены, декорации, костюмы и в особенности танцы отпечатлелись в сознании как что-то из другого мира, желанного и недоступного. Долго театр представлялся мне в этом ореоле. Но повторить этого впечатления не пришлось: оно уступило место другому, более земному: святочным балаганам «под Новинским».
Отец был в эти годы городским архитектором и, по обязанности, должен был проверять прочность эфемерных дощатых построек с амфитеатрами для зрителей, которые возводились рядами на незастроенном полотне Новинского бульвара. Без такой проверки полиция не разрешала начинать представления. Естественно, что все содержатели балаганов считали долгом снабдить контрамарками детей архитектора. И тут начиналось наше торжество.
А. Н. Бенуа прекрасно описал эти самые впечатления в Петербурге, источник его «Петрушки». Наша Москва Петербургу не уступала. Уже наружный вид балаганных построек производил на нас, детей, неотразимое впечатление. Невероятные приключения на разрисованных яркими красками полотнищах, плохо прибитых гвоздями и развевавшихся по ветру: крокодилы, пожиравшие людей, и атлеты, побеждавшие крокодилов; необыкновенной красоты царицы неведомых царств, покрытые драгоценными камнями; «битвы русских с кабардинцами», сопровождаемые настоящими холостыми ружейными выстрелами из пушек; факиры, упражнявшиеся со змеями; фокусники, глотавшие горящую паклю и сабли, – на все это разбегались детские глаза. А к тому еще зазывания исполнителей в костюмах с балконов, острые шутки паяцев в трико и клоунов, собиравшие кучи слушателей у входов и вызывавшие ответные реплики «из народа». И наконец, самый этот таинственный вход в святилище: полутемные сиденья амфитеатром для зрителей, грубо размалеванный занавес, и наконец, вожделенный момент – начало пьесы, редко, впрочем, бравшей темы из репертуара итальянской Commedia dell’ arte или французского гиньоля. Надо было оправдать – и еще пересолить – обещания намалеванных снаружи картин.
Трудно суммировать впечатление, производимое на нас этой мишурной роскошью. Желая исчерпать все богатство контрамарок, переходя из балагана в балаган и возвращаясь домой уже в темноте по Арбату, мы приходили усталые и опаздывали к ужину. Но в такие дни все терпелось и прощалось.
Была другая сторона этих зрелищ, более чинная; для нас она, конечно, была совсем не интересна. Кругом ограды всех этих балаганов, театров и иного рода народных развлечений происходило катание московского бомонда. Здесь купечество и дворянство Москвы щеголяло экипажами, богатой упряжкой и модными костюмами. И эту чашу мы должны были тоже испить, благодаря любезным приглашениям Спечинских. Социальная разница при переходе из демократических балаганов к рысакам, коляскам и роскошным саням чувствовалась особенно сильно; и Спечинские нам давали ее особенно чувствовать своим покровительственным обращением. Я не понимал еще, почему, но мне это обращение отравляло все удовольствие и было особенно противно. Но это была процедура обязательная. Платить им нашими контрамарками мы, конечно, не могли, и мне было как-то обидно за родителей.
Приведу еще несколько воспоминаний, связанных с домом Спечинских. Это были годы освобождения крестьян путем перехода их на выкуп. У моей матери было имение в Ярославской губернии, на р. Которости, и крестьяне оставались на оброке. По старине они продолжали ездить с оброком к помещице в Москву, и мы, ребята, с большим интересом ждали, когда, поклонившись «барыне», они из грязных цветных платков вывернут наше законное угощение: жирные, черные, ржаные лепешки, которые мы ужасно любили. Таких в Москве не было, а когда их у нас пекли, выходило все-таки не то. С этой вкусной стороны мы узнали крепостное право, когда оно кончалось; но посещения мужиков в тяжелых армяках и в лаптях, с их говором на о, крепко запомнились. В Давыдкове мы таких мужиков не видали. Это было первое соприкосновение городских баричей с настоящей «землей».
И еще другой контакт с прошлым. Почти против самого дома Спечинских стояла пятиглавая церковь во имя Иоанна Предтечи, – сколько помню, оштукатуренная в красный цвет. Туда нас водили по праздникам. Впервые после таинственной процессии в Архитектурном училище мы здесь входили в более близкое соприкосновение с церковью. Дальше церковного обряда, для нас непонятного, дело, конечно, не шло. Но я все-таки помню наши первые исповеди у священника. Нас предупреждали, что надо вспомнить все наши детские грехи и рассказать о них священнику, чтобы получить отпущение, причаститься вина из чаши и получить вырезанную просвиру.
К этому действию мы добросовестно и со страхом готовились, правда, не вполне доверяя угрозам прислуги, что священник в наказание будет на нас ездить верхом. Но все же возможность какого-то наказания над нами висела. И не без разочарования мы отходили, когда священник, спешно спросивши, не обманывали ли мы папу и маму, покрывал нас епитрахилью, спешно бормотал какие-то слова отпущения и переходил к следующим грешникам. Обряд все же нас привлекал – меня в особенности, – и к церкви Иоанна Крестителя мне еще придется вернуться.
3. Дом Арбузова
Как я сказал, пребывание в доме Спечинских продолжалось недолго. Мы переселились в дом Арбузова, на той же улице, почти на углу Сивцева Вражка, против дома Медведева, известного общественного деятеля и благотворителя купеческой складки. С домом Арбузова у меня связывается целый период перехода от детства к ранней юности. События идут здесь уже связными рядами; этих рядов становится все больше, и они переплетаются. Установить хронологию и внутреннее развитие в каждом становится все труднее; чем-нибудь надо жертвовать. Я прежде всего выделю ту часть периода, которая преимущественно связана именно с домом Арбузова. Эта часть начинается, приблизительно, с моего 8–9-летнего возраста и кончается с моим переходом в четвертый класс гимназии, т. е., опять-таки приблизительно, между 1869 и 1873 годом. Однако и тут приходится сразу покинуть хронологию. Я разделю изложение на три части – не хронологически, а по их внутреннему содержанию. Первая будет касаться моей семьи и родных: она выйдет далеко за пределы описываемого периода. Вторая вернется к подготовке и к первым годам школьного учения. Третья, по-моему, самая важная, постарается охватить влияния жизни, которые помимо семьи и школы, врывались через все поры и щели. Собственно, они именно, эти влияния, помимо всякой педагогики (которой, как увидим, было очень мало в нашем случае) направляли чувство, воспитывали волю и создавали характер. Но об этом – потом.
Предварительно надо описать арену наших будущих детских приключений. Участок Арбузова представлял удлиненную четырехугольную площадь очень больших размеров, только отчасти застроенную. В Староконюшенный переулок выходила узкая сторона четырехугольника. Если разделить ее пополам, то левая половина (с улицы) была застроена обширным деревянным домом хозяина, где помещалась его квартира, а в западной части – флигель, в котором наверху жила семья Депельноров (о них – в своем месте). Но весь этот блок вместе с палисадником занимал ничтожную часть двора. Правая половина уличного фасада занята была воротами, от которых широкая дорога вела к большому деревянному одноэтажному зданию, расположенному к правому краю участка. Слева этот дом был окружен палисадником, за которым расстилалось обширное пространство двора. Справа, между домом и забором соседнего участка, оставалось сравнительно небольшое пространство, куда выходили черные ходы. Лицевая сторона дома (к воротам улицы) была занята обширной барской квартирой, в которой поместилась наша семья. Задняя часть дома была разделена на маленькие квартирки, где помещались ремесленники и куда доступ нам строго запрещался. Но это еще не конец участка. За запретной черной половиной дома нам возвращалась или мы сами себе возвращали свободу. Здесь, на обширном заднем дворе, покрытом всякими отбросами, происходило объединение «классов». Детей той и другой половины дома привлекал, конечно, не задний двор сам по себе, а то, что было его последним пределом: обросший лопухами старый забор, наполовину развалившийся, а за ним – чужое царство с аппетитными яблочными деревьями у самого забора и с огородом, в котором всю детвору неотразимо притягивали стручья гороха. Для охоты за этой прелестью применялась целая сложная стратегия, выработанная опытом: надо было выбрать время, когда на пустыре не было огородника, расставить своих сторожей наверху, на заборе для наблюдения, и затем уже целым скопом броситься на заранее намеченное место. Применение всей этой системы само по себе предполагало существование дружного коллектива, где царило полное равенство.
Такова была общая обстановка нашего пребывания в доме – можно сказать, в имении – Арбузова. Отсюда, собственно, и проникали ранние влияния житейской обстановки в замкнутую среду семьи Милюковых. К этой среде мы теперь и вернемся, и прежде всего к самому составу семьи, родителям и родным со стороны отца и матери. Надо оговориться, что мои знания родных, особенно отдаленных, довольно ограниченны, и тут особенно возможны поправки и дополнения: наш родовой быт был, очевидно, в состоянии разложения, и сделать эти поправки могут только оставшиеся в живых члены нашей широкой и разросшейся семьи родственников.
4. Семья и родные
О ближайших членах фамилии Милюковых мои сведения особенно ограниченны. Я знаю, что отец Николая Павловича, моего отца, и, стало быть, мой дед назывался Павлом Алексеевичем. У нас в семье долго хранились документы XVII столетия – я особенно помню жалованную грамоту одному из Милюковых эпохи Алексея Михайловича на шелковой подкладке и с висячей восковой печатью: она исчезла из моей библиотеки только во время войны 1914–1918 гг. Было немало других фамильных рукописей в оригиналах (столбцах) и в копиях; была составлена по ним и по документам московского Разрядного Архива наша родословная, фамильный герб с толкованием его геральдических знаков и, наконец, фамильная печать из горного хрусталя. Я узнал, что весь этот материал был собран Павлом Алексеевичем на предмет представления в Тверское губернское дворянское собрание – для утверждения моего деда в дворянском звании и занесения его в дворянскую книгу.
Не думаю, чтобы это собрание было искусственное, но оно оказалось неполным. Последних звеньев генеалогии не хватало, и ходатайство деда не увенчалось успехом; дворяне ему отказали, ввиду этого пробела в родословной, которую оказалось невозможным пополнить наличными данными. Я впоследствии проверил это через тверских друзей; оказалось верно: в дворянскую книгу линия деда не попала. Заинтересовавшись этим, я достал печатную брошюру о роде Милюковых и прочел в ней, что хотя род этот связан действительно с Тверской губернией, но что имеется целых пять отраслей, которые уже не могут быть в настоящее время сведены к общему родоначальнику. Мало того, из этих пяти линий две – несомненно, не дворянские. У наших предков был обычай втираться или, как говорили, «вписываться», «влагаться» в ряды известных дворянских фамилий, что чрезвычайно запутало и смешало ряды дворян, записанных в Бархатную Книгу. Так я и остался в неведении, можем ли мы считать себя тверскими дворянами. Все же Павел Алексеевич был, несомненно, из Твери и считал себя дворянином; пробел в его документах мог оказаться случайным, а самые документы, всего вероятнее, действительно хранились в роду. Потерять их суждено было именно моему поколению.
Как бы то ни было, Павел Алексеевич, по-видимому, никакими имениями и крепостными крестьянами не владел и занятие его было не дворянское. Вместе с известным золотопромышленником Асташевым он отправился искать счастья в Сибирь, на золотые прииски, но успеха там не имел. Асташевы разжились на своих приисках, тогда как Павел Алексеевич на своих потерпел неудачу. Вероятно, старые сибиряки слышали, как это случилось. Семья Милюковых после этого осталась в Сибири, в связи с Асташевыми, которые ей покровительствовали. Одна из дочерей, Екатерина Павловна, даже устроилась в семье Асташевых в роли компаньонки. Мы с братом, а потом и я один по желанию нашей матери посетили ее однажды в Петербурге в большом доме Асташевых против царской пристани; по-видимому, мать рассчитывала получить после нее наследство. Но в этом она ошиблась.
Екатерина Павловна, умирая, осталась верна своим покровителям и вернула им по завещанию подаренные ей средства, кажется, очень небольшие. Тон этого дома и несколько неясное положение, которое занимала в нем наша тетка, сразу мне очень не понравились, и я не хотел поддерживать никаких семейных расчетов и укреплять наших родственных связей. Отталкивание, по-видимому, было взаимное.
С другими членами семьи отца мы познакомились, когда отец вывез их из Сибири в Москву. Во главе семьи, по смерти деда, осталась его жена, наша бабушка, Екатерина, сохранившая до конца жизни следы былой живости характера. Брюнетка, с большими черными глазами, она имела вид и осанку grande dame (важная дама), очень любила громко говорить и рассуждать и, видимо, играла в семье главную роль. Кроме нее семью составляли наши тетки, Софья Павловна и Елизавета Павловна; первая была очень замкнутая и нам казалась злой старой девой. Напротив, к Елизавете, бывшей учительницей средней школы в Сибири, я относился с большим почтением. Она рассказывала нам о своем знакомстве с ссыльным декабристом Батеньковым и в своих взглядах держалась этой традиции.
Я уже был приват-доцентом, когда она умерла – как-то тихо и жертвенно, пережив мать и сестер. Когда я приходил ее навещать в последние дни, она все извинялась, что отнимает у меня время. Был у бабушки еще брат, очень дряхлый, Петр (к удивлению, я не могу вспомнить их отчеств): мы, мальчишки, постоянно его дразнили и были очень довольны, когда, выйдя из себя, он бегал за нами, потрясая своей толстой палкой. Из Сибири вся эта семья, по-видимому, вывезла очень недостаточные средства, и отцу приходилось почти содержать ее, что очень не нравилось моей матери, вообще смотревшей косо на родственников отца. Она считала свой брак с отцом мезальянсом и постоянно попрекала в этом отца, что было одной из причин их постоянных разногласий. Когда она была особенно раздражена, она презрительным тоном, громко и с подчеркиванием отчеканивала: «Ах вы, Азигильдовы!» Отсюда только я узнал, что Азигильдовы – это была не блиставшая происхождением фамилия бабушки и ее брата. А теперь задаю себе вопрос: не было ли у меня в роду еврейской бабушки? Вероятно, это было бы сенсационным открытием в глазах моих политических противников! Но только осанка, бюст, даже черты лица бабушки скорее напоминали Екатерину Великую, а ее брат, пожалуй, мог сойти скорее за армянина. Так я и не знаю, чем мне с этой стороны надо гордиться. В моей личной жизни, во всяком случае, вся эта семья никакой роли не сыграла.
Сам отец, очевидно, никакими наследственными средствами не обладал. Говорили, что был оставлен на произвол судьбы при переселении семьи в Сибирь с Асташевыми. Он пошел по художественной части; долго хранился в семье его премированный Академией этюд: Христос среди своих палачей (по-видимому, копия). Я уже упоминал, что он имел скромный заработок как преподаватель и инспектор двух художественных училищ. Затем он несколько поправил свои средства, получив место городского архитектора – и окончательно вышел в люди, устроившись оценщиком в одном из московских банков. Апогей его карьеры как раз и относился к годам нашего пребывания в доме Арбузова.
На свою профессию отец, несомненно, не смотрел только как на доходное ремесло. В его кабинете арбузовского дома – лицом к воротам – я привык видеть несколько полок книг в хороших переплетах. Здесь были тома «Русского Архива» за первые годы издания (1863–1866), ставшие потом одной из баз моей библиотеки; тут же были два тома «Илиады» Гомера в переводе Гнедича с рисунками Флаксмана. Был затем многотомный словарь Виолле-ле-Дюка и новые выпуски другого архитектурного словаря, Daremberg et Salio. Кроме того, были немецкие издания Любке по истории искусства и архитектуры, Лемке по эстетике и т. д. Кое-что из этого тоже перешло потом в мою библиотеку. Из построенных в Москве зданий отца я помню только одно небольшое: беседка в русском вкусе при въезде на дачу князя Меншикова в Петровском парке.
Над этой работой он много возился, вычерчивал и перечерчивал детали чертежей из альбомов русских древностей. Беседка получила вид чего-то вроде крыльца собора Василия Блаженного, и мы все очень гордились этим произведением отца. Ему удалось шире развернуть свою фантазию при постройке собственной дачи на участке в Пушкине – между станцией и деревней этого имени. Участок был куплен в эти же годы финансового процветания. Дача тоже получила отдаленное сходство с мотивами деревянной русской архитектуры – по своей обильной орнаментировке, по особой вышке, куда вела во второй мансардный этаж-«терем» винтовая лестница.
Пушкинская дача сыграла большую роль в наших с братом детских приключениях и в юношеских увлечениях. Но об этом – дальше. Следя за подготовительными работами отца, я тоже попутно получил кое-какие элементарные знания в чертежничестве, потом мне очень пригодившиеся, и некоторое понятие об истории архитектурных форм.
Мои воспоминания о родных со стороны матери гораздо более многочисленны и красочны. Девичья фамилия матери – Султанова как будто напоминает мне иное, скорее инородческое дворянское происхождение, нежели старинная московская фамилия Милюковых. Коренные дворянские и помещичьи привычки сохранились у матери гораздо ярче (они совсем не сохранились – и, вероятно, не имелись – у отца).
Первый муж матери, Баранов, был к тому же настолько ярым крепостником, что он был убит своими крестьянами в поле во время работ, по сговору, всем скопом деревни, чтобы нельзя было найти виновного. В таких случаях наказывать приходилось всю деревню, и наказания были жестокие. От этого брака у матери был сын – гораздо старше нас. Он был гусарским корнетом, был, очевидно, тесно связан с соответствующей обстановкой и ее военными нравами. Мы его видели очень редко: во время своих побывок в Москве он останавливался у нас в квартире, но исчезал из нее по целым дням. Едва ли бы вообще он остался у меня в памяти, если бы не печальное обстоятельство его смерти. Во время какой-то попойки, кончившейся выстрелами, пуля попала ему в лоб и прошла около виска. Он не сразу почувствовал рану и приехал в Москву бодрый. Врачи решили сделать операцию трепанации черепа и положили его в госпиталь. Помню, он имел бодрый вид или бодрился, когда мать привела нас к нему за несколько дней до смерти. Операция не помогла и, кажется, даже ускорила развязку.
Нам сообщили о его кончине. Мы перенесли эту весть равнодушно; для нас – да, кажется, и для семьи – он был чужим человеком.
Другое дело – братья матери. Мы знали ближе двоих из них: Владимира и Александра, последнего, впрочем, сравнительно мало. Ему предшествовала репутация распущенной жизни; он у нас бывал редко, и нас к нему совсем не тянуло, как и его к нам. Напротив, Владимир Аркадьевич вошел довольно близко в нашу семейную жизнь. Это был яркий тип годов дворянского «оскудения»: талантливый, предприимчивый, бросавшийся во все стороны и научившийся знать все входы и выходы жизни. Вечно в делах, окрыленный надеждами, жизнерадостный и вечный же неудачник, что его, однако, никогда не смущало. Он обладал теплым сердцем, был очень ласков и добр с детьми, и я его очень любил. Между двумя неудачами он иногда даже жил у нас в доме. Уже в глубокой старости женился на крестьянке и завел новую семью. С его сыном знаменитым архитектором Ник. Влад. Султановым, автором памятника Имп. Александру II в Кремле, я познакомился гораздо позже. Он не признавал отца, даже стыдился его и давно порвал с ним всякие сношения. Несмотря на свои высокие связи при дворе и свой официальный национализм, Н. В. был человеком простым и добрым; он даже афишировал свое «русачество». Я с ним сошелся довольно хорошо – на основе нашего общего интереса к русской художественной старине.
Из сестер матери одна была особенно с ней близка; она вышла замуж за Гусева и сделалась родоначальницей многочисленной семьи Гусевых, за разрастанием которой мне уследить не удалось. Ближе ко мне были двое двоюродных братьев, Владимир и Сергей. Мы не были особенно близки, так как по роду их службы – военной – видались не часто. Я особенно симпатизировал Владимиру, и он отвечал мне тем же. Мне нравился его открытый, прямой характер, его благородство и неподкупная честность. С этой репутацией он дошел до высоких чинов по службе и умер в генеральских чинах в Сибири, любимый всеми, его знавшими. При свиданиях он мне много рассказывал о своей среде и откровенно рисовал ее в непривлекательных красках. Младший, Сергей, более предприимчивый, не довольствовался военной службой, скоро покинул ее и занялся разного рода спекуляциями, часто удачными. Но прочного положения себе так и не составил.
Наши встречи с ним, как и со старшим братом, были всегда спорадическими; но встречались мы всегда дружно, и жизнь всегда давала очередные темы для поучительной беседы. Я любил эти встречи, вводившие меня путем рассказов в области жизни, мне мало известные. Реже приходилось встречаться с третьим братом, Александром, тоже не удержавшимся в рамках военной службы и тоже занявшимся способами улучшить свое состояние. Он не был так предприимчив, как Сергей, но зато его приобретения казались более прочными. По-видимому, только казались, так как по его смерти все пошло прахом.
У него была семья, с которой я познакомился только после его смерти: симпатичный сын, Даня, поэт и мечтатель, и прелестная девушка. Оба кончили трагически: Даня – самоубийством, девочку быстро свела в могилу болезнь. Александр познакомил меня еще с одной кузиной из семьи Гусевых, Маней, вышедшей замуж за солидного англичанина Росса; в Лондоне они принимали меня по-родственному. Всех позднее я познакомился еще с одним членом материнской семьи, глубоким стариком Петром, героем походов времен завоевания Кавказа, пережившим все трудности этих походов, тяжело раненным, но не взысканным милостями начальства. Он женился на грузинке, привез с собой миловидную дочь, с огромными нерусскими глазами, потом скоро исчез с нашего горизонта. Младшее поколение семьи Гусевых уже выросло вне моего наблюдения, и я воздерживаюсь от описания его членов. Во всяком случае, из сказанного видно, как широко раскинулась наша родня с материнской стороны, разбросав свои щупальцы в самые разнообразные и отдаленные углы русской земли. Через них и мне приходилось участвовать урывками в их обильном жизненном опыте.
Наша мать сама про себя с гордостью повторяла, что она «султановской породы», и другие с этим соглашались. Она была женщина страстная и властная. В семье она играла первую роль. Отец, более мягкого характера и менее яркой индивидуальности, как-то перед ней стушевывался и ей подчинялся. Мать не знала нашего дедушку, но когда приехала из Сибири в Москву бабушка с тетками, то мать, недовольная, кажется, этим приездом, решительно противопоставила свою «султановскую породу» этой «азигильдовской», постоянно попрекая этим отца. Лада у нас в семье не было, и это задолго до приезда «азигильдовской породы».
Из самой глубины младенческого мрака у меня навсегда запечатлелась (вероятно, еще из лефортовских годов) такая картина. Мы сидим за ужином в слабо освещенной керосиновой лампой комнате. Между отцом и матерью ведется крупный разговор, для нас непонятный, и кончается тем, что в отца летит тарелка и разбивается о противоположную стену. Мы сидим ни живы ни мертвы и потихоньку хныкаем. В таких случаях на младенцев не обращают внимания – и напрасно. Эта сцена отложилась у меня в памяти на всю жизнь. Вероятно, на ней и на других подобных и сложилось наше отношение к родителям. Отец, занятый своими делами, вообще не обращал внимания на детей и не занимался нашим воспитанием. Руководила нами мать; к ней мы были гораздо ближе – и ее по-своему любили, хотя и страдали по временам от припадков ее воли. Однако ее заботы ограничивались преимущественно внешней стороной воспитания и, вероятно, немногими моральными внушениями общего характера. Дальше этого общего характера не шел и ее интерес к религии.
Сколько я себя помню, у нас, детей, помимо соблюдения обязательного обряда сыновнего повиновения сложилась своя собственная внутренняя жизнь, забронированная от родительского внимания и наиболее для нас интересная. Пытаясь объяснить себе, как это могло случиться, я должен искать корней в области далекого подсознательного прошлого. Из глубины забвения всплывает мрачная картина – телесных наказаний, – тоже восходящая к лефортовскому периоду. Не помню, чтобы мы с братом совершали какие-нибудь преступления, которые должны были бы караться таким способом, но кара появлялась как-то внезапно и была неумолима. Слезы, вопли, просьбы о прощении – ничто не помогало. Решение, продиктованное обычно матерью, выполнялось отцом. Приготовления к экзекуции ощущались, кажется, еще страшнее самой экзекуции. Потом отчаяние, нечеловеческие крики, боль, злоба, непримиренный конец, чувство обиды, несправедливости.
В старые годы я перечитал «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо. Его анализ совершенно верен. Телесное наказание рвет моральную связь и уничтожает доверие к родителям.
Между детьми и ними становится стена; за невозможностью взаимного понимания, сговора и убеждения создается система укрывательства внутренних побуждений и, по необходимости, лукавства и лжи. Прослеженный Руссо процесс в нашем случае прошел не так ярко и остался вне нашего внимания. Но плоды его были те же.
Не могу сказать, чтобы мы были предоставлены целиком самим себе; но свою внутреннюю жизнь и нам приходилось создавать в какой-то постоянной оппозиции родительским заботам. Характерно было то, что наша оппозиция вовсе не замечалась. Бороться за внутреннюю свободу нам почти совсем не приходилось. Но с годами сфера этой свободы постепенно расширялась, не привлекая внимания семьи – ни в дурном, ни в хорошем. В более зрелом возрасте я мог сказать самому себе, не очень преувеличивая, что я сам всем себе обязан. Но характерно уже это самое самочувствие юноши.
Этой «своей жизнью» и «внутренней свободой», по-видимому, отчасти пользовался и наш отец, уступив жене жезл семейного управления. Более мягкая, менее отчеканенная индивидуально, его природа все же не была безличной. И при всей мягкости и внешней уступчивости поводы для семейных столкновений были постоянно налицо, хотя с годами эти столкновения и приняли более сложный и менее для нас заметный характер. Что было в характере отца скрыто «милюковского» и что «азигильдовского», для меня так и осталось неизвестным. Семейной гармонии у нас в семье, во всяком случае, не было, что и объясняет, в свою очередь, предоставленную нам с ранних годов свободу самовоспитания.
5. Учение и школа
Учение и подготовка к школе принадлежат к самым запутанным и хорошо забытым отделам моих воспоминаний. Педагогические теории шестидесятых и семидесятых годов в нашу семью не проникали. Ранним обучением занималась мать; но у меня не осталось никаких воспоминаний о том, в чем выразились ее заботы. Не помню также, чтобы приглашались какие-нибудь посторонние преподаватели на дом, не говоря уже о воспитателях. И все же как-то дело шло. Я решительно не могу вспомнить, как я научился читать и писать. Наверное, начало этому было положено еще в Лефортове. Первых книг или хрестоматий для детского чтения тоже не помню. Самой ранней книгой, которую мы очень любили, были басни Крылова в издании среднего формата, с рисунками, сохранившими следы наших первых упражнений в употреблении красок. Когда впоследствии я нашел эту книгу в библиотеке, то был удивлен ее малым форматом. Как в Давыдкове, размеры, казавшиеся большими, сократились с нашим собственным ростом. В этом признаке я вижу доказательство раннего влияния на нас этой книги. Не всегда понимая текст – особенно нравоучений, – мы все же знали басни Крылова наизусть, и гораздо раньше Брема они ввели нас в мир животных.
Наступило время, когда родители сочли нашу подготовку достаточной, чтобы отдать нас для обучения наукам в пансион приходящими. Имя француза, содержателя пансиона, я, к сожалению, забыл (что-то вроде Летеллье). Не помню ни учителей, ни даже того, были ли там вообще какие-либо учителя. Помню только большую, пыльную, неубранную комнату, заставленную скамьями и пюпитрами и представляющую единственный класс и чуть ли не единственное помещение пансиона. И то помню потому, что между уроками и по вечерам там происходили шумные игры учеников разных возрастов. Помню и нашу игру в «Лихо одноглазое», след некоторого нашего знакомства с русским фольклором. Но эта игра состояла только в том, что победивший садился на спину побежденного и гонялся за другими участниками игры, пока ему не удавалось поймать своего заместителя на роль «Лиха». Еще помню, и это уже ближе к учению, что из учебников мы особенно ненавидели элементарную «Географию» Корнеля, тощую книгу, в виде нотной тетради, в растрепанном переплете, всю исчерченную и измаранную нашими предшественниками. Такие же ненавистники «Географии», как они, мы решили с братом пойти дальше их и подвергнуть учебник окончательному истреблению.
Выбрав подходящий момент, мы опустили книгу в отхожее место и… с некоторой тревогой ждали последствий своего преступления. Но наше преступление сошло нам с рук, просто потому что исчезновение учебника не было никем замечено; никто нас по Корнелю не спрашивал, и «География» была упразднена сама собой не только в качестве книги, но и в качестве учебного предмета.
Следы такой запущенности преподавания довольно скоро были замечены и нашими родителями. Нас решили взять из этого странного пансиона. Не знаю, по чьему совету дальнейшее наше обучение было поручено бедному и больному старику – еврею Блонштейну. Дисциплинировать нас он не мог, но он брал нас именно каким-то своим пришибленным видом и своей человеческой лаской.
Вместе с его двумя маленькими дочерьми, такими же испуганного вида девочками, как их отец, мы составили класс, единственный, который свидетельствовал о педагогической профессии Блонштейна. Класс помещался в маленькой жилой комнате его крохотной квартирки. Бедность в ней видна была на каждом шагу. Но это внушало нам какое-то уважение, и кое-чему Блонштейну удалось нас обучить, особенно арифметике, которая была, по-видимому, его главной специальностью. Вероятно, тут заложены были также основы немецкого языка. Как кончилось это учение, я не помню. Но раз, подходя к квартире Блонштейна, мы увидели нашего учителя распростертым на тротуаре, в бессознательном состоянии, с раскинутыми в стороны руками. Мы побежали сообщить в квартиру и общими силами с девочками подняли его и втащили в квартиру. В нас шевелилось чувство страшной жалости и какой-то привязанности к безответному нашему труженику, учителю. Понемногу он оправился, и преподавание, кажется, еще несколько времени продолжалось.
Наступило время отдать нас в гимназию. Первая гимназия помещалась недалеко от нас: через Сивцев Вражек, пересекая Пречистенский бульвар и церковь, мы выходили прямо в Знаменский переулок, откуда был боковой вход в параллельные классы гимназии. Вступительный экзамен мы выдержали легко и даже оказались хорошо подготовленными! Нас обоих с братом приняли в первый параллельный класс гимназии. Отсюда начался уже нормальный период нашей учебы.
Именно благодаря этой неожиданно хорошей подготовке – в которой я сам не могу отдать себе отчета, – я учился вначале хорошо и даже очутился четвертым на «золотой доске» класса. Брат, более подвижный и менее усидчивый, оказался к учению несклонным. Не было удержу его шалостям, и у меня врезался в память один эпизод, произведший впечатление на весь класс. В перемену между уроками шалости брата достигли необычайных размеров. Я был как раз дежурным, отвечал за дисциплину в классе и страшно боялся, как бы Леша не подвел себя под серьезное наказание. Чтобы предупредить это, я решился сам пожаловаться на брата надзирателю, т. е., на школьном жаргоне, «сфискалил». Класс как-то даже опешил; надзиратель ограничился тем, что поставил брата к стене, а я почувствовал себя ужасно скверно. Класс разделился: одни товарищи меня порицали, другие хвалили, а я не знал, куда деваться от похвал и порицаний. Этот моральный конфликт и до сих пор выплывает у меня в памяти из ряда забытых событий. Алексей в конце концов решительно не мог уложиться в рамки школьной дисциплины и школьного обучения, и из второго класса родители решили перевести его в Техническое училище – назад в наше Лефортово. Его устроили в тех краях; но дружба между нами сохранилась самая прочная, и праздники проводились вместе. Предваряя события, прибавлю, что в Техническом училище брат привился и приготовил себе неплохое будущее. Но – об этом потом.
Другой, более сложный моральный конфликт из первых годов гимназии врезался мне в память, вопреки моему желанию поскорее забыть о нем. Как-то в воскресенье, уже один, без брата, я накупил хлопушек и, к зависти встречных мальчишек, с шумом взрывал их о тротуар: производилось впечатление петарды. На мое несчастье, навстречу шел директор гимназии Малиновский, остановил меня, прочел строгий выговор и велел прийти в гимназию. В страхе я вернулся домой и рассказал о происшедшем родителям. Мать настояла на том, чтобы я принес письменное извинение директору, и притом в стихах (она знала, что я уже начал кропать стихи). Как сейчас помню этот тщательно перевязанный голубой ленточкой сверток белой бумаги с неуклюжими виршами, который в присутствии матери я вручил директору. Мне было стыдно и за стихи, и за самое извинение, и за явно неискреннее обещание:
- Буду я вперед ходить
- Без покупок глупых.
Директор встретил нас величественно, это вообще был его стиль, удостоил снисхождением и все же посадил меня, в виде наказания, на несколько часов в пустую аудиторию. Остатки раскаяния заменились у меня чувством обиды за испытанное унижение и досадой на родителей, подтолкнувших меня на этот шаг. Я боялся и того, что о нем узнают ученики и высмеют меня по заслугам. Долго я не мог вспомнить об этом эпизоде без чувства стыда и горечи.
Понадеявшись на свою «хорошую» подготовку, я скоро начал запускать учение. Соперничать с постоянным «первым учеником», Стрельцовым, у меня не было никакой охоты и скоро с четвертого места я опустился до двадцатого. Это меня нисколько не волновало. С одноклассниками я мало сходился, и никого из них не помню в эти первые годы – за исключением одного, с которым дружба, начавшаяся здесь, продолжалась до самой его смерти.
Это был Миша Зернов, сын протоиерея церкви Успения Василия Блаженного, как раз против выхода Староконюшенного переулка на Арбат. Помню, как мы с братом ходили по праздникам на широкий двор позади церкви играть в бабки и познакомились там с братом Миши, Митей, который шел классом ниже и был однолетком с Леней. Брат потом сошелся ближе со всей семьей Зерновых; но и мои отношения с ними постепенно укрепились и углубились.
Это, впрочем, уже относится к внегимназическим влияниям жизни, о которых идет речь в следующем отделе. К внешкольным впечатлениям, по-видимому, и перешел весь мой интерес в эти годы, тогда как гимназию первых трех классов мне нечем помянуть, ни дурным, ни хорошим: я относился к ней формально и небрежно. Припоминаются только два «события» этого времени: похороны историка Погодина, известного нам тогда только по его имени на «золотой доске» в актовом зале. Процессия остановилась перед главными воротами гимназии; с этим парадным входом мы не были знакомы. Другое событие: посещение гимназии императором Александром II. Он зашел на минуту и в наш параллельный класс в верхнем этаже, и оттуда нас повели, по двое в ряд, вниз по лестнице, вслед за царем. Но мы видели сверху только его светящуюся лысину. На парадной лестнице присоединились старшие ученики, и проводы приняли восторженный характер. С крыльца многие бросились бежать за царским экипажем. Помню, мне этот жест не понравился. Это был единственный раз, когда я близко видел Александра II.
Третьим классом гимназии заканчивается этот период моих школьных воспоминаний. Одно обстоятельство сделало из этой случайной даты глубокую грань в моей жизни. Для перехода в четвертый класс нужно было выдержать экзамен за все три первые года. Моя гимназическая работа была порядочно запущена, и нужно было проявить особое усилие, чтобы привести себя в порядок и не провалиться на экзамене, чего не допускало мое самолюбие. Я это усилие сделал, и оно не только дало мне возможность подтянуться внешним образом, но сообщило моральный толчок сознательным элементам моей натуры. Собственно, только с этого момента я могу считать начало своей вполне сознательной жизни. Это, впрочем, выяснится в дальнейшем.
Сейчас же я заговорил об этом, чтобы взять с собой дальше одно трогательное воспоминание. Со мной шел товарищ, очень меня полюбивший и мне поклонявшийся, Николай Николаевич Зилов, сын небогатого уездного помещика. За его преданность мне я чувствовал к нему благодарность и платил ему нежной дружбой. Его душевные качества были, однако, выше его интеллектуальных свойств, и наши отношения не были отношением равных. Переход в четвертый класс стал перед ним непреодолимой преградой; все надежды он возложил на мою помощь, и мы стали заниматься вместе для экзамена. Мое гимназическое прозвище было Кенгуру – вероятно, подчеркнувшее особенности моей фигуры, и товарищи шутили, что кенгуру перепрыгнет в четвертый класс, таща на себе и Зилова. Увы, это не удалось; мой нежный друг остался позади. Но дружба наша не прекратилась. Помню, он возил меня в маленькое поместье отца – и даже заставил меня научиться ездить верхом, посадив меня, для начала, без седла на смирную рабочую лошадь и привязав к ногам тяжелые кирпичи. Эта примитивная выучка мне потом очень пригодилась. Мы нашли потом еще одну общую черту, протянувшую дальше наши отношения.
Зилов учился играть на кларнете, а я уже стал скрипачом. Он приносил мне переделку сонат Моцарта, и мы их разыгрывали вдвоем. И впоследствии он меня не оставлял. Он сделался земским деятелем, усердно и добросовестно работал в комиссиях и заставил считаться с собой, как с полезным сотрудником. При свиданиях, все более редких, он посвящал меня в мельчайшие подробности этой своей земской деятельности, говорил о либеральных тенденциях близкой к нему группы в своем уездном земстве и об упорном сопротивлении темных земских элементов всяким либеральным затеям. Я очень ценил эту общественную деятельность моего старого товарища и видел в ней оправдание нашей душевной дружбы. Он впервые ввел меня в понимание смысла земской работы.
6. Дома, в церкви, на улице, на дворе и на задворках
Я уже указал на важность этой третьей части моих воспоминаний о периоде жизни, связанном с домом Арбузова. Именно там, в эти годы, под влияниями, проникавшими вне семьи и школы, ребенок превратился в юношу. Превращение было настолько быстрое и, скажу заранее, настолько преждевременное, что тут особенно трудно строго различать хронологию. Случайный эпизод, неожиданный внешний толчок, интересная встреча сразу двигали вперед процесс, остановившийся на одной точке. Линии пересекались, то отставали, то забегали вперед. При невозможности уследить за целым, я рассеку эту пеструю картину на части, связанные с местом действия, как это обозначено в заглавии. Так, по крайней мере, сохранится, хотя и в разрозненном виде, возможно больше материала воспоминаний. Этот материал все равно накоплялся обрывками, и общие выводы из накопленного можно было сделать только уже в следующем периоде жизни.
В доме, в семейной обстановке, конечно, всего естественнее и легче было бы наблюдать за нашим развитием и дать то или другое направление нашему росту. Но я говорил уже, что этого рода воздействие на нас было очень ограниченно, никаких педагогических систем на нас не пробовали, душевная связь с родителями была порвана, нам была предоставлена большая свобода поведения, и мы этим пользовались в полной мере. Конечно, общий уровень культурного быта семьи не мог не отразиться на нас: мы знали правила поведения, подчинялись им и вышли послушными, благонравными мальчиками, даже мой непослушный брат, не укладывавшийся ни в какую навязанную извне систему дисциплины. Но это был только внешний вид, соблюдение которого и давало нам свободу внутренней жизни. Плоды этой свободы только отчасти, и, я думаю, в меньшей части, были доступны домашнему наблюдению. Поэтому к известному моменту мы и вышли такие чужие: семья нам и мы семье. Зато мое развитие пошло вперед быстрым ходом под влиянием внесемейных впечатлений.
Например, я очень рано почувствовал потребность писать стихи. Я говорил, как неосторожно воспользовалась мать первыми ростками этой моей склонности. Мое стихописание, в сознании его крайнего несовершенства, я долго скрывал от всех. У меня была толстая тетрадь, в черной полумягкой обложке, в которую, втайне от всех, я вносил свои первые детские опыты. Они, конечно, еще не касались личной жизни, лирики, которая в то время вообще отсутствовала. Я начал с подражаний. Я, например, вспоминаю одно из ранних стихотворных настроений. Поздняя осень, ненастный день, ни играть, ни гулять нельзя. Я лежу на животе на большом ковре отцовского кабинета и пишу в своей тетради, сам определяя про себя, что это «по Никитину»:
- Дождь стучит в окошко,
- Скучно, холодно;
- Видно, что ноябрь
- К нам глядит в окно…
Тема готова: в заброшенной, занесенной снегом избе сидит девушка, поджидая жениха. Слышится звон колокольчика, приближается, вот уже совсем близко.
Девушка вскакивает, волнуется. Но колокольчик постепенно затихает, все погружается в прежнюю тишину и сон. Задумано хорошо, но вот… рифмы никак не слушаются. Напрасно я грызу перо, прибегаю к звукоподражаниям «колокольчик динь-динь-динь», но рифмы нет, ничего не выходит… Стихотворение после нескольких неудачных строф так и остается незаконченным, Ну, как это показать другим! Или вот другое воспоминание. Начинается франко-прусская война. Мне тогда было одиннадцать лет, и настроение мое вполне определенное: пруссаки «режут, колют, как и чем попало». Читаю внимательно газеты. «Взяты форты Ванвр и Исси, взят Мон-Валериан, взят и Мон-Аврон, бомбардируют Париж»…; а французы… «не кричат пардон», «а Вильгельм королеве все победы славит, и все «Божьим промыслом» он их всех заглавит». Но… работа не клеится. Поэма не выходит. Замысел брошен. И опять из черной тетради нелепо торчат и укоризненно смотрят на меня бессильные и не вполне грамотные строфы.
И вот все-таки, к моему стыду, черная тетрадь попала в чужие руки! Слава о моем стихописании распространилась по двору, а на дворе жила семья Депельноров. В семье была милая девушка, к которой я был неравнодушен; милая девушка захотела прочесть мои стихи, – и стихи у меня украли. Я был заранее уничтожен. И уже не отчаяние, а скорее облегчение почувствовал, когда, наконец, тетрадь вернулась ко мне и поперек моих стихов красовалась бойкая надпись карандашом задорного брата девушки, Жени: «Пашка сволочь, не стоящая моего сапога». А в другом месте: «Все это дрянь, и списано у Пушкина». Обиженный до глубины души и за себя, и за Пушкина, я написал стихотворный ответ обидчику, как мне казалось, весьма язвительный. Но нахал, – а он таки был нахал, младший Депельнор, – свое дело сделал и ответом меня не удостоил. Тетрадь моя после этого перестала пополняться. Я писал отныне на отдельных листочках и тщательно их прятал от постороннего глаза.
От поэзии перейду к музыке. Как у меня зародилась любовь к ней, я не помню, но любовь была страстная, и я пристал к отцу, чтобы он купил мне скрипку и пригласил учителя. Я добился своего. Приглашен был солист Большого театра Бармин и начал меня учить. Но – как он учил! От словесных внушений он перешел к ручным, и его уроки скоро мне опротивели. Жаловаться было нельзя, так как Бармин задумал важное дело: к именинам отца он решил заставить меня сыграть перед спальней отца утреннюю серенаду. Он выбрал для этого дуэт Безекирского на тему двух русских песен: адажио «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» и престо «Во поле березонька стояла». Вещь была слишком трудна для моей тогдашней техники: отсюда и неумолимое битье. Но надо было показать быстроту моих успехов под руководством Бармина. Я таки вызубрил пьесу, а Бармин в день именин дуэтом покрывал мои провалы и получил должную благодарность. Но чего мне это стоило!
Уроки прервало одно печальное обстоятельство. В классе сосед по парте резко сдвинул свою парту с моей в тот момент, когда указательный палец моей левой руки лежал между обеими; кончик пальца сломался и повис. Боли я не почувствовал сразу, но крови вышло много, и лечение понадобилось продолжительное. От Бармина я таким образом освободился. Но вкуса к скрипке все же не потерял.
Как только палец зажил, правда, суженный к концу, так что двойные ноты было брать трудно, я опять пристал к отцу о возобновлении уроков. На этот раз выбор оказался много удачнее. Моим учителем сделался Вильгельм Юльевич Виллуан, племянник знаменитого Виллуана, тогда доучивавшийся в Московской консерватории, а впоследствии сделавшийся директором Нижегородской консерватории. Он понимал, что учиться музыке – не значит бренчать на скрипке, и начал понемногу знакомить меня с элементами музыкальной науки, задавал темы на ведение аккордов, выправил мою постановку пальцев, учил чтению партитуры и т. д. К сожалению только, это учение было непродолжительно, так как скоро Виллуан кончил консерваторию и уехал из Москвы. Впоследствии я пробовал продолжать сам, по книжкам. Но на первых порах вместо теории пристрастился к разыгрыванию нот, доставал их откуда мог, исчертил груды нотной бумаги на переписку скрипичных партий, и у меня накопилась целая библиотека увертюр, арий из опер, танцев, маршей и т. д.
Тут же я приобрел беглость и поднял свою технику: конечно, вместе с небрежностью исполнения. Мне потом было стыдно признаваться, что я ученик Виллуана; но я сохранил глубокую благодарность к нему за поддержание и укрепление во мне серьезного интереса к музыке. Это, правда, развилось уже впоследствии.
Из опер я тогда особенно любил «Жизнь за царя» и знал ее чуть не наизусть. Главные арии Глинки звучат до сих пор в моих ушах так, как я их слышал у тогдашних певцов. «Бедный конь в поле пал, я бегом добежал: отворите!» – торопливой женской скороговоркой, перед слабо освещенным лампадой входом в Ипатьевскую обитель. Или «Не томи, родимый» Антониды, с последующими руладами. Но сильнее всего действовала предсмертная песнь Сусанина:
- Чуют правду!.. Ты ж заря,
- Скорее заблести!.. скорее возвести
- Спасенья весть – про – Цаа-ря-а-а!
И текст Розена мне нравился чрезвычайно; казалось, он так удачно сливался с музыкой. Я не знал, что рулады Антониды, да и самого Сусанина, это «итальянщина». Первые впечатления юности, не потревоженные ученой критикой… Как будто в тех годах мы переживали тридцатые.
Интерес к литературе далеко не шел в ряд с интересом к поэзии и музыке. После басен Крылова нам не давали в руки никаких классиков. С русскими классиками мне пришлось знакомиться значительно позднее. И мы были предоставлены собственному выбору детского чтения. Любимыми нашими авторами (тоже несколько позднее) сделались Жюль Верн, Майн Рид, Фенимор Купер. Их мы читали взасос, получая их из гимназической ученической библиотеки. Кажется, единственными тогдашними любимцами из русских были Загоскин и Лажечников. Весь этот выбор чтения, конечно, происходил помимо всякого семейного руководства.
Заговорив о русских классиках, я, однако, забыл об одном эпизоде, к ним относящемся. Не помню, по чьему почину, вероятно, старшего Депельнора, Александра, отличавшегося своей серьезностью, в противоположность младшему Жене, мы в летние дни разыграли «Недоросля» Фонвизина в костюмах.
Сцену устроили на террасе хозяйского дома, на которой повесили занавес; костюмы сделали при дамской помощи, вызубрили роли и после довольно многочисленных и веселых репетиций созвали старшую публику. Мне досталась ответственная роль г-жи Простаковой, и я старался подражать голосу старой барыни. Софью играл в соответственном белокуром парике из конопли и в светленьком ситцевом платьице мой брат. Роль Стародума досталась старшему Депельнору. Женя был самым подходящим актером для Митрофана. Он – единственный – не выучил как следует своей роли, да притом еще был заикой от природы. Но к Митрофану это как раз подошло, и игра вышла красочная. Словом, все сошло благополучно, и нас всех очень хвалили. По общему приговору мне был присужден первый приз: он состоял из вырезной картинки, изображавшей вокзал и железнодорожные вагоны. Помню, я был очень доволен – и общим признанием, и призом. Мы тогда очень увлекались вырезными и сводными картинками, которые называли «calcomanie».
Я говорил о каком-то бессознательном чувстве неудовлетворенности, с которым я выходил, после первой исповеди, из церкви Иоанна Предтечи. Это чувство я перенес и в дом Арбузова. Оно особенно окрепло, когда, после поступления в гимназию, исповедь и причастие стали обязательным актом, о выполнении которого надо было представлять гимназическому начальству официальное удостоверение.
Я уже знал, что бесполезно припоминать перед исповедью все грехи года, что священнику все равно их слушать некогда и что он покроет меня епитрахилью, так сказать, в кредит. А между тем, грехи были налицо, и я чувствовал себя как бы не прощенным, а следовательно, получал причастие «в суд и в осуждение». Как это примирить с высоким значением таинства, я, конечно, не знал, но чувствовал, что родители мне объяснить этого не смогут. Дома не имелось для этого никаких предпосылок. Не думаю, чтобы у нас была даже дома Библия или Новый Завет. Книги эти долго оставались мне неизвестными. Религия, как воспитательное средство, у нас отсутствовала: проявления домашней религиозности не шли дальше обязательного минимума. В определенные дни приходил в дом священник с крестом, кадил и кропил, сопровождаемый нестройным пением дьячка и причетника. После обязательного обмена несколькими елейными фразами надо было наделить каждого соответственно иерархии.
Этим кончалось домашнее соприкосновение с служителями Церкви. Значение церковных обрядов, литургии и таинств я мог узнать только из учебника «Богослужения» – но не в первых классах гимназии. А связь между догматами веры и их таинственный смысл оставались для меня неизвестными до университета.
Между тем у меня росла несомненная потребность выразить как-то более лично, более интимно свое отношение к вере. Ходить чаще в церковь, соблюдать точнее обряды, выражать это в действиях, истово класть на себя крест, становиться на колени, ставить свечи перед образами… Церковь, та же самая красная церковь Иоанна Предтечи, была близко.
И в 10–12 лет я стал настоящим «девотом». Дома этого отнюдь не поощряли; но тем более я считал это своей личной заслугой. Не помню, как это пришло и как это кончилось. Но это было и доставляло мне внутреннее удовлетворение. Кругом не было никого, кто бы от этих начатков показал путь дальше… И традиция дома Спечинского не оборвалась. Но она как-то завяла сама собой.
Как я говорил, за нами не было никакого надзора. И мы этим пользовались в полной мере. Как только мы выходили за ворота дома, – на улице было так интересно! И вместо того чтобы идти в школу к Блонштейну, мы подолгу и частенько задерживались на улице.
С гимназией так поступать было, конечно, нельзя, да и мы стали постарше. Наши прогулки приняли другой характер, благодаря завязавшейся дружбе с Зерновыми. Их отец взял в дом репетитора для сыновей, только что кончившего семинариста, которого рекомендовал ему архиерей. Рекомендация оказалась замечательно удачной. Молодой семинарист колебался, идти ли ему по духовной или по светской карьере. Вместо академии он, наконец, решил готовиться к экзамену в университет. В конце концов, он не попал ни туда, ни сюда, прижился к семье Зерновых и остался там своим человеком до конца своих дней. Это было истинное благодеяние для них, а косвенно и для нас. Иван Васильевич Неговоров оказался прирожденным педагогом и воспитателем. С большим лбом, продолженным ранней лысиной, с глазами немного навыкате, с расширенными ноздрями и окладистой бородой, – весь воплощенное спокойствие и какое-то внушающее равновесие, Иван Васильевич напоминал мне Сократа – или, может быть, бюст Сократа напоминал Ивана Васильевича.
От него исходила какая-то примиряющая сила. Я не представляю себе, чтобы он когда-нибудь выходил из себя и сердился – и уже, наверное, никогда не кричал. Он любил детей, и дети его любили. Не послушаться Ивана Васильевича было невозможно – уже потому, что он никогда не отдавал приказаний и не делал внушений. Все шло как будто само собой. От него я впервые услыхал слово: «хвилософия» (он был малоросс; слова «украинец» мы тогда не знали; Иван Васильевич был далек от всякой политики). «Хвилософию» свою он преподавал и детям Зерновых, вероятно, разумея ее в самом широком смысле и включая в нее больше этику, чем метафизику. Он любил книги и покупал их по дешевой цене на «толкучке»; так он составил себе небольшую библиотечку. Спрашивая себя теперь, откуда я заимствовал свою любовь к книгам и свое раннее знакомство с «толкучкой», я не нахожу другого источника, кроме Неговорова. Собственно, «толкучки» было две: одна, ближе к нам, «под Новинским», но хорошие книги там были редки, хотя, если попадались, стоили баснословно дешево. Другая, настоящая, с большим выбором книг, но по ценам не всегда мне доступным, называлась «Сухаревкой» (на площади у Сухаревой башни, теперь не существующей). Книги продавались на лотках по воскресеньям; но весь переулок рядом был занят книжными складами букинистов, и там можно было производить самые интересные раскопки. Впрочем, что касается меня, знакомство с «Сухаревкой» относится к более позднему времени.
Возвращаясь к ранним годам нашего общения с Зерновыми и с их воспитателем, я могу отметить новое направление наших прогулок, которые, собственно, нас и сблизили. Иван Васильевич был страстным любителем рыбной ловли – и внушил нам эту свою любовь.
Вспоминаю, что проф. Ключевский в частной беседе шутил, что рыбная ловля удочкой есть специальная привилегия духовного сословия, в противоположность привилегии дворянской – охоте на зверя и дичь с огнестрельным оружием. Там – простое, грубое убийство, говорил он, здесь, напротив, жертве предлагается на выбор, брать или не брать приманку. Нужно искусство – склонить ее к выбору; если клюнет, сама виновата.
В этом искусстве четверо ребят – двое Зерновых и двое Милюковых, кажется, не достигли тогда высокой степени, и я не помню, чтобы мы возвращались домой с большими рыбинами и с тяжелыми кошелками. Но не в этом было дело. В чудесные летние воскресенья мы уходили с раннего утра до вечера на лоно природы, брали с собой на целый день съестные припасы и предавались полному безделью. Наш путь был неблизок: цель была – низкий берег Москвы-реки, против крутого подъема Воробьевых гор. Надо было пройти от Арбата всю Москву с пригородом, потом пересечь все Девичье поле, тогда совершенно пустое (клиники были построены много позже), обойти Ново-Девичий монастырь и обширными огородами выбраться на берег. Это была целая экспедиция; но мы не замечали расстояния за веселыми шутками нашего руководителя. На душе было как-то необыкновенно легко, и дышалось свободно. Проведя так целый день, валяясь на песке и меньше всего думая о рыбе, в сумерках мы, утомленные ходьбой и воздухом, возвращались уже молча по домам – и крепко засыпали. Это был целый курс педагогии, который мы проходили незаметно. Я один из четырех пережил всех, и как мне дорог до сих пор в ореоле распускающейся юной радости жизни образ нашего учителя, похожего на Сократа.
Возвращаюсь к двору арбузовского дома, грязному, неубранному и, увы, оставившему далеко не одни только чистые воспоминания. Двор, как я упоминал, разделялся нашим домом на две части. Передняя, вместе с домом хозяина и с двумя палисадниками, была предоставлена в распоряжение дворянских жильцов и их детей, т. е. нас и Депельноров. Тут происходило то общение, о котором говорилось выше. Но уже намечалась грань между двумя половинами: с одной стороны, я, старший Депельнор и старшая сестра, к которой я питал рыцарские чувства; с другой – Женя и мой брат, хотя и не доходивший в своих резвостях до его пределов. Эти двое явились посредниками в общении «мальчиков» нашей половины с «мальчишками» задней половины – многочисленной детворой мещан и ремесленников, занимавших заднюю часть нашего дома. Собственно, общение с ними нам было запрещено. Но так как следить за этим было некому, то запрещение это скоро перестало соблюдаться, и родителям пришлось смотреть сквозь пальцы на совершившийся факт. Здесь шалости принимали уже, ввиду количества участников, коллективный характер и вели к усвоению «дурных привычек». О набегах на соседний огород я уже упоминал. Но тут требовались все-таки молодечество, смелость, быстрота и натиск: словом, качества, вызывавшие коллективное одобрение. Тут был и риск.
Один раз садовник огорода, подвергавшегося разграблению, погнавшись за грабителями, оказался быстрее их и поймал одного из них, не успевшего перескочить через забор, содрал с него штаны и здорово его оттузил. Я благоразумно держался по сю сторону забора. Бессильна была попытка банды приобщить меня к общему курению. Табака я не выносил – ни тогда, ни после. Но так как все-таки от товарищей отстать не хотелось, я нашел выход: я сушил листья бузины, крошил их и набивал ими свернутую из бумаги «сигарку». Едкий дым проникал в нос и в рот и быстро прекратил эти попытки. Но были шалости и похуже…
7. Дача в Пушкине
Этот отдел моих воспоминаний был бы неполон, если бы я не отметил, какую роль в нашей с братом эмансипации от семьи имели наши периодические наезды на дачу, построенную моим отцом на арендованном («на 99 лет») казенном участке между станцией и селом Пушкином. Это была одна из первых построек в дачном месте Пушкино; недавно перед тем проложенное трехверстное шоссе окаймлял с обеих сторон нетронутый еловый лес. Участки тянулись длинными полосами в глубь этого леса, местами очень густого; позади участков шла просека, за которой продолжался тот же лес – до неведомых для нас пределов; а направо от нас просека выходила к речке Серебрянке. Начало речки терялось в болоте; у просеки можно уже было поставить купальню, а дальше река быстро расширялась и превращалась в целое озеро, кончавшееся круто у села и у фабрики француза Рабенека. Все эти сокровища были в нашем единственном обладании, так как участки застраивались не сразу, кругом никого не было, лес по ночам пугал нас всякими страхами, и я помню, как раз ночью простоял очень долго против голого ствола, простиравшего ко мне руки, приняв его, по крайней мере, за медведя, если не за что-то более неведомое и ужасное. По ночам в лесу сверкали светляки, еще усиливавшие оттенок таинственности. Днем все страхи рассеивались, и мы расширяли свою разведку все дальше и дальше, никем не тревожимые.
Пушкино сопровождает мои воспоминания во всех стадиях моего детства и молодости, вплоть до кончины матери. Это, так сказать, энциклопедия или сокращенный репертуар моих воспоминаний. Помню, как еще во время постройки дачи мы были свидетелями рубки девственного леса, чтобы очистить для постройки место. Мы были и тогда одни – и безнаказанно позволяли себе удовольствие участвовать в примитивном завтраке рабочих, отведывая их «мурцовку». Эта смесь чистой воды из колодца с накрошенным хлебом казалась нам необыкновенно вкусной. Потом дача была построена, но оказалась непригодной для зимы. Возле нее была пристроена на коротком расстоянии кухня и над нею комната – теплушка, обитая войлоком. Тогда наше пребывание в Пушкине стало более длительным: нас отпускали туда одних на целые праздники Рождества. Это были целые экспедиции: закутавшись в шубки, мы приезжали с съестными припасами. Но своей гордостью мы считали прокармливать самих себя. Для этого мы запасались своими монтекристо, но не такими, из которых стреляют в тирах, а несколько большего калибра: из них можно было стрелять не только пульками, но и дробью.
Пульками мы стреляли белок, для чего требовалась большая меткость. Мы снимали с них шкурки и делали чучела: для этого тоже нужна была известная техника. А для обогащения нашего пищевого запаса мы выходили с нашими монтекристо на шоссе, где слетались на лошадином помете целые стада овсянок. Мы выдерживали расстояние, делали залп, и несколько птичек оставалось на месте; мы их ощипывали и жарили. Это было превкусное кушанье. У брата здесь была заложена его страсть к охоте, широко развернувшаяся впоследствии. Так проводили мы Робинзонами, в глубоком снегу, целую неделю и возвращались невредимыми, розовыми и пышущими здоровьем. Очевидно, это и оправдывало в глазах родителей наши бесконтрольные отпуски.
Весной и летом наши предприятия принимали иной характер.
В тенистых заводях Серебрянки мы ловили злодеев «щуренков» (маленьких щук), не брезговали и плотвой и всякой живностью и растительностью мелководья. Отсюда пошли наши познания во флоре и фауне. Появлялись бабочки, и мы собирали целую коллекцию – дневных, ночных и вечерних. Махаоны, трауермантели и мертвые головы пользовались особым вниманием. Но мы различали и многочисленную семью ванесс: собирали коконы, выводили из них бабочек, знали червей, соответствующих хризалиде, и т. д. На Серебрянке оказался маленький, плохо сколоченный плот; когда мы на него становились, он погружался под нами до колен. Тем не менее мы запасались жердью вместо весла, разъезжали по реке, приставали к противоположному Крестьянскому берегу и набивали чулки горохом. Да не перечислишь всех тех приманок, которые рассыпала перед нами природа. Мы тут научились знать и любить ее.
Шли годы; наши интересы быстро менялись. Прошел слух, что мимо нас гуляют барышни необыкновенной красоты. Мы их выследили – из детского любопытства: оказалось, две сестры, Летковы – на возрасте; нам ни к чему. Одна вышла потом за художника Маковского и попала на его картину боярского пира; другая вышла за моего кузена, Николая Султанова – и стала моей родственницей; потом она же пошла в литературу и подружилась с Н. К. Михайловским. Такой рой воспоминаний связывается с нашим Пушкином. Через Пушкино прошла и моя первая – чувственная – любовь, оставила яркий след в памяти и ушла в прошлое. В Пушкине раскрылся было и новый цветок чувства, быстро поблекший. На самодельном балу в лесу собралась пушкинская молодежь; я заметил пухленькую блондинку-барышню, которую никто не приглашал на танцы. Я ее пригласил – и был позван к ним на дачу. Понемногу выяснилось, что это – незаконная семья богатого купца. Мамаша – бельфамистая дама, всегда молчавшая; при ней компаньонка, очень речистая, постоянно курившая и при этом приговаривавшая: «Папироска, друг мой милый». За мной очень ухаживали, вероятно, в расчете на будущее. Барышня перебирала пальцами на рояле; меня пригласили играть дуэты, и я добросовестно тянул голос старинного романса Титова «Ветка Палестины». Пригласили меня и на московскую квартиру – одну из Мещанских. Я, наконец, не мог вынести этого примитива – и сбежал. Это был экзамен степени моего вкуса и знания жизни, и я его выдержал.
Здесь, на самой грани следующего периода, я должен был бы остановиться. Но пушкинские воспоминания ведут меня и за эту грань, составляя к ней одно из серьезных предисловий. Я перешел в четвертый класс гимназии. В Пушкино я приехал на лето, гордый только что одержанным успехом. В основе этого успеха лежало мое новое увлечение классической литературой (к этому вернусь). Я бредил Вергилием и привез с собой «Энеиду», которую решил прочесть (и прочел всю) в течение летних каникул. В Пушкине я встретил новых жильцов, нанявших третью дачу, построенную в конце нашего участка, специально для сдачи. Там поселилась семья г-жи Н., состоявшая из нее, сына и дочери. Дочь оказалась, к моему удовольствию, ученицей женской классической гимназии г-жи Фишер.
Это само по себе свидетельствовало в моих глазах о высоком культурном уровне возможной собеседницы. Наконец-то. Гимназистка, способная беседовать об интересующих меня научных предметах! Мы познакомились. Но о Вергилии как-то беседа не завязывалась.
Мать ученицы, видимо, этой темы не одобряла. В ответ на мои подходы она выпалила в упор: «А вы Диккенса читали?» Я оторопел. Диккенса я действительно не только не читал, но даже и не знал, почему это нужно. Завязался спор о преимуществах Вергилия и Диккенса для культурного развития современной молодежи. Я не уступал; тогда моя собеседница сказала: «А вот вы сперва прочтите Диккенса, а потом поговорим». И она мне вручила один за другим несколько томов его романов. Опять для меня открылся неведомый мир. Прочтя Диккенса, я понял огромные пробелы своего образования. Вергилия продолжал читать, но восторгался его знаменитой загадкой: «sic nos non vobis»[1] – уже наедине.
А воспитанницей мадам Фишер заинтересовался на другом основании. Относилась она к моей латиномании довольно насмешливо и, несомненно, получила верх надо мною. Мое априорное уважение к девушке, знающей по-латыни, однако, от этого не пострадало, а только усилилось. В моей записной книжке вместо цитат из Вергилия и из книг о римской литературе, начиная с Энния, Катона и Плавта, появились коротенькие ежедневные заметки о том, как я провел день, умышленно законспирированные по-гречески.
Интерес дня сосредоточивался теперь на особе моей насмешницы, и я отмечал, когда интерес этот был «полон» или «неполон», или когда день проходил «пустой». Так как перемены эти шли в довольно капризном порядке, то… никакого вывода из них сделать было нельзя. Так прошло лето; я получил не то приглашение, не то разрешение посещать московскую квартиру новых знакомых. Мать семьи содержала меблированные комнаты, наполнявшиеся преимущественно студентами. Здесь я пока останавливаюсь: дальнейшее принадлежит следующему периоду. Я, во всяком случае, возвращался с унизительным для себя выводом, что я не знаю не только иностранных классиков, но даже и русских.
Часть вторая
Последние годы гимназии. Поездки
(1873–1877)
1. Мои учителя
Последние четыре года гимназии (с осени 1873 г. – восьмого класса в гимназиях еще не было) составляют совершенно отдельный период в моей биографии. Между ним и предыдущим легла в моем воспоминании целая пропасть. Конечно, по внешности все как будто осталось по-прежнему: семья, гимназия, даже дом Арбузова. Но отношение ко всему появилось другое: на все я стал смотреть другими глазами. Я не говорю здесь о несколько преждевременном ощущении возмужалости. Это – очень много; но это, конечно, не все. Может быть, суть психической перемены можно определить так, что появилось целевое отношение к жизни. Это не значит, конечно, что появились вопросы о цели жизни или что-нибудь вроде того, что принято называть «мировоззрением». Элементы того и другого, быть может, начали складываться в конце периода. Во всяком случае, достигнута была какая-то высшая степень сознательности в мыслях и в действиях. Примиримся с этим определением за неимением лучшего.
Я очень смутно помню образы учителей из первых трех классов гимназии. Напротив, с четвертого класса образы эти начинают выделяться и дифференцироваться – и, соответственно, определяется отношение учеников к учителям и к разным предметам преподавания.
Мы тогда неясно понимали, конечно, что проходим гимназию в годы полного преобразования средней школы в охранительном духе под управлением министра народного просвещения гр. Дм. Андр. Толстого. Против большинства Государственного Совета и вопреки протестам общественного мнения, он провел гимназический устав 1871 г., по которому центр преподавания сосредоточивался на латинском и греческом языках (с 1-го и 3-го класса, по два часа в день), тогда как история и литература, новые языки отодвигались на второй план, а естественные науки почти вовсе исключались из программы. С естественными науками соединялось у реакционеров представление о материализме и либерализме, тогда как классицизм обеспечивал формальную гимнастику ума и политическую благонадежность. Для этой цели преподавание должно было сосредоточиваться на формальной стороне изучения языка: на грамматике и письменных упражнениях в переводах (ненавистные для учеников «экстемпоралии»).
Я, однако же, помню толстый том «Физики» Краевича, который побывал у нас в руках в старших классах, но в который мы особенно не углублялись. Помню, что учитель нас водил в физический кабинет, помещавшийся в главном здании гимназии, снимал пыльные покрывала с чудодейственных аппаратов, вертел колесо электрической машины и высекал искры, чтобы доказать нам существование электричества. Он же пробовал показывать нам химические опыты, к которым заблаговременно готовился; но эти опыты, как назло, ни разу не удавались. Я даже купил материалы и колбы и у себя дома добывал кислород. Этим, однако, и ограничились мои химические упражнения. Увлекал нас на этот путь, по-видимому, контрабандный, наш учитель математики, хорошо преподававший свой предмет и доведший нас от тройного правила до употребления таблицы логарифмов. До сферической геометрии и до понятия о высшей математике мы так и не дошли. Преподавание было солидное – и достигало результатов, но не увлекало и не соблазняло пойти дальше.
Хуже стояло дело с историей и историей литературы. Именно в этих предметах таились ядовитые свойства, которые предстояло обезвредить. Наш учитель истории, Mapконет, занялся этим вполне добросовестно, ограничив преподавание учебником Иловайского и задавая уроки «отсюда и досюда», без всяких комментариев и живого слова с своей стороны. Впоследствии я встретился с ним у его знакомых, Коваленских. Он был умнее своего преподавания и более сведущ, чем учебник. Но, соответственно своему месту в программе, держался в строгих рамках – и нас заинтересовать не мог. Добросовестно мы зубрили, что «история мидян неизвестна», что Аристид сказал Фемистоклу: «Бей, но выслушай» и что трава не росла там, где ступал конь Аттилы. Новая история ограничивалась хронологией битв и государей, а новейшая совершенно исчезала. Цель была достигнута: полнейшее равнодушие у большинства, отвращение у лучших учеников к тому, что здесь называлось историей.
Несколько лучше было положение преподавателя истории литературы. За формой тут нельзя было скрыть существа дела, и сколько-нибудь талантливый преподаватель мог, при желании, провезти контрабанду. Наш преподаватель, Тверской, пользовался этой возможностью, умеренно. «Теорию словесности» он излагал сжато, но отчетливо, не останавливаясь на чтении образцов разных форм словесности, но, по крайней мере, называл авторов из области иностранной литературы и их главнейшие произведения. В области истории русской литературы до новейших времен доходить не полагалось; но нельзя было обойти ни Пушкина, ни Гоголя. Тут читались и образцы, учились наизусть поэтические отрывки – и даже задавались темы на характеры героев и на общее значение произведений. Не знаю, было ли это дозволено, но учитель ссылался на Белинского и приводил его суждения. Словом, тут горизонт учеников действительно расширялся, и преподавание привлекало к дальнейшей работе. Чтобы написать как следует сочинение на заданную тему, нужно было прочесть кое-какие книжки, рекомендованные и не рекомендованные учителем. Кажется, в старшем классе я уже достал и прочел «Очерки Гоголевского периода» Чернышевского. Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм в литературе стали для меня понятиями доступными так же, как и борьба поколений за победу той или другой идеи. В порядке смены этих течений я уже стал искать какой-то закономерности (см. ниже).
Перехожу теперь к преподаванию латыни и греческого языка, на которых мне суждено было сосредоточиться, хотя и не в смысле программы графа Толстого. Преподавание это велось также умышленно формально. При крутом переходе к толстовской реформе гимназий нельзя было найти сразу подходящих учителей, и пришлось допустить случайный состав. Учителем латинского языка (и помощником директора) сделан был толстый и грубый немец, неважно говоривший по-русски, – кажется, Гертлинг по фамилии. Исполнение программы для него выразилось в пристрастии к мельчайшим «отступлениям» от грамматических правил, причем он требовал не только знания всех «отступлений» (редко применявшихся на практике), но и знания того параграфа, под которым они излагались в учебнике. С кафедры он величественным, командующим голосом восклицал: «Ученик такой-то, – параграф такой-то!» И ставил скверную отметку за смущенное молчание или неправильное указание параграфа. Был один корректив, которым мы смягчали этот нелепый террор. Мы заметили, что он вызывает фамилии по алфавиту, и очередные кандидаты готовились назубок. Он это заметил и, придя раз в класс, заявил в том же весело-торжествующем тоне: «Вы думаете, что я спрошу такого-то? А я спрошу…», следовала таинственная пауза, вытянутая рука с указательным пальцем – и громкий выкрик: «Такой-то, параграф такой-то!» Мы, однако, заметили, что наш повелитель спрашивает теперь от конца к началу списка, в обратном порядке, и опять как-то приспособились.
Желая улучшить состав педагогов-классиков, правительство обратилось за помощью к славянам, и преимущественно к чехам. Они приехали в большом количестве, – у каждого из гимназистов того времени найдутся соответственные воспоминания, – и все они были одинаковы. После нашего нелепого фельдфебеля мы с интересом и надеждой ждали появления настоящего специалиста. На нашу долю пришелся молодой чех Млинарич, который в самом деле начал учить по-другому, но, увы, жестоко обманул наши ожидания. По-русски он только на нас начал учиться, и класс не мог не смеяться, когда, давая лингвистическое объяснение, он внушал нам, что «а слябит в о, о слябит в и». Он обещал нам и лекции по римской литературе; но когда до них дошла очередь, он стал диктовать нечто вроде словаря: «Vergilius (это было модное произношение вместо Virgilius), Publius V. Maro, родилься в 70 году, процветаль 40, умираль 19, написаль» – следовал перечень. В этих «процветаль, написаль» проходила перед нами скорым маршем вся литература. Когда как-то раз я подошел к нему, без всякой задней мысли, чтобы попросить помочь мне перевести трудное место в Горации (мы читали Энеиду), он замахал рукой. «Не, не, это потом, это потом». В сущности, он по-своему добросовестно отбывал служебную обязанность, но не для этого приехал. Скоро он выгодно женился на богатой купчихе; говорят, занялся спекуляциями и «процветаль» далеко не плохо…
Правительство это видело и считало свой «призыв славян» временной мерой. Когда я был в старшем классе, директор раз призвал меня и сделал следующее предложение: за границу посылаются стипендиаты на два года для изучения классических языков, с обязательством прослужить за это преподавателями; согласитесь ли вы принять такое предложение? Я без всякого колебания отказался. Тогда директор откровенно сказал: я должен был предложить вам это, но я с вами согласен. Это не для вас. Я поблагодарил за доброе отношение ко мне. Потом мы с этими стипендиатами гр. Толстого встречались…
Я оставил к концу одно блестящее исключение. Греческий язык преподавал русский – и не специалист, Петр Александрович Каленов. Если во мне разгорелась искра любви к классическому миру, то этим в значительной степени я обязан ему. Его преподавание стояло в полном контрасте с требованиями программы.
Он сам был влюблен в культуру древнего мира – и эту любовь передал своим ученикам. Он понимал, что знать грамматические исключения не значит знать язык, не говоря уже о том, для чего знание языка нужно. И он меня понял, когда обнаружил во мне, посредственном писателе экстемпоралий и плохом знатоке «параграфов» с «исключениями», первые признаки интереса к древней литературе. Это была поэтическая натура; Каленов зажигался, комментируя классические произведения, и в его толковании греческие тексты оживали перед нами, становились нам близкими. Помню его объяснения к «Антигоне» Софокла: они поставили перед нами этическую проблему и подняли дочь Эдипа на недосягаемую моральную высоту. Помню сильное впечатление, произведенное в его толковании «Апологией Сократа». Трагедия глашатая новой истины, павшего жертвой старых суеверий толпы, осветила особым светом диалектику Сократа в диалогах Платона. Призыв: «познай самого себя» прозвучал не только как принцип критической мысли, но и как регулятив нравственного поведения человека. Этого рода «классицизм» выходил далеко за пределы полицейских предвидений его сиятельства графа Дмитрия Андреевича. Кстати, припоминаю о единственной в моей жизни встрече с этим гасильником знания и идеала.
Толстой как-то зашел в 1-ю гимназию посмотреть на плоды своей реформы. Директор, приведя его в наш класс, прямо показал на меня, как на образчик достигнутых успехов. «Вот, ваше сиятельство, ученик, который очень плохо учился раньше, а теперь, благодаря введенному вами классицизму, он у нас из первых». Его сиятельство, показавшийся мне расслабленным стариком, с как-то бессильно висящими усами, осклабился и отпустил, не очень удачно, евангельскую остроту: «Это, как говорится в Писании: первые будут последними, а последние – первыми». Мне стало очень обидно за нашего первого ученика Стрельцова, с которым я успел подружиться и который отнюдь не собирался спускаться в последние ряды; неловко было и перед товарищами заслужить подобное отличие.
П. А. Каленов не изменял своего внимания и доброго расположения ко мне не только до конца гимназического курса, но и за его пределами. Он перед окончанием курса заставил меня составить список всего, что я прочитал в оригиналах по-латыни и по-гречески, и выступил в совете на мою защиту против тех, кто выставлял мои пробелы в экстемпоралиях. Вероятно, его аргументы в пользу того, что значит пользоваться языком для изучения культуры, оказались убедительными. Никто в классе не вышел из гимназии с высшей оценкой – золотой медалью; но я единственный получил серебряную. Я упомянул, что Каленов был поэтом и хорошим переводчиком. Он готовил к изданию свой перевод «Валленштейна» Шиллера и обратился ко мне – уже в послеуниверситетские годы, – чтобы я написал предисловие к книжке. Я был польщен и страшно обрадован возможностью хоть чем-нибудь отплатить за то многое, что я от него получил. Помню, я выбрал тему из самого Шиллера о «сентиментальной поэзии». П. А. Каленов печатал и другие свои переводы – и собственное стихотворное произведение на тему о Будде. Он умер в глубокой старости, и кончина его была для меня настоящим горем. Это был человек глубоко культурный, насквозь порядочный и чистый, который умел среди безвременья удержаться на высоте тех идей, которые защищал в течение всей жизни.
2. Мой «классицизм»
Увлекаясь римскими и греческими классиками, я, конечно, не подозревал, что выполняю предначертания начальства. Неловкая похвала графа Толстого уже потому меня нисколько не порадовала, что я – правда, тоже не зная того, выбрал уже то направление в изучении древнего мира, которое было прямо противоположно программе Толстого и враждебно ей. Понемногу я это осознал, приближаясь к последним классам гимназии. Но первый толчок дан был тем же побуждением, которое в более ранние годы вызвало мою попытку углубить свое отношение к христианству. Только там я запутался в мелочах церковного формализма и, не имея поддержки и совета, бросил начатое. Здесь, напротив, я нашел поддержку и совет в гимназическом окружении, и хотя и ощупью, вышел на большую дорогу. Сопоставление Вергилия с Диккенсом было критическим моментом в самом начале этих моих усилий; но оно меня не смутило, – особенно после того, как я ощутил на факте, что одно не исключает, а дополняет другое, сливая то и другое в некое высшее целое. Несколько позднее мой знакомый Лудмер (о нем см. ниже) подписал под моим портретом фразу:
- Strebe zum Ganzen, lebe im Ganzen,
- Eigne das Ganze dir an[2].
Это изречение я избрал своим лозунгом, и в этом выходе от частного к целому древний мир послужил для меня незаменимой опорной точкой, откуда радиусы пошли в разнообразных направлениях. Все это я и называю моим «классицизмом» в кавычках.
Подпорой для такого моего энциклопедизма послужило совершенно механическое внешнее обстоятельство. Я уже говорил о развившейся у меня страсти собирать библиотеку на толкучке. Денег на покупки книг у меня было тогда очень мало; а тут в те времена можно было за бесценок купить хорошие вещи. В центре находок лежали, конечно, древние авторы. У меня мало-помалу собрался их большой подбор. Не все купленное было, конечно, прочитано, но многое было. Я не могу теперь воспроизвести довольно полного списка, составленного по настоянию П. А. Каленова, как итог моего домашнего чтения классиков за гимназическое время. Я заучивал наизусть, немножко суеверно, отрывки поэзии Сафо и многое из приписывавшегося Анакреону с большим удовольствием; читал трагедии Эсхила, Софокла и особенно Эврипида, кое-что из Аристофана, имел, но не читал Ксенофонта и Фукидида, не добрался до Тацита, особенно же налег, под влиянием Каленова, на диалоги Платона, от которого перешел к более меня удовлетворившему сразу Аристотелю. Пользуясь старинным изданием сочинений Аристотеля, с латинским переводом en regard (параллельный перевод), я – не прочел, а проштудировал часть его «Метафизики» и перевел «Поэтику» по изданию Бернайса. С «Этикой» и особенно «Политикой» я познакомился уже в студенческие годы. Упоминаю только главное. Из римлян было у меня французское издание (с переводом) комедий Плавта и Теренция (прочитано), Гораций – несколько старых изданий с комментарием; из него я много усвоил на память; Эльзевировские издания Овидия; позднее я открыл особенно мной любимого Тацита, Тибулла, Катулла, Пропорция; как и всего Цицерона, Платона тоже пришлось купить в новом Тейбнеровском издании. Но всего не перечислишь. Быть может, это ядро моей юношеской библиотеки сохранилось в составе общей библиотеки, находящейся теперь в Калифорнии.
Но классиками и на этом начальном этапе дело не ограничилось. Заинтересовавшись греческой философией, я купил на толкучке немецкий учебник истории философии Швеглера. Выбор был неудачный. Я принялся читать эту книгу – и увидел, что ее надо зубрить, не останавливаясь перед трудностями сжатого изложения. Так я вызубрил все греческие философемы и часть римских; попробовал кое-кого и из новой философии. Три тома энциклопедии Гегеля в русском переводе Титова прочел позже. Немецкие классики в старых (полных) изданиях, напротив, были использованы тогда же: не говоря о Лессинге и Виланде, я читал Гете (в посмертном издании) и особенно Шиллера, которого я часто перечитывал. Не помню, как и когда я приобрел Гейне. Но в последних классах, благодаря одной поддержке со стороны, он стал моей настольной книгой; «Buch der Lieder» и «Romanzero» я помнил чуть не наизусть.
С французскими классиками было много хуже. Я помню у себя в библиотеке только три томика Мольера, все прочтенные. Виктор Гюго – ранний – тоже был, но его риторика мне не нравилась. И ничего другого: пробел, плохо пополненный и впоследствии.
Немецкий и французский языки, начатые до гимназии, я гораздо лучше усвоил путем чтения. Но я решил присоединить сюда и английский. Соединившись с Стрельцовым, мы пригласили английскую учительницу, которая очень нас подвинула вперед. Помню, мы читали с нею «Jane Eyre» Шарлотты Бронте, но потом добились от нее даже чтения Байрона, конечно, одним нам тогда недоступного.
Я говорил о французских классиках – и не упомянул о главном для меня, Вольтере. В мои руки попали – не помню, как – четыре великолепно переплетенных тома (из полного собрания), заключавших в себе «Философский Словарь» Вольтера. Ирония и сарказм Вольтера подействовали на меня неотразимо. Они осмыслили мое отрицание формальной стороны религии. Насмешки над наивностями и примитивными добродетелями Библии разрушили традиционное отношение к библейским рассказам. Библия еще не встала для меня в ряд важных исторических памятников древнейшего быта, но потеряла свое учительное значение и свой ореол богодухновенности. Однако этого было недостаточно, чтобы подорвать самые основы религиозности. Я почувствовал, что эти основы еще не тронуты во мне, по странному поводу. В последнем классе гимназии я познакомился с синтетической философией Спенсера. Кажется, это был первый том «Психологии», тогда только что появившийся в русском переводе. Спенсер, как известно, очень осторожно относится к вопросам, выходящим за пределы опытного познания. Но мне при моем тогдашнем настроении он показался просто безбожником. И я исписал целую тетрадь полемическими возражениями чуть не на каждую фразу относящихся сюда страниц книги. Очень жалею, что пропала эта моя гимназическая тетрадь: она установила бы этот переходный этап в развитии моего мировоззрения. Точнее говоря, я тут столкнулся с вопросами мировоззрения впервые, и как ни неохотно я расставался с остатками принятой на веру религиозной традиции, она явно отступала перед расширяющейся сферой научного познания. Заброшенные Спенсером искры сомнения, при всем желании, скажу даже, при всем негодовании на автора, потревожившего мой покой, затушить не удалось.
Последний год гимназии провожает меня в этом колеблющемся настроении. Оно лучше всего выразилось в одном моем стихотворении того времени, которое, очевидно, не случайно сохранилось в моей памяти. Форма навеяна знакомством с разными философемами в изложении, раньше чем я познакомился с оригиналами; но тенденции – ясны.
- Мне снилась звезда в беспредельном эфире,
- Мне снилось, что к ней я летел от земли,
- Земля потонула в глубокой дали,
- И был я один в всеобъемлющем мире.
* * *
- И вдруг она скрылась. Пространство и время,
- И все, что условленно здесь, на земле,
- И все, что предельно, заснуло во мне,
- И спало бесплодного знания бремя.
* * *
- Но ум мой наполнило знанье другое,
- Мне стали понятны законы чудес,
- И с выси далеких лазурных небес
- Я сам засветил путеводной звездою.
За «пространством и временем», «земными» формами познания есть еще другое, внепредельное, но и у «чудес» есть тоже свои «законы», доступные высшему познанию. Так мысль бродила между двумя исходами, не вверяясь ни тому, ни другому и стремясь взлететь выше обоих.
Не могу кончить этого отдела, не упомянув об одном гимназическом товарище, с которым мы сдружились именно на изучении древнего мира. Николай Николаевич Шамонин славился среди всех нас феноменальным даром памяти. Мы смотрели как на непонятное чудо, когда, задав ему помножить по памяти одно многозначное число на другое многозначное, получали верный результат раньше, чем проходила минута. Он запоминал целые страницы, раз прочтенные. В интересовавшей нас области он был превосходным знатоком библиографии. При этом он отличался необыкновенной скромностью и никогда не выдавался вперед. Обратной стороной этих замечательных свойств была сравнительная неспособность к тому, что я называл «дискурсивным мышлением». Мне всегда казалось, что сила и ясность ассоциаций «по смежности» ощущений несовместимы с ассоциациями «по сходству», при сравнительно слабой памяти, какою я считал свою. Вдвоем мы отлично дополняли в этом отношении друг друга. Наша дружба продолжалась и после гимназии, и к личности Шамонина еще придется вернуться.
3. Наш гимназический кружок
Вне и помимо классических интересов в последние годы гимназии как-то сам собой сложился кружок товарищей, объединенный более широкими и отдаленными общими стремлениями.
У кружка не было программы, не было статута и правил о принятии членов. О его существовании было известно, но, кроме сложившегося фактически постоянного состава, дальнейший доступ в него прекратился. Собирались мы у кого-нибудь из товарищей довольно часто; обыкновенно один из участников готовил вступительный доклад на какую угодно тему, после чего велась непринужденная беседа, не обязательно связанная с докладом. Здесь сказалась разница взглядов и интересов участников, но это не мешало общению. Не запомню всех членов кружка, но перечислю, по крайней мере, принимавших в нем наиболее активное участие. Назову прежде всего князя Николая Дмитриевича Долгорукова, внесшего в кружок свою особенную струю идей и настроений. Самое пребывание Долгорукова, а потом и его младших братьев в гимназии было своего рода исключением.
Их мать, игравшая главную роль в семье, считала, что общение с более демократической молодежью, уже начиная со школы, совершенно необходимо ввиду общего настроения эпохи. Кажется, не без сопротивления она отдала старшего сына в старшие классы гимназии. Николай Дмитриевич отличался общительностью, мягкостью и ровностью характера. Класс его принял как своего, и мы, более близкие друзья, искренно к нему привязались. Его взгляды, как и наши, еще не определились, но скоро стала заметна их общая славянофильская складка, наложившая на кружок особый оттенок. Сам он, впрочем, не поднимал вопросов и не читал докладов, но активно участвовал в прениях. Из докладов этого типа припоминаю доклад о Яне Гусе, прочтенный Константином Старынкевичем. Гус, конечно, изображался как представитель славянской идеи вообще. В связи с событиями в мире славянства – о которых дальше – тенденция эта не только не встретила возражений, но была принята кружком как сама собой разумеющаяся. Сам Старынкевич не вызывал особых симпатий в кружке; впоследствии мы узнали, что он поступил на службу русским жандармом в Польше. Чтобы сразу указать противоположную тенденцию в кружке, назову Костю Икова, талантливого юношу, который в университет пошел по естественному факультету и отличился серьезными работами по антропологии у проф. Богданова. В кружок он внес более свежую струю, принеся книгу Тибленовского издания – Льюиса о Конте и Милле. Об Огюсте Конте, учение которого он изложил подробно, я тут узнал впервые. Политические взгляды Икова, вероятно, сложились соответственно тогдашнему прогрессивному настроению общества; но об этом тоже особенных споров в кружке не велось; как-то и это воспринималось кружком как само собою разумеющееся.
Я тоже сделал в нашем кружке два доклада. Из них мне вспоминается теперь один, в котором смутно бродили мысли, выяснившиеся для меня самого в следующие годы. Доклад назывался: «Исключительность и подражательность». Под «исключительностью» разумелся нетерпимый идеологический национализм. Помнится, я видел в нем источник национальной оригинальности, но также и односторонности, и защищал от него не то право на «подражательность», не то самый факт подражательности, как неизбежное и прогрессивное явление. Я доказывал эту неизбежность и прогрессивность на примере эволюции русской литературы, в которой различал стадии, соответствовавшие смене заграничных источников нашего подражания. Тут уже вырисовывались некоторые черты моего будущего социологического и политического мировоззрения.
Но, повторяю, все это было еще очень смутно; характерен для меня был только выбор самой темы.
Был у нас в кружке присяжный скептик, Дмитрий Некрасов, болезненный и непрочный, сын приходского священника, более старший годами, чем все мы. Демократ по происхождению, очень вдумчивый и талантливый, к тому же остроумный полемист, он не щадил наших юных увлечений и снимал с них идеалистический покров с резкостью и бесцеремонностью, которые нам казались цинизмом. Циником он был и в частной жизни, раскрывая перед нами картины быта, возбуждавшие в нас одновременно и любопытство, и гадливость. При всем том Некрасов был необыкновенно добрым и хорошим человеком, что заставляло нас думать, что в его плебейских разоблачениях скрывается большая примесь бравады. Мы все его очень любили и ценили его влияние в кружке: оно служило коррективом к нашей готовности подчиниться той или другой из ходячих доктрин.
Я нарисовал те пределы, в которых вращались идейные настроения кружка. За этими пределами, как мы смутно представляли себе тогда же, существовали более радикальные настроения; кое-кто из гимназистов уже стоял близко к революционным течениям и оказывал им те или другие фактические услуги. К этому неведомому нам кругу, очевидно, принадлежал – вне гимназического круга – товарищ моего брата по Техническому училищу Яков Лудмер, с которым брат меня познакомил и который этим знакомством заинтересовался. В это время он часто заходил ко мне, и мы вели долгие и оживленные разговоры. Это он меня натолкнул на Гейне. Оба мы восхищались не только лирикой Гейне – в «Buch der Lieder», но и его политикой в «Deutschland ueber Deutschland» и «Franzoesische Zustaende». Лудмер был осторожен или, быть может, сам еще не был вполне вовлечен в русскую политику. Не помню, беседовали ли мы с ним о ней вообще. Но ориентировка, во всяком случае, намечалась сама собой в этих разговорах, и известное влияние на меня она уже тогда могла оказать. Упоминаю об этом здесь, потому что дальше к этому придется вернуться. Притом, и помимо беседы с Лудмером, мы не могли оставаться совершенно глухи к тому, что происходило кругом. Это были годы, когда политические течения в русской жизни быстро дифференцировались и выходили наружу. Исходя, в сущности, из одного источника, неприязненного правительству в общем, эти течения уже после польского восстания 1863 г. резко разошлись в разные стороны, а при первых проявлениях правительственной реакции стали враждебными и непримиримыми. Не зная хорошенько происхождения толстовского классицизма, мы все же не могли не улавливать его общего политического смысла, – и чем дальше, тем он становился яснее. Наконец, произошло возле нас, тут же в Москве, событие, которое подействовало на нас, как громовой удар. В 1876 году московские мясники из Охотного Ряда избили студентов. «Охотнорядцев» тогда еще не называли «черной сотней»; умиление по отношению к «народу» было в порядке дня в самых разнообразных лагерях и в самом различном понимании. Студенты считались «ходатаями за народ». Откуда же такое невероятное, такое бессмысленное недоразумение? Как могли друзья по идее оказаться ожесточенными врагами? И кто виноват в этом столкновении студентов с народом на улице?
Этот вопрос: «Кто виноват?» – мы и поставили себе в нашем кружке. Не находя ответа, мы решили обратиться за ответом к самому Достоевскому. В сущности, мы не знали Достоевского. Мы не знали, что этот ответ, которого мы ждали с трепетом, был уже у него давно готов. Мы не знали ни всей досибирской деятельности Достоевского, ни его жизни на каторге, не читали «Записок из мертвого дома». Читать Достоевского мы стали лишь с «Преступления и наказания»; политической тенденции «Бесов» не заметили. В 1876 г., когда произошло побоище в Охотном Ряду, Достоевский был на высоте своей славы и только что начал издавать «Дневник писателя», за каждым номером которого мы следили с жадностью. К автору «Дневника» обращались все за советом и поучением. Кружок поручил мне написать ему письмо и поставить вопрос: «Чем мы виноваты в случившемся». Достоевский нам ответил – так, как и следовало ожидать, если бы мы его знали ближе. Вы не виноваты, но виновато общество, к которому вы принадлежите. Разрывая с «ложью» этого общества, вы обращаетесь не к русскому народу, в котором все наше спасение, а к Европе. У меня, к сожалению, нет под руками текста нашего письма и ответа (их через несколько времени, без нашего согласия, напечатал Долгоруков в «Руси» Аксакова, а ответ Достоевского стал печататься и в его сочинениях).
Помню впечатление, произведенное ответом после его прочтения в кружке. Водворилось неловкое молчание. Мы не вполне разбирались в тогдашней борьбе западничества и славянофильства, но это резкое противопоставление народа Европе нас тем более поразило. Мы не знали, что Достоевский смирился перед тем народом, который он узнал на каторге, признав его богоносцем, и что в бессознательном православии русского народа он видел его всемирную миссию. Как быть насчет православия, мы не решали, но Европы мы выдать не могли – и не только не видели никакого противоречия между народом и Европой, но, напротив, от Европы ждали поднятия народа на высший культурный уровень. А Достоевский призывал искать идеала в традициях Охотного Ряда и возвращаться к временам телесных наказаний и крепостного права, как к школе смирения русского народа перед Христом.
С такой антитезой к нашему настроению мы, конечно, согласиться не смели. Но не решались и протестовать. Молчание прервал, наконец, наш смелый «циник» Некрасов – короткой фразой: «Да ведь это то же самое, что пишет Катков в «Московских ведомостях»!» Никто не возразил ему. При разнообразии настроений кружка входить в полемику никому не хотелось. Но для меня стало ясно: да, Некрасов прав: это – то же, что «Московские ведомости». И сама собой обозначилась граница, до сих пор неясная. Hic Rhodus, hic salta…[3]. Не могу сказать, чтобы у меня была уже наготове тогда ответная формула: Россия есть тоже Европа. Но все мысли шли в этом направлении. Так, как ставил вопрос Достоевский, иного выбора не было.
Мои сердечные дела в эти последние гимназические годы несколько отошли на второй план. Вероятно, отчасти это объяснялось приливом новых интересов и усиленной работой интеллекта, которые отвлекали внимание от внутренней жизни чувства.
Но к тому же приводил и самый характер моего увлечения. Я поставил предмет своего увлечения на высокий пьедестал и смотрел на него снизу вверх. Никакие эротические вожделения к этому культу не примешивались; я считал даже оскорбительными кое-какие намеки в этом направлении моей матери, которая всячески хотела прекратить наше знакомство с семьей И. Она тут натолкнулась на решительное сопротивление и в первый раз почувствовала свой родительский авторитет поколебленным. В сущности, это был естественный результат всей прежней истории нашего воспитания. Мой брат, который давно жил отдельно от семьи, на этом эпизоде эмансипировался окончательно. Мне было жаль матери, я не решался рвать окончательно моральные узы с семьей. Но, по существу, и моя эмансипация была полная. Нежелание матери знакомиться с И. привело лишь к тому, что мы стали чувствовать себя там более дома, чем у себя.
Все это, однако, не двигало вперед моих отношений знакомства с Фишеровской ученицей, вообще очень сдержанной и замкнутой. Я переживал свои внутренние волнения в секрете и познал их остроту только тогда, когда на следующую вакацию семья И. поселилась в Сокольниках, а мне пришлось, не помню почему, остаться на московской квартире. Брат же поселился с ними в Сокольниках, ближе сойдясь с младшим сыном И., бойким и развязным мальчиком. Живая беседа и легкое остроумие брата – свойства, для меня оставшиеся навсегда недоступными, – делали общение с ним очень привлекательным. Когда я приезжал по воскресеньям в Сокольники, я заставал там сложившуюся атмосферу дружественного общения, чувствовал себя исключенным из нее – и не умел поддержать тона: у меня язык прилипал к гортани. К пренебреженному чувству присоединялось тут обиженное самолюбие, и я испытывал жестокие муки; давал себе слово не возвращаться – и возвращался со стесненным сердцем в ту же натянутую атмосферу. Вероятно, с той стороны тоже была замечена причина моей неловкости. Мне, кстати, рассказывали, как профессор Кареев влюбился безнадежно в предмет моего поклонения и как, после драматического объяснения, он получил отказ в руке и сердце. Я шутил над комизмом этой сцены вместе с другими, а про себя вспоминал то место из Гейне, где серьезному поклоннику был предпочтен Арлекин… Конечно, ни мой брат, ни барышня вовсе не подходили к ролям Арлекина и Коломбины; подходил к своей роли только несчастный Пьерро…
4. Из Москвы в Кострому
Переверну еще один истлевший лист моих юношеских воспоминаний: мой первый выезд из Москвы в настоящую русскую провинциальную глушь. Этим выездом я обязан дяде Владимиру Султанову, который предложил мне сопровождать его в Костромскую губернию, где у него было какое-то земельное дело. У себя в библиотеке я нашел тогда единственную книгу, годившуюся для ознакомления с русской действительностью: два тома Маттеи о русской промышленности. Эти сведения мне пригодились, но только не для этой поездки, развернувшей передо мной, гимназистом старших классов, вместо мертвых цифр живые картины провинциальной жизни.
До Ярославля мы доехали из Москвы по железной дороге; дальше Пушкинской дачи я по ней раньше не ездил. От Ярославля до Костромы надо было ехать на пароходе, и тут впервые развернулась передо мною Волга. А в качестве интродукции к самообразовательному путешествию припоминаю эпизод, ярко обрисовавший житейскую опытность моего руководителя. Мы сидели на берегу реки в каком-то кафе; за соседним столиком беседовала компания местных обывателей солидного типа. Дядя сказал мне: вот этот – в чуйке скупщик хлеба, а тот, сбоку, трактирщик; его сосед слева торгует скотом. Хочешь, проверим? Он подозвал полового и спросил его, кто эти люди. Половой буквально подтвердил показания дяди, и я получил наглядный урок закономерного влияния профессии на лицо, ею занимающееся.
От Костромы надо было ехать на север губернии на перекладных. Тут начиналась настоящая «вековая тишина» России: типы и люди прошлых исторических формаций. Несколько эпизодов осталось в памяти. Вот одна из остановок у очередного постоялого двора. Дворник в отсутствии, делом заведует молодая здоровая дворничиха. Привозят колоссальный воз сена, разгружать его некому; я иду помогать дворничихе. Дядя тотчас смекает, что я приглянулся бабе, и предлагает переночевать на постоялом дворе. Для меня это предложение – святотатство; я отказываюсь; едем дальше. Но потом я получаю доказательство серьезности начавшегося было упрощенного флирта: дядя привозит мне от дворничихи символический деревенский подарок: вышитое полотенце.
Другая характерная остановка. Не доезжая до цели – уездного города Буя, останавливаемся в небольшом помещичьем имении, где доживает свои дни очень известная в свое время поэтесса Жадовская. Тема из «Трех сестер» Чехова. У хозяев живет воспитанница, барышня на возрасте. Прием московских гостей – самый радушный. Старики расспрашивают о московских новостях, вспоминают старину, показывают мне остатки небольшой помещичьей библиотеки конца XVIII и начала XIX столетия. Заметив проявленный мною большой интерес к этой живой иллюстрации прошлого, они дарят мне всю библиотеку и укладывают ее в ящик. Тут несколько томов «Вивлиофики» Новикова, переводы ходячих французских романов конца XVIII столетия, «Нума Помпилий» баснописца Флориана, племянника Вольтера; тут «Liaisons Dangereuses» и «Corinne» M-me de Stael. Для них куча мертвого хлама, для меня подлинные живые свидетели прошлого. Забираю все: огромное обогащение моей библиотеки. Потом, после угощения, воспитанница ведет меня показывать сад при доме, обширный, тенистый и, конечно, запущенный. Приводит меня в поэтический уголок у разрушенного фонтана и начинает тоже забрасывать вопросами о Москве. Глаза – жадные глаза – говорят больше слов, и я в них читаю: возьмите меня в Москву, спасите из этой глуши. Вспоминаю Евгения Онегина: «Когда бы жизнь семейным кругом»… и т. д. Мимо, мимо… Дядя и здесь советует погостить, заночевать. Я опять убегаю от соблазна. Мимо, мимо… Прощаюсь с чувством уважения к прошлому, с гостеприимными хозяевами, так щедро меня одарившими. Едем дальше…
«Буй да Кадуй чорт три года искал», – говорит местная поговорка. Обстановка оправдывала поговорку. Ямщик вез нас густым еловым лесом, вероятно, свидетелем в прошлом многочисленных разбойничьих похождений. Выехав на опушку из чахлой еловой поросли, мы оказались в самом центре города Буя.
Дела дяди Владимира заставляли его остаться в городе дольше, и наше совместное путешествие здесь кончалось. На этом прерываются и мои воспоминания об этой поездке; я, во всяком случае, вернулся в Кострому какой-то другой дорогой.
5. Война. Кавказ
События, развернувшиеся на Балканах, несомненно, захватили значительную часть русского общественного мнения. Уже июльское восстание сербов в Герцеговине против турецкого ига в 1875 г. обратило внимание Европы на страдания христианской «райи» под властью турецкой администрации. Явное попустительство Англии и заинтересованность Австро-Венгрии помешали принятию решительных мер, и весной 1876 г. восстание вспыхнуло с новой силой. Дипломатическое вмешательство России и ее угроза, что восстание будет поддержано Сербией и Черногорией и распространится на все Балканы, вызвали только платоническое сотрудничество. Турецкие зверства в Болгарии летом 1876 г., вызвавшие известную полемику Гладстона против Дизраэли, заставили, наконец, Англию встрепенуться; Сербия и Черногория объявили войну Турции, и русский генерал Черняев принял начальство над войсками. Из России к нему потянулись добровольцы – далеко за пределами славянофильских настроений. Туда, например, отправился Родичев. Осенью 1876 г. Горчаков уже предлагает Англии совместную оккупацию славянских земель Россией и Австрией. Дело опять затягивается; между тем сербские войска терпят неудачи, и император Александр II решает действовать один, успокаивая заранее Англию, что он не думает оккупировать Константинополя. Зима проходит в бессильных совещаниях держав в Константинополе; русские делегаты всячески стараются втянуть державы в войну и сделать ее европейской. Новые неудачи дипломатов вызывают, наконец, решение царя выступить самому: 19 апреля 1877 г. Горчаков извещает державы, что русские войска перешли оттоманские границы.
Мы, гимназисты последнего курса, конечно, не можем уследить за всеми этими подробностями, сделавшими русское выступление моральной необходимостью. Но мы все следили за русскими добровольцами в Сербии и сокрушались их неудачами, негодовали на медлительность держав, с возраставшим нетерпением ждали русского выступления. Достоевский, наш оракул, в своем «Дневнике писателя» еще поджигал наше настроение. Освобождение славян без спора признавалось специальной русской задачей, своего рода нравственной обязанностью по отношению к «братьям». Не разделяла этих настроений только левая часть русской общественности. Но ее голос до нас тогда не доходил. И я был обрадован и польщен, когда Долгоруков обратился ко мне с предложением – принять участие, после окончания экзаменов, в экспедиции на театр войны русского санитарного отряда, организуемого московским дворянством. Наша дружба с Долгоруковым и мое авторство письма к Достоевскому, вероятно, содействовали этому приглашению. Оба мы не хотели, однако, жертвовать университетом, и поэтому поставили условие, что мы остаемся в отряде только до окончания летних каникул. Это ограничение было принято, и мы присоединились к отряду со званием «уполномоченных». Мы не опоздали, так как отряд только что формировался.
К моему огорчению, наш отряд был направлен не в Болгарию, куда я мечтал попасть, а на второстепенный театр войны в Закавказье, притом вдалеке от военных действий, так что войны мы, собственно, не видали. Мы поместились на так называемом Сурамском перевале, откуда железная дорога с одной стороны спускалась в цветущую долину Риона и доходила до Поти, а с другой стороны шла к Тифлису. От ближайшей станции, Михайловки, ветвь железной дороги шла по р. Куре к Боржому, резиденции вел. кн. Михаила Николаевича, наместника Кавказа. Не буду описывать впечатлений, испытанных в пути: картины степи, еще тогда непочатой и девственной, и изумительных красот Военно-Грузинской дороги. Самый Сурам, где мы расположились, был захолустной деревней, расположенной у подножия древней крепости, Сурамис-цыхе, развалины которой очень меня привлекали.
Большой барский дом, единственная культурная постройка в деревне, был занят под помещение нашего главного начальства – графа Шереметева, предводителя дворянства, и его супруги. В этом же доме собирались к обеду и ужину высшие чины отряда, «главноуправляющие»; мы с Долгоруковым также имели там место. Остальные члены отряда, доктора, фельдшера и т. д. занимали менее приспособленные помещения в деревне, столовались особо и жили отдельной жизнью, что немало обижало некоторых из них. Нашим местом служения была маленькая хибарка туземного вида, почти против графского дома на другой стороне дороги, в узком переулке, кончавшемся отхожим местом, перед выходом на окраину деревни.
К нашему удивлению, мы призваны были, как оказалось, играть в этой хибарке весьма ответственную роль, которая, казалось, не подобала бы гимназистам. Хибарка была и канцелярией и конторой отряда. Почему так случилось, скажу дальше. Мы с Долгоруковым поделили наши функции так. Я изображал из себя казначея, сидел целый день за кассой, выплачивал расходы, вел счета (о, эти ужасные счета!) и составлял денежный отчет, мое главное несчастие: концы с концами свести было ужасно трудно, а о бухгалтерии я не имел никакого понятия. Долгоруков, напротив, целый день бегал по поручениям. Нашим начальством был Драшусов – фамилия, когда-то переделанная, с разрешения Николая I, из фамилии французского эмигранта Suchard – путем перестановки букв наоборот. Но у себя в «конторе» я его никогда не видал и вел непривычное для меня дело за своей личной ответственностью. Эта ответственность очень меня удручала.
Помню такой случай: у нас распаялась машина для стирки белья. Местный всех дел мастер, еврей, пришел и запросил за поправку цену, которая мне показалась чрезмерной. Я нашел в деревне грузина, обещавшего взять за починку гораздо дешевле. Машина была починена, установлена на свое место и начала функционировать. Но, увы, при первых же оборотах оси она опять расклеилась. Я был страшно смущен, что ввел отряд в лишний расход: пришлось позвать еврея и дать ему просимую цену… Гораздо ответственнее была другая наша обязанность: следить за отпуском продовольствия на кухню. Каждый вечер являлся ко мне специально приставленный к этому делу человек со списком всего, что надо было купить на завтра. Я о съестных припасах и ценах никакого понятия не имел, но должен был делать вид эксперта. Человек, как говорили, был плутоватый – и очень на этих покупках зарабатывал, стакнувшись с поставщиками. Мы с Долгоруковым решили, наконец, при самой сдаче на кухне, проверить количество купленного. На заре мы встали и нагрянули на кухню, велели вынуть из котла мясо, только что разрезанное на куски и туда погруженное, взвесить остальные продукты… Все совпадало точно с цифрами, разрешенными накануне по счету. Мы были посрамлены, наш враг посмеивался, а никаких более тонких средств проверки у нас не было, хотя систематическое надувательство, в общем, было несомненно.
Почему все это так выходило? Почему на нас – и, в частности, на меня легла такая непосильная ответственность? Пришлось признать, в конце концов, что это вышло потому, что никто другой черного дела в отряде делать не хотел.
«На верху» происходило то же самое. Собственно, всем делом отряда заведывала и трудилась за всех супруга предводителя, Наталия Афанасьевна Шереметева. Начиная с хлопот об устройстве привозимых к нам раненых и кончая последними мелочами санитарии, она во все входила сама. Мы ее за это очень уважали, – чего не могли бы сказать о других. В отряде значились два «главноуполномоченных», носящие громкие фамилии. Один был Николай Алексеевич Хомяков, сын знаменитого вождя славянофилов и будущий председатель Третьей Думы. Другой – тоже носил крупное славянофильское имя: Киреевский. Но Николай Алексеевич большую часть дня проводил на диване, спасаясь от несусветной местной жары. Во «дворце» он ограничивался ленивым остроумием, которое я потом узнал в председателе Думы. О Киреевском и того сказать не могу. Я не знаю, что он делал. Мой ближайший начальник Драшусов был человек живой и очень милый. С ним у меня завязались кое-какие отношения, но отнюдь не деловые. Я взял с собой на Кавказ две книги Шиллера: «Трилогию Валленштейна» и «Дон-Карлоса». «Дон-Карлос» ему особенно не понравился. «Поль, – говорил он (он называл меня шутливо: «Поль»), – как вам не совестно было родиться в 1859 году?» Я долго не понимал, почему это совестно. Позднее сообразил, что в 1859 г. был сделан первый приступ к крестьянскому освобождению. Вместо Шиллера он посоветовал мне читать гораздо более современную книгу: «Россию и Европу» Данилевского.
Я не знал тогда, что это – «Библия» славянофильства. Но взял и начал читать. Книга оказалась для меня довольно трудной, и первое знакомство с ней вышло довольно приблизительным. Основной политической тенденции книги я тогда не усвоил. Но меня заинтересовали в ней две вещи. Во-первых, естественно-исторический подход к славянофильству. Во-вторых, крайнее сужение понятий славянства до православных славян, с устранением католических. Я заинтересовался теорией культурных типов и ее естественно-историческим обоснованием. Но никак не мог примирить этого подхода с всемирно-исторической миссией славянофильства. Однако беседовать на эти темы с Драшусовым оказалось невозможно. Он удостоил меня своего доверия и поверял мне свои нежные чувства к одной очень милой барышне инфирмьерке, на которой, кажется, в отряде же и женился.
Единственным общим занятием нашего «верха» была верховая езда, в которой и меня приглашали участвовать. Я был в большом смущении. С казачьего седла я впервые пересел на кавалерийское. Подо мною оказался иноходец, и его рысь мне очень понравилась. Но когда компания пускалась в галоп, а мой иноходец следовал за нею вскачь, то для меня наступало тяжелое испытание. Упираясь в стремена, я подскакивал на седле с ежеминутной опасностью вылететь. Все это кончилось для меня довольно плачевно: как-то на повороте дороги на лошадь бросилась собака; лошадь отшатнулась круто в одну сторону, а я вылетел из седла в обратную – и порядочно расшибся на каменистом шоссе. После этого меня уже с собою не приглашали.
Но я заполнял свои досуги от конторских занятий другими способами. Против «дворца» и около моей «конторы» находился просторный грузинский «духан», совершенно пустынный со времени нахождения нашего отряда в Сураме. В духане стоял бильярд, на котором я научился играть в пять шаров при участии молодого духанщика Колы, который каждое утро приносил мне мой утренний чай или кофе, не помню. Но Кола знал по-русски только несколько слов, и нам приходилось объясняться жестами. Тогда мне пришла мысль учиться по-грузински. Кола был совершенно невинен по части грамматики, но со смелостью немецких путешественников в глубокой Сибири я решил сам ее составить на пользу науки. До сих пор помню толстую книгу конторского типа, в которой я записывал свои русско-грузинские грамматические упражнения. Номер какой-то грузинской газеты (кажется, «Дроэба») послужил опорной точкой моих успехов. При помощи Колы я составил для себя грузинский алфавит, выучил его и начал читать, к удивлению духанщика, понятные ему слова. Но оставалась задача Шамполиона – перевести эти слова по-русски. Я задался целью – составить теперь грузинское склонение и спряжение – и мучил своего приятеля, вымогая у него падежи существительных и времена глаголов. Список склонения и спряжения я таки составил; но дальше его мой немудрый учитель идти не мог; никакого словаря у меня не было, и дело изучения грузинского языка своими силами на этом остановилось.
К этому времени, впрочем, у меня нашлось другое занятие. Еще по дороге на Кавказ я познакомился с симпатичным студентом-фельдшером Яблоковым (я ехал в одном вагоне с низшим персоналом). Мы с ним продолжали знакомство и в отряде, отводя душу в откровенных разговорах. Он мне где-то достал скрипку и ноты. В их фельдшерском помещении, в просторном, но не меблированном доме на противоположном конце деревни, когда половина отряда работала в палатках для раненых, а другая спала мертвым сном, я разыгрывал – отчасти по нотам, а больше по памяти, – свои любимые мелодии, не боясь, что меня кто-нибудь услышит.
Было еще занятие, которое могло бы быть интересным, но вышло самым мучительным из всех. От времени до времени меня посылали в Тифлис доставать очередной запас денег из банка. Конечно, это вызывалось не столько моим знакомством с банковскими операциями, сколько общим нежеланием показать нос на улицу в июльскую и августовскую жару. Осмотреть Тифлис во время этих поездок я никак не мог, так как с ближайшим поездом должен был возвращаться. А служебные часы банка как раз приходились на самое жаркое время дня, когда раскаленные камни улиц обдавали жаром, как из печки, и обыватели закрывали плотно окна и ставни, чтобы как-нибудь спастись от невыносимой жары. Жизнь начиналась только к вечеру. Я узнал Тифлис, только гораздо позже.
Другая половина отряда, доктора и санитары, обиженные иерархическим духом «дворца», избегали сношений с «верхами», и нас обоих от «дворца» не выделяли. Сколько я мог наблюдать, эта часть работы отряда велась в образцовом порядке, и постановка лечения в отряде московского дворянства вызывала невольное признание – и зависть – со стороны ближайших к нам казенных госпиталей. У нас всегда были налицо и медикаменты, и перевязочные средства, которых у них не хватало, – и к нам стали посылать самых тяжелых больных и раненых – не без задней мысли, что статистика покажет у нас наибольшее количество смертных случаев. Мне пришлось участвовать в разгрузке вагонов с ранеными, присланными после боев под Зивином (это была вторая большая присылка), видеть, в каком ужасном виде они к нам доставлялись, и радоваться той обстановке чистоты и спокойствия, в которую они у нас попадали. Я не упускал случая ходить по палаткам и беседовать с ранеными, читать письма от родных и писать их ответы. Особенно мы сблизились с офицерской палаткой, где настроение было критическое по отношению к ведению войны (Зивин был как раз нашей большой неудачей) – и офицеры этого не скрывали. Помню, как, при посещении великого князя, один из них, черный кавказец, заговорил с посетителем совсем неуважительным тоном: он был тяжело ранен, и терять ему было нечего. Это было воспринято как большой скандал, и сцену постарались поскорее прекратить. На этом основании и наши беседы с офицерами отнюдь не поощрялись со стороны «Дворца», с солдатами говорить было безопаснее. Помню наши долгие беседы с казаком-пластуном, в которых ярко обрисовывался быт донского казачества, и его рассказы – конечно, не без примеси хвастовства – о военных подвигах пластунского отряда.
Наступила осень. Война на Кавказе явно затягивалась. Решение «Дворца» склонялось к тому, чтобы перевести отряд на зиму в Тифлис. Наши «главноуправляющие» спешили воспользоваться остатком времени для экскурсий, более или менее отдаленных, по Закавказью и надолго исчезали из отряда, где им, в сущности, нечего было делать. Благовидным предлогом было приблизиться к театру военных действий и проверить на месте доходившие до нас неприятные слухи.
Я тоже воспользовался этим настроением – и добыл себе отпуск. Молодой офицер – остзейский немец Эргарт – предложил мне быть его попутчиком в поездке к турецкой границе, и я охотно ухватился за это предложение. Я кое-как справлялся с немецким разговором, а мой веселый спутник был рад говорить со мной на родном языке. По дороге он учил меня немецким песням и с особенным воодушевлением распевал Wacht am Rhein («Стража на Рейне»). Германский гимн мне очень понравился своим твердым, уверенным тоном:
- Es braust ein Ruf, wie Donnerhall,
- Wie Schwertgeklirr und Wogenprall[4]
Так и слышится мне голос Эргарта:
- Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein,
- Wer will des Stromes Hueter sein![5]
Политический смысл этих восторгов мне был тогда непонятен. Мы поехали вверх по Куре, мимо великокняжеских имений Боржома и Ахалцыха; доехали до Ахалкалаки; оттуда повернули к близкой турецкой границе у Абас-Тумана, с его знаменитыми минеральными водами.
После Военно-Грузинской дороги меня эти горные виды поразить не могли; но я обратил внимание на высоты, кажущиеся неприступными, на которых были расположены русские крепости, унаследовавшие эти места от старинных горных гнезд, откуда турецкие беги командовали населением. В Абас-Тумане, где потом лечился и умер от чахотки наследник престола Георгий, младший брат Николая II, мы взяли ванны; но какое же жалкое было тогда устройство этого курорта! Зато мы были вознаграждены тем, что в нашу честь на следующий день была устроена охота на горных баранов. Эту форму охоты – облаву – я тогда видел впервые. До рассвета мы должны были взобраться на горный хребет, под которым, в глубоком овраге, водились эти грациозные животные.
Но взобрались мы туда, когда уже солнце сияло над горизонтом. Мне дали ружье и поставили на номере, куда, по наибольшей вероятности, должен был выйти баран. Снизу уже была запущена свора собак; их отрывистое тявканье в глубине оврага доказывало, что они уже гнались по найденному следу за зверем. Я стоял в напряженном ожидании, боясь не прозевать момента, и держал ружье наготове. Тявканье как будто приближалось. Вот зашевелились передо мной ветки кустарника, откуда должен был выскочить баран. Я прицелился, но, по счастью, не успел выстрелить. Передо мною выбежала из-под кустов… собака. За ней другая, третья – и вся стая, поднявшаяся по нашей же тропинке. Охота была сорвана… Однако же баран вышел на другой номер и был застрелен. Когда охотники собрались, я увидел наш трофей. Двое туземцев несли его на перекладине, ногами вверх; голова с высунутым языком болталась внизу. Я был доволен, что это сделал не я. Наше путешествие на этом эпизоде и закончилось.
Наступала осень – и время для нас с Долгоруковым вернуться к началу университетских занятий. Возвращение в Москву ознаменовалось для меня одним эпизодом, твердо оставшимся в памяти. Военно-Грузинская дорога уже не представляла тех величественных красот, какие развернулись перед нами весною. Время было ненастное; на перевальных станциях бушевали снежные бури и было очень холодно. У меня теплого платья не было; пришлось накрутить на себя плед по-студенчески и голову прикрыть легкой кепкой. В таком пролетарском виде я с нашей компанией ввалился в зал для проезжих, чтобы обогреться и позавтракать. За другими столами уже сидела публика. А вслед за нами вошел какой-то офицер со своим сопровождением. Едва расположившись, он громко заметил, что некоторые невежи позволяют себе сидеть в шапке. Я понял, что дело идет обо мне, но не подал вида, что это меня касается. Тогда офицер вскочил с места и, обращаясь прямо ко мне, закричал: как смею я, не зная, кто он, в его присутствии не снимать шапки. И он двинулся ко мне, как бы желая сорвать с меня кепку. Тогда и я вскочил, схватил свой ветхий стул за спинку и, потрясая им, закричал в ответ не своим голосом, что он тоже не знает, кто я, и не смеет ко мне обращаться с такими требованиями. В условиях военного времени схватка с офицером, да еще какого-то высокого положения, грозила кончиться весьма плохо. Но мне на выручку подоспели Долгоруков и другие наши спутники, а офицера оттащили и увели из комнаты его товарищи. Я тогда снял кепку и извинился перед присутствующими за свою забывчивость.
Это было своего рода мое гражданское крещенье.
Начинался новый этап моей жизни.
Часть третья
Студенческие годы
(1877–1882)
1. Первые два года
Мы вернулись с Кавказа, когда занятия в университете уже начались, и прежде всего повидали гимназических товарищей, которые уже перешагнули порог священных врат познания. Увы, их первые впечатления уже успели их несколько расхолодить. Шамонин с сокрушением говорил о казенной постановке классического преподавания, которое на первых порах нас особенно интересовало. Профессор Иванов читал Марциала и смаковал описания римских вин, уподобляя их современным. Этого рода гастрономия нам совсем не понравилась, и самый профессор, казалось нам, смахивал на какого-то приказного старых времен. Это было, конечно, несправедливо; но оно характеризовало смену наших настроений. Для меня это был холодный душ, который сразу отбил у меня интерес продолжать свою гимназическую линию увлечения классиками. Зато внимание мое обратилось к тому новому, с чем мы встретились на первом же курсе филологического факультета. Вместо «филологии» – старый термин Вольфа – здесь мы услышали о новой науке, «лингвистике» и «сравнительном языкознании». Ей предшествовала репутация «самой точной из наук после математики». В это, при тогдашнем увлечении «точными» науками, хотелось верить; этим как бы оправдывалось самое наше вступление на филологический, а не на естественный факультет. Преподавал тогда сравнительное языковедение Филипп Федорович Фортунатов, знаменитость, привлекавшая учеников из-за границы.
Я очень добросовестно записал за ним его курс литовской фонетики: литовский язык тогда был признан древнейшим из сохранившихся и перенял эту славу у санскрита. Вместе с этим последним он открывал древнейшую страницу культурной истории индоевропейской семьи народов.
Сопоставление звуков речи и их перемен вводило в историю языка, то есть орудия, которым человек пользовался с тех пор, как стал человеком. История звуков, которую своим глухим голосом нам раскрывал Фортунатов, была, конечно, очень поучительна; но она утомляла, и слушатель спешил перейти к живым выводам: от Боппа к Гейгеру, а немного позднее – к Шрадеру. А тут, рядом, нас вводил в тайны примитивного человечества молодой и живой преподаватель Всеволод Миллер. Мы слушали у него санскритский язык, переводили «Наля и Дамаянти» и дошли даже до гимнов Ригведы. Но комментарий к последним расширял и углублял исторические горизонты при помощи фольклора, преданий, легенд, мифов народной словесности. Миллер был жестоким противником «солнечной» теории происхождения мифов, которую широко применял русский собиратель и толкователь фольклора Афанасьев.
Это было новым этапом в истории науки, и мы с увлечением пошли по указанной тропе. Помню, я написал у Миллера большой доклад о роли огня в развитии понятий о загробной жизни у примитивных народов – и уже считал себя оригинальным исследователем. Все это страшно увлекало и, несомненно, положило основу для моих позднейших занятий пре-историей.
Проф. Троицкий читал на первом курсе историю греческой философии. После моего Швеглера и аристотелевской «Метафизики» это было для меня уже не ново. Но лекции Троицкого дали мне возможность понять и усвоить многое, остававшееся в тумане. У него был талант ясного изложения сложных вещей; он разжевывал предмет для самых неподготовленных. Правда, эта простота достигалась подчас за счет глубины мысли. У Троицкого была привычка трактовать греческих философов как-то свысока, точно он говорил: смотрите, какие глупости они проповедовали. При этом он с сожалением разводил руками и подчеркивал интонациями голоса превосходство собственной мысли. Студенты мне поручили издание лекций Троицкого, и так как в моей записи за профессором упрощенное выходило часто чересчур уже элементарным, я решил обратиться к пособиям. Я достал двухтомного Целлера и к каждой лекции прочитывал соответствующую часть книги. При помощи Целлера я возвращал лекциям их серьезность, а иногда и подбавлял по Целлеру немножко деталей. Я показывал затем текст профессору. Думаю, что он его не читал; но никаких поправок он не делал и оставался доволен. Мне самому эта работа над лекциями принесла большую пользу. Между прочим, у меня укрепился в мысли – не новый, конечно, – параллелизм между ролью Сократа на повороте от метафизики к критическому методу «самопознания» и эволюцией новой философии. Его gnoti seauton – «познай самого себя» – так наглядно соответствовало роли Канта на таком же повороте к философии нашего времени. В теоретико-познавательной школе я усмотрел выход из своих колебаний между научным познанием и ощущением сверхчувственного мира. Критицизм проводил между тем и другим твердую и непроходимую границу – и я за нее ухватился. Я достал немецкий текст «Критики чистого разума» и с большим трудом принялся одолевать кантовские «паралогизмы» и «антиномии». Кант сам ссылался на своих предшественников – Юма, Локка. Я достал Локка; читать его было много легче. Критическая философия сделалась одной из границ моей мысли против потусторонних вторжений «сверхопытного» познания.
История меня заинтересовала в университете не сразу. Профессором всеобщей истории был В. И. Герье, уже тогда не молодой. Самая его внешность не располагала в его пользу. Сухой и длинный, с вытянутым строением нижней части лица, производившей впечатление лошадиной челюсти, с пергаментной, морщинистой кожей, всегда застегнутый на все пуговицы, с неподвижным, каким-то стеклянным выражением глаз, с тонкими губами, иногда растягивавшимися в пренебрежительно-насмешливую улыбку, он как будто боялся уронить свое достоинство и отделял себя от слушателей неприступной чертой. Первая же встреча с ним в аудитории сразу оставила резко отрицательное впечатление. Он точно задался целью прежде всего унизить нас, доказав нам самим, что мы дураки и невежды. Совсем по-гимназически он задал всей аудитории вопрос: сколько было членов в римском сенате? Водворилось молчание.
Он пожевал губами и задал еще такого же рода вопрос. Доказав нам, что мы не знаем азбуки, он задал урок: к следующему разу прочесть такую-то главу Тита Ливия и из нее выписать: сколько раз упоминается слово plebs и сколько раз слово populus. Таков был приступ к семинарию по римской истории. Лекции Герье состояли из подробного конспекта взглядов Нибура, Рубино, Ланге на древнейший период римской истории. Я как раз читал Ланге и, сравнивая лекции с книгой, убедился, до какой степени добросовестно, но и бесталанно переданы все подробности содержания книги.
На дальнейших курсах Герье перешел к истории французской революции по Тэну, с определенной целью внушить нам его отрицательный взгляд. Когда он замечал отклонение (я читал потихоньку Мишле, запрещенное тогда в России сочинение), профессор начинал издеваться над жертвой. Я писал ему сочинение о Токвилле, – и тоже испытал его скрытый гнев. Вообще, он боялся, чтобы кто-нибудь не узнал того, чего он не рекомендовал – и не знает. В последнем многие из нас убедились, когда, уже будучи оставлены при университете, готовились к магистерскому экзамену. Помню случай, произошедший с одним из магистрантов. У него была тема об итальянском Возрождении, и он пришел к Герье на дом – посоветоваться о книгах. Профессор отличался отсутствием памяти и слабостью сведений по части библиографии. Он забыл имя автора книги, которую собирался рекомендовать. «Этот – ну, как его», – имя не подвертывалось. Тогда Герье начал чертить пальцем по воздуху, вставши в то же время со стула и удаляясь к двери кабинета, за которой и скрылся. Впоследствии Герье написал, с научной добросовестностью, злобный памфлет по поводу речей ораторов в Первой Государственной Думе. Тема была благодарная: сколько глупостей было там наговорено! И мне вспомнилась профессорская критика Тэна… Должен все-таки оговориться. Выбор семинарских занятий по «Contrat Social» («Общественный договор») Руссо, по книге Токвилля, по Тэну, по книге Benlé об Августе оказали несомненное влияние на нас, научили объективизму в трактовании истории и застраховали от радикального догматизма.
По русской истории заканчивал свою профессорскую карьеру С. М. Соловьев, читавший для старших курсов. Я раз пошел на его лекцию. Профессор импровизировал, очень обобщая факты. Он говорил утомленным голосом о «жидком элементе» в русской истории. В который раз приходилось ему выжимать смысл из 28 томов его «Истории»! Но «жидкие элементы» проходили отвлеченными призраками и внимания слушателей не задерживали. В следующем году Соловьев умер. Заместителем его кафедры явился, по старинной привычке, его зять, Нил Ал. Попов. Преподавание в университете было его синекурой, чего он, в сущности, и не скрывал. Помню, читал он нам о крестьянском освобождении. Посещали его лекции студенты по очереди, по наряду. Но надо было все-таки иметь материал для экзамена. Я пришел, в свою очередь, на лекцию с книгой Иванюкова и, к своему удивлению, заметил, что лекция целиком списана с этой книги. Я стал следить, заметил, что пропущено «отсюда и досюда», начал отмечать. Мы решили, что составлять лекцию не к чему; надо только знать, откуда что взято. Затем мы еще упростили технику подготовки. Перед экзаменом товарищи меня посылали к профессору, которого я просил дать свои записки для исправления наших лекций. Получив тетрадь, мы ее делили на части по числу слушателей, и каждый избирал себе «специальность», готовясь по тому же оригиналу профессорских записок. На экзамене профессор, отлично видевший наш трюк, спрашивал каждого: «У вас о чем?» Тот говорил, «о чем», и отвечал по своей части записок. После экзамена записки складывались и с благодарностью возвращались профессору. А на выпускном экзамене мы так обнаглели, что растеряли части записок, и я не мог вовсе вернуть ему его рукописи (списанной, очевидно, с книг переписчицей). Он о ней и не спрашивал. Мы подводили его пребывание в университете под формулу: «живи и жить давай другим». Благодушный вид и полная фигура профессора совершенно соответствовали смыслу этого стиха Жуковского.
По счастью, этим не ограничилось то, что дал нам университет по всеобщей и русской истории. На той и другой кафедре появились настоящие светила учености и таланта: молодой доцент П. Г. Виноградов, только что приехавший из-за границы с репутацией представителя нового взгляда на историю и нового исторического метода, и В. О. Ключевский, затмивший всех остальных блеском своих лекций и глубиной перестройки всего схематизма русской истории. С обоими я был одно время очень близок и обоим многим обязан. Я не хочу останавливаться на их характеристике здесь, так как и преподавательская деятельность их, и мое сближение с ними относится уже ко второй половине моего пребывания в университете.
2. Семейные дела. «Кондиции» и моя «Философия»
Апогей нашего семейного благосостояния закончился в арбузовском доме. Дела отца расстроились, – я не мог знать, почему, – и поместительную квартиру в Староконюшенном переулке пришлось оставить. Мы переехали к Чистым Прудам, где зимой можно было кататься на коньках, а летом скрываться от жары на тенистом бульваре. Брат не жил с нами, а у меня была маленькая комната в задней части квартиры, достаточная для моей кровати, стола и маленькой моей библиотеки. Ввиду нашего обеднения я уже в конце гимназического курса стал давать частные уроки; но мои маленькие доходы шли на покупку книг. Так прошел первый год университета. Во второй год произошло событие, резко изменившее все наше семейное положение. Я уже с некоторого времени замечал, что работа становится для отца непосильной. По вечерам я замечал, что он засыпает над бумагами, не выдерживая напряжения. Никаких медицинских мер он не принимал. И зимой 1878–1879 г. произошла катастрофа. Рано утром прислуга пришла мне сказать, что с отцом неладно. Войдя в его кабинет-спальню, соседнюю с моей, я увидел, что отец лежит на постели, раскинув руки, в неестественном положении и странно храпит. Ясно было сразу, что это не сон, а бессознательное состояние, вызванное кровоизлиянием в мозг. Приехавший доктор подтвердил это предположение и принял немедленно меры, чтобы привести отца в сознание. Минутами казалось, что это почти достигнуто: как будто есть движение век… но медицинские меры только продлили агонию на сутки. Отец умер – не старым, – если не ошибаюсь, 59 лет от роду. Я себе, по наследственности, назначал тот же срок жизни.
Ни на мать, ни на меня эта смерть не произвела сильного впечатления: так мы были далеки от отца – или он от нас. Семья осталась без всяких средств, и нужно было что-нибудь придумывать.
Прежде всего мать пригласила жильцов и сдала опустевшую комнату отца. Нашими постояльцами на эту зиму оказались два студента-медика, Шарый и Гиммельфарб, представлявшие два разные типа русского социализма. Шарый, по внешности добродушный хохол, был непримиримым украинским националистом и народником. Гиммельфарб, социал-демократ en germe (в зародыше), представлял тип митингового оратора. Бойкий на язык, уверенный в себе и в непререкаемой истине своего катехизиса, ничем не смущавшийся. У нас на филологическом факультете таких типов не было: это были естественники, будущие доктора. Познакомиться с ними для меня было очень полезно.
Наступала весна. Держать за собой квартиру было явно невозможно. Прежде всего надо было озаботиться относительно средств существования на лето. У меня были уже довольно доходные уроки, и я мог до весны помогать матери и брату. Но летом эти уроки прекращались. У матери открывался свой доход – от сдачи наших дач; кроме главной дачи и «теплушки» с кухней при ней была построена, специально для сдачи внаем, еще третья дача в Пушкине. Но надо было содержать брата, который еще не кончил училища, и жить самому. Я решил поехать на лето на «кондиции», как тогда говорили, и взял первую попавшуюся. Это был мой первый выход «в люди», – не совсем удачный, как оказалось.
Я очутился в большом барском имении княгини Долгорукой (отличать от линии Долгоруковых, к которой принадлежал мой друг). Престарелая владелица имения была вдовой кн. Василия Долгорукого, бывшего министром юстиции при Александре I. Она сохраняла все традиции и права кавалерственной дамы и у себя дома держала соответственный этикет. Если я не знал – и не понял этого сразу, то мог сделать вывод о моем собственном положении из того, что многочисленные слуги дома считали меня «своим», в отличие от господ. Я и это не сразу заметил, так как привык обращаться запросто со всеми. Кроме того, действительно, положение несколько маскировалось присутствием в имении семьи Левашевых, к которой я и был, собственно, приглашен в качестве учителя их сына, мальчика лет девяти, очень милого и мягкого по натуре. С ним мы быстро сдружились, и он очень привязался ко мне. Помимо уроков мы постоянно с ним гуляли – это уже не входило в мои обязанности – и вели самые разнообразные беседы. Его мать была тоже очень мила со мной; на меня производило впечатление, что она была несколько придавлена суровым характером мужа, военного, человека очень жестокого в обращении. Кроме меня в семье были две компаньонки-учительницы: дебелая француженка, приживалка по типу, и аккуратная немка, с которой мы часто играли в шахматы. Маленькую девочку, сестру моего ученика, тщательно оберегали от всякого соприкосновения со мной; это, очевидно, входило в этикет дома.
Все шло, таким образом, благополучно – до одного случая. Обедали и пили чай Левашевы и я наверху, в апартаментах княгини. Там этикет выдерживался особенно строго. По утрам туда привозили со станции московские газеты. Долго не думая, я как-то за чаем взял и развернул одну из газет. Княгиня вскипела, вырвала у меня листок и закричала, что никто не имеет права трогать газеты раньше нее. Я промолчал, допил свою чашку, встал и ушел. В нижнем этаже мне была отведена большая проходная комната, которая считалась моею. Я не только отказался вернуться наверх, но заявил, что впредь уроки, так же как и мой завтрак и обед, должны быть перенесены ко мне вниз, иначе я немедленно уезжаю. Княгиня должна была переломить свой гнев, – вероятно, не без участия Левашевых; мои уроки и прогулки с мальчиком продолжались до конца сезона. Мать мальчика и компаньонки, ко мне благоволившие, рассчитывали, что наши занятия будут продолжаться и в Москве. Но тут, очевидно, княгиня настояла на своем, и после переезда семьи (я уехал вперед) мне был объявлен «расчет». Надо сказать, что вопреки пышному tenue (этикет) фамилии он выразился в очень скромной цифре. Я не протестовал, но помочь своим из этих денег не мог, и главная цель моей первой и единственной «кондиции» не осуществилась.
Я, однако, никак не могу пожаловаться на проведенное лето 1879 года. Не говоря уже о дружеских отношениях с мальчиком, который лет двадцать спустя отыскал меня и пришел, в военной форме, благодарить за прошлое, – я воспользовался досугами, чтобы привести в порядок свои мысли на главную интересовавшую меня тему. Я написал там целую тетрадь, посвященную моей собственной конструкции исторического процесса, и считал свои выводы важным и оригинальным шагом вперед в «философии истории». Во всяком случае, это был важный шаг в развитии моего собственного взгляда на историю человеческой культуры. Теперь, задним числом, я вижу, что это был вывод из всех предыдущих размышлений, изложенных кусками, с их внутренними противоречиями, в предыдущих частях этих воспоминаний. К сожалению, и эта тетрадь потеряна.
Я должен здесь вернуться к последнему из впечатлений, не изложенному выше, которое дало толчок к созданию моей собственной конструкции. Это было за год перед тем, летом 1878 года. Я уже говорил о моих посещениях семьи Вс. Ф. Миллера и его друзей.
Из них самым выдающимся и знаменитым был Максим Максимович Ковалевский, сдружившийся с Миллером на их общей работе над кавказским материалом, собранным, главным образом, среди осетин. На долю Миллера здесь выпала часть лингвистическая, на долю M. M. Ковалевского – часть социологическая. У M. M. Ковалевского была огромная библиотека, и когда проф. Виноградов рекомендовал нам на лето книги для чтения по средневековой истории, я обратился за этими книгами к Ковалевскому. Он снял с полок том Waitz’a и книгу Sohm’a, a потом спросил: «А читали ли вы Огюста Конта?» Я ответил, что знаю Конта только по изложениям и охотно познакомился бы с оригиналом «Позитивной философии». Он тогда вручил мне толстый третий том «Курса», в котором Конт переходит от математической и натуралистической части к исторической и развивает свое учение о трех стадиях всемирной истории, теологической, метафизической и позитивной. Добросовестность требует признать, что Вайц и Зом так и остались у меня нечитанными, но в Конта я вцепился и не только прочел весь толстый том, но и подробно сконспектировал интересовавшую меня часть. Этот конспект я и взял с собой на «кондицию» вместе с несколькими другими книгами, нужными для изложения своей теории.
Едва ли я усвоил себе на Кавказе книгу Данилевского, чтобы опираться на нее, но при всем моем преклонении перед Контом мое основное возражение против него совпало с позицией Данилевского, и в последнем издании «Очерков» я признал это. Я принял прохождение истории через три стадии за доказанное, но каждой национальной истории, а не истории всего человечества.
Другими словами, у меня каждый отдельный национальный организм (я ввел в свою теорию и понятие «организма») проходил в своем развитии все три стадии. Не помню, прочел ли я уже тогда (по книге Стасюлевича) изложение теории Вико с его тремя стадиями – богов, героев и людей – деление, так напоминающее основную идею трилогии Вагнера. Но этот же смысл тройного деления я положил в основу своей теории. Только тогда, во-первых, становилось возможным сравнение историй нескольких национальных организмов и, следовательно, выведение из этого сравнения общего социологического закона. Теория Конта, суженная до этих пределов, допускала научное обоснование. Во-вторых, однако, надо было допустить, вопреки общепринятой теории бесконечно поднимающегося вверх прогресса, понятия чередования наций: начало, середину и конец истории каждой из них. Всемирно-историческая точка зрения, как недоказуемая, отодвигалась при этом на второй план и отходила в «теологический» период науки.
Не в этом, однако, состояло то, что я считал оригинальным в своей теории. Тогда ведь бредили точными науками, предпочитая естественные науки гуманитарным. Я упоминал, что даже лингвистику хотели возвеличить, переводя ее из второго отдела в первый. И я стал искать для теории трех стадий естественно-научного обоснования. Я находил его в смене не только идеологий, но самых человеческих типов в процессе их развития. Ходячая терминология говорила же о детстве, зрелости и старости народов. Я хотел обосновать эти стадии картиной физиологической и психологической смены человеческого организма. Мне помог тут Рибо, книги которого я взял с собой. Человеческая психика представлялась ему в виде тройного спектра воли, чувства и мыслей, – всегда единого, но с преобладанием той или другой части спектра. Если можно было отсюда перейти к объяснению разных темпераментов у людей, то отчего не объяснить тем же преобладанием то того, то другого психологического элемента разные стадии исторического процесса? И я решил, что психология дикаря должна отличаться стадией преобладания воли, вследствие немедленной передачи ощущений вазочувствительного нерва в вазомоторный. Рефлекс должен был быть немедленный: отсюда отсутствие влияния задерживающего центра в психологии дикаря. Затем, по моей схеме, наступал период, когда реакция воли задерживалась окраской чувства: этого рода психологию я находил соответствующей среднему веку, – преобладания чувства, через который проходил каждый народ. Наконец, максимум влияния задерживающего центра, при ослаблении элемента воли и чувства, должен был выражаться в действии мысли, «убивающей действие», по Гамлету. Это период старости нации.
Затем я начинаю искать подтверждений в эволюции типов культуры, литературы, искусства у каждого народа. Древнейшую стадию преобладания двигательных центров и немедленной реакции вовне я находил в психологии действия, в фольклоре, в эпосе; вторую стадию изображал средневековый романтизм; третью – развитие науки и философии. На этом отделе работа остановилась – не только с окончанием моих вакационных досугов, но и потому, что для изложения этой последней части, особенно стадий искусства, я находил себя недостаточно подготовленным. И всю свою попытку социологической конструкции исторического процесса я решил оставить про себя, сознавая не только ее незаконченность, но и ее противоречие с общепринятыми представлениями.
Особенно это касалось учения о циклах, о corsi e ricorsi (вечный круговорот в истории человеческих обществ) Вико, которое в моей теории неизбежно противопоставлялось ходячей аксиоме бесконечного прогресса. Самая идея прогресса в моей концепции как-то стушевывалась, уступая место социологическому закону; с другой стороны, она оставляла совершенно в стороне объяснение филиации народных организмов во всемирно-историческом процессе. Самое понятие «всемирно-исторического» некуда было поместить, раз для каждого отдельного национального организма наступал конец, и другому организму надо было начинать весь процесс сначала. Все это меня чрезвычайно смущало, заставляло признавать пробелы в схеме и считать самую схему не окончательно доказанной. Затруднение еще увеличивалось тем, что мое увлечение Контом стало известно, и меня стали считать – иные, быть может, и до сих пор считают – присяжным «контистом». Название «позитивиста» подходило бы больше, так как у Конта я взял не столько его схему, сколько его научное направление. Я уже и тут внес оговорку, упомянув о моих занятиях «критической философией» и теоретико-познавательными вопросами. Но эта оговорка для большинства осталась незамеченной, тем более что в дальнейшем мне пришлось защищать позицию «позитивизма» против «метафизики». Но об этом придется говорить потом.
Так, не с пустыми руками я возвращался с своих «кондиций». Но, увы, возвращался с пустым карманом. Между тем надо было устраиваться на зиму. Мать сдала удачно дачи и, при небольшой помощи от меня, могла просуществовать до следующей весны. Но брат, кончавший Техническое училище, еще нуждался в поддержке. Решено было разделиться. Мать взяла комнату недалеко от покинутой квартиры, в номерах на Бронной, заселенных, обыкновенно, студентами. Мы с братом должны были поселиться вместе поблизости к Училищу. Мы нашли довольно просторную и недорогую квартиру в одном из переулков (или дворов дома) на Маросейке. Я сохранил свои прежние уроки и набрал новых, так что материальная основа существования всех нас была вполне обеспечена. Когда мой брат закончил учение в Училище и перебрался к своим друзьям, наше общежитие расстроилось. Я переехал к матери в номера на Малой Бронной.
3. Мои учителя истории
Только что сказанное выше о моей «философско-исторической» схеме уже показывает, что, несмотря на отрицательные впечатления первых двух лет, мой интерес начал сосредоточиваться на истории. Но какой истории? Слова «философия» я сам никогда не прилагал к истории, опасаясь, что под этим словом кроются пережитки «метафизической» эпохи. В этом смысле понятие истории скорее противополагалось понятию философии. Но и к понятию истории я не присоединял обычного представления о ее содержании. Наше поколение отбрасывало a limine (до конца) представление об истории, как повествовании о фактах. Гимназическое преподавание нас достаточно отучило считать генеалогии государей, даты их царствований, побед и поражений в войнах и т. д. за настоящую историю. Отвергая всякое научное значение истории повествовательной, как бы красиво она ни была изложена, мы ждали от истории чего-то другого, что приближало бы ее к экспериментальной науке.
Это требование, как мы уже знали относительно заграницы, удовлетворялось до известной степени переходом от истории событий к истории быта. Какого именно? Прежде всего наиболее доступного наблюдению и учету. Таким был быт экономический. «Экономический материализм» был в моде на Западе раньше и независимо от Маркса. Теоретические сочинения об этом и образцы научных работ до нас уже доходили (Лориа, Торольд Роджерс). Несколько позднее мы познакомились и с первым томом «Капитала» Маркса в переводе Бакунина и во французском сокращенном изложении Малона. Но понятие «экономического материализма» у нас не смешивалось с марксизмом. Во второй очереди после экономической истории стояла история учреждений. От молодого приват-доцента, только что вернувшегося из-за границы, мы ждали последних слов европейской исторической науки именно в этих, намеченных нами направлениях.
П. Г. Виноградов, может быть, не удовлетворял нас как теоретик. Но он импонировал нам своей серьезной работой над интересовавшими нас сторонами истории на основании архивного материала. А кроме того он сразу привлек нас к себе тем, что, в противоположность Герье, не отгораживался от нас и не снисходил к нам, не приходил в затруднение от наших вопросов, а, наоборот, вызывал их и трактовал нас, как таких же работников над историческим материалом, как и он сам. Он приехал с готовой работой о Лангобардах в Италии, составленной на месте по архивам и на деле показывавшей, чего можно от него ожидать. Я не помню точно последовательности его университетских курсов: была ли это Римская империя или начало Средних веков. Но еще важнее, чем его лекции, был его семинарий.
Только у Виноградова мы поняли, что значит настоящая научная работа, и до некоторой степени ей научились. Для сравнения с семинарием Герье приведу один пример. Проф. Герье, параллельно с преподаванием Виноградова, устроил свой семинарий по германским «Правдам», древнейшим памятникам средневекового законодательства. Он принес нам маленькую книжку избранных мест из «Правд», и мы должны были вместе с ним читать текст. Он приходил, не подготовившись, и мы этим пользовались. У меня в библиотеке оказался толстый том варварских «Правд» и папских декреталий; я мог сличать тексты и, по указаниям Виноградова, разбираться в трудных местах. На этих трудных местах я и ловил профессора. Когда он давал свой ходячий перевод, я предлагал свой вариант, более или менее правдоподобный. Герье терялся и не знал, как выйти из положения, – что нам и было нужно. С Виноградовым, конечно, не могло случиться ничего подобного, так как разночтения текста он знал, что называется, назубок. Но мы и не думали смущать Виноградова, сразу убедившись в глубине и солидности его знаний. Он мог задавать нам работы по первоисточникам, не боясь остаться позади нас, а, напротив, с удовольствием приветствуя всякие новые выводы. Помню свою работу, основанную на римской эпиграфике. Я тщательно проштудировал сборники надписей и пришел, по этому богатейшему первоисточнику, к определенным выводам на поставленные профессором вопросы. Выводы были для него так же новы, как для меня: это его не смутило, а, напротив, заинтересовало. Это был кусок настоящей научной работы. Так он ставил нас сразу на собственные ноги в избранной им области. И мы сами чувствовали, что растем, и не могли не испытывать величайшего удовлетворения, а к виновнику его – глубочайшей благодарности.
