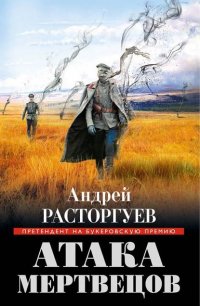
Читать онлайн Атака мертвецов бесплатно
- Все книги автора: Андрей Расторгуев
Я, ниже поименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом пред святым его Евангелием в том, что хочу и должен Его Императорскому Величеству, своему истинному и природному Всемилостивейшему Великому Государю Императору Николаю Александровичу, Самодержцу Всероссийскому и законному Его Императорскаго Величества Всероссийскаго Престола Наследнику, верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови, и все к Высокому Его Императорскаго Величества Самодержавству, силе и власти принадлежащия права и преимущества, узаконенныя и вперед узаконяемыя, по крайнему разумению, силе и возможности исполнять.
Его Императорскаго Величества Государства и земель Его врагов, телом и кровию, в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление и во всем стараться споспешествовать, что к Его Императорскаго Величества верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может.
Об ущербе же Его Величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать потщуся и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, а предоставленным надо мною начальникам во всем, что к пользе и службе Государства касаться будет, надлежащим образом чинить послушание и все по совести своей исправлять и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды против службы и присяги не поступать, от команды и знамя, где принадлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться; но за оным, пока жив, следовать буду и во всем так себя вести и поступать, как честному, верному, послушному, храброму и расторопному солдату надлежит. В чем да поможет мне Господь Бог Всемогущий.
В заключение же сей моей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь.
(Воинская присяга на верность службы Царю и Отечеству)
Глава 1. Война!
Ранним утром второго августа[1], когда Буторов еще крепко спал в своей комнате в родном имении, наслаждаясь безмятежностью прохладного ветерка, лениво шевелившего тяжелые портьеры на открытых настежь окнах, к нему бесцеремонно ворвался Прохор, матушкин управляющий.
– Барин! Николай Владимирыч! – заполошно закричал он с порога, не удосужившись даже постучать, что совершенно не было похоже на всегда предупредительно вежливого и спокойного старика. – Идите сейчас же вниз. Там со станции нарочный прискакал, вас требует. У него телехрамма срочная. Вам адресованная…
Не тратя времени на одевание, Буторов, как был в пижаме, сунул ноги в тапочки и быстро направился к лестнице.
– Да куды ж вы раздетый? – Прохор подхватил халат и накинул барину на плечи. На ходу Николай надел его в рукава, запахнулся и завязал пояс.
Сердце учащенно билось. Нет сомнений – что-то произошло.
В гостиной маменька. Во взгляде тревога.
– Сережа… – только и смогла сказать, поведя рукой в сторону посыльного.
Пожилой дядька скромно топтался у дверей и мял в руках картуз. Стеснялся, наверно, своей запыленной одежды. Шутка ли, восемнадцать верст проскакать от станции до хутора.
Мужик покряхтел, прочищая горло.
– Здравия желаю, барин. Имею поручение от почтмейстера передать лично в руки господину Буторову Николаю Владимировичу срочную телеграмму.
– Я Буторов. Где телеграмма?
Достав из картуза сложенный вчетверо листок, посыльный протянул его Николаю.
Тот взял, нетерпеливо развернул, пробежал глазами…
В телеграмме говорилось, что Главное управление Красного Креста вызывает его в Петербург по мобилизации. Еще полтора года назад Николая включили в списки предполагавшихся на случай войны уполномоченных Передовых отрядов для помощи раненым. И вот этот день настал.
Война.
Ее давно ждали.
К ней готовились, прекрасно понимая, что австро-сербский нарыв, особенно быстро начавший нагнивать после убийства эрцгерцога Фердинанда, вот-вот лопнет. Европа замерла в ожидании, еще лелея надежду, что ее не зальет людской кровью, но… Непримиримость австрийской короны, превратившей смерть своего принца в повод для развязывания военного конфликта, свела эти надежды на нет. Всю ответственность за убийство бедного Франца, ставшего разменной фигурой в большой политической игре, Австрия возложила на Сербию, предъявив ей ультиматум с требованиями, оскорбляющими национальное достоинство сербов.
Это не на шутку всполошило Россию, заставив сопереживать родному по крови народу. С одной стороны, возмущало нанесенное австрийцами оскорбление. С другой – была боязнь, что Государь всея Руси, славный своим безграничным миролюбием, останется в стороне, отдав братскую державу врагам на растерзание.
Долгожданный ответ Сербии восприняли в России с восторгом. Люди, не скрывая слез умиления, читали о том, что сербы ни в коем разе не причастны к убийству и все же, несмотря на это, готовы исполнить требования ультиматума. Разумеется, лишь те из них, которые не затронут ее суверенитета. В то время казалось, что тучи, сгустившиеся над маленькой славянской страной, непременно должны рассеяться. Но Австрия не уступала, продолжая настаивать на публичном унижении сербов, заручившись поддержкой бряцающей оружием Германии. С таким союзником за плечами она вполне могла пойти на крайние меры. И пошла, начав бомбить Белград.
Российская общественность заволновалась. Все как один хотели помочь маленькому государству. Протянуть руку помощи братской стране, защитив ее от произвола. Но что предпримет Государь? Думает ли он так же, как его верноподданные, или позволит сербам в одиночку отбиваться от хищного, охочего до крови зверя?
И вот в пятницу 31 июля 1914 года был опубликован Приказ о всеобщей мобилизации. У россиян это вызвало настоящую бурю восторга.
Перед Зимним дворцом и на площади перед Казанским собором собрались толпы народа. Все кричали «ура», скандировали патриотические лозунги, размахивая российскими флагами. Летели вверх шляпы и картузы. Смешались в едином воодушевлении аристократы и простолюдины. Весело хохотали, утирая слезы умиления, возносили хвалу Государю да обнимались, лобызая друг друга…
Только в самом дворце было не до веселья.
Между русским и германским императорами продолжался тяжелый, напряженный разговор по телеграфу. Утром Николай сообщил кайзеру:
«Мне технически невозможно остановить военные приготовления. Но пока переговоры с Австрией не будут прерваны, мои войска воздержатся от всяких наступательных действий. Я даю тебе в этом мое честное слово».
И теперь читал ответное послание Вильгельма:
«Я дошел до крайних пределов возможного в моем старании сохранить мир. Поэтому не я понесу ответственность за ужасные бедствия, которые угрожают теперь всему цивилизованному миру. Только от тебя теперь зависит отвратить его. Моя дружба к тебе и твоей империи, завещанная мне моим дедом, всегда для меня священна, и я был верен России, когда она находилась в беде, во время последней войны. В настоящее время ты еще можешь спасти мир Европы, если остановишь военные мероприятия».
Вздохнув, Николай отложил злополучный листок.
«Лицемерие… Лицемерие во всем. Эх, Вильгельм, Вильгельм. Ты же хочешь эту войну. Ты ее добьешься. Но зачем так стремишься обелить себя в глазах общества? И ради этого поливаешь меня грязью? Тоже мне друг…»
Император отмахнулся от грустных мыслей и посмотрел на Сазонова[2].
– Что еще, Сергей Дмитриевич?
– По переговорам с Англией, Ваше Величество. Наше предложение изрядно удивило вчера берлинский кабинет. Сэр Эдуард Грей[3] просит внести в него ряд поправок. Я осмелился включить их без возражений с нашей стороны. Как известно Вашему Величеству, нам жизненно необходимо привлечь на свою сторону английское общественное мнение. Только в этом случае можно будет хоть что-нибудь сделать для сохранения мира. Прошу ознакомиться.
Министр извлек из папки исписанный лист и протянул царю. Тот вяло махнул рукой:
– Сделайте одолжение, прочтите сами.
– Слушаюсь. – И Сазонов, откашлявшись, начал читать: – «Если Австрия согласится остановить продвижение своих армий на сербской территории и, если, признавая, что австро-сербский конфликт принял характер вопроса, имеющего общеевропейское значение, она допустит, чтобы великие державы обсудили удовлетворение, которое Сербия могла бы предложить правительству Австро-Венгрии, не умаляя своих прав суверенного государства и своей независимости, Россия обязуется сохранить выжидательное положение».
– Хорошо, – немного подумав, произнес Николай. – Давайте подпишем.
Быстрый, размашистый росчерк пера.
– А что германский посол? – продолжил император.
– По-прежнему твердит, что Германия всегда была лучшим другом России. Просил передать: «Пусть император Николай согласится отменить свои военные мероприятия, и спокойствие мира будет спасено». Испрашивает аудиенцию у Вашего Величества.
– Пригласите его в Петергоф.
– На какое время?
– Не заставляйте ждать. Пусть прибудет немедля. Укажем Германии на значение средств к примирению, которые ваше, Сергей Дмитриевич, предложение, дополненное сэром Эдуардом Греем, еще предоставляет для почетного улаживания конфликта.
Эта встреча состоялась. Николай принял Пурталеса[4] приветливо. Но стороны не пришли к согласию. На том и распрощались.
А уже в одиннадцать часов вечера германский посол объявился в Министерстве иностранных дел. Сазонов незамедлительно принял его и был огорошен, услышав сразу после приветствия:
– Если в течение двенадцати часов Россия не прервет своих мобилизационных мер как на германской, так и на австро-венгерской границе, вся германская армия будет мобилизована.
Посмотрев на часы, которые показывали двадцать пять минут двенадцатого, посол добавил:
– Срок окончится завтра в полдень.
Не дав Сазонову сделать какое-либо замечание, он вдруг с жаром заговорил дрожащим от нетерпения голосом:
– Согласитесь на демобилизацию! Согласитесь демобилизоваться!
Сохраняя спокойствие, хоть и был крайне изумлен, министр ответил:
– Я могу только подтвердить вам то, что сказал его величество император. Пока будут продолжаться переговоры с Австрией, пока останется хоть один шанс на предотвращение войны, мы не будем нападать. Но нам технически невозможно демобилизоваться, не расстраивая всей нашей военной организации. Это соображение, законность которого не может оспаривать даже ваш штаб.
Отчаянно жестикулируя, немецкий посланник ушел ни с чем.
На следующий день он не появился в Министерстве ни в двенадцать, ни в час, ни в два… Сазонов терпеливо ждал, понимая, что встреча все равно состоится. Лишь в пять часов вечера ему доложили о звонке Пурталеса в канцелярию, в котором тот сообщил, что ему необходимо безотлагательно увидеться с министром…
«Вот и все!» – с обреченностью подумал Сазонов.
Не было никаких сомнений – Пурталес приедет объявлять войну. Иллюзий на этот счет министр не питал. История сделает очередной крутой поворот. Кровавый поворот к безумной бойне. Осталось лишь терпеливо дождаться германского посла.
Спустя два часа граф Фридрих фон Пурталес вошел, заметно волнуясь. Невысокий, щуплый старик с ухоженной, собранной в клин седой бородой и коротко стриженными волосами. Он заметно сдал за эти дни. Казался много старше своих лет. Словно высох еще больше, хоть и старался держаться с достоинством. Красный, с распухшими глазами, он задыхающимся от волнения голосом начал:
– Господин министр, от имени германского правительства я уполномочен испросить, согласна ли Россия дать благоприятный ответ на нашу ноту от 31 июля сего года?
Нота. Даже смешно. По сути, это самый настоящий ультиматум.
Выдержав паузу, Сазонов ровно проговорил:
– Нет, господин посол. Но, хотя объявленная общая мобилизация и не может быть отменена, Россия не отказывается продолжать переговоры с целью изыскания мирного выхода из создавшегося положения.
Граф потупился. Его волнение достигло апогея. Вынув подрагивающей рукой из кармана сюртука сложенную бумагу, он еще раз подчеркнул:
– Надеюсь, вы понимаете, насколько тяжкими будут последствия, к которым может привести отказ России согласиться на требование Германии об отмене мобилизации?
– Вполне, господин граф. Но наш ответ вы уже получили, – твердо и спокойно заявил Сазонов.
Было видно, что посол глубоко расстроен. Задыхаясь, он с трудом выговорил:
– В таком случае немецкое правительство поручило мне вручить вам данный документ. – С этими словами Пурталес дрожащими руками протянул бумагу, добавив: – Его величество император, мой августейший монарх, от имени империи принимает вызов и считает себя находящимся в состоянии войны с Россией.
Сазонов понял – старик пытается оправдать хотя бы себя. К чести графа надо заметить, что этот немец не был фанатичным милитаристом и сторонником непременного развязывания войны, в отличие от своего императора, кайзера Вильгельма. Но щадить его Сазонов не собирался.
Еще не читая ноту, он обронил:
– Вы проводите здесь преступную политику. Проклятие народов падет на вас.
Развернув лист, министр начал громким голосом декламировать объявление войны. И вдруг с изумлением увидел, что текст имеет два варианта прочтения. Второй указан в скобках. Например, после слов «Россия, отказавшись воздать должное…» написано: «(не считая нужным ответить…)» И дальше, после слов «Россия, обнаружив этим отказом…» стоит: «(этим положением…)» Вероятно, в таком виде документ пришел из Берлина, когда немцы еще не знали, как поведут себя русские. То ли по недосмотру, то ли по ошибке переписчика оба варианта оказались вставлены в официальный текст. А это значило: какие бы действия ни предприняла Россия, помимо предательства Сербии, войны все равно не избежать. Армии приведены в готовность. Оружие заряжено и нацелено. Осталось лишь дать команду «пли!».
Пораженный Пурталес молча стоял с несчастным видом, даже не пытаясь что-то пояснить. Закончив чтение, Сазонов поднял глаза, внимательно посмотрел на графа. Покачав головой, повторил:
– Вы совершаете преступное дело!
– Мы защищаем нашу честь! – осипшим голосом возразил посол.
– Ваша честь не была задета. Вы могли одним словом предотвратить войну. Вы этого не захотели. Во всем, что я пытался сделать с целью спасти мир, я не встретил с вашей стороны ни малейшего содействия. Но существует божественная справедливость!
Вид у графа стал совсем уж потерянный.
– Это правда… – ответил глухо Пурталес и бездумно зашарил по кабинету рассеянным взглядом. – Существует божественное правосудие… Божественное правосудие!
Бросив еще несколько непонятных фраз, весь дрожа, он приблизился к окну справа от входной двери. Оперся на подоконник. Постоял так, глядя на Зимний дворец. И вдруг разрыдался, будто дитя.
Плачущий старик. Какое жалкое зрелище.
Вздохнув, Сазонов подошел к послу. Пытаясь привести в чувства, слегка похлопал его по спине.
– Вот результат моего пребывания здесь! – обреченно бросил Пурталес, резко повернулся и внезапно кинулся к двери, которую с трудом отворил непослушными руками. На выходе пробормотал: – Прощайте, гер Сазонофф! Прощайте!..
В приемной он столкнулся с французским послом по фамилии Палеолог, больше напоминающей название какой-нибудь ученой специальности. Миновав его, поспешил поскорее покинуть министерство. Ну да, ему ведь еще собираться в дорогу. Все посольство вывозить…
Сазонов поманил удивленно поднявшего бровь Палеолога. День пока не кончился. Предстояло много чего сделать. На сегодня посол Англии Бьюкенен[5] испросил аудиенцию у императора, желая передать ему лично в руки телеграмму своего монарха. В ней, насколько знал Сазонов, король Георг призывал Николая к миролюбию и умолял не оставлять попыток избежать всеевропейской бойни. Правда, с момента передачи Пурталесом ноты об объявлении войны эта просьба запоздала. Впрочем, император, как бы там ни было, примет Бьюкенена сегодня вечером, в одиннадцать.
* * *
С отъездом посыльного в усадьбе Буторовых начало твориться нечто невообразимое. Все бегали, суетились, кричали. Во дворе кудахтали куры, шарахаясь от метавшихся людей, лаяли собаки, даже кони в стойлах беспокойно ржали. В доме все вверх дном. Маменька с помощью девок и мужиков развила бурную деятельность – по большей части бестолковую. Николай никогда бы не подумал, что в усадьбе живет столько разного люда. Впрочем, это могло и показаться. Немудрено, если постоянно кто-то мельтешит перед глазами. Поймешь ли, один и тот же человек раз десять пробежал мимо тебя или все время разные?
Стараясь не обращать внимания на устроенный маменькой большой переполох, Буторов подозвал Прохора:
– Вели конюху запрячь коляску.
– Загулял конюх-то, барин, – виновато вздохнул старик. – Ишо позавчерась на свадьбу к племяшке отпросился. Да запил, видать…
– Тогда сам запрягай. Мне на станцию к первому поезду поспеть надобно.
– Один момент, барин. Счас все будет, барин, – затараторил Прохор, пятясь к выходу.
Николай уже собирался прикрикнуть, чтобы подогнать нерасторопного старика, но тот вдруг выскочил на улицу. В окно было видно, как управляющий опрометью кинулся через двор в сторону конюшни.
Даже стыдно стало за свое желание наорать. Прохор всегда старался угодить и Николаю, и матушке, и отцу, когда тот был еще жив. Не перечил, не привередничал. Да все, кто прислуживал в доме, вели себя, в общем-то, так же, изо всех сил выказывая усердие. Почему Буторов и не любил подолгу задерживаться у родителей. Претила ему эта рабская, отдающая затхлостью веков атмосфера. Казалось бы, давным-давно Александр-освободитель отменил крепостное право. Чего крестьянам пресмыкаться? Но холоп, живший так веками, еще долго будет спину гнуть. Одного закона мало. Требуется сломать психологию раба, его собачью привычку служить господину…
Размышляя, Николай тихо поднялся в комнату и начал паковать вещи. Управился быстро. Много ли ему надо? Всем необходимым обеспечит армия. Из своего взял только в дорогу две рубахи на смену, носки, полотенце, мыло, бритву, носовые платки да исподнее про запас.
Все уместилось в один саквояж. С ним и спустился в гостиную, держа перекинутый через руку пиджак.
Увидев сына, уже собранного в путь, маменька расплакалась. Пришлось ее успокаивать, убеждая, что медлить нельзя. Коль скоро началась война, всем, в том числе и Николаю, нужно поспешить в свои части.
– Подождал хотя бы, пока Нюша курицу доготовит, – не сдавалась мать. – Возьмешь с собой. Будет чем в дороге перекусить.
– Ну что вы такое говорите, мама! Отечество уже, наверно, с врагом сражается, а вы просите меня дома сидеть в ожидании приготовления какой-то курицы. Там люди гибнут…
Ох, ляпнул, не подумав. Сентенция о гибнущих людях – явный перебор. Мать снова ударилась в слезы, припав к сыновьей груди. Рубашка Николая тут же намокла. Придется, похоже, менять ее раньше времени. Ай ладно. По дороге обсохнет…
Прохор с места взял в карьер. Крыльцо родного дома быстро удалялось, а с ним и провожающие. Впереди всех стояла заплаканная матушка, из чьих объятий сын еле вырвался, и, не переставая, крестила его, пока коляска не выехала за ворота. Доведется ли встретиться вновь?
Николаю стало грустно. Всю дорогу до станции он ехал молча. Не разговаривал и Прохор. Знай себе погонял каурую. Лишь прибыв на место, произнес, подавая саквояж:
– Прощевайте, барин. Простите, коли что не так было…
Лицо виновато-печальное, а в глазах поблескивают слезы. Того и гляди скатятся по морщинистым щекам в заросли седых бакенбард.
– Прощай, Прохор. Не поминай лихом. Присмотри за матушкой.
– Не беспокойтесь, Николай Владимирыч, уж я пригляжу.
Поддавшись внутреннему порыву, Николай обнял старика. Тот все-таки всхлипнул и утер набежавшую слезу.
Подхватив саквояж, Буторов решительно зашагал к зданию станции.
Обыкновенно тихая и немноголюдная, сейчас она представляла собой самое настоящее вавилонское столпотворение. Превеликое множество разношерстного народа, чуть меньше половины которого в военной форме. Снуют взад-вперед, громко переговариваются. Кто-то провожает кого-то, прощаясь и желая удачи. Оживленное движение, нервозная суета.
Первого поезда еще нет, но на станцию то и дело прибывают воинские эшелоны. Отстучат неторопливо колесами по стыкам рельсов, обдадут клубами пара да чадом сгорающего в топках угля, а после, не задерживаясь, покатятся дальше, на запад. И мелькают перед глазами вагоны, забитые солдатами да лошадьми, платформы с пушками, парками да автомобилями.
Их столько, что кажется, будто война, едва начавшись, тут же и кончится.
На перроне лишь о том и судачили. Мыслимое ли дело устоять маленькой Австрии против этакой силищи? Никто, в том числе и Буторов, не сомневался, что войну России объявила именно Австрия.
– Да говорю же вам, не с австрияками воюем, а с германцами, – с жаром доказывал солидной паре богатых с виду мужчин пожилой краснолицый усач в ладном коричневом костюме и такого же цвета котелке. – Вот. Извольте сами убедиться.
Он достал какую-то газету, развернул, тыча пальцем в нужные строки.
Германия? Как же так? Эта новость ошеломила. При чем здесь немцы, когда весь сыр-бор из-за претензий Австрии к сербам?
Чем больше людей узнавало правду, тем громче становился негодующий гул на перроне. Люди возмущались и возносили хулу на немцев, ничуть не стесняясь в выражениях.
– Понятно теперь, кто хотел войны? – продолжал человек в котелке. – Не мы, русские. И даже не Австрия. Но Германия! Этот вечно голодный зверь, жаждущий людской крови. Кайзер Вильгельм скинул, наконец, маску святости, показав свое истинное лицо. Мир узрел в нем кровавый оскал волка.
– Неслыханно! – ахали внимательные, до глубины души возмущенные слушатели. – Это ж надо, так ненавидеть Россию, чтобы придраться к нашей любви к сербам и навязать нам войну. Вот ведь воистину дьявольское отродье!..
– Тем более мы должны немедленно, не жалея живота своего, оградить маленькую Сербию от ополчившихся монстров. Чего бы нам это ни стоило!
– Полностью с вами согласен, дорогой вы мой. Дайте пожать вашу руку…
В поезде, на других перронах и полустанках во время коротких остановок в пути следования разговоры вокруг вероломства Германии не утихали. Наоборот. Чем ближе к Петербургу, тем волнительнее и четче виделся патриотический подъем населения. Людей захлестнул национальный порыв, подхватил и понес, будто гигантское цунами, все больше набирая силу.
В самом Петербурге манифестации шли уже несколько дней. В них участвовали все, от мала до велика, люди самых разных слоев общества, разного достатка и совершенно отличных взглядов. Их объединяли общая боль с братским народом Сербии, любовь к своей Родине, а еще вспыхнувшая вдруг ненависть к вероломному врагу, посмевшему угрожать России оружием…
* * *
Огромный Георгиевский зал, что тянется вдоль набережной Невы, собрал порядка пяти тысяч человек. Все придворные в блестящих торжественных одеждах. Лишь офицеры гарнизона в походной форме, словно сразу после службы собираются убыть на фронт. Посреди зала престол, на который поместили чудотворную икону Казанской Божьей Матери, принесенную сюда из парадного храма на Невском проспекте. Когда-то перед ней долго молился фельдмаршал Кутузов, прежде чем последовать за своей армией в Смоленск.
Слева от алтаря сам император с семьей и приближенными.
– Мсье Палеолог, – обратился он к французскому послу, – прошу занять место рядом с нами, чтобы мы в вашем лице могли публично засвидетельствовать уважение верной союзнице, Франции.
В полной тишине посол встал возле Николая. Почти сразу же началась литургия, взорвав благоговейное молчание громогласными песнопениями.
Все крестятся. Император делает это с наибольшим усердием. На бледном челе печать неподдельной глубокой набожности. Рядом, высоко держа голову, напряженно замерла императрица Александра Федоровна. Ее восковое лицо с лиловыми губами и застывшим взглядом кажется неживым.
Но вот закончились молитвы, и дворцовый священник торжественным голосом начинает читать манифест царя народу. В нем и простое изложение событий, приведших к войне, и призыв к патриотизму, и обращение за помощью к Всевышнему, а также другие фразы о терпении, единстве и стремлении победить…
Французского посла на сегодняшнее объявление манифеста пригласили через Сазонова.
– Вы единственный иностранец, допущенный к этому торжеству как представитель союзной державы, – доверительно сообщил министр.
– Что ж, жребий брошен… – вместо благодарности устало пробормотал Палеолог.
Он уже забыл, когда нормально высыпался. Эта неделя далась нелегко. Посольство работало днем и ночью, практически не смыкая глаз. Посол не спал сам и не давал спать другим. Досталось и подчиненным, и правительству во Франции во главе с президентом. Благо все прекрасно понимали ситуацию, активно содействуя. И вот результат – общая мобилизация французской армии. Телеграмма с приказом пришла сегодня, в два часа ночи.
Сазонов о ней, конечно же, знал. Он ухмыльнулся, заметив:
– Доля разума, которая управляет народами, столь слаба, что и двух недель, как суждено было нам убедиться, вполне хватит, чтобы вызвать всеобщее безумие.
– Да, да… – покивав, согласился посол, а после задумчиво произнес: – Не знаю, Сергей Дмитриевич, как история будет судить нашу с вами и Бьюкененом дипломатию, но… Мы втроем имеем полное право утверждать, что добросовестно сделали все от нас зависящее, чтобы спасти мир от войны, не соглашаясь, однако, принести в жертву два других блага, еще более ценных. Это независимость и честь Родины…
Манифест дочитан. Священник умолкает.
Императору подносят Евангелие. Николай поднимает над ним правую руку, обводит взглядом зал. Он серьезен и сосредоточен. Медленно, подчеркивая каждое слово, начинает говорить:
– Офицеры моей гвардии, присутствующие здесь! Я приветствую в вашем лице всю мою армию и благословляю ее. Я торжественно клянусь, что не заключу мира, пока останется хоть один враг на родной земле!
По залу разносится оглушительное «ура!». Не умолкает сразу, а растет, ширится. Вскоре порожденный приветственными криками неистовый шум вылетает на улицу и возвращается вдруг, многократно усиленный толпой, что собралась вдоль набережной.
Дядя царя, Великий князь Николай Николаевич, главнокомандующий русскими армиями, внезапно хватает Палеолога в охапку и целует, едва не раздавив его в медвежьих объятиях. Все происходит столь быстро, с обычной для Великого князя стремительностью, что посол ничего не успевает сообразить. А тот уже кричит во всю мощь своих легких:
– Да здравствует Франция!
И со всех сторон грохочет подхваченное тысячами голосов:
– Да здравствует Франция! Да здравствует Франция!!!
Император направляется к выходу. Слава богу! Посол не без труда прокладывает путь следом.
Площадь буквально забита народом. Бескрайний людской океан с колышущимися на нем в тесноте кораблями из флагов, знамен, икон, портретов царя. При появлении вышедшего на балкон императора толпа, сняв шапки, начинает петь «Спаси, Господи, люди твоя». И вдруг все как один встают на колени.
Этот потрясающе трогательный момент рождает ком в горле Палеолога. Он видит блеск облагораживающих слез на глазах молящихся, всеми клетками тела впитывая тот высокий порыв, что объединил и привел сюда этих людей.
– Хватило бы только нам выдержки, – слышится позади негромкое бормотание Сазонова.
Вечно этот скептик все портит. Чуть повернув голову, посол вполголоса произносит через плечо:
– В эту минуту для них царь действительно есть самодержец, отмеченный Богом. Военный, политический и религиозный глава своего народа, неограниченный владыка душ и тел.
Глава 2. На фронт
Волна всеобщего патриотизма захлестнула и Буторова.
У него была возможность поступить в военную школу для подготовки к экзамену офицера. Но в такой момент, когда каждый готов хоть сейчас надеть форму и, взяв оружие, идти сражаться на фронт, это казалось кощунственным.
Махнув рукой на офицерское звание, Николай остался в Красном Кресте.
Его назначили начальником Передового отряда для помощи раненым. В подчинении Буторова оказались три врача, семь студентов-медиков, две сестры милосердия и сто тридцать санитаров. Парк отряда состоял из тридцати шести санитарных двуколок и четырнадцати транспортных повозок. Немалое хозяйство, нормальную работу которого необходимо еще наладить. Люди не обмундированы и пока не притерлись друг к другу, транспорт не опробован, фуража для лошадей нет. Требовалось получить медикаменты, оружие, инвентарь, униформу, довольствие… А времени мало. Надо спешно готовиться к отъезду на фронт.
Николай с головой ушел в заботы – масштабные, с непременной беготней по различным инстанциям, и помельче. Последних, как обычно бывает, навалилось особенно много. Поначалу справлялся с превеликим трудом, но когда подобрал себе помощников, дело быстро пошло на лад, и в середине августа отряд выехал из Петербурга.
В поезде Буторов достал запечатанный сургучом конверт, который вручили ему перед самой отправкой. Покрутил в руках, разглядывая оттиски Красного Креста и Военного ведомства.
– Ну же, вскрывай, – горячо зашептал Сашка Соллогуб, друг и однокурсник по Александровскому лицею, волей счастливого случая попавший к Буторову в подчинение.
Само собой, Соллогуб и стал одним из первых помощников. Его же Николай назначил своим заместителем. Не из-за дружбы, а потому, что Сашка показал себя толковым организатором, и помощь его в нелегком и новом для Буторова деле руководства санитарным отрядом была неоценимой.
– Да подожди ты, – шикнул на друга. – Сказано было: «Вскрыть в пути следования».
– Но мы почти едем. Погрузились ведь.
– Потерпи…
Терпения обоим едва хватило, чтобы дождаться, когда состав тронется. Переломив сургучную печать, с радостным трепетом заглянули в пакет. В нем обнаружился аккуратно сложенный лист с коротким, по-военному лаконичным распоряжением.
– Значит, так, – медленно, с расстановкой говорил вполголоса Николай собравшимся вокруг него помощникам. – Нам надлежит выгрузиться в Вержболове. Потом, нагнав штаб Первой армии, поступить в распоряжение генерала Ренненкампфа, ее командующего.
– Выходит, мы еще можем застать военные действия! – чересчур громко воскликнул несдержанный Сашка, но на это никто не обратил внимания.
Мысль, что война не успеет закончиться без их участия, радовала и одновременно волновала всех, будоража разгулявшееся воображение.
В приподнятом настроении прошла вся дорога вплоть до выгрузки. Ликование не покидало и после, когда двигались в походной колонне по идеально ровному, хорошо утрамбованному шоссе между симметрично высаженными деревьями, похожими одно на другое, будто близнецы. А какая гордость распирала Буторова при переходе границы Восточной Пруссии, вообще не передать словами.
Люди в отряде, судя по всему, испытывали схожие чувства. Проезжая обгорелыми улицами прусских городов, каждый санитар или врач старался держаться в седле или в двуколке с наибольшим достоинством, на какое только был способен. Радовались, словно дети малые, видя разбитые артиллерией дома или местных жителей, торопливо снимавших шляпы при появлении русских.
Стояли теплые, солнечные деньки. Ехать было приятно. Ласкали глаз яркие, весело отливающие светом, культурно ухоженные и разделенные аккуратными оградками поля, что простирались вокруг. Фермы с уютными домиками под красными черепичными крышами утопали в зелени. Вся эта красота умиротворяла, навевая праздничное настроение. В то же время манили неизвестность, предчувствие всяческих лишений и воображаемых опасностей, которые неминуемо подстерегают на войне. Сколько впечатлений, сколько разнообразных чувств! Вот она, полноценная жизнь, наполненная всем тем, чего так не хватало в скучные мирные времена.
Грудь распирало приятным волнением. Николаю было только в радость избавиться вдруг от порядком поднадоевшего размеренного прозябания в уездном городке, затерянном в необъятной Российской империи. А будущее рисовалось в одних лишь игриво-розовых тонах…
Неподалеку от города Гумбинена[6] остановились на привал рядом с какой-то виллой. Внешне она смотрелась вполне уютно, и Буторов не удержался, чтобы не заглянуть внутрь.
Всегда интересно увидеть, как живут другие люди. К тому же не у себя на родине, а в чужой стране. Любопытство разобрало и Соллогуба, поэтому пошли вдвоем.
– Чей это дом? – спросил Сашка у пожилого пруссака, проходившего мимо с теленком на длинной веревке.
– Лейтенанта Кунце, герр офицер, – почтительно поклонился тот, сняв шляпу.
– Понятно, немец, – презрительно протянул друг.
Внутри вилла оказалась безжалостно разгромлена. Видно, что хозяева собирались в явной спешке, захватив с собой лишь самое необходимое. По всем комнатам валялись разбросанные письма, фотографии, белье, игрушки, одежда, посуда, различная домашняя утварь.
Посреди гостиной напоминанием о безмятежной жизни стоит разбитое фортепиано. Паркетный пол вокруг, словно выпавший снег, устилают груды бумаг. В основном это нотные листы. Тихо шуршат, приподнимаясь, потревоженные сквозняком, а то и переворачиваются лениво…
Носком сапога Буторов поддел какую-то карточку. Поднял ее. На изображении эта же комната, только уютно обставленная, в полном убранстве. За фортепиано, еще вполне целехоньким и не утратившим своего полированного блеска, сидит славная пухленькая девчушка лет шести. Надула губки, пробуя, видимо, разобрать ноты. Другая девочка, чуть постарше, стоит рядом и наблюдает.
Контраст между тем, что было, и тем, что видели сейчас, был так разителен, что Николай тут же поделился впечатлением, показав карточку Соллогубу:
– Смотри. Вот как раньше здесь было.
Помощник без особого энтузиазма скользнул по ней взглядом.
– Бабство, – бросил весьма воинственно и, потеряв к вилле всяческий интерес, направился к выходу.
* * *
Вслед за Буторовым в одном из многочисленных эшелонов, что в спешном порядке перебрасывали семимиллионную русскую армию к западной границе, отправился на фронт и Борис Николаевич Сергеевский. Незадолго до объявления войны он, будучи офицером Генерального штаба, получил назначение в Финляндию, в штаб 22-го армейского корпуса, и, не мешкая, выехал в Гельсингфорс.
Неопытного, совершенно не знающего всех нюансов новой для него работы, Сергеевского в самый разгар мобилизации с головой затянула штабная рутина. Он буквально погряз в ничуть не уменьшающемся день ото дня бумажном потоке разного рода приказов, распоряжений, планов, наставлений, докладных…
Требовалось довести штаты всех частей и учреждений до предусмотренной военным временем численности. Заново сформировать новые, о которых до этого никто и слыхом не слыхивал, для чего призвать находящихся в запасе солдат и офицеров и переместить их к местам службы. А еще нужны лошади, которых надо принять у населения на сборных пунктах по военно-конской повинности, осмотреть, выбрать и направить куда следует. Значит, туда необходимо вовремя прислать приемные комиссии с командами нижних чинов. Чтобы перевезти запасников и взятых лошадей. В нужное время на нужных станциях должны находиться поездные составы и паровозы. А еще что люди, что животные всегда хотят кушать. То есть требовалось организовать довольствие. Ко времени прибытия их в части там должны быть готовы жилые помещения и конюшни. Вновь принятых на службу людей нужно обмундировать, вооружить и немедля начать обучение, ведь находясь в запасе, они кое-что подзабыли, а о многих нововведениях и вовсе не ведают. Лошадей надо приучать к их будущей работе, а некоторых вообще объезжать заново, поскольку они, вероятнее всего, никогда не знали упряжи.
Сколько мелких предварительных договоренностей между всевозможными органами военной и гражданской власти нужно было соблюсти, чтобы правильно работала колоссальная машина единовременной мобилизации всех российских вооруженных сил!
В придачу к этим несоизмеримым по размаху объемам работы штаб корпуса дополнительно решал вопросы обороны побережья, мостов и других сооружений на важных в военном плане железнодорожных путях. Отнимало время и постоянное отслеживание ситуации на шведской и норвежской границах. Еще прибавилось хлопот с гражданским управлением края, переподчиненного с введением военного положения командиру корпуса. Нерусское население, особенности его законодательства, сношения с флотом – все это лишь осложняло работу, выпавшую на долю Сергеевского в те исключительно тяжелые дни.
Да, почти весь труд по проведению мобилизации лег на его плечи. Немного позже, правда, прибыл еще один офицер – причисленный к Генеральному штабу штабс-капитан Земцов. Но тот, совсем недавно вышедший из строевых командиров, еще меньше разбирался в службе штаба. Вот они вдвоем и впряглись в эту лямку. «Вы же генштабисты, – сказало начальство. – Вам и карты в руки…»
Командиром корпуса был пятидесятипятилетний генерал-лейтенант Бринкен Александр Фридрихович. Участник Русско-японской войны, потом долгие годы служивший начальником штаба войск Гвардии и Петербургского военного округа. Человек довольно независимый и самолюбивый, он терпеть не мог вмешательства посторонних в дела своего штаба. На дух не переносил всяких штукмейкеров, зачастую резко пресекая их «наглые позерства». Седой, как лунь, с большой лысиной, зато с огромнейшими, пышными усами. Офицер старой закваски, которому явно не хватало новых технических знаний для должного командования столь большим воинским формированием.
Начальником штаба при нем состоял генерал Огородников. Грубиян и циник, каких мало. Тоже не умевший как следует организовать нормального управления корпусом. Впрочем, желанием работать он явно не горел и с Бринкеном отношения имел натянутые, если не сказать враждебные.
Помощник Огородникова носил громкое название «штаб-офицера для поручений», вовсе не дававшее своему носителю того служебного авторитета, который он, по идее, должен иметь в соответствии с должностью, особенно в военное время. Им был полковник Фалеев, который буквально ненавидел своего начальника. Во время мобилизации он в резкой форме прямо так и заявил командиру корпуса в присутствии Огородникова, показав на того рукой: «Или он, или я. А вместе мы служить не можем!» Но инциденту не дали перерасти в нечто большее, добросовестно похоронив его в стенах штаба.
Был там еще офицер. Старший адъютант Генерального штаба, капитан с довольно простой фамилией Иванов. Служил довольно давно. Слыл нелюдимым, с другими общался мало и никоим образом не позволял себе вмешиваться в деятельность командиров. А вмешаться бы стоило, раз уж старшие чины оказались несостоятельны в деле управления корпусом.
И вот в этот очаг неприязненного противостояния и всеобщей апатии прибыл капитан Сергеевский, ставший офицером Генерального штаба буквально на днях, не имея никакого опыта штабной службы, не зная никого ни в штабе, ни в самом корпусе и не будучи склонен по своему характеру делать что-либо иначе, нежели предусмотрено уставами.
В первые дни он еще не мог по достоинству оценить того хаоса, что творился в штабе. И немудрено, коль скоро видел только бесконечные кипы бумаг и телеграмм. Вновь прибывший «обер-офицер по поручениям» занимался вопросами самого различного толка: от боевого приказа войскам побережья до высылки за границу германских подданных и других распоряжений по линии полиции включительно. Приходилось отдавать работе часов по восемнадцать в сутки, прерываясь на короткий обед и пяти-, а то и четырехчасовой сон. Спал Борис на своей походной койке, в квартире капитана Иванова, который оказался настолько любезным, что предложил свое гостеприимство.
Месяц в трудах, которым, казалось, не видно конца, пролетел незаметно, и четвертого сентября штаб 22-го армейского корпуса погрузился в отличный финляндский вагон первого класса, чтобы проследовать на фронт. Одно купе занимал командир корпуса, другое – Огородников, в остальных разместились офицеры Генштаба: Сергеевский со штабс-капитаном Земцовым, инспектор артиллерии генерал-лейтенант Головачев с адъютантом, а также два корнета 20-го Финляндского драгунского полка, приписанные к штабу в качестве адъютантов командира корпуса.
Мирная обстановка уютного вагона, спокойно-размеренный перестук колес под убаюкивающее качание, разнообразные мысли и ощущения… Не верилось, что через несколько часов корпус уже, возможно, будет в бою. Разлука с близкими, предстоящая незнакомая обстановка, наверняка сопряженная с постоянной опасностью, неопределенное, не поддающееся никаким прогнозам будущее. Непостижимые, совершенно дикие для человека мирного времени чувства.
Борис вдруг вспомнил, как ему в руки попал номер «Русского инвалида», где вся первая страница и часть второй были заняты обычным Высочайшим приказом от 28 июля. В самом конце статьи прочел о себе: «Назначается причисленный к Генеральному Штабу Л. Гв. Стрелкового Артиллерийского Дивизиона Штабс-Капитан Сергеевский обер-офицером для поручений при Штабе XXII арм. корпуса, с переводом в Генеральный Штаб и с переименованием в Капитаны».
Ниже, сразу под этими строками, во всю ширину листа тянулась жирная линия, словно граница между безвременно ушедшим периодом благого мира и началом Великой войны. Далее следовал текст «Высочайшего указа о мобилизации» с крупно набранным заголовком.
«Странная у меня судьба, – рассуждал Борис. – В девятьсот первом я окончил гимназию в последнем выпуске, шедшем при полной классической программе. Потом артиллерийское училище в год его переформирования. Академию тоже довелось кончать в последнем выпуске по старому порядку. Наконец, и в Генеральный штаб переведен последним из своего выпуска и последней же статьей приказа уходящего мирного времени…»
В купе зашел Земцов. Где уж он бродил и что делал – одному богу известно.
– Господин капитан, не изволите составить компанию?
Вообще-то два генштабиста, в поте лица трудившиеся последний месяц плечом к плечу, давно привыкли обращаться друг к другу по имени. Вроде бы и сдружились, а времени поговорить по душам да подробнее рассказать о себе все как-то не находили. Теперь же сам бог велел. Пока едут, почитай целые сутки без дела сидеть.
– Смотря в чем, – осторожно отозвался Борис.
Рослый, широкоплечий Земцов был старше всего на четыре года, но выглядел столь внушительно, что вместо исполнившихся двадцати пяти ему смело можно приписать все тридцать. По довольному виду и блестящим глазам стало ясно, что штабс-капитан слегка навеселе. Подтверждая эту догадку, он показал плоскую, не совсем полную бутыль коньяка:
– Предлагаю скрасить наш военный поход. А то пить в одиночестве, знаете ли, одна тоска.
– О чем речь, дорогой Мишель! – Сергеевский не замедлил достать два стакана, кивком приглашая Земцова присесть: – Милости прошу. Вы, как всегда, ко времени. Мне требуется разогнать хмурые мысли…
– Так давайте этим и займемся.
Он с готовностью наполнил стаканы ровно до половины и, заткнув бутылку пробкой, водрузил ее на столик.
– Что ж, – поднял свой стакан, – будем надеяться, наш с вами труд не пропал даром, и мобилизация прошла успешно. За победу.
– За победу, – эхом откликнулся Борис, чокаясь.
Отпив глоток, закусил шоколадом, который все тот же Земцов достал из кармана.
– Что-то нас ждет впереди, – вздохнул штабс-капитан. – О поражении Второй армии слышали?
Сергеевский поморщился:
– Еще бы. Наслышан уж.
Да, победоносные известия предшествующих двух недель вселяли уверенность и надежду на скорое окончание войны. Однако тяжкая неудача генерала Самсонова[7], о которой стало известно уже в поезде, посеяла зерна сомнений в собственные силы. А зная недостатки своих начальников, Борис и вовсе не был уверен, что на фронте удастся быстро переломить ситуацию к лучшему. К тому же командный состав корпуса лишился двух наиболее опытных офицеров Генштаба. Полковника Фалеева оставили в Гельсингфорсе, а капитана Иванова отослали в Ивангород. «Не иначе потому, что фамилия у него созвучная», – посмеялся тогда Земцов.
Сегодня ему, похоже, не до смеха.
– И что думаете по этому поводу? – спросил Мишель, имея в виду поражение Самсонова.
– Что тут думать… Сколько мы с вами занимались доведением численности нашего корпуса до норм военного времени? Долго?
– Угу.
– И то не скажешь, что выдвигаемся на фронт укомплектованными всем и вся на сто процентов. Чего уж говорить о тех армиях, которые первыми вошли в Пруссию месяц назад?
– Зачем же их туда кинули раньше времени?
– Кто вам такое сказал? Просто, я думаю, мы упредили наступление германцев. Иначе воевали бы сейчас не в Восточной Пруссии и Австрии, а в России, где-нибудь под Петербургом…
– Петроградом, – поправил Земцов.
Действительно, три дня тому назад столицу переименовали, отказавшись от немецкоязычного названия. Пора привыкать к новому.
– И потом, – продолжал Борис, не отреагировав на замечание товарища, – не забывайте, мы помогаем союзникам – сербам.
– А я уверен, что дело здесь не только в сербах, – заговорщически прошептал штабс-капитан, снова вытаскивая пробку и наливая коньяк, хотя в стаканах его было еще достаточно. – Вспомните плачевное положение бельгийцев. Да и французы наверняка насели на Государя, умоляя о помощи.
Сергеевский усмехнулся. Грустно усмехнулся, ведь слова Мишеля вряд ли так уж далеки от истины. Чего только не сделает Россия-матушка ради своих союзников. Не посмотрит ни на какие трудности, пойдет на любые жертвы. В лепешку расшибется, а друзей из беды всегда выручит.
– И что эта Германия так за Австрию дрожит? – с горечью в голосе обронил Земцов после того, как отпил из стакана чуть ли не половину налитого. – По логике вещей австрияки первыми должны были объявить нам войну.
– Не вижу особой разницы. Все равно воевать пришлось бы с обеими. Помните визит Пуанкаре[8]? В его честь тогда в Красном Селе давали парад войск Петербургского военного округа. Мне довелось в нем участвовать. Мы стояли позади приглашенных иностранцев. Когда проходили войска, я прекрасно видел реакцию военных агентов. Особенно германца с австрияком. Они, как понимаете, сидели рядом. Уже тогда это были не просто гости, а представители двух враждебных нам армий. Смотрели, оценивали, запоминали… Вы только представьте: вся наша гвардия идет церемониальным маршем, все войска Петербургского округа, плюс некоторые полки других округов. Чеканит шаг пехота, проносится артиллерия на рысях, бесконечные полки конницы скачут галопом. Войска проходили два с половиной часа! Они шли блестяще. Мерный, точеный шаг. Огромные колонны. Каждый человек обращен в автомат, а вся колонна как огромная величественная машина. Мощь, дух, порядок и красота. К тому же походная форма. Представляете? Обычные защитные рубахи. Это еще прибавляло воинственности. Оба наших будущих неприятеля были настолько впечатлены, что порой забывались, выдавая себя волнением… И тут пошли пулеметы. Раньше-то их на парад не выводили. Сначала стрелковые бригады с пулеметами на вьюках. Потом кавалерийские вьючно-пулеметные команды. То рысью, то широким полевым галопом. Немец и австриец волновались все больше. Наконец, один из них в запале наклонился к соседу и давай за мундир дергать, на пулеметы показывая. Оба наперебой стали делиться впечатлениями, постоянно тыча пальцами то туда, то сюда. Я тоже тронул рукой своего соседа, кивнув на будущих врагов. Он понял меня правильно, а после парада сказал практически одновременно со мной: «Война будет – это ясно, как божий день!»
Глава 3. Из огня да в полымя
Прохладное сентябрьское утро застало санитарный обоз Буторова на железнодорожной станции Гумбинен. Сюда, нагруженные ранеными, они добрались уже в полной темноте. На путях под парами стоял товарный поезд – последний перед подрывным. Раненых в нем оказалось битком. Погрузку только-только завершили.
Две сестры милосердия в ужасе всплеснули руками, увидев количество вновь привезенных.
– Я не разрешу вам разгружаться! – кричал на Николая, брызжа слюной, полноватый комендант с мясистым лицом цвета переспелого помидора, настаивавший на немедленной отправке поезда.
– Да как же мы дальше с ранеными-то пойдем? – возмутился Буторов. – У нас ни провианта, ни перевязочных материалов не осталось. Лошади утомлены, не кормлены. Люди с ног валятся. Это просто немыслимо.
– Ничего не знаю. Поезд надо немедленно убрать со станции. Вы же видите, что мест в нем для ваших раненых нет.
Сделав глубокий вдох, чтобы успокоиться, Николай твердо заявил:
– Даже если нельзя отправить их этим поездом, у меня нет другого выхода, кроме как все же разгрузиться и оставить всех на станции с одним или двумя медиками до прихода немцев.
Комендант засопел возмущенно, потом вдруг махнул рукой:
– Аааа, черт с вами! Грузите…
Все тут же забегали, засуетились. Работали, не жалея сил, и сестры милосердия, и санитары отряда, и врачи. Легкораненые помогали тяжелым.
Слава богу, хоть и с трудом, но разместить удалось всех без исключения. Поезд сразу тронулся. Он уходил домой, в Россию. Слушая удаляющийся колесный перестук и громкое шипение паровоза, Буторов испытал зависть к легким ранам одного из своих врачей и нескольких санитаров, уезжавших в этом поезде. Сердце тоскливо сжалось от нахлынувшего вдруг чувства одиночества. Казалось, их отряд всеми забыт и оставлен здесь, на обезлюдевшем перроне, на откуп наступающему врагу.
Было еще темно. Поставив одного санитара дежурить у коменданта, Николай повел остальных в пустое здание станции. Легли прямо на грязный пол, где, укрывшись шинелями, сразу же и заснули…
Вот оно, отступление. Если не сказать поспешное бегство.
Словно ушат холодной воды на разгоряченную глупой юношеской романтикой голову. Можно ли сравнивать Буторова нынешнего с тем, который почти месяц назад, делая первые шаги по Восточной Пруссии, восторженно проезжал улицы Инстербурга[9], где пришлось тогда задержаться на сутки?
Город в те, казалось бы, далекие августовские дни выглядел очень красивым и обустроенным. Весь в цветах и зелени, приятно ласкающих глаз. С ними прекрасно гармонировали постройки, среди которых было много изящнейших особняков. Гостиницы, рестораны и большинство магазинов были открыты и вели бойкую торговлю. На городской площади с несколькими магазинчиками толпился гомонящий народ. Там и сям стояли телеги, проезжали конные, чинно прогуливались парочки. Жизнь текла своим чередом. Казалось, война обошла стороной этот замечательный городок, не рискнув нарушить его мирную идиллию, и умчалась куда-то далеко вперед…
Штаб 1-й армии, который с трудом удалось разыскать, обосновался в отеле «Дессауэр хоф». Без войск и обозов, что должны бы стоять в городе, средоточие управления русскими войсками производило удручающее впечатление. Маленький островок, песчинка, затерянная в безбрежном океане германской конгломерации. Буторову с его подчиненными оставалось только диву даваться да плечами пожимать: «Куда же подевались наши части?»
Отряд прикомандировали к полкам, ушедшим в район города Велау[10], и санитарные двуколки заколесили дальше по Кенигсбергскому шоссе, нагоняя наступающие войска. Недоумение, охватившее всех при виде Инстербурга, с каждой новой верстой лишь усиливалось. Удивляло полное одиночество. Ни одна войсковая колонна не встретилась по дороге. Сплошь местное население, чьи повозки да огромные телеги неторопливо катили мимо.
– Где же наши? – беспокойно ерзал в седле Соллогуб. – От самого Вержболова ни единой воинской команды!
Впереди все явственнее слышалась артиллерийская стрельба. Но ни патронных, ни снарядных ящиков поблизости видно не было.
– Интендантство и санитарная часть блещут своим отсутствием, – попробовал пошутить Николай, но никто рядом даже не улыбнулся.
Каждый задавал себе одни и те же вопросы – «где?» и «почему?», прекрасно понимая, что вряд ли желает получить на них правдивый ответ.
Недалеко от Велау, где немцы при отходе взорвали мост, нашелся штаб дивизии. Санитарный отряд разместили в соседней деревеньке, которую Буторов и сделал базой.
На фронте воцарилось затишье. Работа перепадала урывками, и необстрелянные санитары, пока не растратившие свою молодую, кипучую энергию, бросались на нее с остервенением, точно голодные волки. Что могли сделать вдвоем, делало сразу двадцать.
Однажды, следуя кратчайшим путем за ранеными, выехали на шоссе и увидели солдат, залегших в придорожной канаве. В редкой цепи, на большой дистанции друг от друга они припали к винтовкам и замерли, внимательно вглядываясь в дальний лес. Санитары ехали по шоссе, посматривая на спины в мокрых от пота гимнастерках, пока у полуразрушенного фольварка их не остановил подбежавший офицер.
– Куда прете, так вас и эдак! – с недовольным видом преградил он дорогу Соллогубу, схватив его коня под уздцы.
– У нас вызов, – возмутился Александр. – Раненых надо забрать…
– Поворачивайте к дьяволу! Здесь передовая линия.
Передовая? Соллогуб в недоумении обвел взглядом жидкую цепь залегших солдат. Не так представлял он себе боевую линию. Чуть не рассмеялся – не то из-за умопомрачительной разницы между тем, что представлял увидеть и что увидел, не то спохватившись, что с немецкой стороны до сих пор не прогремело ни единого выстрела, несмотря на внушительную колонну в десять двуколок.
В другой раз отряду приказали усилить один из полковых перевязочных пунктов. Туда Буторов откомандировал пару студентов-медиков с условием, что через сутки их сменят. Ночью в той стороне слышалась ружейная и пулеметная стрельба. Утром после смены командированные вернулись. Усталые, но переполненные впечатлениями. Рассказали, что за ночь фольварк захватили немцы, потом снова наши. Санитары же с ранеными отсиживались в каком-то кирпичном подвале. Благо артиллерия их не обстреливала.
Первый боевой опыт. Что может сравниться с ним? Сколько новых, неведомых доселе эмоций и тем для разговоров…
Уже не раз и не два в отдалении слышалась перестрелка. Она то усиливалась, превращаясь в сплошной трескучий гул, то сотрясала воздух громовой канонадой, то затухала, распадаясь на отдельные сухие выстрелы. В штабе дивизии не скрывали, что идут бои, но почему-то не спешили задействовать отряд Буторова. Постоянно готовые к выезду, санитары и врачи уже устали ждать, когда командование хоть куда-нибудь их направит. Только вызова все не было.
Соллогуб долго тогда чертыхался, а после вдруг предложил:
– Поехали сами.
– Куда? – Николай предпринял слабую попытку возразить, прекрасно понимая, что вызова они могут и не дождаться.
– Где стреляют, там в любом случае будут раненые.
Буторов и сам давно пришел к выводу, что нужно не только по приглашениям работать, но и собственную инициативу проявлять. Стрельба не утихала. Не дождавшись вызова, на свой страх и риск Николай повел отряд в том направлении, где слышались выстрелы. Шли, как обычно, верхами с двуколками. При выезде из одного перелеска неожиданно попали под пулеметный огонь. Пришлось быстро свернуть в укрытие. Спрятались за остатками разбитого фольварка.
Соллогуб вызвался пойти вперед с несколькими санитарами. Пока их ждали, начало темнеть. Стрельба затихала, но ушедшие все не возвращались. Обеспокоенный Буторов приказал трогать. Когда проехали с версту, вдруг услышали в сумерках сердитый голос:
– Стойте! Там стреляют!
Из пришоссейной канавы, с ног до головы перепачканный грязью, вылез Александр Соллогуб. Увидев его, Николай не смог удержаться от хохота. У друга даже лица не было видно. А когда тот, видя, что над ним потешаются, насупился и в обиде надул губы, весь отряд покатился со смеху.
Все бы хорошо, но пока веселились, окончательно стемнело. Кругом ни звука. В кромешной тьме без помощи знающего человека найти себе применение весьма и весьма проблематично. Хорошо, что случайно наткнулись на полкового врача. Он-то и подкинул работенку, которой, как выяснилось, было предостаточно, и помощь отряда оказалась как нельзя кстати…
Когда последний раз взяли раненых и двинули в тыл, дорогу подсвечивала круглобокая луна, висевшая высоко в безоблачном небе. Казалось, что все замерло. Только двуколки движутся, держа большие интервалы из-за близости передовой. И санитары топают следом. Лишь негромкий скрип колес и шоссейного песка нарушает ночную тишь. По чистому небу рассыпаны звезды. Лунный свет отбрасывает своеобразно-резкие тени, странно выделяя пейзаж вокруг, и без того чужой, нерусский. Из-за этого даже хорошо известные места узнаются с трудом.
Сдав раненых, Буторов увел своих людей на базу, куда они попали только с рассветом. Усталые, но как никогда довольные собой, санитары и врачи впервые после выезда на войну заснули с глубоким чувством исполненного долга.
По-прежнему всех удивляли чересчур жидкая передовая линия, малочисленность артиллерии и отсутствие каких-либо резервов в ближайшем тылу. И это при такой густоте окружавшего немецкого населения и глубине нашего продвижения по неприятельской территории! Как увязать и то и другое, никто не знал. Оставалось лишь недоуменно разводить руками.
Штаб дивизии настойчиво продолжал мучить Буторова с его людьми бездельем. Николай уже подумывал, как бы поставить вопрос о прикомандировании к другой дивизии, когда рано утром к нему в дом, занятый под штаб-квартиру, влетел взволнованный старший санитар, запричитав:
– Николай Владимирович, вставайте! Ночью штаб дивизии снялся и ушел!
– Ты что такое говоришь? – не поверил спросонья Николай. – Что ж мы, по-твоему, совсем одни остались?
– Да нет. Еще телефонисты вот есть. Они говорят, впереди никого, полки ушли.
– Ничего не путаешь? – Чувствуя нарастающую тревогу, Николай стал быстро собираться. – Не может быть, чтобы штаб дивизии так, за здорово живешь, взял да и бросил нас.
Но телефонисты подтвердили, что дивизия и в самом деле отошла. Никаким другим подразделением ее не заменяли.
– А вы почему тогда здесь? – недоумевал Николай.
– Ждем приказа об отходе, – услышал вполне лаконичный ответ.
Творилось что-то неладное. Правда, еще раньше на это, как предпосылки, указывали слегка изменившееся поведение местных бюргеров и некие таинственные огни, слишком похожие на сигнальные, которые вот уже несколько дней нет-нет да зажгутся в ночи по разные стороны фронта. Словно дети с кострами балуют.
При помощи телефонистов, раз уж они здесь, Буторов с трудом связался с Инстербургом. Узнал, что штаб командующего армией все еще там. Спросил, что ему делать в сложившейся обстановке. Немного погодя, вечером получил приказ: не задерживаясь выдвинуться в район деревни Тремпен[11] и поступить в распоряжение 4-го армейского корпуса.
До Тремпена было километров сто. Расстояние немаленькое. Выехали на рассвете, стараясь не задерживаться, хоть песчаные дороги порядком измучили лошадей. Николаю не давал покоя немецкий аэроплан, который взялся кружить над головами. Он так внимательно рассматривал отряд, наворачивая круги да опускаясь чересчур низко, что невольно закрадывались тревожные мысли.
Десятого сентября к десяти же часам утра они, не останавливаясь на ночевку, вошли в Тремпен. Туда накануне вечером отступил штаб 4-го пехотного армейского корпуса вместе со штабом 30-й пехотной дивизии после боя, в котором бесславно пропал весь Коломенский полк[12]. На счастье людей Буторова, к их приезду настало затишье, что позволило как следует отдохнуть.
Зато на другой день, спозаранку, бой разгорелся с новой силой. Часов в шесть утра Соллогуб, взяв часть двуколок и медицинского персонала, отбыл на правый фланг. Артиллерийская, пулеметная и ружейная стрельба становилась интенсивнее и громче, постепенно приближаясь. Бой был сильным и распространялся по всей линии фронта, потому Буторов никак не мог составить о нем даже приблизительного представления.
Вскоре появился полковой врач Ярославского полка, который сказал:
– Нам требуется ваша помощь на левом фланге. Там раненых много.
– Это куда ехать? – поспешил спросить Николай, видя, что доктор поворачивает лошадь, уже собираясь мчаться назад. Тише добавил, краснея под удивленно вытаращенным взглядом: – Нам в штабе не успели еще карты выдать.
Врач сжалился, пояснив:
– Дорога простая. При выезде из деревни нужно взять вправо и ехать дальше все время по прямой.
Собрав студентов-медиков и оставшиеся двадцать шесть двуколок, отряд вышел из деревни. Повернули направо и скоро добрались до развилки трех дорог.
– Вот так номер! – почесал затылок старший санитар. – И куда прикажете двигаться дальше?
Подумав, Николай выбрал среднюю, наиболее прямую. Путь этот оказался тяжелым. Песчаный грунт, частые подъемы. Ехали большим шагом. И вдруг дорога круто вильнула влево и завела в ложбину, сплошь забитую околотками разных полков. Они чего-то ждали, говорили слишком возбужденно. Видно, что нервничали. Буторову показалось, что в этой ложбине царит паника. Пока тихая, но готовая в любой момент взорваться, заставляя бежать без оглядки. Такая и до России погонит, недорого возьмет…
На выезде, когда впереди открылся горизонт с видневшимися вдали перелесками, встретились два казака. Ехали они спокойно, легкой рысцой, не обращая внимания на посвист редких пролетающих пуль.
– Эй, служивые! – окликнул их Буторов, когда приблизился. – Не знаете, где Ярославский полк[13]?
Казаки, не спеша, остановили лошадей, перекинулись меж собой парой фраз.
– Что-то не припомним, где он может находиться, – спокойно, с расстановкой произнес один из них. – Но в этой стороне, куда вы едете, точно его не найдете. Там такого нет.
– Назад вам надобно, – чинно кивнул второй.
Скупые движения и ровный, деловой тон казаков были настолько неторопливы и действовали успокаивающе, что невольно подумалось: «Какие же паникеры в ложбине сидят! Ничего ж плохого еще не произошло, а уже боятся».
Поблагодарив казаков, Николай повернул отряд и погнал рысью обратно к перекрестку. Благо дорога шла теперь под уклон.
В опустевшей ложбине встретили вестовой отряд, оставленный для связи со штабом. В нем подсказали, что на пересечении нужно брать не среднюю, а правую дорогу и что надо бы поторопиться, так как в полку много раненых и отряд уж давно там ждут не дождутся.
Быстро подъехав к перекрестку, встали на нужную дорогу, но скоро вынуждены были с нее сойти, чтобы пропустить шедшую навстречу колонну пехоты и ехавшую за ней батарею.
Первая с момента выезда на войну крупная воинская часть, повстречавшаяся отряду.
Проезжая полем вдоль дороги, Буторов и его санитары с любопытством разглядывали плотные колонны солдат и тяжелые орудия в конских упряжках из четырех лошадей. Пехота встала и посторонилась, пропуская вперед артиллерию. Та покатила с неимоверным шумом и грохотом. А солдаты, довольные случайно подвернувшемуся привалу, скинули винтовки с плеч. Кто присел на край дороги, кто просто стоял расслабленно, уперев приклады в землю. Некоторые глядели сердито на проезжающие пушки, словно вовсе не рады нежданному отдыху. Слышалась добродушная ругань. Появились кисеты, зачиркали спички, запахло махоркой. Но перекур оказался недолгим. Батарея прошла. Заголосили луженые глотки унтеров. Посыпались команды. Солдаты, нехотя вставая, начинали сходиться, и колонна, снова став монолитной, задвигалась, потекла по дороге.
– Перегруппировка? – предположил старший санитар.
Хорошо бы. Коли так, еще не все потеряно…
Чуть дальше навстречу попался неуклюже сползающий с холма несуразных размеров полковой фургон для раненых. Рядом с ним ехал незнакомый врач.
– Вы куда? – не замедлил спросить он.
– За ранеными, – ответил Буторов.
У врача удивленно поднялись брови:
– Да там же немцы!
Пребывая под впечатлением от недавней встречи с рассудительными казаками и спокойного вида только что прошедшей колонны, Николай лишь улыбнулся. Возможно, этот врач такой же паникер, как и те, что прятались в ложбине. Однако, заметив одиноко ехавшего верхом артиллерийского полковника, он решил перестраховаться.
– Разрешите уточнить? – спросил офицера, взяв под козырек. – Можно ли здесь проехать вперед за ранеными?
– Если поторопитесь, успеете, – буркнул полковник, машинально козырнув в ответ.
И проследовал дальше, не считая нужным продолжать беседу. Видимо, понял, что имеет дело с ужасным профаном. А Буторов повернулся к отряду и решительно махнул рукой:
– Поехали!
Стрельба прекратилась, и сразу же исчезли все звуки. Словно вымерло все кругом. Даже тарахтение двуколок и топот лошадей, перебиравшихся с горки на горку, нисколько не нарушали полнейшей, в буквальном смысле слова мертвой, тишины.
Солнце вскарабкалось уже довольно высоко и начинало припекать. В поле то справа, то слева виднелись редкие, одиночные фигурки солдат, медленно бредущих к Тремпену. Санитарный отряд приближался к фольварку, такому же зловеще-молчаливому, как и вся тишина, окутавшая окружающее пространство.
Остановив двуколки в тени редких деревьев, что росли вдоль дороги, Николай подозвал вестового и поехал с ним к маячившим впереди зданиям. На противоположной стороне фольварка, у колодца, наполовину закрытого непонятной надстройкой, копошились какие-то люди.
– Русские, кажись, – неуверенно обронил вестовой.
Похоже на то. У немцев форма больше серая, чем зеленая.
Подъехали ближе. Точно, наши!
Солдаты, обступив колодец, жадно пили воду. Только-только, казалось бы, достали полнехонькое ведро, а в нем уже пусто, и снова гремит, разматываясь, цепь. Плеск воды внизу и натужный скрип ворота, поднимающего живительную влагу.
– Быстрее, братцы. Быстрее, – торопит усатый капитан с перебинтованной головой.
Вокруг полно раненых. Они сидят, лежат, стонут, просят пить…
– Дуй за двуколками, – сказал вестовому Буторов, а сам направил коня в сторону колодца.
Возле офицера спешился. Выяснил, что это и есть Ярославский полк.
– Все, что от него осталось, – процедил капитан сквозь сжатые зубы и заговорил с жаром, отчаянно жестикулируя и волнуясь, еще, как видно, не придя в себя после пережитого: – На идеальных позициях стояли. Не позиция, а сказка. Черта лысого нас бы оттуда немец выкурил. Не было совершенно никаких причин отходить. Но нам приказали… Отступать пришлось среди бела дня. Шли по ровному, совершенно гладкому полю. А тут немецкие пулеметы. Строчат, гады, словно ленты у них бесконечные. Бьют и бьют, не переставая. Целыми рядами людей косили… – нахмурился, помолчав. Потом вздохнул: – Раненые в большинстве так и остались там, в поле. Их даже перевязать некому. Околотки, естественно, драпанули, только их и видели. Еще удивляюсь, что вы здесь… А ну, ребята, кончай воду хлебать! Идти надо…
Собрав уцелевших солдат, капитан повел остатки своего воинства дальше.
Легкораненые все продолжали стягиваться к фольварку. Они же несли тяжелораненых – в основном в палатках, внутри которых те выглядели неживыми грудами бесформенных масс. Когда с прибытием обоза началась погрузка, Буторов понял, что места всем явно не хватит. В одну двуколку входило лишь двое носилок.
– Вы бы вперед проехали, – говорили солдаты. – Там наших много. Тащатся еле-еле. Еще и других на себе волокут…
Что же делать? Буторов заметался в растерянности. Послал за студентами-медиками, но тех не нашли. Уже, наверно, убежали вперед – на перевязки.
Тяжелораненых все больше. Их подносят и подносят. Нет, определенно всех не забрать…
Один пожилой, раненный в живот бородач, лежавший на земле, неожиданно схватил Буторова за голенище сапога. Николай думал, тот запросит пить, и приготовился уже ответить дежурное «вам нельзя» да идти себе дальше, как вдруг встретил его глаза. Сколько боли было в них! Боли, сожаления и страха.
– Не бросайте, братки, – слезливо запричитал раненый слабым, надтреснутым голосом, сообразив, очевидно, что всем в двуколках не разместиться. – Христом богом вас молю!.. Заберите… Не оставляйте херманцу…
Заголосили в том же духе и те, кто находился поблизости. Солдаты, которые только что героически жертвовали своими жизнями, а теперь полуживые развалины, умоляли сжалиться над ними, забрать во что бы то ни стало. Просили как милость, как подаяние…
Николай водил по сторонам растерянным взглядом, чувствуя подступающие слезы, и не знал, что предпринять. Еще и легкораненые торопили с погрузкой.
Санитары, слава богу, нашли выход. Притащили из какого-то сарая солому и начали заменять ею носилки, которые попросту выбрасывали. Работа закипела. Видя, что здесь обойдутся и без него, Николай взял десять двуколок и поехал вперед. Не одолев и версты, завяз в целой толпе раненых, ковыляющих, ползущих и подносимых со всех сторон. Кто-то уже залез на лошадей, остальные так набились в повозки, что те чуть ли не разваливались, а туда старались впихнуть еще людей. И ведь впихивали!
Но не было никакой грызни, ругани за места. Офицеры уступали солдатам, а те, в свою очередь, офицерам.
– Не надо меня… Не надо, – настаивал один капитан с тяжелым ранением головы, едва ворочавший языком. – Снимите… Пусть положат того… Солдата… Он в грудь ранен…
Его денщик, который и принес капитана, заботливо укутывал того шинелью, а Буторову шептал:
– Они еще контужены, помутились умом…
Забрать сразу всех не вышло, как ни старались. Не оборачиваясь, Буторов с тяжелым сердцем отдал команду:
– Закончить погрузку! Возвращаемся…
Когда взяли направление на Тремпен, а крыши фольварка исчезли за буграми, к отряду, откуда ни возьмись, крупной рысью подскочил офицер.
– Вы что тут делаете? – спросил он быстро, с удивлением разглядывая длинный хвост перегруженных двуколок.
– Раненых подбираем, – по-будничному, как о само собой разумеющемся, ответил Николай.
Тот почему-то удивился еще сильнее.
– И немцев?
У него что, пленные? И куда их брать прикажете?
– Да, и немцев, но у меня больше нет мест.
– Ну да, ну да, – задумчиво обронил офицер. И вдруг выдал: – В таком разе вам действительно бояться нечего. Немцы вас все равно отпустят по Женевской конвенции.
Теперь удивился Буторов:
– Да мы отнюдь и не мечтаем к ним попасть!
– Разве не знаете, что наши отошли? Тут свободное пространство верст в пять образовалось. Можно ежеминутно ждать немецких разъездов. С таким обозом вам вряд ли уйти. Во всяком случае, поспешите.
На прощание Николай горячо пожал руку незнакомца, и тот умчался прочь.
Да, нужно было поторапливаться. Но студенты-медики до сих пор не нашлись, а везти раненых рысью было бы верхом безответственности. Не для того их подбирал, чтобы угробить по дороге. Пойти на такое Буторов не мог.
Эти несколько верст тянулись мучительно долго. Нестерпимо пекло не на шутку разгулявшееся солнце. Давила на голову духота. И подозрительная тишина вокруг настораживала. Дорого бы дал Николай за одно только легкое дуновение свежего ветерка. Все, кроме, пожалуй, свободы…
Кое-где поднимались прямые столбы черного дыма пожаров. Каждый раз въезжая на холм, Буторов опасался увидеть неприятельский разъезд. Глупо быть плененным двумя-тремя немцами, когда с тобой здоровые санитары, а у раненых полно винтовок. Но что делать с Женевской конвенцией? Есть ли у Николая право, как у врача, как у старшего всей этой команды, подвергать солдат, взятых им под защиту Красного Креста, риску получить новые раны, а то и умереть? Перед ним стоял выбор. И хорошо ли, плохо ли, но в итоге, думая о тех, кого сейчас везет, он решил – если дорогу заступят немцы, надо сдаваться.
Студенты-медики нагнали обоз уже под самым Тремпеном. Все живы и здоровы.
Не успела развеяться эта радость, как последовала новая. Пересекли, наконец, свою обидно жидкую цепь стрелков. Только вздохнули с облегчением, как вдруг откуда ни возьмись выбежал полковник, тот самый артиллерист, скупо бросивший на дороге: «Если поторопитесь, успеете». Сейчас он был приветливее и больше расположен к разговору, чем тогда.
– Я виноват, что не уведомил вас, – протянул он руку, широко улыбаясь. – Вы многим рисковали. Как я рад, что вам удалось выбраться! Ваше счастье, что не было артиллерийской стрельбы. Нам бы самим пришлось вас расстреливать. Очень, очень рад, что вы-таки проскочили. Позвольте узнать вашу фамилию. Какой вы части?
Удовлетворив его любопытство, Буторов повел устало бредущий отряд к Тремпену.
Город горел. Казалось, его все покинули. Кругом запустение и пожары…
Несмотря на это, среди сплошного дыма и летающего пепла удалось разыскать двух студентов-медиков, которые были в группе Соллогуба. Последний, по их словам, со своей частью двуколок, перегруженных ранеными, ушел на Гумбинен, минуя Инстербург. Эти же двое вытянули жребий остаться с теми, кому не хватило места в повозках, и терпеливо ждать плена. От них узнали, что старший врач и несколько санитаров получили легкие ранения.
Забрав невезучих студиозусов и солдат, за которыми те присматривали, отряд направился дальше. Солнце вроде сжалилось и палило теперь не столь нещадно. Даже небольшой ветерок поднялся. Стрельбы не слышно. Чем не благодать?
Вдруг справа разорвалась шрапнель. Кони дернулись в испуге. Далеко, слава богу. Следом прогремело еще два взрыва. Уже немного ближе. Пора уносить ноги…
Выехав из Тремпена, тронули лошадей рысью. Жестоко, да. Но куда деваться?
Зато Соллогуба нагнали. Тогда и поехали шагом. Свидеться с остальными Сашка уж и не чаял, уверенный, что весь отряд угодил в плен.
На дорогу от Тремпена со всех сторон стягивались отступающие части. Колонны скрывались за горизонтом сзади и спереди. Продвижение становилось все медленнее. Солнце почти село, когда на соединении двух дорог какой-то штабс-капитан, весь в пыли, с измученным, посеревшим лицом, остановил головную двуколку и пропустил вперед обоз, шедший по другой дороге. Два корпуса сливались в один поток. Проходили парки, снарядные ящики, артиллерия, саперы, опять артиллерия, опять ящики, и не видно было им конца и края. Каждый раз, как только Буторов хотел тронуться, на него сердито прикрикивали, и снова приходилось ждать.
– Послушайте, господин штабс-капитан, – пытался вразумить офицера Николай, – мы везем до тысячи только тяжелораненых. Израсходовали все перевязочные средства. Каждая минута задержки может стоить ряда жизней…
– Что вы пристаете с ранеными! – вдруг сорвался тот, закричав озлобленно. – Вопрос идет об оставлении Восточной Пруссии, а вы с ранеными! Не про-пу-щу! Точка!
Вот оно что! Отступали, отступали и докатились. Теперь в России придется воевать. Горько. Повисло скорбное молчание, будто на похоронах стояли. На душе мерзко и тоскливо.
Стой, не стой, а ехать-то надо. Не то действительно, чего доброго, прямо здесь придется хоронить умерших. Всеми правдами и неправдами Буторов упросил-таки, чтобы их отряд пропустили. Наконец, они вклинились в колонну. Ехали бесконечно долго, все время шагом.
Несмотря на вечер, стояла невероятная духота. Виной тому была поднятая пыль, в которой задыхались люди, болели глаза, пересыхали глотки. Раненые стонали, просили пить. Пришлось остановиться и дать им воды. Когда тронулись дальше, хвост шедшей впереди колонны скрылся из виду. Образовался приличный разрыв.
Впереди показался мост через реку. Там забегали, стали показывать знаками, чтобы скорее переходили на противоположный берег.
– В чем дело? – спросил Буторов у солдат на мосту.
– Взрывать будем, – пробасил какой-то здоровенный сапер. – Тут перед вами колонна кончилась. Так мы думали, что уж все. Никого не будет. Хотели того… А тут вы.
– Вы что? Белены объелись? – взвился в седле Соллогуб. – Да за нами еще на несколько верст войска тянутся.
– Ничего не знаю. Нам сказано, мы делаем. Счас пройдете, если через полчаса за вами никто не объявится, то и рванем…
Так и получилось, что в Гумбинен отряд Буторова вошел последним…
Чуть светало, когда Николая потребовал к себе комендант.
– Соседняя полустанка дала знать о появлении немецкого разъезда, – сообщил он, заметно волнуясь. Мясистое лицо на этот раз было бледнее, чем шторка на окне его кабинета.
– И что вы намерены делать?
– Что и должен. Отправлю подрывной поезд и взорву станцию. Всех предупредил, только вы остались. Вот…
– Господи! – Буторов потер виски. – Все всё взрывают. Что за сумасшествие!
– Это сумасшествие называется войной, – обронил печально комендант. – Эвакуируйтесь. Чем быстрее, тем лучше.
– Хорошо. Где мой дежурный санитар? Пошлю его собирать отряд…
Выехали быстро, еще сонные. Но утренняя прохлада скоро всех взбодрила.
Порожний обоз рысью катил по пустынному шоссе. Где-то впереди лежал Сталюпенен[14].
Глава 4. Два орла
– Господин капитан! Господин капитан!
Поначалу Борис даже не понял, что обращаются к нему. Капитанов здесь хватало. Мало того, что штаб следовал полным составом со всеми обслуживающими командами, так еще и в общей колонне между пехотными полками шел. Впереди верхом командир корпуса, за ним начальник штаба, затем офицеры штаба, которые с лошадьми, а следом безлошадные на десяти автомобилях. Правда, скорость была не больше, чем у пеших. А еще слева и справа от штабной колонны с дистанцией саженей в пятьдесят скакали по целине два взвода казачьего конвоя. Очевидно, чтобы уберечь родных командиров от нападения из засады. Не успели вступить в бой, а противника уже опасаются.
Вообще эта странная боязнь возникла у командования, как только поезд прибыл на станцию разгрузки. Там, на вокзале, их ждал начальник штаба фронта генерал Орановский[15]. Он сразу потребовал командира корпуса к себе, и тот не замедлил явиться, прихватив заодно и Сергеевского с Огородниковым.
Перед войной Орановский уже в чине генерал-лейтенанта занимал пост начальника штаба Варшавского военного округа. Ему не было и пятидесяти. Выглядел соответствующе: небольшая голова на сравнительно тонкой шее, туго стянутой воротником застегнутого на все пуговицы мундира; округлое, холеное лицо; большой лоб; короткая прическа с левым пробором и жиденькой, уложенной вправо челкой; аккуратно подстриженные усики; просветленный, прямой взгляд. Сейчас, правда, припухшие веки нависали над глазами, превратив их в узкие щелки, что придавало лицу генерала тоскливое выражение.
Причина этого стала понятна, когда он произнес:
– Господа офицеры, вынужден вам сообщить, что положение на фронте сложилось угрожающее. На сегодняшний день с полной уверенностью можно сказать, что Вторая армия Самсонова потерпела крах. Ее разбитые части в беспорядке отходят из Восточной Пруссии. Сам генерал Самсонов, по непроверенным данным, застрелился.
Неожиданное известие произвело эффект звонкой пощечины. Пусть все уже и так знали о тяжелом положении Второй армии, но какой бы трудной ни была ситуация, каждый тешил себя надеждой на лучшее.
В душе заскребли кошки. Подавленное настроение и явная растерянность Орановского только усугубляли и без того тягостное чувство надвигающейся беды. Борис вдруг понял, что дела здесь идут из рук вон плохо, а в управлении фронтом царит паника на пару с полнейшей неразберихой. От столь неожиданного для себя открытия он испытал ужасный душевный гнет и недоумение.
«Значит, молва не врала», – подумал в растерянности, вспоминая те нелепицы, которые слышал в пути на разных станциях, в особенности здесь, по приезде. Кто-то говорил, что Самсонов погиб, кто-то уверял, что попал в плен. Другие же вообще рассказывали нечто несуразное. Якобы штаб Второй армии, располагаясь где-то в лесной сторожке на пересечении германских шоссе, внезапно был окружен колоннами броневых автомобилей, невесть откуда там взявшихся, и уничтожен в тылу своих же войск. Одному лишь генералу будто бы удалось выскочить в окно и лесами добраться до Варшавы. Самое странное, что этим слухам безоговорочно верили. Причем не кто иной, а высокое корпусное начальство. Командиры, лишенные привычного представления о войне, чувствовали себя совершенно выбитыми из колеи. Повсюду им стали мерещиться бронеавтомобили, шпионы, засады и прочие неприятельские козни. Такое настроение иначе как паникой не назовешь. Она быстро распространялась по корпусу, отравляя абсолютно всех – от высших чинов до рядового состава. И шла не откуда-нибудь, а от собственного охваченного страхом командования, приведенного в полную негодность одними только слухами о самсоновской катастрофе. Говорят, рыба гниет с головы? Боже, как это верно!
В тот день Орановский не только огорошил плохими новостями и без того перепуганных Бринкена с Огородниковым, на бледные лица которых больно было смотреть, но и обрисовал общую задачу корпуса.
– Вы переданы Северо-Западному фронту, – говорил он слегка неуверенно, подолгу разглядывая карту и размышляя чуть ли не над каждым словом. Будто и сам не знал, как поступить с нежданно-негаданно свалившимися на голову четырьмя Финляндскими стрелковыми бригадами, мортирным артдивизионом, двумя сотнями Оренбургских казаков, саперным батальоном, авиационным отрядом с машинами, почти непригодными к полетам, и Донским казачьим полком, вместе взятыми. А это без малого тридцать два батальона при ста тридцати вьючных пулеметах, сто десять орудий, девять сотен конницы да шестнадцать полковых команд в придачу. – …Направляетесь по двум железным дорогам: часть эшелонов уже ранее прошла на Белосток-Граево, часть вместе с вашим штабом убудет на Сувалки-Августов. Корпус должен встать между Первой армией Ренненкампфа и остатками Второй. Сосредоточение основных сил в районе Лыка[16]…
Пришлось повременить с разгрузкой и ехать дальше. На рассвете пятого сентября поезд был уже в Сувалках, а затем добрался до Августова.
День пролетел в сплошной беготне. Сергеевский то встречал составы с войсками, выясняя, какие части корпуса пришли, то ждал прибывающих, то производил выгрузку, то ставил задачи командирам частей, то мотался на телеграф и обратно.
Зато знал, что 1-я и 3-я Финляндские стрелковые бригады высаживаются вперемешку в местечке Граево и на русско-германской пограничной станции Гросс-Просткен на линии Осовец-Лык. Из этих частей один Финляндский стрелковый полк выдвинут к перешейку среди Мазурских озер у города Арис[17], сводный отряд из трех других Финляндских полков наступает на Иоганнисбург[18], где по имеющимся сведениям находится казачья сотня разбитой 2-й армии, ничего не знающая о противнике. Севернее Ариса части 1-й армии, главные силы которой сосредоточены дальше на север, наблюдают за перешейками между Мазурских озер. Остатки 2-й армии находятся слева, примерно на фронте Щучин-Млава. По всему выходило, что противник еще где-то за Мазурскими озерами, а где именно – никому толком не известно.
Высадка подходила к концу. Отправлялись вперед сводные отряды случайного состава, кто выгрузился раньше, а штаб все так же продолжал сиднем сидеть в своем уютном вагоне. Словно не на войну приехали, а учебные маневры проводить.
Вечером шестого сентября Сергеевский узнал, что передовые части корпуса, двигавшиеся на Иоганнисбург, встретили серьезное сопротивление германцев и отходят к Бяле. Начальство, выслушав его доклад, и теперь не зачесалось. Приказало спокойно готовиться к выступлению на Лык, запланированному на завтра.
– Начинаем «по-маньчжурски», – невесело усмехнулся Земцов, комментируя это распоряжение. – Воюем отрядами случайного состава, со случайными же начальниками и дезорганизованным управлением.
Кивнув, Сергеевский с нескрываемой злостью добавил:
– В то время как настоящее начальство сидит в Августове, не высовывая носа из штабного вагона, и расстраивает свое больное воображение тыловыми сплетнями…
С утра штаб корпуса выступил, наконец, из Августова вместе с частями 4-й Финляндской стрелковой бригады. Шли несколько кружным путем, через Райгрод, зато по идеально гладкому шоссе.
Сергеевский начал этот марш в автомобиле вместе с другими офицерами штаба. Однако уже через несколько верст они нагнали свой обоз, по неизвестным причинам оказавшийся вдруг впереди.
– …Господин капитан!
Услышав знакомый зычный голос, Борис обернулся. И увидел свою лошадь!
Конечно же, кричала не она. Горланил вестовой, который сам ехал верхом и вел за узду лошадь Бориса.
При переводе в Генеральный штаб у Сергеевского своей лошади не было, хотя в мирное время он имел право получить ее по казенной цене из какого-либо кавалерийского полка. Будучи еще в Финляндии, где в состав корпуса входил драгунский полк, оставшийся впоследствии в Гельсингфорсе, генерал перед самым отъездом приказал командиру драгун уступить Борису одну из строевых лошадей, доставив ее в Выборг ко времени прохода штабного эшелона, и погрузить в этот эшелон. Ему прислали не только лошадь, которая оказалась прекрасно выезженной полукровной кобылой, но и сопровождающего – Петра Семенова, тоже при лошади. Так Сергеевский стал счастливым обладателем двух лошадей и одного расторопного вестового, о чем после ни разу не пожалел.
– Семенов? – удивился и обрадовался Борис, выпрыгивая на ходу.
Из на столь малой скорости двигавшегося «шагом» автомобиля сделать это было проще пареной репы.
Широко улыбаясь, драгун царским жестом подвел красавицу кобылу, словно знал, что «его благородие» будет весьма доволен. А ведь прав, сукин сын. Конь на войне – ближайший друг и соратник офицера, особенно штабного.
Не без удовольствия Сергеевский забрался в седло и дальше поехал верхом. Впрочем, его наслаждение длилось лишь до большого привала, устроенного под самым Райгродом.
– Борис Николаевич, – обратился Бринкен по-отечески, словно и не приказывал вовсе, а просил о каком-то незначительном одолжении. – Возьмите со штабс-капитаном Земцовым конвой из двух стрелков от ближайшей пехотной части да поезжайте автомобилем прямо в Лык. Подберите там квартиры для штаба и корпусного управления.
Любая просьба, если она звучит из уст высокопоставленного начальства, является приказом. Делать нечего, снова пришлось отдать лошадь Семенову и пересаживаться в автомобиль.
Вместе с Земцовым и двумя рядовыми быстро покатили в Лык через Граево.
– Нет, это нормально? – возмущался по пути Мишель. – Оставить штаб корпуса без единого генштабиста. Зато комендант со всеми хозяйственниками, чьи прямые обязанности мы с вами едем сейчас исполнять, празднуют бездельника.
Понимая правоту Мишеля, говорить о наболевшем Сергеевскому, между тем, не хотелось. Попробовал отшутиться, брякнув:
– Отведение квартир нынче, по-видимому, входит в ближайшие обязанности Генерального штаба…
На что услышал новую негодующую тираду Земцова и больше в полемику не лез. Вскоре умолк и штабс-капитан, очевидно, утомленный собственной руганью. Только сопел возмущенно большую часть дороги.
Примерно в час дня автомобиль въехал в Гросс-Проткен. Через это селение пролегала государственная граница. До нее вдоль шоссе тянулись домики русских крестьян. Вполне себе ничего – чистенькие и довольно ухоженные, но уж очень скромные на вид. Низкие крыши, крохотные оконца, узкие двери.
Около последнего, на обочине, возвышался бело-черно-желтый столб, на вершине которого горделиво расправил крылья двуглавый орел. Чуть дальше, шагах в тридцати, валялся в придорожной пыли почти такой же столб с другим, уже одноглавым, поверженным наземь орлом. Сразу же за ним начиналась немецкая улица, разительно отличавшаяся от русской стороны. Огромные двухэтажные здания, садики с железными решетками, прекрасные службы, тротуары и прочее, прочее, прочее…
– Совершенно другой мир! – не сдержал своего восхищения Земцов.
Солдаты конвоя, как и он, энергично вертели головами, рискуя свернуть себе шеи.
– Привыкайте, Мишель, – усмехнулся Борис. – Ведь мы и правда в другом царстве, ином государстве.
Через несколько минут быстрой езды автомобиль въехал в Лык, уже более двух недель занятый русскими войсками. Казалось, войны здесь не было вовсе. На улицах полно народу, работают все магазины и кафе. При въезде в город навстречу попались две миловидные барышни, одетые в яркие белые платья. Завидев русских, девушки замахали платками, радостно выкрикивая какие-то приветствия на немецком.
В центре города гремела музыка. Там по главной улице с оркестром и развернутым знаменем во главе проходила колонна одного из полков 2-й бригады, отправленной из Августова коротким путем. Незабываемое зрелище, похожее на самый настоящий парад. По бокам, стараясь держаться ближе к оркестру и знамени, со всем усердием стуча подошвами башмаков о брусчатую мостовую, упоенно маршировала стайка немецких ребятишек. Яркое солнце блестело на русских штыках, мерно раскачивающихся в такт шагов. Веселое щебетание птиц, восторженные крики жителей. Повсюду радостные улыбки, цветы…
– Даже не верится, что идет война! – прокричал чуть ли не в самое ухо Борису перевозбужденный Земцов.
Проехав немного дальше, увидели немецкую гауптвахту. Небольшое караульное помещение, миниатюрный плац перед ним, полосатая будка на входе и солдат «на часах».
– Все как в России, – снова не удержался от комментариев Мишель.
Остановились. Борис, неплохо говоривший по-немецки, выскочил из автомобиля и принялся болтать с прохожими. Выяснив, что ему требовалось, вернулся к машине и с весьма довольным видом отрапортовал:
– Здесь недалеко, за гауптвахтой, большой дом есть. Школа какая-то. Посмотрим?
Проехали туда. Здание, стоявшее в глубине сквера, утопало в зелени. Просторное, в два этажа, с множеством различных помещений, как и полагается всякой школе, оно было совершенно пустым. И двор большой, вместительный. Идеальное место для штаба.
– Есть кто-нибудь?! – крикнул Борис в вестибюле, слушая эхо своего ломаного немецкого. – Эй, хозяева!
На лестнице, ведущей на второй этаж, появилась тощая старуха. Строгое платье темных тонов, плотно облегающее худое тело. Седые волосы собраны в жидкий пучок на макушке. Бледное, иссохшее лицо в морщинах. Она легко бы сошла за привидение, не трясись от страха так сильно, что едва могла говорить. У Бориса, пожалуй, впервые с момента перехода границы возникло четкое понимание того, что теперь он в чужой, неприятельской стране.
– Вы кто, фрау? – спросил по-деловому сухо, стараясь в то же время не испугать старуху еще сильнее.
– Привратница, герр… офицер, – глотая слова, проговорила дама с волнением.
– Я представитель русского командования. Это здание будет занято под штаб.
– Понятно… Мне уйти?
– Напротив. Хочу вас попросить помочь нам все здесь осмотреть. Не откажете?
– Как же я смогу…
То ли страх не дал привратнице покинуть школу, то ли чувство долга, а возможно, ей попросту некуда было деваться. Так или иначе, она осталась.
Осмотрев с ее помощью весь дом, Сергеевский распределил комнаты, которые выглядели более-менее прилично, по командам корпусного управления. Затем приказал старухе сварить кофе, а сам с Земцовым, выставив привезенных солдат в караул, пошел в город на поиски чего-нибудь съестного.
В магазинах было не протолкнуться. Среди местных часто мелькали русские солдаты, тоже делавшие покупки. На счастье, торговля шла в том числе и за рубли. В одном из магазинов Сергеевский приобрел колбасу и сыр, в другом – шоколад и печенье. Все немецкого производства, хотя в последнем случае продавец, внешне подозрительно смахивающий на еврея, предложил купить у него печенье московской фирмы, но заломил невообразимо высокую цену.
– Что?! – поразился Мишель, услышав названную сумму. – За рубль и десять копеек? Это с каких пор обычное печенье так подорожало? Или просто потому, что оно русское?
Борис, конечно, понимал, что здесь это заграничный товар. К тому же идет война… Только пересилить себя не мог, чтобы так вот запросто взять да и заплатить втридорога за такую-то малость. Ей же в Москве красная цена тридцать копеек. Но спорить не стал, попросив продавца показать что-нибудь другое. В результате купили очень дешевое немецкое печенье. Ничем особенным оно не отличалось. Это поняли, когда вернулись в здание школы, где долго пили кофе. Сначала с бутербродами, потом вприкуску с печеньем да шоколадом. И снова с бутербродами, успев изрядно проголодаться, поскольку впустую прождали штаб до самого вечера. Только перед темнотой пришел единственный автомобиль с председателем корпусного суда, прокурором и еще несколькими офицерами. Им удалось отпроситься из колонны, которая до сих пор двигалась по шоссе на Граево. Никаких особо ценных новостей они не привезли.
Темнота, поглотившая город, принесла тишину и опустение на улицах. Жители будто затаились в предчувствии чего-то нехорошего. И это нехорошее не замедлило явиться в облике изрядно потрепанных русских солдат крайне замученного вида. Разрозненными группами они брели по главной улице, едва волоча ноги. Нескольких задержал караул на гауптвахте. Караульный начальник – пожилой унтер с густыми рыжими усами – не нашел ничего лучше, как послать вестового за ближайшим офицером. А поскольку рядом располагалась школа, занятая под штаб, идти опрашивать задержанных пришлось не кому-нибудь, а Сергеевскому.
Солдат было пятеро. Их держали на плацу.
Оружие, похоже, не забрали, но двое без винтовок. Кое у кого нет головных уборов, лишь всклокоченные волосы торчком. Гимнастерки грязные, местами порваны и в подпалинах. И глаза у всех что плошки, словно черта видели.
Они тараторили, перебивая друг друга, не слушая, что говорит сосед или о чем их пытаются спросить. В общем гвалте проскакивали отдельные пугающие фразы:
– Сильный огонь… Наши разбиты… Все кончено… Все погибли…
Где и что именно произошло, Борис не понимал. А вразумительных ответов добиться не мог, как ни пытался.
Пока пробовал разговорить солдат, где-то дальше по главной улице раздались одиночные выстрелы. Затем кто-то дико заорал, и послышался звон осыпающегося стекла. Сергеевский подозвал унтер-офицера:
– Вышлите патруль. Пусть прекратят это безобразие.
– Извините, господин капитан, но я подчиняюсь не вам, а коменданту города. К тому же не считаю возможным разъединять силы караула, когда, судя по всему, – кивок на задержанных, – поблизости находится неприятель.
– Что ж, тогда я забираю у вас этих солдат. – Борис повернулся к пятерым опрашиваемым, коротко бросив: – За мной! – И сам направился на звуки выстрелов.
Луна светила ярко, и вся улица была как на ладони. Теплый, нагретый за день воздух еще не остыл. В такую-то пору с барышней надо прогуливаться, а не с рядовыми по переулкам бегать…
Держась в тени домов, Сергеевский со своим небольшим отрядом обогнул один квартал и выбежал снова на главный проспект. С противоположной стороны по тротуару брел солдат. Дико крича во всю глотку, он с размаху вколачивал приклад своей винтовки в окна, что попадались ему по пути. В основном от рук вандала страдали магазины. Разбив очередное стекло, в следующее он выстрелил. Брызнули осколки.
Пьяный, что ли?
– Эй, солдат! – окликнул его Борис.
Тот повернулся на голос и вдруг быстро пальнул навскидку. Пуля, вжикнув где-то в стороне, громко щелкнула о камень за спиной. Не медля ни секунды, Сергеевский бросился к солдату, на ходу крикнув:
– Стать смирно!
Обезумевший вояка передернул затвор и прицелился в грудь набегающего Бориса. Вот-вот грянет выстрел. Почти в упор. Шансов никаких. Сергеевский видел, что ничего не успевает сделать…
Сухой щелчок хлестнул по нервам. Осечка! В следующее мгновенье капитан оказался рядом. Схватил винтовку за штык и задрал вверх. Тут же появились его солдаты. Скрутили стрелявшего, вырвав оружие из рук.
Молодой парень. Судя по погонам, из финских стрелков. Только взгляд сумасшедший, и бормочет что-то совсем уж бессвязное. Или напился вдрызг, или обезумел.
– Ведите его в караулку, – приказал Борис, приняв у солдат отобранную винтовку.
Шагая за ними, вынул из ствола патрон. Целый, но с пробитым капсюлем. Руки дрожали, а на лбу выступил противный холодный пот. Сергеевский вдруг ясно представил себя лежащим на мостовой с этой пулей в груди. Хотел забросить патрон куда подальше, в темноту какого-нибудь переулка, но, подумав, сунул в карман. Пусть напоминает о первой опасности, которая вполне могла стать и последней…
«Свой же солдат чуть не убил, – сокрушенно покачал головой, вытирая трясущейся ладонью вспотевший лоб. – Господи, что за нелепая была бы смерть!»
Когда добрались до гауптвахты, Борис более-менее пришел в себя. Там встретил обеспокоенного Земцова. Его, как выяснилось, встревожили выстрелы и появление беглецов.
А последних становилось все больше. Из их сбивчивых рассказов удалось, наконец, узнать, что идут они из-под Бялы, где наши части потерпели поражение…
Штаб корпуса так и не объявился.
Полночи прошло в полном неведении и ожидании врага. Лишь после часа прибыл офицер, который передал Борису приказ ехать на станцию Граево, где, как он пояснил, остановился штаб. Но следовать туда требовалось не прямо, а кругом, через Райгрод, поскольку командование не исключало, что короткий путь перерезан конницей противника.
Отправились тотчас. Ехали всю ночь. Без огней и по незнакомым дорогам это было довольно-таки нелегко. Но, слава богу, обошлось без происшествий.
На рассвете, прибыв на место, Сергеевский нашел командира корпуса и начальника штаба в небольшой комнатке станционного телеграфа. С ними там находилось человек пять штабных офицеров. В спертом воздухе телеграфной висело скорбное молчание, навевая дурные предчувствия. О поражении при Бяле начальство уже знало. Но сведения об этом поступали, похоже, довольно размытые. Штабисты выглядели крайне уставшими. Никто ничего не делал. Все просто сидели и ждали. Чего, спрашивается? У моря погоды?
Борис тоже слонялся без дела, наблюдая, как являются всякие лица то к Бринкену, то к Огородникову, а то и к обоим сразу с весьма противоречивыми сведениями о вчерашнем бое под Бялой. По всему выходило, что 1-й, 4-й и 12-й Финляндские стрелковые полки при трех батареях разных дивизионов с 38-м Донским казачьим полком под общим началом командира 12-го полка полковника Погона в попытке овладеть Иоганнисбургом потерпели неудачу. Отошли к Бяле, где были внезапно атакованы неизвестными силами германцев. Слушая эти доклады, Борис все больше понимал, что никто ничего толком не знает ни о противнике, ни о том, где сейчас находятся некоторые из бывших вчера у Бялы частей.
Весь день прошел в безделье. Когда стемнело, командир корпуса приказал Сергеевскому вернуться в Лык, найти там штаб 3-й бригады и выяснить положение ее частей у Ариса. И туда, и назад ехать пришлось опять через Райгрод, поскольку слухи о том, что на шоссе Граево-Лык хозяйничает вражеская конница, так и не утихли. А разведку туда послать – что, никто не додумался?
Всю ночь Борис провел в автомобиле, чертыхаясь и поминая «добрым» словом свое нерадивое начальство. По приезде в город он увидел перевязочный пункт. Явление вполне обыденное для войны, но когда сталкиваешься с ним впервые…
Пустырь на окраине. Повсюду рядами, прямо на земле разложены раненые. Все видимое пространство забито ими. Окровавленные люди не только лежат, но и ковыляют, пробираясь меж рядов, ползут или сидят. Побитые, окровавленные, искалеченные. Над пустырем сплошной стон с мольбами о помощи. Никакого света, кроме луны и нескольких ручных фонарей у санитаров. Но и этого хватило, чтобы разглядеть ужасную картину и поразиться ее широчайшим размахом. А по дороге к пустырю непрерывным потоком все тянулись и тянулись колонны с новыми ранеными – теми, кто пострадал в бою под Арисом. На Бориса это зрелище произвело тягостное впечатление, оставив неприятный осадок в душе.
К рассвету он был снова в Граево с известием о том, что 10-й Финляндский полк после очень тяжелого боя отошел в направлении на Лык.
К тому времени стала прорисовываться общая обстановка на фронте. Противник продвинулся вперед через южные и северные проходы между Мазурскими озерами. Часть германских колонн устремилась на восток, осуществляя глубокий охват армии Ренненкампфа с севера и северо-запада. Не вызывало сомнений, что, расправившись со Второй русской армией, враг теперь основательно взялся за Первую. И ее, судя по действиям немцев, ждала та же безрадостная участь.
В этой обстановке Сергеевский чувствовал себя мелкой, беспомощной букашкой, что судорожно вцепилась всеми лапками в тонкую соломинку, поднятую страшным ураганом и гонимую неизвестно куда по воле шального ветра. С первых дней на театре военных действий он, генштабист и офицер штаба совсем не маленького воинского формирования, не имел ни малейшего представления о том, что творится в корпусе.
Самое печальное, что не было никакой уверенности, ориентированы ли в обстановке лучше, нежели он, сами корпусные командиры. Во всяком случае, ни его, ни Земцова никто ни с чем не знакомил и деловые разговоры о положении войск с ними не вел. Борис до сих пор не знал, к примеру, есть ли вообще в Граево с кем бы то ни было телеграфная или телефонная связь, кроме как с крепостью Осовец. Там, судя по всему, обосновалось какое-то начальство, поскольку Бринкен ездил несколько раз в крепость по железной дороге за новыми указаниями, о содержании которых опять же почему-то умолчал.
Оттуда же он потом привез приказание о сосредоточении корпуса к Августову. То есть им предписывали отступить на сорок верст. И это в то время, когда перешейки между Мазурскими озерами оказались в руках противника, из чего следует, что армии Ренненкампфа грозит судьба Самсонова! Неслыханное легкомыслие.
И снова штаб корпуса медленно плетется по шоссе в колонне пехоты. Теперь уже в обратную сторону.
В Райгроде ночевка. Спать приходится на полу. Под головой вместо подушки сумка и бинокль. Но после двух бессонных ночей Сергеевскому и это в радость.
Утром колонна и штаб идут дальше. За день добираются до Августова. Там ночлег в каких-то пустых казармах, снова на голом полу, потому что генерал не дает офицерам использовать походные койки, высокомерно заявляя:
– У нас война, господа офицеры! Отвыкайте от роскоши…
Впрочем, это не мешает инспектору артиллерии расставить свою койку и демонстративно лечь на нее спать. Борис же укладывается рядом, на пол. Он еще только капитан, а не генерал. Но иметь собственный взгляд на вещи никто не в силах ему запретить. А в голове сплошное недоумение: «Как же так? Почему? Ведь уже пришли к месту дислокации. Зачем все эти ужасные неудобства?..»
Части корпуса ночуют кто где, по всему Августову и городским окрестностям.
Пребывание здесь оказалось недолгим. Спустя сутки пришла телеграмма от генерала Жилинского[19], с которой Бринкен соизволил-таки ознакомить свой штаб. В ней в чрезвычайно мрачных тонах описывалось положение обходимой немцами с юга и юго-востока 1-й армии. Поэтому 22-й корпус получил приказ «для спасения армии Ренненкампфа в один переход занять Маркграбово»[20].
Это ж обратно на запад, а потом еще и на север шестьдесят верст ходу!..
– Зачем, спрашивается, нас уводили из Лыка? – склонившись к Сергеевскому, спросил вполголоса Земцов, когда зачитали телеграмму. – На кой ляд, скажите, мы вышли из соприкосновения с противником?
Борис только плечами пожал. Ответа у него не было…
Корпус выступил в тот же вечер.
Снова шоссе и марш в колонне пехоты. Все повторяется, лишь направления разные. Как же надоели эти бестолковые маневры!
Перед рассветом опять подошли к государственной границе. В этот раз напрямик, по целине, чтобы сократить дорогу. Здесь не было полосатых столбов с разноглавыми орлами. Лишь пограничная канава, уже порядком заезженная, отделяла свою территорию от чужой. И пересекая ее, солдаты из роты, что шла впереди штаба, ряд за рядом снимали фуражки и крестились. Кто-то даже прикладывался к родной земле, целовал или брал горсть, бережно заматывая в тряпицу.
Они снова покидали Родину, чтобы здесь, в Пруссии, защищать ее в новых битвах с врагом.
Глава 5. Мы не в силах ее победить!
За столиком небольшого, но вполне уютного ресторанчика сидел пожилой мужчина. Ему было далеко за пятьдесят. Яйцеобразная, почти совсем лысая голова с редкой седой порослью на висках и затылке. Аккуратно подстриженные, тоже полностью седые усики. Волевые складки вокруг рта, поджатая нижняя губа и скупые, точные движения выдавали в нем человека целеустремленного и решительного. Строгий костюм с торчащим из нагрудного кармана уголком идеально белого платка и галстук, повязанный на стоячий воротник столь же белоснежной рубашки, сколотый явно непростой булавкой, заставили официантов забегать. И пусть ни обслуга, ни сам хозяин заведения даже не догадываются, что перед ними сидит посол Французской Республики, глаз на хорошего клиента, а тем более иностранца, у них наметан. Будьте спокойны – обслужат по первому классу.
Пока мужчина изучает меню через большой круглый монокль на блестящем шнуре, целых три человека сервируют стол на две персоны. Это посетитель сказал, что будет не один. Друга ждет…
После того как, получив заказ, официанты, преисполненные подобострастия, со всех ног ринулись его исполнять, Морис Палеолог задумался, мерно барабаня по столу тонкими пальцами.
Вроде бы совсем недавно началась война. И месяца не прошло, а на бельгийском и французском фронтах дела приняли весьма дурной оборот. Немцы в Брюсселе. Бельгийская армия отходила на Антверпен. Французы, после того как между Мецом и Вогезами понесли тяжелые потери, тоже были вынуждены отступить. Германские войска подошли к Намюру. В то время когда город обстреливался одним из их корпусов, остальная часть армии двигалась к истокам Самбры и Уазы.
Проскакивали, правда, и хорошие вести: союзники с того берега Ла-Манша появились, наконец, на бельгийском фронте. Одна дивизия английской кавалерии уже успела рассеять немецкую колонну. Причем не где-нибудь, а на Ватерлоо. Веллингтон с Блюхером, должно быть, перевернулись в гробах…
Париж приказал Палеологу стать посредником при императорском правительстве и приложить все силы, чтобы ускорить, насколько это возможно, наступление русских. Посол в тот же день отправился с визитом к военному министру. В разговоре был настойчив, энергичен и весьма убедителен в своем умении излагать просьбы-требования французского правительства. Сухомлинов[21] немедленно призвал адъютанта, продиктовав тому текст телеграммы для Великого князя Николая Николаевича, заранее составленный Морисом. Тут же министр дал полный отчет послу по военным операциям, проводимым на русском фронте. Палеолог записал его сообщения и переправил в Париж. Звучали они так:
«1. Великий Князь Николай Николаевич решил с возможной быстротой продвигаться вперед к Берлину и Вене, главным образом на Берлин, проходя между крепостями Торном[22], Позеном[23] и Бреславлем[24].
2. Русские армии перешли в наступление по всей линии.
3. Войска, нападающие на Восточную Пруссию, продвинулись вперед на неприятельской территории от 20 до 45 километров; их линия определяется приблизительно: Сольдау[25], Нейденбургом[26], Лыком, Ангербургом и Инстербургом[27].
4. В Галиции русские войска, продвигающиеся на Львов, достигли Буга и Серета.
5. Войска, действующие на левом берегу Вислы, пойдут прямо к Берлину, как только северо-западным армиям удастся зацепить германскую армию.
6. 28 корпусов, выставленных теперь против Германии и Австрии, состоят приблизительно из 1 120 000 человек».
Звучало неплохо. Только планы имеют свойство не сбываться. Уж Морису это известно, как никому другому. Особенно если планы расходятся с реальностью.
Телеграмма из Парижа стала тому подтверждением:
«Сведения, полученные из самого верного источника, сообщают нам, что два действующих корпуса, находившихся ранее против русской армии, переведены теперь на французскую границу и заменены на восточной границе Германии полками, составленными из ландвера. План войны германского генерального штаба слишком ясен, чтобы было нужно до крайности настаивать на необходимости наступления русских армий на Берлин. Предупредите неотложно правительство и настаивайте».
Морис немедля кинулся к Великому князю и генералу Сухомлинову, не забыв и о самом Государе. Результат не замедлил сказаться. Тем же вечером посол мог смело заверить свое правительство, что русская армия упорно продвигается на Кенигсберг и Торн со всей возможной энергией и быстротой. А между Наревом и Вкрои готовится крупное сражение.
Судя по разговорам, русские все еще полны наступательного порыва, который увлекает их войска. Великий князь Николай решил, похоже, какой угодно ценой открыть себе дорогу на Берлин. По крайней мере, так утверждает. Ну и германцы, вроде как отходят на севере Восточной Пруссии к Кенигсбергу.
Зато на западном театре поражение при Шарлеруа и на юге Бельгийских Арденн. Французские и английские войска отступают по всему фронту к Уазе и к Семуа. Укрепленный лагерь Мобежа в неприятельском окружении. Авангард германской кавалерии уже ведет разведку в окрестностях Рубэ.
Палеолог, успевший за полгода работы в России обрести широкие связи в аристократических, правительственных и общественных кругах Петрограда, по мере сил заботился о том, чтобы эти события были представлены прессой в самом надлежащем свете. И хотя просеянные сквозь мелкое сито цензуры, они преподносились как временное и методическое отступление, предшествующее будущему повороту лицом к неприятелю, с целью более спокойного и более решительного натиска, все равно вызывали определенные опасения в обществе.
Тут еще Сазонов принялся успокаивать:
– Великий князь Николай Николаевич утверждает, что отступление, предписанное генералом Жоффром[28], согласуется со всеми правилами стратегии. Мы должны желать, чтобы отныне французская армия как можно меньше подвергалась опасности; чтобы она не поддавалась деморализации; чтобы она берегла всю свою способность к нападению и свободу маневра до того дня, когда русская армия будет в состоянии нанести решительные удары.
Морис тогда спросил:
– Как скоро наступит этот день? Подумайте, ведь наши потери громадны, а немцы находятся в двухстах пятидесяти километрах от Парижа.
– Великий Князь намерен предпринять важную операцию, чтобы задержать возможно большее число немцев на нашем фронте.
– Без сомнения, в окрестностях Сольдау и Млавы?
– Да!
В кратком ответе Сазонова слышалась некая недосказанность, и посол не удержался, картинно приложив узкую ладонь к сердцу:
– Умоляю, Сергей Дмитриевич, будьте со мной откровенны. Подумайте, какой это серьезный момент для французов.
– Я знаю… и не забываю того, чем Россия обязана Франции. Этого также не забывают ни Государь, ни Великий Князь. А значит, можете быть уверены, мы сделаем все, что в наших силах, лишь бы помочь французской армии… Но с практической точки зрения трудности очень велики. Генерал Жилинский считает, что всякое наступление в Восточной Пруссии обречено на верную неудачу, потому что наши войска еще слишком разбросаны и перевозки встречают много препятствий. Вы знаете, что местность пересечена лесами, реками и озерами… Начальник штаба генерал Янушкевич разделяет его мнение и сильно отговаривает от наступления. Но квартирмейстер, генерал Данилов, с не меньшей силой настаивает на том, что мы не имеем права оставлять нашу союзницу в опасности и что, несмотря на несомненный риск предприятия, мы должны немедленно атаковать. Великий Князь издал об этом приказ… Я не удивлюсь, если операции уже начались.
Великий князь Николай Николаевич сдержал слово. Пять корпусов генерала Самсонова атаковали неприятеля в районе Млава-Сольдау. Место нападения выбрано хорошо, чтобы заставить немцев перевести туда многочисленные силы, потому что в случае победы русских в направлении Алленштейна они открыли бы дорогу на Данциг, отрезая одновременно путь к отступлению германской армии, разбитой под Гумбиненом.
Сражение разыгралось нешуточное. Палеолог следил за происходящими там событиями с живым интересом. Каков бы ни был окончательный результат, достаточно уже того, что борьба продолжается, чтобы английские и французские войска имели время перегруппироваться в тылу и двинуться вперед.
Но утром тридцатого августа Морис, войдя в кабинет Сазонова, поразился небывалой мрачности министра. Тот какой-то неживой глыбой застыл за рабочим столом, нервно пощипывая бороду.
– Что нового? – предчувствуя неприятные известия, спросил обеспокоенный Палеолог.
– Ничего хорошего.
– Плохи дела во Франции?
– Немцы приближаются к Парижу, – угрюмо бросил Сазонов и сложил руки на столе, оставив, наконец, бороду в покое.
– Да, но наши войска целы, их моральное состояние превосходно. Я с уверенностью жду, когда они повернутся к неприятелю… – Морис осекся, почуяв неладное. Уж очень скорбной была мина у Сазонова. – А сражение при Сольдау?
Тот в молчании кусал губы, мрачно глядя на свои сплетенные пальцы.
– Неудача? – догадался посол.
– Большое несчастье… Но я не имею права говорить вам об этом. Великий князь Николай не хочет, чтобы эта новость стала известна раньше, чем через несколько дней. Она и так распространилась слишком быстро и широко, потому что наши потери ужасающи.
Неужели провал? Если русских погонят из Германии, значительные силы немцев могут быть переброшены на запад. Тогда Париж непременно падет! Ему не выстоять в одиночку…
– Насколько катастрофична ситуация? Где остановился фронт? – пытался выудить подробности Палеолог.
– У меня нет никаких точных сведений. Армия Самсонова уничтожена. Это все, что я знаю.
Министр мрачнее тучи. Но после непродолжительного молчания вдруг произносит обыденным тоном:
– Мы должны были принести эту жертву Франции, которая показала себя такой верной союзницей.
Признаться, в тот момент у Мориса отлегло от сердца. Уже боялся, что помощи от русских не будет.
Русский штаб официально сообщил о поражении при Сольдау буквально следующее:
«Вследствие накопившихся подкреплений, стянутых со всего фронта благодаря широко развитой сети железных дорог, превосходные силы германцев обрушились на наши силы около двух корпусов, подвергнувшихся самому сильному обстрелу тяжелой артиллерией, от которой мы понесли большие потери… Генерал Самсонов, Мартос и Пестич и некоторые чины штабов погибли…»
Но публику подобным лаконизмом не проведешь. Бродят разные слухи, передаваемые из уст в уста вполголоса и шепотом. Версий этого сражения превеликое множество. Завышают цифры потерь, обвиняют Ренненкампфа в измене, доходя до того, что у немцев якобы есть шпионы в окружении Сухомлинова. Не стесняясь, уверяют, что Самсонов и не убит вовсе, а застрелился, не пережив уничтожения своей армии.
К счастью, в Галиции у русских все в порядке. Они заняли Львов. Австро-венгерские войска отступают. Даже бегут. Блестящий успех.
Может, хоть это заставит немцев повременить со взятием Парижа.
Правда, генерал Беляев[29] утверждает, что энергичное наступление русских в Восточной Пруссии и быстрота их продвижения в Галиции заставляют Германию возвращать на восток войска, которые направлялись на западный фронт:
– Я могу гарантировать вам, немецкий штаб не ожидал, что мы так быстро вступим в строй. Он думал, что наша мобилизация и наше сосредоточение войск будут происходить значительно медленнее. Рассчитывал, что мы не начнем наступать ни в одном пункте раньше пятнадцатого или двадцатого сентября, и полагал, что до тех пор он будет иметь время вывести Францию из строя… Итак, я считаю, что немцам не удалось привести в исполнение их первоначальный замысел…
Как бы там ни было, а непрерывный отход французской армии и быстрое продвижение немцев на Париж возбуждают в публике самые пессимистические настроения. Вожаки распутинской клики распространяют слух, что Франция скоро будет принуждена заключить мир и Россия останется один на один с врагом. Приходится отдуваться, отвечая всем, кто повторяет эту клевету, что республика не остановится ни на одно мгновение на таком предположении и дело к тому же еще далеко не проиграно, а победа, может быть, уже не за горами.
Двумя днями раньше Сазонов сообщил, показав телеграмму Извольского[30], что правительство республики решило переехать в Бордо, если главнокомандующий придет к выводу, что высшие интересы национальной обороны побуждают не преграждать немцам дороги на Париж.
– Это решение горестное, но прекрасное, – говорил он вдохновенно, – и заставляет меня удивляться французскому патриотизму.
Затем он достал еще две телеграммы, посланные военным атташе при французской главной квартире, каждая фраза которых отдавалась в сердце Мориса ударами кинжала:
«Немецкая армия, обойдя левый фланг французской армии, непреодолимо продвигается на Париж, переходами в 30 км в среднем… По моему мнению, вступление немцев в Париж есть только вопрос дней, так как французы не располагают достаточными силами, чтобы произвести контратаку против обходящей группы без риска быть отрезанными от остальных войск…»
К счастью, он отмечал, что дух в армии остается превосходным.
Сазонов спросил тогда:
– Разве нет способов защитить Париж? Я думал, столица основательно укреплена… Не могу скрыть от вас, что ее взятие произвело бы здесь прискорбное впечатление. Особенно после нашего несчастья у Сольдау. Все, в конце концов, узнают, что мы потеряли там больше ста тысяч солдат.
Пришлось уверять, что укрепленный лагерь вокруг Парижа сильно вооружен, а характер генерала Галлиени[31] не оставляет сомнений в упорстве сопротивления.
Только сам Палеолог ни в чем уже не был уверен – вот беда. Знает, что семь немецких армий, этот грозный стальной Левиафан, продолжают свое охватывающее наступление от Уазы до Вогезов, с быстротой переходов, с совершенством маневров и силой ударов, которых не знала еще ни одна война и ни единая страна в мире не имела об этом ни малейшего представления.
И в столице России, городе Санкт-Петербурге, люди живут все теми же страхами.
Впрочем, с недавних пор он зовется Петроградом. Переименовали по указу от первого сентября. Своевременно, надо сказать. Да и вполне демонстративно. Сгодится как политическая манифестация, протест славянского национализма против немецкого втирания. Но с исторической точки зрения – полнейшая бессмыслица…
Официанты еще не успели принести заказанные блюда, как в зале появляется тот, кого ждал Морис.
Ничем не примечательный, среднего роста. Вьющиеся русые волосы с проседью, как у большинства русских. Возраст определить затруднительно. Что-то около сорока пяти. Зато глаза выделяются – желтые, похожие на два золотых самородка. Одет неброско, из-за чего не сложишь представления о достатке. Скользкий, весьма подозрительный тип. Впрочем, как и все люди его ремесла. Либерал или монархист? Не имеет значения. Главное, что хорошо осведомлен о происходящем в окружении царской семьи.
В донесениях Палеолога он фигурировал под немного сложным составным именем «Тайный осведомитель N». Таких осведомителей у посла множество. Все проходят под разными литерами. Надо же быть в курсе настроений народа и светских кругов, чтобы чувствовать биение пульса союзной державы. Не то захандрит, не дай бог, придется потом примочки ставить.
Когда только началась мобилизация, Мориса с разных сторон безустанно заверяли, что проходит она правильно и при сильнейшем подъеме патриотизма по всей империи. Только зря старались. На этот счет он был совершенно спокоен. А все потому, что получал сведения из собственных источников. Один из них, под литерой «Б», который вращается среди революционно настроенных кругов, заверял:
– В этот момент нечего опасаться никакой забастовки, никаких беспорядков. Национальный порыв слишком силен… Да и руководители социалистических партий на всех заводах проповедовали покорность военному долгу. К тому же они убеждены, что эта война приведет к торжеству пролетариата.
– Торжество пролетариата?.. Даже в случае победы? – удивился посол.
– Да, потому что война заставит слиться все социальные классы. Она приблизит крестьянина к рабочему и студенту. Она лишний раз выведет на свет нечестность нашей бюрократии, что заставит правительство считаться с общественным мнением. Она введет, наконец, в дворянскую офицерскую касту свободомыслящий и даже демократический элемент офицеров запаса. Этот элемент уже сыграл большую политическую роль во время войны в Маньчжурии… Без него военные мятежи в девятьсот пятом году были бы невозможны.
На что Палеолог заметил:
– Сначала мы будем победителями… А там увидим.
N в отличие от этого революционера был выходцем из иной, аристократической касты и, соответственно, слеплен из абсолютно другого теста. Не всегда и не обо всем он откровенничал. Однако теперь имел особо вескую причину говорить с Морисом вполне искренно.
Они здороваются.
Возникший рядом, как по волшебству, официант быстро уточняет заказ и уносится прочь. Завязывается неторопливый разговор.
После восхваления великолепного патриотизма, воодушевляющего Францию на бессмертные подвиги, в процессе которого им сервировали стол, N с грустью произносит:
– Я пришел позаимствовать у вас немного бодрости, ваше превосходительство, так как, не скрою, отовсюду слышу одни лишь мрачные предсказания.
– Что тут поделаешь, mon ami[32]. Люди постоянно гадают, не зная или не учитывая многих факторов. Пусть бы дождались, по крайней мере, итогов сражения, которое начинается на Марне… И, даже если оно не будет удачным для нас, дело еще вовсе не станет безнадежным. Германии не совладать с объединенной мощью трех великих держав. Ей банально не хватит ресурсов – ни экономических, ни людских. Поэтому даже не сомневайтесь, окончательная победа непременно будет за нами, если нам достанет хладнокровия и упорства.
– Это правда, – с жаром отвечает N. – Это правда! И мне, уж поверьте, очень приятно слышать подобное от вас. Но есть один элемент, который вы не принимаете во внимание. А он, между тем, играет большую роль в разливающемся повсюду пессимизме… В особенности в высших сферах.
– Ах, вот как? Особенно в высших сферах, вы говорите?
– Да, да, именно так. В высших слоях Двора и общества. Среди людей, которые обычно близки к монархам и которые беспокоятся больше всего.
– Отчего же?
– Оттого, – подается вперед собеседник. – Оттого, что в этих кругах уже давно обращают внимание на неудачи императора. Знают, что ему не удается ничего, что бы он ни предпринял. Что судьба всегда против него, наконец. Он явно обречен на катастрофы. К тому же кажется, что линии его руки ужасны.
– Как… – Морис даже выпустил вилку с наколотым кусочком бифштекса, в недоумении разжав пальцы. – Как такие пустяки могут производить впечатление на здравомыслящих людей?
– Чего же вы хотите, monsieur ambassadeur[33]. Мы – русские и, следовательно, суеверны. Но разве не очевидно, что императору предопределены несчастья?
Понизив голос, как если бы он сообщал страшную тайну, и устремив на Мориса пронзительный взгляд своих желтых глаз, которые по временам вспыхивают каким-то мрачным потусторонним огнем, он пускается в перечисления невероятных происшествий, разочарований, превратностей судьбы, несчастий, которые на протяжении вот уже девятнадцати лет отмечают царствование Николая II…
По мнению N, все началось на Ходынском поле во время торжественной коронации, где в суматохе были задавлены две тысячи зевак. Через несколько недель император отправился в Киев. Там на его глазах в Днепре затонул пароход с тремя сотнями человек на борту. Еще несколько недель спустя в поезде в присутствии царя внезапно умер его любимый министр, князь Лобанов. Живя под постоянной угрозой анархистских бомб, Государь страстно желал наследника. Однако рождались только девочки – четыре подряд. Когда же Господь, наконец, даровал ему сына, дитя оказалось носителем неизлечимой болезни. Не будучи любителем роскоши и светских развлечений, царь предпочитал отдыхать от власти в окружении спокойных семейных радостей. А жена у него, между тем, несчастная нервнобольная женщина, постоянно поддерживающая вокруг себя волнение и беспокойство.
– Но и это далеко не все, – взмахнул N зажатой в руке ножкой цыпленка. – После мечтаний о воцарении мира на земле и ряда интриг своего Двора император был втянут в заведомо проигрышную войну на Дальнем Востоке. Армии в Маньчжурии гибли одна за другой, флот уходил ко дну в морях Китая. А дальше Россию обуяла революционная вакханалия. Бесконечные погромы и жестокая резня в Москве и Петербурге, на Кавказе, в Одессе, Варшаве, Киеве, Вологде, Кронштадте… Трагическая смерть Великого князя Сергея Александровича открыла эру политических убийств. И едва утихли волнения, как Столыпин, показавший себя спасителем России, однажды вечером в киевском театре пал перед императорской ложей, сраженный пулей из револьвера тайного полицейского агента…
Выслушивая все это, Морис вдруг вспомнил разговор с Сазоновым примерно двухнедельной давности, когда министр приехал к нему завтракать. Они беседовали о том, чего можно достичь мирным путем, не прибегая к войне, а чего добиться лишь силой оружия. Затем сравнивали потенциал воюющих сторон: людские резервы, финансовые, промышленные и земледельческие ресурсы. Обсуждали благоприятные условия, которые дают им внутренние разногласия Австрии с Венгрией.
После завтрака сели в экипаж Мориса и поехали на Крестовский остров. А там – неторопливая пешая прогулка под прекрасной сенью деревьев, тянувшихся до самого устья Невы, игриво сверкавшей в отдалении, и легкий, непринужденный разговор.
Неожиданно речь зашла об императоре. Палеолог не преминул им восхититься:
– Какое прекрасное впечатление я вынес о нем на этих днях в Москве. Он дышал решимостью, уверенностью и силой.
– У меня сложилось такое же впечатление, – согласился Сазонов. – И я извлек из него хорошее предзнаменование… Предзнаменование необходимое, потому что…
Он внезапно запнулся, словно не решаясь закончить свою мысль.
– Продолжайте же, Сергей Дмитриевич, прошу вас, – с легким нажимом принялся уговаривать Морис. – Как говорят в России, сказал «А», говори и «Б».
Тогда, взяв посла за руку, Сазонов доверительным тоном произнес:
– Не забывайте, что основная черта характера Государя есть мистическая покорность судьбе.
И принялся передавать рассказ, который слышал от Столыпина, своего beau-frèr’a[34].
Случилось это в 1909 году. Россия только-только начинала забывать кошмар японской войны и последовавших за ней мятежей. Столыпин докладывал Государю очередные предложения по мерам, касающимся внутренней политики. Задумчиво выслушав его, Николай скептически, даже скорее безучастно махнул рукой, словно показав: «Это или что-нибудь другое, не все ли равно»… Наконец, обронил печально:
– Мне не удается ничего из того, что я предпринимаю, Петр Аркадьевич. Мне не везет… К тому же человеческая воля так бессильна…
Столыпин, человек мужественный и решительный по натуре, попытался энергично протестовать, но царь перебил, спросив:
– Вы читали «Жития святых»?
– Да… По крайней мере, частью, так как, если не ошибаюсь, в этом труде около двадцати томов.
– Знаете ли вы также, когда день моего рождения?
– Разве я мог бы его не знать? Шестого мая.
– А какого святого праздник в этот день?
– Простите, Государь, не припомню.
– Иова Многострадального.
– Слава богу, царствование вашего величества завершится со славой, так как Иов, смиренно претерпев самые ужасные испытания, был вознагражден благословением божьим и благополучием.
– Нет, поверьте мне, Петр Аркадьевич, у меня более чем предчувствие, у меня в этом глубокая уверенность: я обречен на страшные испытания; но я не получу моей награды здесь, на земле… Сколько раз применял я к себе слова Иова:
«…Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне»…
Между тем, покончив с перечислением всяких мрачных случаев, произошедших с Николаем II за время его царствования, N заключает:
– Вы признаете, ваше превосходительство, что император обречен на катастрофы и что мы имеем право бояться, когда размышляем о перспективах, которые открывает перед нами эта война?
Странно, что приходится слышать из уст постороннего человека те же слова, которые говорил о себе Государь всея Руси. Впрочем, этот человек, сидящий напротив, должен знать гораздо больше, чем произносит вслух…
Немного подумав, Морис начинает отвечать, взвешивая каждую фразу:
– Следует относиться к своей судьбе без трепета, ибо я из тех, которые верят, что судьба должна считаться с нами. Но если вы так чувствительны к несчастным влияниям, разве не заметили, что царь имеет теперь среди своих противников человека, который, что касается неудач, не уступит первенства никому, а именно – императора Франца-Иосифа. В игре против него нет риска, потому что выигрыш несомненен.
– Да, но есть еще Германия. И мы не в силах ее победить.
Это уже начинало раздражать.
– Одни нет. Но рядом с вами стоят Франция и Англия… – Видя, что собеседник собирается перебить, Морис поднимает руку, останавливая этот порыв. Убедившись, что его слушают, четко выговаривает: – Ради бога, не говорите себе заранее, что вы не в силах победить Германию. Сражайтесь сначала со всей энергией, со всем героизмом, на какие вы только способны, и увидите, что с каждым днем победа будет вам казаться более верной.
Подходит официант с выписанным счетом. Подумал, наверно, что посетитель, подняв руку, требует его рассчитать. Ну, может, оно и к лучшему…
Последующие дни принесли, наконец, радостные известия. Французские и английские войска начали продвигаться на восток. Хоть и медленно, а шли вперед, тесня врага от Парижа на всем протяжении от Урка до Монмирайля. Палеолог с упоением наблюдал, как русское общество по совершенно правильному, с его точки зрения, инстинкту проявляло гораздо более живой интерес к сражению на Марне, чем к победам своих войск в Галиции.
Вся судьба войны действительно решалась на западе. Если не устоит Франция, то Россия будет принуждена совсем отказаться от дальнейшей борьбы. Бои в Восточной Пруссии лишь подтверждали это мнение. Посол был уверен, что русским не по плечу противостоять немцам, которые превосходили их во всем – в тактической подготовке, искусстве командования, обилии боевых запасов, разнообразии способов передвижения. Зато русские казались равными австрийцам. Даже имели некоторое преимущество в стойкости под огнем и боевом рвении.
Восточнее Вислы, на границе Северной Галиции и Польши, русские прорвали неприятельскую линию между Красником и Томашевом. Но в Восточной Пруссии армия генерала Ренненкампфа в полном расстройстве. Немцы хорошенько ее потрепали.
Зато из Франции снова пришли сведения, что союзные войска пересекли Марну между Мо и Шато-Тьерри. У Сезанна прусская гвардия отброшена к северу от Сент-Гондских болот. Если правый фланг, который образует «петлю» и простирается от Бар-ле-Дюка до Вердена, будет стойко держаться, вся немецкая линия разорвется.
Спустя день долгожданная победа! Сражение на Марне выиграно! На всем фронте германские войска отступают на север! Палеолог вздохнул с облегчением. Теперь уж точно Париж вне опасности. Франция спасена!
Русские же, хоть и победили между Красником и Томашевом, вынуждены покинуть пределы Восточной Пруссии. А немцы заняли Сувалки.
Глава 6. Поворот событий
С первых чисел сентября на участке 1-й армии немцы стали прощупывать русскую оборону слабыми, демонстративными ударами. А уже седьмого числа перешли к решительным действиям на ее левом фланге, наступая в направлении Ариса. В районе Бялы выдвинутые вперед части 22-го армейского корпуса были отброшены к Граево. А чуть севернее отступал 2-й корпус, теснимый на северо-восток превосходящими силами германцев.
Позиции, занимаемые этим корпусом, три дня почти непрерывно бомбардировали гаубицы. Под их прикрытием шли в атаку немецкие цепи – настолько густые, что издали казались колоннами. Но русские пушки, а с ними и засевшая в окопах пехота, непременно встречали врага дружным ответным огнем, заставляя того поспешно ретироваться, унося убитых и раненых. Жаль, что до гаубиц было не достать. У них предельный прицел верст на восемь, не меньше, а наша легкая пушка только на шесть и бьет.
Немцы изо всех сил старались подавить артиллерию русских. Пытаясь найти левофланговую батарею, они палили залпами из четырех гаубиц, меняя прицел то вперед по шкале, то назад. И невдомек им, что своими снарядами накрыли командира 2-й бригады, генерал-майора Ларионова. Он вместе с подпоручиком Косолаповым и тремя телефонистами как раз находился там, на НП у домика Эрнстгофкен. Едва успели укрыться в лощине, как близкий разрыв засыпал их землей.
Сквозь противный тягучий звон в ушах пробился чей-то далекий-далекий голос:
– Вы в порядке, Яков Михайлович?
Подняв голову, генерал увидел перед собой расплывчатый силуэт Косолапова. В голове медленно прояснялось. Здорово же долбануло. Еще чуть-чуть, и пришлось бы панихиду справлять…
– Все нормально, подпоручик, – слабо двинув рукой, пресек попытку ординарца стряхнуть землю с генеральских погон. – Все целы?
Телефонисты были живы и даже не ранены. Только заторможенны слегка, словно не верили, что им несказанно повезло – не попасть под разорвавшийся снаряд.
– Чего сидите? – прикрикнул на них Ларионов, чтобы скорее пришли в себя. – Марш проверять, что там со связью!
Выскочили из лощины и опрометью, обгоняя друг друга, бросились к НП – тоже, кстати, уцелевшему. Что ж, не только людям сегодня везет.
Под вечер прискакали полтораста казаков, которых привел командир 5-й сотни дивизионной конницы есаул Лесников.
– Прислан в ваше распоряжение начальником штаба, – доложил он командиру бригады, – для поддержания связи с 57-й пехотной дивизией. Завтра в девять она будет атаковать лес от Норденбурга[35].
– Перед моим правым флангом? Чудесно. Крайне желательное и весьма полезное мероприятие. Этот лес у меня что кость в горле. Скрытый и слишком уж близкий подступ для неожиданной атаки.
На этом, как выяснилось, приятные сюрпризы дня еще не закончились. Вслед за казаками прибыл 1-й батальон 104-го полка с четырьмя орудиями, которые были в резерве при штабе дивизии у Приновена. А с наступлением темноты, когда закончился бой, пришел приказ «продолжать упорную, но пассивную оборону», пока 57-я пехотная дивизия при поддержке 5-й стрелковой бригады и конницы генерала Гурко будет атаковать лес перед правым флангом 2-й бригады. Ларионову предписывалось поддержать эту атаку артиллерией. Оказывается, 4-й корпус генерала Алиева севернее успешно атаковал немцев и отбросил их к этому лесу.
Вражеские гаубицы продолжали постреливать до глубокой ночи. Лишь когда совсем замолкли, прибыл телефонист из штаба 57-й дивизии. С его помощью удалось восстановить связь, соединив оборванные провода телеграфной и телефонной линии на столбах между Норденбургом и Ангербургом[36].
На третий день боя противник, не дав опомниться, с шести утра открыл интенсивную артиллерийскую стрельбу. Сначала бил по центру позиций бригады, потом перенес огонь на правый фланг 103-го полка. Грохот орудий, гром и треск рвущихся снарядов слились в один сплошной неистовый гул.
– Немцы пошли в атаку на 103-й полк, – доложил Косолапов от телефонных аппаратов.
– Подтянуть к нему 1-й батальон 104-го полка, – немедленно распорядился Ларионов.
Ординарец козырнул и пулей вылетел из НП, но быстро вернулся. Движения уже не столь решительны, да и взгляд растерянно бегающий. В чем дело?
– Яков Михайлович… Ваше превосходительство…
– Что? Да говорите же, подпоручик! Чего мямлите, словно кисейная барышня?
– Ушел батальон, ваше превосходительство, – выдохнул, наконец, ординарец. – Начальник штаба дивизии приказал вернуть его вместе с орудиями обратно, к штабу. И есаул Лесников свою сотню туда увел. Оставил нам полусотню казаков и… все.
Да, все. И почему это, интересно, ни есаул, ни батальонный командир 104-го полка не посчитали нужным доложить о своем убытии? Пусть и по приказу вышестоящего командования. Нельзя же игнорировать лицо, в чье распоряжение тебя направили! Выходит, что можно.
Генералу ничего не оставалось, как молча скрипнуть зубами да сосредоточиться на бое, молясь Господу, чтобы 103-й полк выстоял. Резервов-то больше нет…
Эту атаку они отбили. Теперь Ларионов с нетерпением ждал наступления 57-й дивизии на лес. То и дело поднимал бинокль, внимательно разглядывая дальний берег озера Норденбургер. Только, как ни всматривался, признаков движения каких-либо войск не наблюдал. Вот уже девять. Ничего. Три минуты десятого…
– Ваше превосходительство! – Косолапов протянул телефонную трубку, коротко пояснив: – Полковник Рудницкий[37].
«Снова тактические завихрения у командования?» – с опаской предположил генерал, направляясь к аппарату.
– Генерал Ларионов слушает.
В трубке раздался искаженный мембраной голос Рудницкого:
– Начальник дивизии приказал снять с позиции правого фланга полубатарею 1-го дивизиона и немедленно отправить ее к штабу дивизии.
И правда, завихрения. Непонятно, каким это местом думало начальство, принимая решение снять орудия с важнейшего участка. Попробовал оспорить:
– Эта полубатарея имеет огромное значение для обороны правого фланга 103-го полка. Она и сейчас ведет огонь, поддерживая полк, и находится в котле рвущихся снарядов. Снять ее в настоящий момент было бы преступлением, потому что фланг лишится мощной артиллерийской поддержки. Кроме того, при снятии она может быть уничтожена противником.
– Начальник дивизии приказал немедленно исполнить его приказание!
Едва не чертыхнувшись, командир бригады выдержал паузу, после чего твердо произнес:
– Прошу соединить меня со штабом корпуса для личного доклада временно командующему корпусом о невозможности исполнить приказание начальника дивизии, так как, помимо данного мною объяснения, эта полубатарея должна поддерживать атаку леса 57-й дивизией, но атака еще не начиналась.
– Вы скоро получите приказ по дивизии, – неодобрительно бросил Рудницкий и разъединился.
Тут же, не давая Ларионову передышки, влез Косолапов с докладом:
– Командир 103-го полка доносит, что немцы готовят новую атаку.
Снова бой. Снова немцы отбиты. Но схватка была жестокой. У полка большие потери. Погибло много не только солдат, но и офицеров. Да еще каких офицеров! Убит командир одной из рот, геройский капитан Казачков. Ранен командир 3-го батальона подполковник Клейн. Людей все меньше и меньше…
Вдруг с посыльным пришел приказ по дивизии, начав читать который Ларионов не переставал изумляться. Бригаде предписывалось отступить, оставив свои хорошо укрепленные позиции:
«Армия отходит на линию Спангельм-Бубайкен-Иодлаукен-Каваррен-Грос Соброст.
I. Генерал-майору Ларионову начать отход с позиции в 12 часов дня и следовать по дороге на сс. Брозовен-Климкен-Ней-Гуррен-Ольшовен-Фридрихсфельде к Каваррен и войти в связь с 57-й дивизией, которая в 12 часов дня будет в г. Норденбурге.
2. Командиру 102-го Вятского полка полковнику Чевакинскому начать отход в 12 часов дня и следовать по дороге на сс. Приновен-Якуновен-Паулсвальде-Собихен-Лаунингкен к Домбровкен.
3. Штаб дивизии будет следовать по дороге, указанной 102-му Вятскому полку…
4. 101-й Пермский полк продолжает оставаться у Гронден».
Вот, значит, как… Отход всей армии, значит.
Генерал мял в руке листок приказа, сам того не замечая. В груди все клокотало. Оставить столь важный левый фланг у озерного дефиле Норденбург-Ангербург? А как же недавний приказ «защищать упорно, но пассивно» с угрозой расстреливать без суда и следствия тех, кто самовольно покинет окопы? И теперь вдруг все бросайте и уходите. Это могло значить лишь одно – произошло нечто совсем уж плохое, заставившее отступать всю 1-ю армию. И похоже, связано это с крепостью Летцен.
«Немцы нас обошли», – кольнула холодом ужасающая мысль.
– Господин подпоручик! – Ларионов подозвал Косолапова. – Вызовите к телефону начальника штаба дивизии.
Но телефон оказался снятым. Пришлось ординарцу бежать за телефонистом 57-й дивизии. Вернувшись, он доложил, что и этот телефонист еще час назад снял аппарат и без доклада отправился в свой штаб.
Части дивизии уже начали отход. Ушел с позиции 102-й полк, обнажив левый фланг бригады. А немцы не дремали, готовые с минуты на минуту броситься в решительную атаку. В такой обстановке принимать бой, конечно, было нельзя. Требовалось оторваться от противника, предупредив его нападение быстрым уходом с позиций.
Со всех боевых участков личный состав снялся одновременно и по двум дорогам, под прикрытием артиллерии пустился в обратный путь – на восток, к своим пределам.
Немцы не отставали, преследуя по пятам, атакуя и обстреливая из гаубиц отходящие роты. Но командир 2-го артдивизиона пятидесятидвухлетний полковник Шпилев знал свое дело. Сначала накрыл ураганным огнем ближайшие войска противника, а затем вел заградительную стрельбу, поочередно прикрывая отход бригады то с позиций у Вессоловена, то еще дальше, у Брозовена.
Пригодились и казаки. С их помощью Ларионов поддерживал связь с командирами полков, которым передал по одному казачьему взводу, оставив при себе лишь пятерых кавалеристов. Потому всегда знал, где находятся колонны и что 103-й полк, уже подойдя к Илльмену[38], так и не смог нигде обнаружить своего правофлангового соседа, 57-ю дивизию. На ее месте оказались 20-й и 17-й полки 5-й стрелковой бригады, которые были в поддержке конницы генерала Гурко, получившего приказ направляться на восток. Также вовремя поступили сведения о том, что немцы, преследовавшие 103-й полк, открыли по нему артиллерийский огонь. Командир полка, полковник Алексеев, запрашивал, следует ли принять бой, поскольку Каваррен, конечная цель отхода, уже близко. Ларионов приказал ему занять позицию арьергардом, а с главными силами продолжать отступление.
– Полковник Триковский! – подозвал он к себе командира 104-го полка.
Дождался, когда тот подъедет. Совсем еще не старый – нет и пятидесяти. Внешне очень похож лицом на Его Императорское Величество, только борода не столь густая.
– Слушаю, – козырнул полковник.
– Николай Семенович, расположите свой арьергард в боевом порядке у леса в одной версте южнее Илльмена.
Еще раз козырнув, Триковский отправился выполнять приказ, а командир бригады поехал с ординарцами да казаками далее на Каваррен. Ларионову требовалось время. Он ждал указаний из штаба дивизии, куда исправно отправлял донесения о каждом своем шаге, используя все тех же казаков. Но пока что как в прорву – ни единого ответа. Штаб упорно отмалчивался, и Ларионов не знал, что ему делать. Ну, придет бригада в Каваррен, а потом? Еще куда-то двигаться? А куда? Может, занимать новый рубеж обороны? Где, на каком участке? Не ясна ни задача дивизии в целом, ни 2-й бригады в частности. Пока не поступят нужные распоряжения, Ларионов бессилен. А слепая самодеятельность ни к чему хорошему не приведет…
Справа от дороги, у северо-западной опушки леса, казаки увидели телеги, сцепленные вагенбургом[39]. Выяснили, что здесь расположился дивизионный обоз второго разряда с парками. Командир обоза, грузный унтер-офицер, узнав, кто перед ним, подскочил к Ларионову, громко причитая:
– Ваше высокопревосходительство, смилуйтесь. Дайте указание, куда мне обоз вести. Я уж несколько часов дожидаюсь приказания из штаба. А вблизи бой. А приказания все нет, и штаб я найти не могу…
– Я также пока ничего не знаю о дальнейших действиях дивизии, – огорчил его генерал. – Поэтому извини, брат, но дать указания тебе относительно обоза уж никак не в моей власти.
Вот, еще один. Товарищ по несчастью, можно сказать. Даром что простой унтер, а не генерал. И в чем разница? Уже миновав растерянного командира обоза, Ларионов решил вдруг его приободрить. Повернул голову, крикнув:
– Приказание мы, вероятно, скоро получим!
Хорошо бы так оно и было. Но время шло, а от командования ни слуху ни духу. Где 102-й полк? Где, черт побери, штаб дивизии?
Беспокоясь за свой левый фланг, Ларионов решил осмотреться. Остановился у довольно высокого холма, спешился и по крутому косогору взобрался на его вершину. Обзор отсюда был прекрасный. Немного западнее, за Илльменом, где находились позиции арьергарда 103-го полка и стрелковые полки 5-й бригады, шел бой. В перелесках разглядел в бинокль перебегающие вражеские цепи, над которыми то и дело рвались шрапнели. На юге в зелени деревьев виднелись домики. Надо полагать, это Домбровкен, куда согласно приказу должен отойти 102-й Вятский полк. Но там ли он?
К юго-западу от деревни вдруг раздался отдаленный залп двух гаубиц. Немецкие – их ни с чем не спутаешь. В полутора-двух верстах восточнее Домбровкена рванули шрапнели. Минут через пять еще залп. Теперь султаны разрывов распустились чересчур высоко в небе. Непонятно, по какой цели стреляет противник. В недоумении Ларионов сошел с холма и вернулся к своему небольшому эскорту, что поджидал его на дороге.
– Ваше превосходительство! – крикнул Косолапов, показывая куда-то вдоль шоссе. – Там Дьяков к нам скачет.
Капитан Дьяков был старшим адъютантом штаба. Ехал он с тремя казаками – похоже, от Яутекена. Неужели привез приказание?
Но вопрос, торопливо заданный штабистом сразу после того, как он спешился, встревожил:
– Начальник дивизии с начальником штаба не здесь?
– Нет, – слегка растерялся командир бригады. – Здесь их точно нет. А вы с распоряжением на дальнейшие действия? Давайте скорее сюда.
– Никак нет, ваше превосходительство, – теперь и капитан растерялся. – О дальнейших действиях дивизии мне ничего не известно. Днем только я разослал приказ о расположении частей на ночлег, а теперь вот штаб ищу. Он должен быть в Альт Саускойене, но там его нет.
– Как же вы их потеряли?
– Они вперед уехали, в Альт Саускойен, где ночлег назначен. Только по приезде мы никого в нем не застали, – объяснил Дьяков и вдруг выдал: – А 102-й полк оторвался от вас, ваше превосходительство. Пошел сразу в Даркемен[40].
Вот так сюрприз! Линией отхода дивизии в приказе указано Каваррен-Грос Соброст, а 102-й полк с дивизионным резервом и всем штабом дивизии утопал прямиком на восток. Неожиданно. Даже старший адъютант не может найти своих непосредственных начальников. Это выглядело настолько невероятным, что Ларионов сам начал искать объяснение случившемуся, предположив:
– Возможно, во время отхода начальник дивизии получил новое приказание продолжать отход еще дальше, до переправы через Ангерап у Даркемена?
– Не знаю, – пожал плечами Дьяков. – Если такое приказание и было, то уже после того, как начальник дивизии с начальником штаба уехали вперед.
– У вас есть копия приказа о расположении дивизии на ночлег?
– К сожалению, нет, ваше превосходительство. Полевая книжка осталась у начальника штаба. Но вашей бригаде, насколько я помню, ночлегом назначен Каваррен с выставлением арьергарда в Илльмене.
Солнце садилось, наступали сумерки. Скоро совсем стемнеет, а командир бригады по-прежнему не имел ни малейшего понятия о своих дальнейших действиях.
Когда в Каваррен подтянулся полковник Триковский с двумя батальонами и артиллерией, Ларионов собрал совещание в более-менее уцелевшем домике, пригласив туда всех офицеров. Они долго изучали карту, пытаясь уяснить расположение своих и германских частей. Ларионов обратил внимание на подступы к левому флангу, куда с юга и юго-запада ведут отличные дороги. Это может вылиться в быструю, неожиданную атаку довольно крупными силами немцев с охватом левого фланга всей дивизии, а то и с захватом ее тыла. Наверняка они так и сделают. Причем этой же ночью. Или подберутся поближе под прикрытием темноты, а с раннего утра поведут атаку. Опять же лес к западу от Каваррена – чем не отличный подступ? Следовательно, раз уж 102-й полк ушел на восток, обнажив левый фланг, ночевать в Каваррене опасно. Тем более что перед бригадой целый неприятельский корпус, преследующий одну несчастную дивизию. Ему ничего не стоит отсечь бригаду от переправы у Даркемена и отбросить к северу, к тылам соседнего 4-го корпуса. Тогда немцы получат полную свободу действий и смогут смело резать левый фланг с выходом в тыл русской армии. Господи, да это же будет полнейший разгром. Катастрофа похлеще самсоновской!..
На мгновение ужас охватил генерала. Закололо в висках.
«Думай, Яков, думай, – твердил он себе, лихорадочно шаря взглядом по карте. – На один вопрос ты однозначно ответил: в Каваррене оставаться нельзя. Тогда где? И как расположить бригаду на ночлег, чтобы она смогла отразить противника хоть ночью, хоть утром? Его надо задержать, по крайней мере, до получения указаний или боевой задачи дивизии».
Еще поразмыслив над картой, подсчитывая те скудные силы, которыми располагает, Ларионов решительно выпрямился и накрыл своей небольшой ладонью участок сосредоточения бригады.
– Подпоручик Косолапов, – произнес он твердо, без тени сомнения в голосе. – Пишите приказ по бригаде.
Дождавшись, когда подпоручик приготовит полевую книжку и карандаш, стал диктовать:
– Первое: обозу второго разряда отойти к Даркемену. Второе: командиру 103-го полка оттянуть арьергард полковника Веригина от ручья Илльмен на высоту у Каваррена. Третье: командиру 104-го полка выставить левый передний боковой отряд силою в один батальон при четырех орудиях на углу леса у Яутекена. Наблюдать и охранять местность юго-западного сектора. Четвертое: командиру 103-го полка выставить левый тыльный боковой отряд силою в батальон при четырех орудиях к Клейн Бейнунене. Наблюдать и охранять местность к югу от Бейнуненского леса. Пятое: главным силам бригады под начальством полковника Триковского отойти на ночлег квартиробиваком в селение Грос Бейнунен.
Выставляя сильные отряды с артиллерией на важнейших направлениях, Ларионов планировал удержать Бейнуненский лес, если противник атакует ночью либо с утра. Перетаскивать артиллерию с места на место в лесной чащобе, когда вовсю идет наступление, будет проблематично, да и поздно. Лес, даже в случае вынужденного отхода, давал бригаде шанс пробиться с боем к переправе у Даркемена. Обойти ее слева мешала река Ангерап.
Все, приказ отдан, колонны полков потянулись к указанным позициям.
Насколько продуманным и верным было принятое решение, покажет бой.
Капитан Дьяков отправился дальше искать начальника дивизии и начальника штаба, пообещав сообщить Ларионову, как только их найдет. Генерал какое-то время оставался в облюбованном домике в Каваррене, дожидаясь, когда прикрывающие отряды займут свои места. Получив доклады, выехал в Грос Бейнунен к своим главным силам. Это было в десять вечера. Уже стемнело. У селений Илльмен, Ленкелишкен и в полосе отступления 4-го корпуса раздавалась редкая артиллерийская и ружейная стрельба, в трех местах виднелись зарева пожаров.
А уже в час ночи справа и несколько позади часто-часто затрещали ружейные и пулеметные выстрелы, засвистели шальные пули, загрохотали орудия. Бой гремел и у Яутекена, и у Ленкелишкена, и в районе действий 4-го корпуса. Начали стекаться донесения, доставляемые казаками. От подполковника Грунде, командовавшего левым передовым отрядом, пришла тревожная записка:
«Окруженный пехотой, артиллерией и кавалерией противника, спешно отхожу лесом».
Ну, насчет кавалерии это вряд ли. У немцев она, конечно, есть, но что в лесу-то ей делать? Однако положение и без того скверное. Противник мог завладеть лесным массивом. Тогда пиши пропало. Сразу окажутся под угрозой оба стрелковых полка 5-й бригады под Ленкелишкеном и арьергард полковника Веригина у Каваррена. Их попросту обойдут с юга и собьют с позиций, вынудив откатиться на север.
Ларионов быстро пишет полевую записку для Грунде:
«Приказываю не отходить и не терять связи с полковником Веригиным».
Отправив ее с казаком, тут же приступает к составлению другой записки, теперь Веригину. Достоверно не зная, в каком положении находится арьергард, решил не лишать его свободы действий, написав: «Подполковник Грунде донес, что, окруженный противником, он спешно отходит лесом. Я приказал не отходить и не терять связи с вами. Сообразуйте ваши действия, имея в виду, что правее вас стрелки».
Позже узнал, что Грунде, получив приказ не отступать, остановился в лесу, а с высоты у Каваррена к его правому флангу спустился полковник Веригин, заняв позицию на уступе. Немцы здесь не рискнули в темноте продолжать наступление и отошли.
В эту же ночь был атакован и левый тыльный отряд подполковника Козел-Паклевского. Германцы, наступая лесом, наткнулись на сторожевую роту поручика Сойкина, которая первой и вступила в бой. Потом подключились другие сторожевые роты со стороны Клейн Бейнунена, а от Альт Саускойена ударили еще две роты с двумя орудиями дивизионного резерва, направленные туда, как выяснилось, появившимся начальником дивизии. Получив решительный отпор сразу в двух местах, немцы убедились, что русские прочно удерживают лес, и не полезли сломя голову развивать ночную атаку.
Когда бой утих, Ларионов облегченно перевел дух. Бейнуненский лес остался в его руках. А значит, удалось избежать окружения. По крайней мере, на сегодня.
Тут как раз и капитан Дьяков прислал весточку, сообщив, что начальник дивизии со всем штабом прибыл ночью в Альт Саускойен. Похоже, все начинает налаживаться…
Утро выдалось холодным. Сырость пробирала до самых косточек, но до нее решительно никому не было дела. С рассветом получен приказ по корпусу и директива командующего армией генерала Ренненкампфа о развертывании боевого порядка 26-й дивизии на линии отхода Каваррен-Грос Соброс для задержания противника. Ларионов, не теряя времени, распорядился развернуть бригаду, и все пришло в движение.
Его 103-й и 104-й полки, понесшие чувствительные потери в предыдущих боях, заняли боевой участок протяженностью до трех верст и к девяти часам утра оказались в центре позиций. Слева встал в оборону 101-й Пермский полк, а за правым флангом расположился 102-й Вятский, подошедшие из Даркемена. Все бы ничего, да вот резерв был скуднее некуда – лишь одна рота 103-го полка. Благо начальник дивизии согласился усилить его двумя ротами 1-го батальона 104-го полка при двух орудиях, которые ночью помогали отражать атаку на роту поручика Сойкина. Но и этого недостаточно. Ларионов, ни капли не смущаясь, принялся выклянчивать дополнительные резервы. Начальнику дивизии пришлось просить помощи в штабе корпуса. Оттуда ответили, что пришлют на усиление 226-й Землянский полк из 57-й дивизии. Два батальона этого полка дивизионное начальство клятвенно обещало передать в распоряжение Ларионова. С таким резервом уже намного веселее. Только бы его дождаться…
Батареи 2-го дивизиона заняли позиции в заросшей густым кустарником низине с левого фланга. 20-й и 17-й стрелковые полки расположились справа от бригады на рубеже Скирляк-Кундшиккен. Ларионову с его командного пункта был хорошо виден 20-й полк. Там еще выстраивали боевой порядок, отправляя в тыл повозки, группы солдат и роту со знаменем, когда в центре завязался бой.
Через полтора часа интенсивной стрельбы немцы стали сильно теснить в лесу 104-й полк, обходя его слева. Пришлось задействовать резерв, направив Триковскому две роты 1-го батальона его же полка. Вот, опять в запасе осталась одна рота из 103-го.
Подпоручик Косолапов зовет к телефону:
– Полковник Томашевич на проводе.
Слава богу, связь еще работает.
Это 103-й полк, правый батальонный боевой участок. Что у них стряслось?
В трубке сквозь трескотню выстрелов слышится взволнованный голос Томашевича:
– Командир 20-го стрелкового полка просит подкрепить его правый фланг, который охватывают немцы.
– Его правый фланг рядом с 17-м стрелковым полком, который и может его подкрепить.
– Виноват, ошибся, – спохватывается полковник. – Это я на правом фланге своего полка, вот и оговорился. А у 20-го охватывается левый. Даже отсюда видно.
– Хорошо, полковник. Я вас понял.
Чего хорошего-то? Где обещанный резерв?
– Соедините с начальником дивизии, – с раздражением бросил Косолапову, испытав при этом запоздалую досаду, глядя, как подпоручик сконфуженно бросился крутить ручку аппарата.
А что начальник дивизии? Только и можно попросить его ускорить отправку резерва. Пообещал всенепременно исполнить просьбу, на том и распрощались.
Стрельба не ослабевала. Бой шел по всему фронту бригады.
Неожиданно на командном пункте в сопровождении двух офицеров, штаб-горниста и нескольких ординарцев объявился командир 20-го стрелкового полка полковник Тарановский собственной персоной. Немало удивленный Ларионов хотел было его как следует отчитать за оставление вверенной части в разгар сражения, причем далеко не успешного, но тот, пустив слезу, вдруг запричитал в голос:
– Ваше превосходительство! Мой полк разбит. Между нами разрыв. Немцы охватывают левый фланг. Ради бога, помогите!
– Знаю, – ответил тот хмуро, борясь с желанием наорать на нерадивого командира. – У меня пока нет резерва, который я жду. Как только прибудет, сейчас же направлю вам в помощь.
Тарановский, хлопая мокрыми от слез ресницами, пытался судорожно вдохнуть. Наконец, у него это получилось.
– Умоляю, ваше превосходительство… – взволнованно всхлипнул вконец растерянный командир полка.
«Да что с ним? Неужто считает, что я умышленно резерв не даю?» – эта мысль не на шутку взбесила. Довольно-таки нелюбезно Ларионов прикрикнул:
– Полковник! Я отлично понимаю наше положение. Если разобьют вас, потом разобьют и меня. Дело наше общее, но я ничего не могу без резерва. Держитесь во что бы то ни стало до его подхода.
Ни слова больше не говоря, Тарановский, понурив голову, отъехал в сторону. Написав какую-то записку, отправил ее в полк с ординарцем, а сам с остальными сопровождающими поскакал в тыл. Похоже, в Гудваллен[41], где располагался штаб 26-й дивизии. Здесь он больше не появился. Зато после отъезда Тарановского подоспел, наконец, долгожданный батальон 226-го Землянского полка.
– Командир батальона Андреев, – представился Ларионову молодцеватый капитан, грудь которого украшал орден Святого Владимира четвертой степени с бантом за Японскую войну. – Прибыл в ваше распоряжение. За нами следом идет еще один батальон полка.
– Чудесно, капитан. Вы как нельзя кстати…
Генерал быстро ввел батальонного командира в курс дела, поставив задачу выручить от охвата левый фланг 20-го стрелкового полка. Показал на его стык со 103-м полком:
– Двиньте в этом направлении роту, за ней вторую уступом вправо и охватите, в свою очередь, фланг противника.
Косолапов тут же записал этот приказ в полевой книжке, дал подписать генералу и, вырвав листок, вручил его Андрееву. Отдав честь, тот немедленно начал действовать, уводя свой батальон в сторону леса…
Землянцы незаметно для противника вышли ему во фланг и открыли шквальный огонь. Германские стрелковые цепи распались. Часть побежала назад, часть отходила, отстреливаясь, но все больше вражеских солдат оставалось неподвижно лежать на земле. Веселее защелкали хлесткими, сухими выстрелами винтовки 103-го полка. Роты поднялись и пошли в контратаку. Видя, что немцы бегут, продвинулся вперед и 104-й полк. Охват ликвидирован! В придачу ко всему начальник дивизии сообщил, что к месту сражения подходят 18-й и 19-й стрелковые полки.
Вот это воистину радостная весть! Теперь Ларионов больше чем уверен – в этом тяжелом, упорнейшем бою он сможет не только сдержать, но и отбросить немцев. А то, понимаешь ли, какая-то непонятная артиллерийская стрельба слышна слева в тылу, которая опасно смещается все дальше на северо-восток.
Правее 17-го полка вдруг загрохотало. Раздалась мощная канонада, порожденная беглым огнем легких орудий. Продлилась, правда, она недолго, зато вызвала у немцев такую панику, что их боевые порядки смешались и сдали назад. Словно финальный аккорд отзвучал, и публика, до этого чинно слушавшая концерт, дружно встала и потянулась к выходу. Части арьергарда не замедлили этим воспользоваться. Пехота пошла в контратаку. Артиллерия, естественно, ее поддержала, довольно точно накрыв снарядами лесной массив, где в это время толпились отступающие немцы. Вражеские гаубицы несколько раз огрызнулись в отчаянной попытке сдержать русских, но слишком уж разбросали прицел. Не знали, видимо, куда именно стрелять. А потом и вовсе снялись с позиций и укатили в тыл, опасаясь лишиться своих драгоценных орудий.
В пятнадцать минут первого Ларионов по телефону принял поздравление от начальника дивизии за успешно проведенный бой.
– Дивизия выполнила свою задачу, – заключил Порецкий[42]. – В два часа дня получите приказ об отходе.
Когда Ларионов останавливал контратаку бригады, полковник Триковский, чрезмерно увлеченный успехом, ругнулся в трубку, распиная нерадивое командование:
– Это же настоящая измена, раз не позволяют отплатить за вчерашние потери!
Пришлось его успокаивать:
– Вероятно, не желают, чтобы мы с вами, Николай Семенович, оказались в мешке.
Приказ на отступление пришел вовремя, ровно в два часа, как и обещал начальник дивизии. Но помимо необходимости организовать отход своей бригады он возложил на Ларионова прикрытие отступления 20-го и 17-го стрелковых полков. Когда эти полки начали уходить, противник снова подвинул артиллерию вперед, открыв залповый огонь, а свою пехоту направил в охват правого фланга батальона 226-го Землянского полка. Благо капитану Андрееву вовремя передали приказ о снятии с позиций, и тот уже отступал с боем. Сравнительно легко ушел 101-й полк, а за ним, отстреливаясь от наседавшего врага, и 103-й, понесший наиболее тяжелые потери. В прикрытие Ларионов определил 104-й полк с одной батареей. Приказ на это полковнику Триковскому писали уже под непрерывный свист пуль. Казак, ожидавший пакет, готовый в любую секунду сорваться с места в галоп, вдруг дернулся и упал с гарцующей лошади, хрипя и заливаясь кровью. Пришлось отправлять другого.
Когда и как отошли 18-й и 19-й стрелковые полки, Ларионов не видел. Похоже, они направились к другим переправам, произведя лишь короткую контратаку севернее 17-го стрелкового полка.
Подъехав к Даркемену – маленькому городку на реке Ангерап, – генерал почувствовал себя совершенно разбитым. Его буквально шатало из стороны в сторону от усталости, голода и жажды. Пробираясь прямыми, мощеными улочками города, набрел на ручеек, бивший тонкой струйкой из круглого отверстия в каменной стене. Припал к нему, жадно хватая иссушенными, потрескавшимися губами студеную воду. Вкуса совсем не чувствовал. Зато напился и сел отдохнуть прямо на мостовую.
Мимо проходили колонны. Один солдат, такой же изможденный, остановился хлебнуть водицы. Вытираясь рукавом, глянул на устало привалившегося к стене Ларионова, вздохнул, пошарил в кармане и молча протянул генералу сухарь, весь черный и затвердевший, словно уголь. Ни раскусить, ни разломить его не получилось. Ларионов сунул заскорузлый хлебец под струю воды, подержал, но и это не помогло. Жевать сухарь оказалось абсолютно невозможно. Досадуя, что так и не смог утолить голод, генерал влез в седло и продолжил путь.
На небольшой площади в северной части города ему повстречались походные колонны 17-го и 20-го стрелковых полков с артиллерией, благополучно покинувшие свои позиции. Вслед за ними Ларионов перешел через мост на правый берег Ангерапа. Мост был добротный, каменный, строившийся, как видно, на века. За ним, справа от шоссе, сгрудились остатки рот 103-го полка. Жалкая горстка по сравнению с тем, что было раньше. Там же стояли пулеметные двуколки, битком забитые ранеными. В двуколках кто лежал, кто сидел. Одни стонали еле слышно, другие исходили на крик, прося о помощи, третьи умоляли добить их, чтобы не мучиться. Синюшные или с багровыми пятнами голые тела в окровавленных бинтах, а то и в грязных, изорванных тряпках. Тяжко было думать, что еще пару часов назад эти люди, вполне себе здоровые, сильные телом и духом, смело вставали грудью на врага во имя своей Отчизны. А теперь нет никакой возможности облегчить им страдания…
Среди офицеров генерал заметил подполковника Козел-Паклевского, командира 1-го батальона. Подъехал к нему, спешился.
Поприветствовали друг друга. Ларионов спросил:
– Сколько с вами людей?
– Триста пятьдесят или четыреста, около того. Все, что осталось от девяти рот.
– Соберите из них сводный батальон… Это что за орудия? – Ларионов показал на окраину ближайшего леса, где в запряжке стояли две легкие батареи. Только вот лошадки у них больно куцые. На деревенских похожи.
– Из 57-й артиллерийской бригады, – пояснил подполковник. – Задержаны здесь инспектором артиллерии корпуса. Не знаю почему. Наверно, на случай боя у Даркемена.
– Что ж, как раз тот случай. Скоро подойдет наш 104-й полк. Немцы наверняка будут его преследовать. Поэтому займите вашим сводным батальоном позицию на этом берегу и обеспечьте переправу для 104-го. У вас в распоряжении будет 5-я батарея и эти две, что у леса.
Они обошли берег, внимательно изучая будущую позицию. Удобная, ничего не скажешь. Высокий, крутой косогор. Вполне можно малым числом держать оборону. Не помешает, конечно, усилиться хоть немного. Было бы кем…
А там что за часть на подходе?
Ларионов заметил довольно крупную войсковую колонну, которая переправлялась по мосткам через Ангерап где-то в одной версте южнее Даркемена. Похоже, целый батальон. Часом не 101-й ли полк объявился? Два всадника впереди уже ступили на берег и взбирались по косогору. Решив использовать эту колонну для усиления отряда Козел-Паклевского, генерал направил к ней Косолапова с приказом прибыть сюда.
Как выяснилось, это шел батальон 226-го Землянского полка, возглавлял который сам командир, полковник Тутолмин, оказавшийся одним из тех двух всадников – плотный мужчина в годах, с окладистой бородой-лопатой.
– 101-й полк уж с полчаса как переправился, – сообщил генералу Тутолмин. – Если нужно, у меня здесь два батальона моего полка. Мы стояли в резерве вашей дивизии. Можете всецело нами располагать.
– Буду весьма признателен. – Ларионов удовлетворенно кивнул. – Разрешите, кстати, выразить вам благодарность за отличные действия батальона капитана Андреева. Очень выручил. Андреев обязательно будет представлен к Георгиевской награде. Что касается нынешнего момента, то начальник 26-й дивизии уехал на ночлег в Буйлиен, поручив мне организацию и управление отходом. Поэтому ваши два батальона и вон те батареи у леса я назначаю в арьергард, командовать которым будете вы. Встанете здесь, у Даркемена, вдоль берега.
– Слушаю, ваше превосходительство, – спокойно воспринял полковник свое назначение и приступил к отдаче приказаний, организуя рубеж обороны.
Солнце садилось, низко нависнув над горизонтом. Огненный шар нижним краем касался Бейнуненского леса, только что оставленного русскими частями. Последним из них по железнодорожному мосту через Ангерап уходил 104-й Устюгский полк. На счастье, противник его не преследовал. Когда с моста на берег сошли замыкающие колонну солдаты, Ларионов попрощался с полковником Тутолминым, сказав напоследок:
– Оставайтесь на позиции до тех пор, пока арьергарду не будет угрожать опасность быть отрезанным. А вообще поскорее соберите здесь весь полк и найдите штаб своей 57-й дивизии. От него и получите дальнейшие указания.
Отдав друг другу честь, они расстались. Перед самым закатом Ларионов увел сводный батальон из остатков рот 103-го полка вместе с 5-й батареей в Буйлиен. А на следующий день узнал, что полковник Тутолмин простоял с арьергардом всю ночь до утра двенадцатого сентября. За это время к Даркемену подошли части 20-го немецкого корпуса, которые неотступно преследовали все эти дни 26-ю русскую дивизию. Увидев перед собой заслон, враг не решился переправляться на правый берег Ангерапа. И это сыграло далеко не последнюю роль в благополучном отходе из Восточной Пруссии всей 1-й армии генерала Ренненкампфа.
Глава 7. Первое испытание
– Разрешите, господин штабс-капитан?
Хмельков оторвался от плана крепости, взглянув на молодого офицера, появившегося в дверях. Подпоручик Стржеминский из крепостной саперной роты. Высокий, подтянутый, с аристократически утонченным лицом и живым, пронзительным взглядом, так и сверкающим из-под низко надвинутого козырька запыленной фуражки.
– Входите, – кивнул инженер, бросив карандаш на стол.
Сейчас будет не до планов-схем. Он вызвал подпоручика для нового назначения.
Пройдя в кабинет, Стржеминский встал в центре, четко отдал честь, щеголевато щелкнув каблуками. Затем снял фуражку и замер, держа ее на полусогнутой руке.
«Не перекрестился», – мимоходом отметил штабс-капитан, памятуя об иконке в углу за спиной. Впрочем, ничего удивительного в том нет. Хмельков прекрасно знал, что его подчиненный не просто поляк, а отпрыск старинной дворянской фамилии. Хоть родился он и вырос в Минске, воспитывали барчука в семье со строгими католическими традициями. И характер – не приведи господи. Признает равными лишь чистокровных аристократов, и то далеко не всех. Отсюда и постоянные конфликты со своими сослуживцами. Не ужился как-то с ними с самого начала. Что это? Зазнайство избалованного сноба или свойственная молодым горячность?
Возможно, виной всему более чем настороженное отношение к полякам – почти как и к немцам. Правда, здесь, в Осовце, поляков полным-полно. Чай не где-нибудь, а в Польше стоит. Вон и начальник крепостной артиллерии – Бржозовский Николай Александрович – тоже польских кровей. Уважаемый всеми офицер, между прочим. Стржеминский по сравнению с этим седым, умудренным богатейшим жизненным и боевым опытом генералом попросту наивный, заносчивый щенок. Но, надо признать, дело свое знает. Неплохой специалист может получиться из этого подпоручика. Если, конечно, за ум возьмется и голову свою горячую где-нибудь не сложит по глупости.
Значит, надо работой загрузить, чтобы продыху не было и не оставалось времени на эту самую глупость. Пускай в труде самосовершенствуется. Чего-чего, а работы в крепости навалом…
Говорить на отвлеченные темы, а уж тем более вести долгие душеспасительные беседы Хмелькову не хотелось. Да и не умел он этого, если признаться. Потому сразу перешел к делу:
– Командованием принято решение усилить инженерные части в Осовце. Нам придана еще одна саперная рота, которая прибудет завтра. Вас, подпоручик, я назначаю в эту роту. Мне нужен там помощник, хорошо знающий крепость, ее сильные и слабые стороны. На первых порах будете руководить фортификационными работами, пока вновь прибывшие офицеры войдут в курс дела. Задача ясна?
– Так точно, – не моргнув глазом, отчеканил поляк, но тут же спросил: – Нельзя ли конкретнее определить круг этих задач?
– Он слишком обширен. Первоочередные я вам обрисую, а дальше посмотрим. Вот, к примеру, взгляните, – Хмельков повел рукой, приглашая подпоручика пройти к столу, взял карандаш и очертил им часть схемы. – У нас в плачевном состоянии Гониондз. Его надо укреплять. Хотя бы редюитом[43] из группы окопов, ходов сообщения, проволочных сетей и блиндажей на высотах – вот здесь, у еврейского кладбища. Дальше до Центрального форта очень слабая полевая позиция. Проходит по песчаным холмам на совершенно открытой местности…
– Подступы к ней простреливает наша тяжелая артиллерия, – машинально вставил Стржеминский, но сразу опомнился, что перебивает старшего: – Прошу прощения.
– Ничего, – нехотя бросил штабс-капитан. – Вы правы. Эта задача, в общем-то, не из первейших. Но есть и другие. Устройство тяжелых убежищ, особенно на недостроенном Новом форте. Установка противоштурмовых орудий и пулеметов на оборонительных гласисах[44], оборудование пехотных позиций, проволочных заграждений. Одна Гончаровская гать чего стоит. Песчаные бугры да болото. Четыре участка, на которых вообще не велись никакие инженерные работы. А это, между прочим, путь, по которому противник довольно легко может перейти Бобр. Поэтому здесь нужно создать позиции для боевого охранения с линиями заграждений на островах, а также в тылу для батарей. И это лишь начало большой и кропотливой работы.
Снова положив карандаш, Хмельков пристально посмотрел на подпоручика.
– Каковы сроки? – только и спросил тот.
– Кто бы знал, Владислав Максимилианович. Кто бы знал… В лучшем случае врага вообще сюда не допустят, и наши труды никому не пригодятся. А в худшем… От нас до Восточной Пруссии рукой подать. Один переход, и мы уже в осаде. Если не будем готовы… Даже и думать не хочу.
Штабс-капитан как в воду глядел.
Уже двадцать первого сентября под стенами крепости появились немцы – одна ландверная[45] дивизия. Пять суток они подтягивали пушки, устанавливая их на позиции. Разведка доносила, что у германцев никак не меньше пятидесяти орудий, в основном 105-миллиметровые гаубицы, а еще две батареи мортир калибром в два раза больше. Позже летчики насчитали всего шестьдесят стволов. Это благодаря стараниям Васьки Вишнякова, старшего унтер-офицера крепостного авиаотряда. Лихой малый и летчик от бога. Даром что деревенщина. С ним Стржеминский познакомился, когда его направили осмотреть с воздуха предполагаемый район боевых действий для определения наиболее слабых мест в обороне. Вообще-то в аэроплан тогда должен был сесть Хмельков, но у того нашлись какие-то неотложные дела, и в итоге полетел Владислав.
Сухо поприветствовав незнакомого летчика, он вкратце изложил суть задания и вскарабкался в кабину, стараясь не выдавать волнения. До этого никогда еще не приходилось отрываться от земли, тем более на такую высоту. А вдруг у него акрофобия?
Заработал мотор. Поднятый вращающимся пропеллером ветер принудил опустить хлястик фуражки на подбородок. Подпрыгивая на неровностях, аэроплан бодро покатил по летному полю и, набрав скорость, круто взмыл вверх. Тряска вдруг прекратилась, Владислава вжало в сиденье, земля стала быстро удаляться. Маленькие домики внизу, луга, деревья казались игрушечными, будто сделаны из папье-маше или вылеплены из пластилина.
Опустив крыло, Вишняков заложил крутой вираж, от чего у пассажира перехватило дух и закружилась голова. Но при этом он испытал небывалый восторг. Боже, как, должно быть, счастливы птицы, постоянно паря в облаках!
Наслаждаясь полетом, Стржеминский совсем позабыл о своем задании. Только и делал, что любовался прекрасным видом сверху. Опомнился, лишь когда заканчивали намеченный маршрут. Пришлось попросить летчика зайти на второй круг, а потом на третий…
– Тебя как звать? – спросил Стржеминский уже на земле.
– Васька, – ответил тот по-простому и ослепительно улыбнулся. Чуть погодя добавил: – Вишняков я, ваше благородие.
Еще под впечатлением от полета саперный офицер, не думая, схватил горячую ладонь авиатора и затряс в порыве благодарности, представившись в ответ столь же просто:
– Владислав. Рад знакомству. Откуда будешь?
– Деревня Сорокино. Опочецкий уезд… Ну, это на Псковщине.
Странное дело, но столь низкое происхождение пилота ничуть не смутило потомственного дворянина. Руки не отнял, даже наоборот – стиснул крепче.
– Спасибо тебе, Василий.
– И вам, вашбродь.
– Мне-то за что?
– Ну, сидел бы я щас без дела, а так… Полетали вот…
Они засмеялись и вместе пошли открывать ангар.
– Где летать-то научился? – толкая аэроплан, спросил подпоручик у Вишнякова, усердно пыхтевшего рядом.
– Так я ж столяр. По первости чинил машины в мастерских. В авиашколе, в Севастополе. А летать хотелося, страсть как. Ну, там и выучился летному делу.
– А здесь давно?
– Почитай с ноября тринадцатого. Как старшего унтера дали, так в Осовец и перевели.
Они сдружились – польский аристократ и русский крестьянин. Никого не стесняясь, жали друг другу руки, общались просто и незамысловато…
А двадцать шестого сентября начался обстрел.
Два дня беспрестанно били по крепости шестьдесят немецких орудий. Два долгих дня прятался по казематам, блиндажам и траншеям гарнизон Осовца, в который входили один пехотный полк, два батальона артиллеристов, саперы и всяческие обслуживающие команды. На их укрытия так и сыпались «чемоданы»[46] в неистовой попытке разрушить скрытые под землей бетонные перекрытия или толстую кирпичную кладку, а где и простые бревенчатые настилы. Повсюду стоял оглушительный грохот, ходили ходуном стены, осыпалась земля, но укрепления выдерживали. Крепко досталось лишь открытым постройкам, и то несильно, ведь они мало интересовали штурмующих.
А на правом берегу Бобра, далеко за болотами, то и дело взметались к небу дымные султанчики пушечных выстрелов. Они были хорошо видны штабс-капитану Мартынову, который сидел в одном из броневых артиллерийских наблюдательных постов на Скобелевой горе и разглядывал долину в буссоль.
– Так, так, так, – бормотал штабс-капитан, совершенно не слыша собственного голоса. – А это у нас что? Ага, мортиры… Правильно, там их и припрятали.
Он оторвался от окуляров и карандашом пометил что-то на карте, которая лежала у него на коленях.
Мартынов командовал броневой артиллерийской установкой. Новейшая вращающаяся башня системы Шнейдера со 150-миллиметровой гаубицей, вделанная в бетонный массив с убежищем для прислуги и пороховым погребом на две тысячи выстрелов. Почти вся под землей. Снаружи только ствол орудия, немного выглядывающий из бойницы бронированного купола. Башню построили незадолго до начала войны. Единственная на всю крепость огневая точка подобного типа. Скобелева гора господствовала над местностью, и с нее открывался прекрасный вид на долину реки на участке северного гласиса и на шоссе, ведущее к Заречному форту, что стоял на противоположном берегу.
На гору тоже падали тяжелые снаряды и разрывались со страшным грохотом, сотрясая землю и все, что было на ней или в ней. Поднятая завеса из дыма и пыли мешала обзору. После очередного близкого взрыва, когда в поле зрения буссоли стало черным-черно, штабс-капитан с досадой откинулся назад, вытащил из-за уха давно приготовленную папиросу и закурил.
Эх, жаль, что приказали не вести ответный огонь. Он бы запросто накрыл сейчас парочку вражеских батарей. Ну, или хотя бы одну… Местность пристреляна, цели установлены. Чего еще надо? Нет же, сиди, жди команды.
Скосив глаза на телефонный аппарат, Мартынов сплюнул – молчит, собака!
«Может, провод перебит? Или штаб разбомбило?» – подумалось вдруг, и руки сами по себе схватили трубку и начали энергично крутить динамо.
– Алло! Алло! – закричал штабс-капитан в круглый зев небольшого раструба. – Говорит броневая батарея. Это Скобелева гора! Меня кто-нибудь слышит? Алло!..
– В чем дело, штабс-капитан? – раздался в наушнике знакомый голос генерала Бржозовского. – Что случилось?
Неторопливый баритон Старика, как любили его звать артиллеристы за седые, зачесанные назад волосы и бороду клинышком, сразу почему-то успокоил. Мартынов с облегчением перевел дух и радостно гаркнул:
– Ничего, ваше превосходительство! Связь проверяю. Веду наблюдение за противником!
– Вот и хорошо. Продолжайте наблюдать.
Трубка замолчала. Ободренный штабс-капитан снова прильнул к буссоли.
Ну когда же, когда, черт побери, поступит команда на открытие огня?
На третий день Мартынов, наконец, дождался своего часа…
Осовец – не та классическая крепость, которую со всех сторон окружают неприступная стена, земляной вал и непременный водяной ров. Это все, конечно, наличествует, но для ведения круговой обороны не предназначено. Застава или укрепленная линия фортов – так, пожалуй, более точно.
Форты тянутся вдоль реки Бобр, которая протекает здесь по низменной, сильно заболоченной долине. В некоторых местах ее легко перейти вброд, особенно в засуху. Самая известная переправа – в районе селений Тузы-Гониондз, а другая в шести верстах ниже по течению, против деревни Сосня, так называемый Шведский брод. Это по нему в 1708 году Карл XII провел свою армию. Но главное, что через крепость по единственному здесь мосту проходит Граево-Брестская железная дорога, и Осовец преграждает ближайшие и наиболее удобные подступы к стратегически важному Белостокскому железнодорожному узлу. А удерживая переправу через Бобр, крепость в любой момент может стать удобным плацдармом для развертывания наступательной операции русских войск на Восточную Пруссию. Этого со счетов не сбросишь.
Опасный участок и одновременно лакомый кусок для немцев.
К нему не так-то просто подобраться. Многочисленные притоки Бобра, которыми изобилует низменная болотистая местность правого берега, разливаясь по весне, затопляют обширные территории. Почти непроходимый район, мало селений, отдельные дворы сообщаются между собой только по мелким речушкам, каналам да узким тропам. Врагу не найти здесь ни дорог, ни жилья, ни нормального укрытия, ни удобных позиций для артиллерии. Лишь один сухой, более-менее пригодный путь – вдоль железнодорожной насыпи.
И над всем этим болотистым краем господствует левый берег Бобра, круто вздымающийся вверх, как исполин, преграждающий путь непрошеным гостям. Словно сама природа озаботилась создать надежное препятствие с идеальным обзором, труднейшими подступами и удобным для возведения фортификаций грунтом.
Здесь, на гряде из песчаных холмов, поросших крупным сосновым лесом, и растянулись в линию все четыре форта крепости. Лишь один из них стоит на правом берегу – это форт № 2. Его так и назвали, Заречным. Вместе с прилегающим валом он образует Заречную позицию, прикрывая мосты через Бобр, и дает возможность владеть обоими берегами, постоянно угрожая противнику контратакой, вынуждая того держаться на расстоянии, чтобы уберечь свою осадную артиллерию.
Дальше, уже по левому берегу, с востока на юго-запад тянутся форты № 1 «Центральный» и № 3 «Шведский», своеобразное ядро крепостных укреплений с общим объединяющим гласисом, небольшой плацдарм в три версты по фронту и до двух верст в глубину. На нем сосредоточены главные силы всей артиллерии Осовца, большинство убежищ и различных складов.
Еще юго-западнее располагается форт № 4 «Новый», а к северо-востоку от него на Гониондзских высотах намечался к возведению форт № 5, но приступить к его строительству так и не смогли. Что поделаешь, война внесла свои коррективы не только здесь. Поэтому на месте будущего форта оборудованы лишь полевые укрепления, названные «Ломжинским редутом».
Между ним, фортом «Новым» и основным плацдармом тянутся окопы полевого профиля, соединяющие эти укрепления. Временная мера и самое слабое место в обороне. Вся надежда на те препятствия, что должны задержать противника, если он сюда, не дай бог, сунется. А это болота, сама река Бобр, накопанные перед позициями водяные рвы, а также проволочные заграждения.
Германцам наиболее удобно форсировать долину на среднем участке, Гониондз-Сосня. Но этот легко проходимый отрезок не более двух верст в ширину давно и надежно пристрелян крепостной артиллерией. К тому же перекрыт выдвинутыми вперед стрелковыми позициями, левый фланг которых проходит по селению Сосня, а правый охватывает Бялогронды. То есть прежде чем подобраться к самой крепости, немцам предстоит еще сломить сопротивление окопавшейся перед ней пехоты.
Ее укрепления тоже хорошенько утюжились «чемоданами», подбрасывавшими в воздух тонны рыхлой земли, но саперы и рабочие команды свой хлеб жевали не зря. Основательно упрятали солдатиков. Черта с два их теперь оттуда выколупаешь…
Когда в долине появились цепи немецкой пехоты, Мартынов, соскочив с места, чуть не ударился головой о бронеколпак. Скатился вниз. Еще минута беготни по ходам сообщений, и он в башне.
– Сорока! – заорал, едва появившись. – Орудие к бою!
Канонир Петр Сорока, не теряя времени, принялся раскручивать маховики поворотного механизма. Второй и третий номера готовились заряжать.
Затрещал телефон.
– Броневая батарея на проводе! – немедленно отозвался штабс-капитан, выслушал короткое распоряжение, расплылся в улыбке и отчеканил бодро: – Слушаю, ваше превосходительство!
Положил трубку. Подняв радостно сверкающий взгляд на Сороку, торжественно произнес:
– Ориентир один, вправо два, угол семь с половиной, упреждение ноль-пять, по пехоте противника… ПЛИ!..
Крепость гудела, сотрясая землю теперь уже выстрелами русской артиллерии.
Работали почти все орудия. В долине перед позициями пехоты вырастала одна стена разрывов за другой. Ровные немецкие шеренги, что надвигались частыми волнами вдоль насыпи, невозможно было разглядеть из-за накрывшего их черного облака. Но все наблюдатели докладывали: никто так и не появился перед окопами пехоты, а снаряды падали точно в те места, где шли цепи.
– Перенести огонь в глубину! Перенести огонь!.. – надрывались телефонисты, передавая на батареи приказ начальника артиллерии.
Разрывы стали смещаться, открывая взорам перепаханное снарядами поле с валяющимися повсюду трупами немецких ландверов.
– Ваше превосходительство, – подскочил к Бржозовскому адъютант, – наши батареи подвергаются обстрелу.
Кто бы сомневался… Потому и приказал не открывать огня до начала пехотной атаки. Немцы до этого стреляли наугад, не зная толком расположения орудий в крепости. Эх, слишком близко позволили им подтянуть артиллерию. Немного бы подальше…
– Дайте мне коменданта, – подошел генерал к телефонисту.
Спустя мгновение тот протянул трубку аппарата:
– На проводе капитан Свечников.
Это старший адъютант при генерале Шульмане. Отличный офицер. Донской казак, артиллерист. Успел повоевать с китайцами, участник японской. Уже год как служит в крепости. Пришел сразу после выпуска из военной академии. Сейчас исполняет должность начальника штаба.
– Михаил Степанович, – проговорил в телефон Бржозовский, стараясь не сильно повышать голос, несмотря на оглушительный грохот, – передайте, пожалуйста, коменданту мое решение сосредоточить основной огонь артиллерии на германских батареях.
– Минуту… – Свечников проговорил что-то в сторону, потом в трубке снова послышался его отчетливый голос: – Действуйте, Николай Александрович, но несколько батарей оставьте работать по неприятельской пехоте. Не следует о ней забывать.
Забудешь тут, как же. Разве только в том случае, когда у неприятеля не останется ни одного солдата.
Слаженный огонь крепостной артиллерии заставил замолчать германские орудия.
Все ждали повторения атаки, но до самого вечера она так и не последовала.
Ночью отдохнуть не получилось.
С вечера, еще засветло, Стржеминский с несколькими саперными офицерами под руководством Хмелькова инспектировал укрепления, пострадавшие в результате двухдневного обстрела. Вырисовывался далеко немалый объем восстановительных работ. А когда их делать, если утром, возможно, снова последует бомбардировка? Вот и вышли в ночь, как говорится, всем миром.
В штабе тоже не спали. Комендант крепости Шульман в окружении офицеров корпел над картой, внимательно слушая доклад Свечникова:
– …Таким образом, результаты боев показывают, что выдвинутые вперед от форта № 2 укрепленные позиции расположены слишком близко. Это и позволило германцам вести прицельную артиллерийскую стрельбу. Предлагаю фланговыми ударами отбросить противника, вынудив его отойти дальше в болотистую местность, а самим закрепиться на рубеже Цемношие-Белашево в шести-восьми верстах от крепости, что позволит нам находиться вне пределов досягаемости германской артиллерии.
Комендант задумчиво пожевал губами. Кончики его усов, тщательно скрученные в идеально ровные, тонкие пучки, далеко выступающие за щеки, шевельнулись, живо напомнив детские качели. Подняв голову, Шульман быстрым взглядом отыскал Бржозовского и выпятил в его сторону свою пышную «александровскую»[47] бороду:
– Что скажете, Николай Александрович? Сможет наша артиллерия обеспечить огневую поддержку новой позиции?
– Если только тяжелыми орудиями, – тихо сказал начальник артиллерии. – Да и то на самых подступах.
– То есть вы против?
– Нет, ваше превосходительство. Мы с капитаном Свечниковым обсуждали этот вопрос. Я полностью разделяю мнение, что германские пушки нужно держать как можно дальше от Осовца, иначе это чревато катастрофическими последствиями…
– Поясните, будьте любезны, – нетерпеливо бросил Шульман и, сцепив руки за спиной, нервно заходил по кабинету.
– Извольте, – внешне Бржозовский казался все таким же спокойным, но в голосе вдруг отчетливо зазвенела сталь. – Из восемнадцати батарей в крепости лишь одна броневая, шесть вделаны в бетон. Остальные расположены во временных укрытиях типа земля-дерево. Они хоть и усилены камнем, двутавровыми балками да листами брони, все равно остаются настолько слабыми, что 150-миллиметровые бомбы наносят им тяжелые повреждения, выводя из строя людей, орудия и боеприпасы. Их главнейший недостаток – это несовершенное применение к местности, а в результате плохая маскировка. Некоторые батареи врезаны прямо в оборонительные гласисы, которые ничем от противника не скроешь. Обычный наблюдатель заметит их даже с земли, не говоря уже об аэропланах…
– Что ж, ваша точка зрения мне ясна, – перебил Шульман, возвращаясь на свое место. – А вам не приходило в голову, Михаил Степанович, что на новом рубеже наша пехота подвергнется безнаказанной бомбардировке со стороны противника? Ведь там, насколько я понимаю, нет никаких укреплений?
Свечников, которому был адресован вопрос, счел нужным поправить:
– Почти нет, ваше превосходительство. Надо строить. Задача для наших саперов, рабочих рот и самих солдат, кто будет оборонять эту позицию.
– Штабс-капитан Хмельков, – тут же среагировал комендант, нацелив бороду теперь в инженера.
Тот попытался возразить:
– У меня люди восстанавливают укрепления. Им всю ночь работать…
Но генерал был непреклонен:
– Отдохнут с рассвета до скончания боя. Солдаты, когда займут указанный рубеж, приступят к окапыванию. А там и вы подтянетесь со всем личным составом и своим инвентарем.
– Но…
– Это уже приказ, Сергей Александрович.
Поняв, что спорить нет смысла, штабс-капитан обреченно выдохнул: «Слушаю».
– Теперь по контратаке. – Шульман повернулся к полковнику Белявскому – щуплому, невысокого роста пехотному начальнику. – Алексей Петрович, к рассвету сосредоточьте батальоны по флангам у селений Сосня и Бялогродны. Ополчение держите в резерве. В семь тридцать артиллерия откроет огонь по расположениям германцев. Это будет вам сигналом, что пора начинать дебуширование[48]. Вас, Николай Александрович, – взгляд уперся в Бржозовского, – попрошу заранее наметить цели для обстрела. Сначала обработайте позиции пехоты, а затем займитесь осадными орудиями. Задача ясна?
– Так точно! – почти хором ответили пехотный и артиллерийский начальники.
