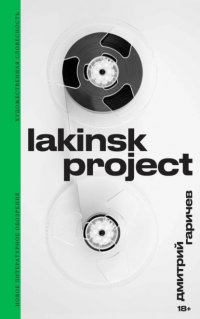
Читать онлайн Lakinsk Project бесплатно
- Все книги автора: Дмитрий Гаричев
Мой последний друг,
(как бывают последние вещи), я пишу это в третьем часу ночи, стараясь таким способом справиться с тревогой, нелепо, но плотно разросшейся во мне после того, как мы с К. посмотрели «найденную пленку» Hell House LLC, непонятно как до сих пор не попавшуюся нам на глаза: все-таки это наша, скажем так, отрасль, «сколько видено зла никакого» за эти десять общих лет проклятых туннелей и брошенных строек, столько слышано скрипа эктоплазменных червей, что удручить нас легко, удивить же много сложнее, но на этот раз, оставляя К. ночевать вне обыкновения в большой комнате, а сам отправляясь в дальнюю, где спит наша пятилетняя дочь, я из мелочного озорства заметил, что как раз в гостиной по ночам не всегда все благополучно, и не более десяти минут спустя, когда я еще не успел отключиться, К. вошла ко мне и сказала достаточно строго, чтобы я поменялся с ней комнатами, раз уж сам ее запугал, на что я посмеялся, но сейчас же встал, забрал свое одеяло и перебрался впотьмах на привычное место, хотя и не с самым спокойным сердцем, потому что считаю К. во всем более смелым, чем я, человеком и легко заражаюсь ее волнением, ведь если уж она чем-то обеспокоена, это значит, что я должен быть обеспокоен вдвойне, так что стоило мне улечься под потолком гостиной со сгустком фальшивой лепнины по центру, который, должно быть, и смутил как-нибудь К., как подступивший было сон прошел и я вытянулся дураком на кровати, сам присматриваясь то к потолку, то к маленьким отблескам в створках книжного шкафа напротив, в электрической тишине, пробегаемой разве что шорохом снега на крыше, ровно так, как лежал в пятнадцать лет в соседнем доме в одной комнате с умирающей бабушкой, пока мама работала в ночную, и всем слухом своим, как если бы у него были руки, держался за игрушечный свист ее дыхания, населявший невидимый воздух, умоляя его продолжаться еще и читая про себя «рыбы скользкие поют, звезды падают с луны», чтобы укачать несдающийся мозг, но лицом отвернувшись к спинке дивана: как и во всех наших квартирах, проход в другую комнату располагался посередине смежной стены, и тьма, собиравшаяся в этом месте, была невыносима, на нее было невозможно глядеть прямо, не говоря уж о том, чтобы пасти ее боковым зрением, закрыть же вовсе легкую белую дверь представлялось опасней всего, и, вспоминая все это теперь, я удивляюсь, как мне вообще удавалось заснуть в те ночи две тысячи третьего года и спать крепко, пока не возвращалась мама, после чего мы вдвоем перестилали бабушке простыню, та же следила за нами с полуиспугом-полуобидой, но уже давно не удостаивала нас ни единым словом, и только ночной ее свист, слышимый, разумеется, и днем, но лишь по ночам обрастающий смыслом, еще связывал меня с ней, а когда она наконец умерла, я несколько месяцев не решался оставаться здесь один в мамины ночные смены и уходил тогда к своей доброй тете, где спал, впрочем, плохо, но скорее от непривычки, чем от страха, рождающегося сейчас на кончиках моих пальцев и вынуждающего их набирать эти слова, семенящие и припадающие, стыдные, никакие, но способные все же удержать его где-то возле ногтей и не дать расползтись, раз уж мне больше не за что здесь ухватиться, кроме разве что старого рассуждения о том (хотя это тоже слова), что в этом же доме еще семьдесят девять квартир, а на этой улице еще шесть таких же домов с дверью посредине смежной стены, а в городе еще четыре или пять кварталов той же застройки, а в стране еще несколько тысяч таких городов, и допускать, что именно в той комнате, где сейчас нахожусь я, отворится чудовищный коридор, просто математически тщетно, но, в конце концов, весь наш опыт просмотра, чьи жемчужины сохранены в папке «жуть», научил нас, что чем внимательнее персонаж к оставляемым для него недобрым знакам, чем охотней он подозревает вмешательство тьмы в свои текущие дела (и зовет к себе парапсихолога, и вскрывает пол, и приносит богатую жертву), тем верней достается он ей, никогда не спешащей и ждущей порою годами, потому что власть ее неполна без работы с другой стороны, хотя есть, конечно, исключения, но их грубость так бессовестно очевидна, что ими вполне можно пренебречь: само собой, черному демону из Jeepers Creepers все равно, верят в него или нет, но как раз поэтому он и не может дотянуться до нас, а Кагутаба из Noroi (зачем только я называю сейчас это имя), заставляющий своих корреспондентов вязать бессознательные узлы из подручных шнуров и душить голубей на балконе, так отчаянно настоящ, что я попросил у К. в подарок футболку с его маской, желая, видимо, выказать этим дешевым приемом свое бесстрашие, но, по-хорошему говоря, японские екаи не слишком меня настигают, выражаясь забытым школьным языком, все-таки это так далеко и так мало похоже на нас, и если до конца задуматься, какая же из вероятностей на самом деле пугает меня, все окажется просто, как у женщины с кассы: что явится покойный отец или та же покойная бабушка, обещавшая, кстати, меня навещать, – ничего, пошучу, сверхъестественного, страх за триста, обиженные мертвецы, угрожающие обернуть тебя в свои гнилые пелены, натолкать земли в почищенный на ночь рот: с папой может возникнуть вдобавок кто-нибудь из советских друзей, возможно, еще с мертвым эрдельтерьером, с напевом про «бедного лемура» в разбитых зубах, попрекнуть меня тем, что я дешево продал отцовские осциллографы, а пластинки снес в мусорный контейнер, оставив лишь Гульда, которого все равно было не на чем слушать, потому что вертушки я снес туда же, – словом, даже не морок, а гнет виноватых воспоминаний, несдержанных обязательств, вроде как давно прощенных себе, но вот нет, и от мысли, что это и есть моя тьма, мне становится легко и глупо, но на деле это не освобождает, а ожесточает меня, как удар молотком по пальцам, и не это ли вынуждает копать еще новые списки на IMDb или Letterboxd, причащаться то индонезийских, то филиппинских кошмаров, среди которых, стоит отметить, нет-нет да попадаются недурные работы, уже, однако, слишком слипшиеся в моей голове для того, чтобы я мог сейчас что-то внятно пересказать, как в ноль пятом добрых полчаса пересказывал тебе наконец посмотренную с диска «четыре в одном» «Пилу», зимним вечером в незапертом школьном саду, развалясь в жарких сугробах и дыша подожженной сандаловой палочкой, принесенной тобой из каких-то гостей, не из дома же ей было взяться, под военными звездами, поворачивающимися в черном небе и черных же окнах школы, погасшей навсегда, но как будто хранящей взаперти мой испуганный призрак, влюбленный в лед подоконников и все так же ходящий в библиотеку на втором этаже «заниматься метафизикой», то есть разглядывать репродукции де Кирико в энциклопедии, пока я поднимаюсь в половину шестого и еду зевать на филфак, а по вечерам выхожу с тобою на час-полтора только ради того, чтобы побыть около тебя, чувствовать, как уверенно ты движешься рядом со мной, сообщая и мне ясный, неотменимый вес, который исчезнет наутро в седьмом вагоне, но тогда, в огромном снегу, мы были тяжелы как земля, и раскаленное пятнышко, мелькавшее между нами, выглядело почти как комета, что вернется через тысячу лет и застанет нас здесь же, и так нелепо не помнить теперь ничего из того разговора, кроме того, что я пересказал тебе фильм (кстати, не знаю, посмотрел ли ты его когда-либо потом), что, наверное, вообще было пыткой, которую ты терпел из одной только воспитанности, а я, раз начав, не мог уже ни остановиться, ни закончить все это скорее, свернув подробности, ведь без них это все вообще было бы напрасно, и к тому же я считал своим долгом развлекать тебя, верный роли, взятой на себя еще в дальнем детстве, когда мы гуляли в разрушенном парке под присмотром твоих стариков, переживших тебя вот уже на три четвертых твоей собственной жизни, и я не нахожу в себе сил звонить им чаще, чем раз в полгода, что, конечно, в сто раз нелепей, учитывая, что мы живем в соседних домах и еще пять или шесть лет назад я приходил к ним говорить, сидеть в твоей комнате, перебирать книги, тяжкие кляссеры с монетами, просто дышать там, но всякий раз не мог избавиться от ощущения, что это мое мелькание только больше гнетет их, и с тем стал замедлять это мелькание, уверяя свое «не могу» в том, что «и не надо», как это делают те, кого я называю теперь своими друзьями, возводя кисельную крепость теории вокруг твердокаменного провала практик, но все это обычные серые хлопоты, положенные нам, вроде замены масла, замены резины, и мое озлобление здесь ни к чему, то есть лучше сказать, что я больше зол на себя, чем на кого-либо другого, что, наверное, как-то еще говорит в мою пользу, но тоже минимально, проблема скорее в том, что за перечислением своих оправданий остановиться или опустить детали еще труднее, чем пересказывая первую «Пилу», к тому же теперь зима, в городе темно и глухо, и чем ближе лес (а лес все ближе), тем глуше и темней, и когда мы выходим с моей смешной собакой под его оснеженные сосны, я вообще много говорю про себя о себе, обращаясь даже не к деревьям, а словно куда-то под землю, убежденный, похоже, что меня там слышат, раз год от года эти речи становятся все обстоятельней, так что когда собака ныряет вдруг в мелкий овражец, скрываясь из виду, и задерживается так на какое-то ощутимое время, я начинаю подумывать, что она отыскала проход и ждет меня, чтобы двинуться дальше и глубже, но вот она выныривает наружу и несется ко мне, взрывая снег: ничего никогда не случится на этой земле, о которой я не знаю даже того, что мне следовало бы знать, и одной детской галлюцинации, случившейся здесь же в лесу, мне хватило, чтобы и по сегодняшний день не отказываться окончательно от мысли о протяженных подземных цехах, где производятся наши сны, посылаемые по вентиляции к нам в дома, а заняты этим как раз люди вроде тебя, умершие так странно, что мы не то чтобы не поверили, а опять-таки заподозрили спецоперацию, провернутую тем не менее с таким убедительным неизяществом (достаточно вспомнить твое лицо в гробу), что нельзя, нет явных оснований для того, чтобы раз навсегда принять что-то одно, а потом на осенней прогулке от известной поляны поднимается волокнистый пар, которому имени нет, или летом, пробравшись сквозь гибельные завалы вплотную к речному истоку, встречаешь невесть как проникшего сюда старика в льняной рубашке, или еж выдвигается на тебя из подлеска и дышит так страшно, как будто готов растерзать, но говорить об этом все равно не с кем: в честных глазах К. это все пусть и негрубое, но мифотворчество, «ненайденная пленка» по моему сценарию, и хотя именно вдвоем с К., а не с тобой я по-настоящему открыл эти леса, плутал в них и мок, то молчаливое согласие, что было у нас с тобой на этот счет, с ней уже не повторилось, чему есть, разумеется, много очевидных причин, все-таки мы познакомились уже далеко не детьми, но, говоря откровенно, я и не пытался достичь этого с ней, потому что какие-то вещи и должны оставаться неповторимыми, как неповторима осталась и наша способность верить в сны друг друга, то есть не просто разгадывать их, а идти по их следу, и если тебе снилось, что дверь общества книголюбов можно открыть при помощи китайской заколки, то я лез в мамины ящики, где хранились обломки отслужившей свое bijouterie, и добывал оттуда не одну, а несколько заколок, и вечером мы топали в город со скачущим сердцем, чтобы вынести с книжных полок все, что нам нужно, но для отвода глаз прихватить несколько боевиков в прокаженных обложках, которые потом все равно будет можно, допустим, продать или подарить кому-то из недалеких друзей, только затем нам и нужных, чтобы сбывать такой шлак вкупе с той неизбежной черной мужской накипью, что заводится и в самых чутких, бросая их на трубы за общежитием, а то на футбольное поле, где ты единственный из всего поселка действовал хуже меня, в основном ходя тупо пешком подальше от возни за мяч, и хотя это вряд ли было осознанным жестом благородства (ты был действительно неповоротлив для этой игры), я не могу до конца отмести эту гипотезу, потому что это была как раз твоя роль, взятая тобой вскоре вслед за тем, как я выбрал свою: ты всегда прикрывал меня, убирал за спину от идущих навстречу в поздних аллеях и первым поднимался на чердаки к темным приятелям, и нужно ли объяснять, что твое исчезновение меня обнажило, оставило на расклев всем, от кого ты меня заслонял все эти девять общих лет с несколькими, впрочем, длительными размолвками, во время которых я чувствовал себя пусть одиноко и, может быть, кинуто, но не так уязвимо, как это началось четырнадцатого октября ноль седьмого и, как видим, все еще подступает ко мне и сегодня, раз неосторожный ночной просмотр заставляет меня обращаться к тебе с этой сбивчивой речью, воображая ее движение вниз по вентиляционной шахте и дальше, под двором, спортплощадкой, самодельными гаражами и лесом, туда, где развернут ваш подробный труд, тщательное производство, вид которого в моем представлении схож с текстильными коридорами, куда меня в первом классе приводила мама, – все эти полупрозрачные нити, вздрагивающие пересечения их, – хотя, может быть, дело здесь всего лишь в том, что это единственное промышленное место, в котором я побывал в своей жизни, протекающей, как это хорошо тебе известно, с шести лет в библиотеках и с тринадцати в разного рода редакциях, но, как бы то ни было, представляя себе эти подземелья в самых дурацких подробностях и бродя по ним до потери рассудочных сил, я, кажется, не вижу там вообще никого из тех, кто мне как-то знаком (при том что я фотографически помню, допустим, всех наших школьных охранников), что, с одной стороны, разочаровывает меня, но с другой – придает этим залам тот мертвый блеск ненавязчивой подлинности, который удается находчивому постановщику, даже если тот снимает очередную счастливую семью в несчастливом доме, и лица, сами по себе не обещающие вроде бы ничего, начинают обещать сразу все, но как раз тогда я и теряюсь, прогулка схлопывается, мне показывают заново какой-нибудь дешевый сон из университетских времен, за который и тогда было неловко, а наутро и потом еще требуется усилие, чтобы подумать об этом не как о насмешке, непонятно откуда упавшей мне в череп, звякнувшей и прогоревшей, но, даже считая это насмешкой, нужно все же ответить себе, кто ее отпустил, уронил, и я вспоминаю, как в один из твоих приступов душной одиннадцатилетней мудрости ты сказал, что наше с тобой главное отличие состоит в твоем умении – и моем, стало быть, неумении – смеяться над собой: прости, но я уверен, что ты выцепил это из вкрадчивой песенки-хуесенки, звучавшей во время титров сам-себе-режиссера, что, однако, не отменяет твоей правоты: я действительно никогда не умел посмеяться ни над своими неудачами, ни над собой в целом, но не потому, что как-то особенно серьезно к себе отношусь, а, видимо, потому, что «всякий человек достоин только жалости», и эта моя неспособность, только окрепшая с тех далеких лет, не дает мне допустить, что я дразним своей собственной выдумкой, отнявшей у меня довольно времени и теперь развивающейся самостоятельно и бесконтрольно, но по-прежнему только в моей голове, что оставалась, так скажем, на месте и в самые дерганые времена, когда наши с тобой одноклассники громоздили себе перед сном человеческий лес из поставленных друг на друга ровесниц, пирамиду из скользких бокалов, по которой вместо шампанского стекало их бесконечное семя: стоит ли говорить, что нам тоже хотелось, но мы все-таки были скромнее в нашем воображении, и нам все равно больше нравилось фантазировать о смерти, чем о чутких девичьих недрах (здесь, конечно, сыграло роль и то, что ты достиг их раньше меня и широко пользовался ими как раз в самую долгую нашу ссору): так, в одну из последних уже зим, вечером, когда ты вдруг оказался небывало свободен, мы ушли на городское кладбище, и там, среди одинаковых синих сугробов, ты сказал, что если свести твой мысленный рай к одной картинке, то это будет август и высокий берег реки перед грозой, а что ты говорил про ад, я уже не припоминаю, – возможно, что не говорил вообще ничего: мы не очень в него верили, даже не почитав еще Бердяева (ты его все равно так и не почитал), потому что даже для нас это было, наверное, слишком просто, проще, чем самое древнее папино порно, хотя, строго говоря, это сравнение нехорошо: до папиных кассет еще было нужно добраться, выбрать время и продумать отходные маневры, так что сама извилистость этого пути с отступлениями сообщала материалу серьезность и тяжесть, тяжесть и нежность, которые абсолютно не принадлежали ему изначально, но сделаем вид, что мы обращались к самой сути вещей, и продолжим: кажется, в тот кладбищенский вечер я не стал позорно торопиться с ответной картинкой рая, не стану спешить и теперь, но скажу, что ад пару месяцев назад заметно обжег мне эти самые пальцы, когда один из двух моих школьных товарищей, с которыми я как-то общаюсь, добавил меня в чат «ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ!!»: сперва я отключил уведомления, а где-то через час, когда счетчик непрочитанных сообщений перевалил за полтысячи, заглянул наконец внутрь, и все эти полуграмотные пошучивающие голоса, стремительно поднявшиеся ко мне с темного дна и потянувшие к себе, оказались невыносимы настолько, что я потерпел еще какое-то небольшое время и слился из чата, и еще через время товарищ, добавивший меня, спросил, почему я ушел и не обижен ли я на что-либо, но ты знаешь прекрасно, что «это у них со мной были проблемы», а я мучился разве что тем, что мне не с кем было поговорить, и с досады искал, как задеть их, то есть я был обыкновенный надменный мудак со словарным запасом, а по прошествии многих лет, видимо, поверил в своем подостывшем мудачестве, что всех победил и отменил просто потому, что никого из них больше не вижу, и вдруг нарисовавшаяся перспектива увидеть всех их сразу живыми и, скорее всего, вполне счастливыми людьми при своих делах меня так пошатнула, но спасся ли я, затворив этот говорящий ящик, оставив их там поворачиваться и светиться самим для себя, – как сказать, как сказать: меня уничтожает не само их беспечное и ненужное мне продолжение, а моя неготовность стоять с ним лицом к лицу, смиряться с ним, как с погодой или новым отбитым законом: я не желаю им ничего плохого, как это было сразу после тебя, когда я хотел, чтобы все, кому сейчас тоже двадцать, тоже были мертвы, но я все еще не могу подобрать для них оправдание и словно бы закрываю глаза на то, что меня с ними объединяет одна фундаментальная тема: нам повезло, мы остались, и нам не стыдно, потому что и мы пили в странных компаниях и городах, возвращались домой опасными поездами и вообще выебывались не меньше твоего, но беда обошла нас, нас максимум пару раз хорошо отлупили, или менты отобрали все наши деньги, а тебе, да, не повезло в одной-единственной вылазке в Лакинск, город, в чьем имени я, кажется, ненавижу каждую букву отдельно, и старики, что привезли тебя оттуда в наш родной ногинский морг, во всяком разговоре потом повторяли, что ты так наглупил с этим Лакинском, как будто в каких-нибудь Петушках или Киржаче с тобой бы точно ничего не случилось: нет, ты жил, как тебе было нужно, и ездил туда, куда тебя влекло, и я отпускал тебя со спокойным сердцем, уговаривая свою ревность тем, что чувствовал стоящую в тебе тьму и полагал, что тебе необходимо больше пространства, чтобы ее рассеять, а потом, когда она вновь стечется к тебе со всей Мещерской низменности, снова уезжать прочь к людям, которых я знать не хотел, и не слать сообщений, я готов был терпеть это вечно, но мне, как и было сказано, повезло, как и тем из выпускного чата, а тебе нет, ты проиграл раньше нас, и мне было бы интересно знать, куда делась та самая тьма, чьим сосудом ты был, пока жил, не примешана ли она к зимней ночи, где я это пишу, не стоит ли она сейчас в нашей ванной, нельзя ли как-то ее испытать, помнит ли она форму твоего тела, твой запах, твои пятна нейродермита, сколько ей лет, как она оказалась в наших краях и как выбрала тебя, называл ли ты ее каким-нибудь именем, предлагал ли другое вместилище, случалось ли так, что ты плакал, говорил ли ты ей обо мне.
Я гоню: это было написано не за одну ночь и не за две, какие-то куски вообще писались днем, но начато было как сказано и кончено тоже ночью: после я снова долго не мог уснуть, слишком много всего еще дергалось в голове, но в третьем часу последние мысли погасли и вместо них меня оцепил тихий, медленно идущий кругом неуют, такой, что накрывает порой в гостинице или чужом доме, но в конце концов, когда эта квартира была моей: за эти шесть лет я ничего не устроил здесь так, как мне бы хотелось, потому что мне и не хотелось. Но об этом я тоже подумал потом, а тогда, лежа лицом к стене и опасаясь пошевелиться, я, уже было засыпая, услышал за спиной слабый хруст, от которого у меня взмокли ладони: это был совсем воздушный, но и совсем отвратительный звук, к счастью, не повторившийся больше (я ждал), а наутро К. догадалась, что это шумнул отсохший и отпавший от растения на подоконнике лист, и я было опять рассмеялся, но все же осекся, подумав, как запросто я примирился с этим хрустом за своей засыпавшей спиной, причина которого между тем была совершенно темна мне: я не ухаживаю за нашими растениями и едва ли когда вспоминаю о них, то есть у меня не было даже отдаленного объяснения этому звуку, и я решил, что так и надо, мне нужно спать и не думать, что что-то прямо сейчас пошло не так; и теперь, когда я пишу это, меня больше всего озадачивает эта моя готовность принять любую причину и всякое возможное следствие того, что я услышал (стоит, впрочем, полагать, что если бы это был не хруст, а, допустим, какое-то слово, то я бы повел себя иначе, но и в этом я не могу быть уверен: может быть, от ужаса я бы только скорей провалился в сон).
Дело, видимо, отчасти в том, что за месяцы эпидемии и удаленной работы эти вшивые стены напитались моими соками настолько, что я уже почти перестал представлять свою жизнь развивающейся где-либо снаружи них: говоря совсем коротко, я по общей инерции допускаю, что здесь я и умру и этот потолок с поддельной лепниной из полистирола будет последним, что я увижу, а раз примирившись с местом, примиряешься и с остальным: если я согласен с тем, что это случится здесь, почему я должен как-то особенно восставать против того, что это случится сейчас. Хотел бы я знать, что страшило тех, кто жил здесь до меня (может статься, что я все никак не замечу чего-то), а также существуют ли живые люди, боящиеся, например, войны или голода, как о том пишет литература, а не шоркнувшего ночью сухого комнатного листа, не навязчивого хрипа в собственных легких, не шумящих в подъезде ебланов; а еще: не от голой ли тоски я населяю свое жилище, куда уже долго не ступала никакая дружеская нога, этими папиными мертвецами, тяну их наружу из давно простывших могил, как будто мне есть или когда-либо было чтó сказать им? Отец делил с дядей Валерой сарай возле Новых домов: полный необъяснимого старья, внутри он казался маленьким театром, в котором вот-вот должен начаться спектакль для меня одного. Чуть подальше был расположен участок неприятного мне дяди Юры, туда вела тесная тропа меж чужих заборов: хозяин его возникал еще на середине пути со своим животом, волнующимся под слепяще-белой майкой, неотвратимый, как статуя: как и отец, он любил надо мною подтрунивать и тоже страдал идиотской привычкой пожимать мою пяти- или шестилетнюю кисть так, словно ему было предсказано погибнуть от этой руки, если та еще хоть немного разовьется; несколько таких рукопожатий спустя я улучил подходящий момент, когда взрослые были заметно расслаблены затянувшимся разговором, и без какого-либо повода пнул стоящего передо мной дядю Юру ногой в живот (как я понимаю, мне пришлось ее порядочно задрать). Не думаю, что я причинил ему явную боль, но отпечаток своей подошвы на майке я помню прекрасно; отец же, чей стиль общения со мной, как я уже сказал, не сильно отличался от дядиюриного, будто бы осознавал мои мотивы, и я не помню, чтобы он заставил меня извиниться за этот выпад. Дядя Юра: я не знаю о тебе ровно ничего, кроме того, что здесь записано, и того, что ты давно мертв, но, кажется, я все еще жду твоего ответа: ты мог бы просто вырасти вслед за своим животом из этого выпуклого белого пятна над моей головой, но сперва за окном должны взяться два черных высохших дерева, что были видны тогда далеко за сараями, если чуть привстать на мысках у бесплотного дощатого забора: я приподнимался и тотчас опускался обратно, не смея глядеть на их задранные когти дольше, наверное, полутора секунд, а еще страшней было бы приподняться еще раз и увидеть, что они пододвинулись ближе ко мне; от этой жуткой догадки мне хотелось перестать расти, и, дойдя наконец до проклятого двора дяди Юры, я жался там к уродливым, но живым яблоням, обещавшим мне хоть какое-то покровительство.
Отец родился в этих самых Новых домах: тогда им было всего полвека, теперь сто и еще двадцать лет, но зовут их все так же; умер же он в соседнем квартале, в квартире у сестры, перед этим успев напоследок вернуться в ДОМЪ 3, где разместилось наркологическое отделение, а следом и в ДОМЪ 2, для психических: это последнее грустное приключение, точных причин которого я уже не вспомню, заметно его раздосадовало, он чувствовал, что с ним поступили несправедливо; в наркологии же, где он лежал даже дважды, папа ощущал себя вполне по-свойски и в один из моих приходов передал мне обернутую в газету стопку жестяных мисок, которые посчитал нужным увести с больничной кухни. Замызганные изнутри и снаружи, Новые дома оставались непоправимо великолепны: окна их бесконечно вытягивались ввысь, а кирпич, потемнев, будто бы обращался в гранит; под самыми же их крышами широко белели просторные козырьки, и именно здесь я единственный в жизни раз видел Бога: он стоял на центральном, возвышенном от двух других навесе, большой, в длинном словно бы мраморном платье, недышащий и гудящий как провода над просекой, но ему недоставало головы, над круглыми его плечами не было ни сияния, ни какого-нибудь, скажем, контура или каких-нибудь, пусть неизвестных мне, букв; гул же все возрастал и плотнел, и я, не совсем зная, как мне быть, лег вниз лицом на теплую летнюю землю, чтобы он точно понял, что я узнал его, но как только перед моими глазами встала земляная темнота, гул стремительно превратился в бешеный свист, как если бы это был авианалет; я затрясся, и все затряслось вместе со мной, и отец, всегда что-то знавший об этом, но не хотевший мне говорить, вдруг произнес прямо в мой затылок: видишь, это совсем не так, как написано в священной истории.
Самый странный кошмар об отце был таким: я терял его в сером, безлиственном лесу, по всем ощущениям похожем на успенский, где я и сегодня хожу как чужой, а потом, разыскивая, находил его у себя под ногами, на тропке: он был как бы весь скрыт под землей и только лицо оставалось видно, но едва я заглянул в его глаза, как оно обратилось в лужицу пепла, будто от небольшого костра. После этого я оказывался у него дома, один, в полностью ободранной и от этого казавшейся огромной квартире, с внезапно бесшумной горьковской трассой за голыми окнами, а потом отец появлялся за балконной дверью, как раз напротив входной, не просясь внутрь, а как бы в виде памятника или большой птицы, и хотя нас разделяло всего только стекло, он был таким далеким, как если бы я увидал его лицо на луне. Был отец жив или мертв, когда мне это снилось, – этого я уже не могу сказать наверняка, но я помню точно, что проснулся с полными глазами слез, так я был раздавлен. Его не стало, когда мне исполнилось пятнадцать, и за несколько последующих лет я написал об этой смерти три или четыре рассказа, каждый раз объясняя все заново, но ни в одном из них не был до конца честен, не буду и в этот раз; сейчас половина второго ночи, мои крепко спят, и я набираю это на пожилом, но верном ноутбуке, сидя в комнате, где ничего не может произойти, краем глаза следя за откатившимся к книжному шкафу салатовым фитболом, с которым куражилась вечером дочь: форма его одновременно благородна и зловеща, внутри него заключено мое дыхание: почему я уверен, что оно не обратится против меня? Но все-таки вещи никогда меня не преследовали, разумеется, если не сводить до просто вещи карамельного Иисуса в плоской металлической раме, которого я выпросил у бедной мамы в период своего увлечения той самой священной историей и сопутствующими картинками: пухловатый и женоподобный, чуть задремывающий на стене над моей кроватью, он с самого своего появления в нашем жилье вел себя ненадежно, не столько по ночам, сколько днем наполняя квартиру тонким веянием тревоги, от которого можно было скрыться единственно в туалете, а когда, переждав приступ, я выходил и решительно шел в дальнюю комнату, где висела картинка, чтобы выказать ей свое запоздалое бесстрашие, на карамельном лице чуть расцветала презрительная усмешка.
Несмотря на мой склочный в то время характер, ни в школе, ни во дворе у меня не было каких-то вечных недругов, и эта дуэль с Иисусом, растянувшаяся почти на десяток лет, стала главной войной моего детства, его, может, не самой отчетливой, но самой постоянной нотой. Томно приглядывавший за мной днем, он не оставлял меня и в снах, где я подвергался дурацким, но и обескураживающим прилюдным казням за то, что недостаточно крепко в него верил: мне то насыпали камней вместо картошки на рынке, то в очереди писали на спине паскудные слова, о которых потом еще и сообщали в газетах, то поднявшийся на площади ветер срывал с меня всю одежду. Сам Иисус при этом никогда не покидал своей железной рамки, довольствуясь гнилыми ужимками внутри нее: отращивал лишние пальцы или поворачивался ко мне спиной с латунными вентилями вместо лопаток: так он спроваживал меня из дому; когда же я, загнанный чередой неудач и издевок, устроенных им, в отчаянии возвращался к себе в комнату, неся ему свое окончательное признание как собственное сердце на широком блюде, он встречал меня раскинув руки, с улыбкой Микки Мауса, обещавшей прощение и долгую покорную жизнь. Безобразное испытание кончалось, и я просыпался; днем же, оставшись в квартире один, я отыгрывался за ночные унижения и, допустим, подолгу качал головой, глядя прямо в лицо на стене, или же снимал перед ним трусы, потому что не знал в исступлении, как сильнее его оскорбить; как-то, весь сжавшись внутри, я щелкнул его по носу или по лбу, не помню, но ни разу не посмел плюнуть в это лицо или что-то сказать ему вслух. Еще немыслимей было вовсе снять картинку и куда-то убрать: я читал о наших иконах, умевших перемещаться без посторонних усилий, подобно японским зонтикам, и, если бы снятый и спрятанный Иисус очутился вновь на своем месте, я бы окаменел перед ним или стоя истлел. Постепенно я пришел к выводу, что для меня здесь установлен некий необъявленный порог и я волен еще сколько-то раз показать Иисусу язык или нарочно задеть его щеки стесавшимся веником, обмахивая с потолка паутину, но однажды положенный мне предел будет все же пересечен, и тогда наконец я буду наказан как надо: как ни томительна была эта выдуманная неизвестность, я свыкся с ней без особых усилий; лишь иногда мне непреодолимо хотелось что есть сил разогнаться в направлении финишной черты, и тогда я совершал сразу несколько мерзостей кряду, рассчитывая надорвать Господнее долготерпение и получить то, чего заслуживаю, но это мне так и не удалось.
Вершина этого противоборства оказалась тем не менее достигнута осенью две тысячи третьего года, в одну из маминых ночных смен, когда я, небывало набравшись смелости, отправился спать в свою комнату затылком к никак себя не проявившей за этот вечер картинке. Ночь прошла так же безмятежно, а под утро, в бледном свету, ко мне вдобавок забрался наш кот, обыкновенно устраивавшийся подальше от нас: я обрадовался и затащил его к себе на грудь, мне уже не спалось, и мы лежали так, слушая бабушкин свист за стеной, пока я не увидел, что кот увлеченно смотрит ровно туда, где висел нежный Иисус. Не особенно взволнованный этим, я все-таки чуть повернулся и похолодел как иголка: над глазированным саккосом в кремовых розах белела пустота, великий архиерей куда-то отпустил свою голову. Я почувствовал, как бесконечный вдох наполняет мое тело, неспособное остановить и выдохнуть это, зажмурился, стиснул кота и взглянул на стену снова: Иисусова голова была на месте, такая же, как всегда, без единого изъяна, но и в этой подчеркнутой привычности теперь скрывался едва ли не больший подвох, я остался лежать неподвижно, кое-как укротив дыхание, и когда через несколько минут мамин ключ наконец завозился в дверном замке, облегчение было так огромно, что меня будто бы подняло над постелью. Почему ко мне применяли эти фокусы с исчезающей головой – об этом, наверное, стоило бы поговорить с тобою, но мне не хватило решимости завести такой разговор; в жизни я ни разу не оказывался рядом с обезглавленным телом, ты же сам всегда снишься мне в полном порядке, ладно одетым и выбритым, и лишь однажды, всего пару лет назад, явившись к твоим старикам после неразборчивого ночного звонка, я увидел тебя другим: лицо твое было на две трети стерто, оставшийся глаз глубоко чернел из кое-как слепленных вместе костей, рот висел чуть не у самой груди, и весь череп твой превратился в какой-то раскопанный курган: тебя вернули наконец после опытов в институте, куда ты угодил из реанимации после того, как вы с товарищем разбились на его мотоцикле где-то под Муромом; ты грузно сидел на стуле посредине комнаты в растянутом в одеяло зеленом свитере, и я обошел тебя кругом, не зная, что и сказать. Старики объяснили, что ты многое помнишь, но память возвращается к тебе приливами, то короткими, то затяжными, и тогда ты негромко и складно говоришь о рыбалке или книгах, но все это просто разрозненно плавает внутри тебя; по всему, это твое состояние их огорчало, я же был почти счастлив: все эти годы таким неровным вспоминанием занимался я, и теперь ты вернулся сменить меня, я мог наконец отдохнуть.
Мыслимо ли: ты умер, не успев завести себе страницы, от тебя не осталось ни одной переписки, но это не прибавило ничего к твоей смерти, а, наоборот, отняло у нее: те друзья, кому не повезло чуть позже тебя, и сейчас в замороженном виде предстают под стеклом (я проверил, прежде чем написать), собирая поздравления на дни рождения от неотступных добряков, и в этой стеклянной подвешенности, недостойной человека, они оказываются много мертвее тебя, не бросившего здесь никакого дешевого якоря. Есть твои фотографии, но фотография вовсе не имитирует продолжение жизни, а именно что четко фиксирует ее уничтожение в момент щелчка затвора: те, кто попался, уже никуда не уйдут; фотоальбомы твоих стариков честней соцсетей: их по крайней мере можно отправить в костер. На снимке с какого-то семейного праздника ты сидишь с краю стола, в кадре еще два твоих плохо знакомых мне ровесника, никто из вас не смотрит в камеру, цвета размыты, и сам снимок сделан так неуклюже, что крайнюю правую четверть его, как раз рядом с тобой, занимает чернота того самого дверного проема, словно это кто-то четвертый, кого хотел сфотографировать тот, кто взялся за аппарат. Тебе здесь не больше двенадцати (после двенадцати ты уже так не одевался), перед тобой стоит высокий стакан с желтым соком, и эта чернота, держащаяся чуть позади тебя, словно бы стесняется своей пойманности, но в отличие от вас троих смотрит все-таки прямо в объектив. Когда нам с К. впервые показали это фото, я был, можно сказать, поражен и чуть было не спросил у твоих: вы же видите это? Твой дед, подполковник ракетных войск, читал Блаватскую и гулял по квартире со спицами вместо радаров: если и он ни на что не наткнулся в ваших комнатах, на что тогда годен я; не потому ли на самом деле я перестал навещать их, что почувствовал, что мне совсем нечего там ловить? Как-то так же меня никогда не тянуло на кладбище: я носил тебе цветы потому только, что так меня приучили, но нигде я не ощущал настолько полного отсутствия тебя, как перед твоим надгробием с неплохо, кстати, выполненным портретом; думаю, что если бы ты успел этим озаботиться, ты бы строго завещал не опускать тебя в нашу глину, а сжечь и рассыпать, наверно, с Панфиловского моста, на котором я в последний раз снял тебя на маленький «сайбершот».
Никуда не переброшенные, фотографии эти пропали потом и с карты памяти, но я заметил это исчезновение уже приличное время спустя, и хоть оно было мне и горько, и малопонятно (кроме меня, к камере никто не прикасался), я не почувствовал в нем никакой нездешней руки. Я ходил на Панфиловский мост вдвоем с К. и вместе с друзьями, приезжавшими из других городов, теперь мы гуляем там с дочерью, и всякий раз нарастающему над рекой ветру отвечает голос моей растерянности: открыв мне это место, ты напоследок советовал не приходить сюда без тебя, чтобы не пострадать в одиночку от тоже сновавших здесь недоносков с ближних казарм, и не то чтобы я и теперь жду, что меня атакуют, но, видимо, в этом месте мне приходится, пусть и на автомате, принимать каждый раз заново все, что произошло. Волей какой-то местной иллюзии наш поселок выглядел с моста так отдаленно, что его почти можно было любить: жирные швы между плитами зданий, черные крыши казарм, трубы давно оставленных фабрик, больные огромные липы, решетки и колья дач. В марте, когда зима уже ползла и проваливалась и небо висело темно и низко, вид его становился совсем сиротским, и хотелось укрыть его хотя бы газетой. Едва ли нам что-либо угрожало здесь, несмотря на все разговоры и россказни; за все наши прогулки до нас доебались единожды наши же собственные мрачные знакомые, еще чуть не при Ельцине: для них это была такая пробная охота, вчетвером против двоих, и хотя с непривычки я тогда перепугался, все закончилось безболезненно и, кажется, не слишком унизительно для нас обоих.
Вопреки тому, как меня воспитывали дома и в школе, я рано начал носиться со своей исключительностью, но справляться с этим в одиночку мне было трудно, и я счастливо разделил это бремя с тобой, мало-помалу убедив и себя, и тебя в том, что мы были лучшим, что могла произвести эта тугая, неповоротливая земля: на гребне этой уверенности, когда я записывал по стихотворению в день, а по вечерам жег с тобой за котельной деревянные ящики, принесенные с рыночной свалки, мне казалось очевидным, что она охраняет нас и не подпустит к нашему огню никого из своих неудачных детей. Сотни ящиков сожгли мы, не истратив и половины спичечного коробка, не потревоженные ни патрулем, ни досужим каким испытателем; поселок был тих, как во времена, когда эти дома еще не заселили люди и собаки и поезда на Москву отправлялись пустыми из нашего тупика. Справа от нас высоко уходила пестрая и во тьме стена глуховской бани, слева черно скалился из-под навеса бывший музей «трудовой славы», сдаваемый теперь под бродячие распродажи; все это было в одинаковой степени плотно и проходимо насквозь, как обычный воздух, обычная ночь; легкое дерево сгорало быстро, и лицо твое снова становилось цвета асфальта, и мир замыкался, отменяя будущее, которого никто из нас и не хотел; ну хорошо: это я не хотел, и я получал свое. В том, что касалось будущего, меня заботили только две вещи: избегу ли я армии и пересплю ли когда-нибудь с девочкой; и почти наверняка зная, что мне не удастся ни одно, ни другое, я боялся грядущей пропасти, должной пролечь между нами, когда ты побываешь у кого-то внутри (а в том, что тебе нарисуют диагноз для «ограниченной годности», сомневаться не приходилось вообще, и ты сам был вызывающе спокоен на этот счет, но я все равно не любил тебя меньше). Впрочем, когда (уже скоро) это действительно случилось и ты с исключительным достоинством ответил на все заданные мной вопросы, все будто бы обошлось: я был рад за тебя и благодарен за то, что ты ничего от меня не скрыл; мы гуляли в честном осеннем лесу, промытом долгим дождем, и березы его были такие же рыжие, как пизда твоей подруги; упругие капли срывались и со стуком падали в траву вокруг нас, мы шли напиться на дачный родник, убранный в бетонное кольцо, охваченное понизу черно-зеленым мхом. Этот оловянный свет, начинавшийся здесь в сентябре, шел тебе даже больше, чем желтые отблески костра; летом тебе было тяжко, ты встречал его каждый год нехотя, проживал ворча, и первое похолодание становилось твоим маленьким сосредоточенным праздником, когда вечером нужно было поднять глаза к немногочисленным звездам поселка и сказать, что они становятся выше, нам будет легче под ними.
Как это ни было удивительно, я переспал со своей подругой и оформил ограниченную годность лишь немногим позже тебя (ты был еще и на год старше) и так вопреки всему обнаружил себя в том самом будущем, что так томило меня за котельной и на мосту; то есть мы очутились в нем оба: самые страшные, казалось бы, вероятности одинаково разрешились в нашу пользу, но еще более поразительным и пугающим образом оказалось, что будущее все еще не взято до конца, оно тянется так далеко и само себя не понимает; я отсидел первый курс на русской филологии, потом поступил наново в иняз, принеся этот год на филфаке в жертву опять-таки будущему, которого я боялся теперь еще хлестче, а ты учился вечерним порядком на соцработника в соседней Электростали, в подвальном филиале мутной московской конторы, которая переживет тебя совсем ненадолго, и все еще выглядел и разговаривал так, как будто тебя совершенно не волновало, что будет дальше, сможешь ли ты заработать себе на еду и презервативы (знал бы ты, сколько они стоят теперь; и кто-то по-прежнему их покупает). Ты возвращался домой на дурной электричке: в самых поздних здесь обычно как раз спокойно, это я уже выучил сам, а вот в тех, что приходят часам к десяти, что-то регулярно идет не так, и к тебе тоже приступали, но ты умудрялся со всеми разойтись (хотя многих, наверное, мог бы убить): однажды ты рассказал, как ты ехал в тамбуре с сигаретой и мимо тебя в начало состава прошли веселые хачи, явно над тобой посмеявшись (пальто, длинные волосы, невозмутимое лицо: это ведь на самом деле довольно смешно), а ты продолжал курить, наблюдая хребты перелесков, и через полминуты вижу: бегуут, протягивал ты это «у» ровно столько, сколько нужно, подчеркивая природную естественность и словно бы заранее понятную тебе неизбежность настающей сцены: твои насмешники ломились напропалую прочь от околофутбольной команды, бившейся за чистоту пригородных поездов; и хотя теперь я уже не совсем уверен, что ты правда при этом присутствовал в своем пальто, я люблю пересказывать эту историю, потому что мне нравится видеть тебя в этой точке, в этом тамбуре с черными окнами: это единственное место, которое только может занять хоть что-то понявший об этой земле человек, где еще ему быть здесь: на встрече одноклассников? на интеллектуальной викторине? на поэтическом вечере? на народном сходе против мусорного полигона? Только в тамбуре место его, на тряской границе, одинаково равнодушно раздвигающей свои двери и сдвигающей их, и поехали дальше. Нам не нравились ни скины, ни нерусь, ни Ельцин, ни Путин, ни Союз правых сил, ни коммунисты, ни Ногинск, ни Электросталь. Мы хотели бы вечно смотреть на них в четверть глаза, лицом к темноте, проездом.
До четырнадцати ты был юный турист, вы куда-то ходили по нашим лесам и деревням, но рассказывать здесь было особенно нечего (а там, где было что вспомнить, оказывалось нечего показать), земля эта лежала ровно, как бетонная плита без особых засечек, и даже когда я в отчаянии брался в читальном зале за краеведческие сборники, напечатанные энтузиастами уже в девяностые годы, ощущение это не ослабевало: будто бы движимый той же самой тоской, ты во время одной из прогулок поведал историю о древних морозовских сомах, по сей день обретающихся в Черноголовском пруду с вживленными в лбы перстнями. Полностью понимая, что ты это только что сам сочинил (я почти видел, как разрастается сказка у тебя в голове), я не стал никак тебя разоблачать, потому что был вполне ошеломлен тем, как выдумка эта ложилась на нашу невзрачную местность, которая, казалось, только ее и ждала. То есть из нас двоих ты и это попробовал первым, а сам я, хоть и в несколько других масштабах, занялся таким уже много после: ближе к концу школы, когда мне случилось написать свои первые рассказы, я считал, что «письмо должно быть честным», и мне следует, раз уж я начал, говорить о том, как умирал мой надорвавшийся отец или как кто-то похожий на меня преследует кого-то похожего на А. из соседнего класса, не зная, как понравиться ей, и задирает каких-то еще знакомых девочек, чтобы утешить свое неудачничество. Эта убежденность продержалась еще долго, и я не очень помню, когда именно почувствовал, что все это в самом большом смысле неприлично и мне нужно вырабатывать другие повадки; но что меня к этому подтолкнуло, еще кажется восстановимо: этот неаккуратный город, населенный ненужными мне людьми, сам по себе давно не внушал мне никаких отвлеченных чувств, и вместе с тем только здесь я со все растущей частотой ощущал что-то, что можно было условно назвать оцепенением: это обычно происходило со мной в каком-то людном центральном месте, я продолжал идти куда шел или ждать кого ждал, но внутри и вокруг меня все обращалось в ноющее как под чужими пальцами стекло, один бескрайний кусок стекла, в который плоско вмерзали крыши, куртки, мобильные телефоны, автобусы, мои руки и губы. Это длилось несколько секунд и не было сродни ни блаженству, ни ужасу: это было восхитительно никак, я не то чтобы исчезал, а мелко рассеивался, и единственным, что я чувствовал в эти моменты, была тонкая горечь их ускользания, неизбежность скорого истекания их. Мир возвращался ко мне не шумней и не яростней прежнего, а таким, каким был всегда, но с каждым подобным превращением в стекло и обратно я доверял ему немного меньше; так мне показалось важным научиться задерживать это оцепенение, и поскольку добиться этого каким-то физическим усилием было невозможно (а сторонние вещества мне, как известно, запретил еще лично Шевчук), я стал пытаться делать это на бумаге: мне хотелось бы знать, что бы ты во всем этом прочел без моих объяснений, но что-то подсказывает мне, что, будь ты жив, я писал бы совсем по-другому.
Зимой после того, как тебя закопали и я остался в городе один, произошел мой единственный сколько-то значимый срыв по мотивам случившегося: рано вернувшись из Москвы, я бросил дома сумку и ушел в прилегающий к поселку лес, недалеко, на первую просеку, тянувшуюся от стадиона до пятой школы, и прометался там около часа между темных грузных деревьев, то вдаваясь глубже в сугробы, то опять рассекая прохожую часть и поминутно резко оглядываясь с тем, чтобы так уловить тебя, якобы следящего за мной из-за стволов и кустов; я порядком себя разогнал, голова скользко кружилась, но ни в одно из этих оглядываний ничего не мелькнуло ни прямо, ни побоку, ни вдалеке. Эта просека, понятно, помнила нас еще детьми и порознь, а в ноль пятом или ноль шестом, осенью, мы пришли сюда вечером после того, как во всех новостях объявили о побеге значительных московских арестантов, а ты при встрече добавил (не знаю, откуда ты вообще это взял), что часть из них двинулась в направлении Владимирской области как раз через наши леса; словом, тонкий сентябрьский воздух дополнительно натянулся над нами, и мы стояли ровно посередине дороги в шероховатых сумерках: я помню, как дергалась мышца в плече и тянуло холодным дымом с полигона, и ты рассказывал о своей позапрошлой подруге, что была нашисткой, но это тебе не мешало кататься к ней на дачу каждое воскресенье, а потом со стороны стадиона на просеке возникли две неровные тени и замерли, увидев нас впереди. Даже за двести метров в сумерках было ясно, что эти люди пьяны: ты сжалился над их ужасом и предложил отойти с дороги в лесной кустарник; я подумал, что так мы станем только вдвойне им подозрительны, но не стал с тобой спорить, полагая, что ты, в силу разных обстоятельств чаще и плотнее моего пересекавшийся с подобным сбродом, все же лучше угадываешь, как они должны себя повести. Мы отошли ближе к деревьям и встали, по грудь окруженные хлипким малинником, и ты закурил, отвернувшись, чтобы точка огня не демаскировала тебя; по твоей команде мы продолжили разговор еще тише обычного (голоса наши и так всегда были негромки), но уже скоро услышали дурные крики тех, кому мы освободили дорогу: они звали нас выйти обратно со всем, что у нас с собой было, и зарезать их здесь же; вспоминая сейчас эти стылые вопли в серой тьме, я не могу не предположить, что, внушив мне мысль о рыщущих именно в наших лесах беглых убийцах (повторюсь, не имею понятия, откуда ты взял это), ты каким-то образом внушил ее и этим двум бедолагам, теперь призывающим смерть от кривого ножа. Голоса их не приближались, но поносили они нас все убийственнее, словно уже смирившись с тем, что мы перережем им горла; в этом чокнутом рвении было что-то воистину неисцелимое: если им было так страшно идти дальше просекой, никто не мешал им вернуться от стадиона в поселок и проследовать куда было нужно по улицам, заложив некоторый крюк, но ничем не рискуя (разве что ты не устроил так, что их путь к отступлению был отрезан каким-то еще видением: стеной пламени или сворой двухголовых собак). Казалось, твой план не сработал, а мои опасения сбылись, но тогда ты скомандовал опуститься на корточки – так, чтобы малинник скрыл нас с головою; все еще не смея тебе возражать, я сделал как ты сказал, и не долее чем через минуту мы услышали рядом их растерянные шаги и сдавленные слова: давясь от восторга, я развел в стороны руки, собираясь (или нет) хлопнуть в ладоши, когда они будут совсем близко, но ты сделал мне запрещающий знак.
Насколько тот мой припадок был связан с нашим приключением вокруг чужого побега, сказать все-таки сложно: я ушел тогда искать тебя на просеку в первую очередь потому, что это было ближайшее к моему дому место, где никто не мог помешать мне метаться; но оба этих воспоминания уже порядочно руинированы, так что из них не составит труда собрать все что угодно. И все же глупо было бы совсем отмахнуться от того, как вели себя те двое, которых я никогда не смогу ни о чем расспросить: легко видеть, что ты управлял ими, как беспилотниками (этого слова еще не существовало), сперва внушив им рыхлый страх, а затем отменив его самым дешевым способом; но и в самом появлении их на вечерней тропе одновременно с нами нельзя не угадывать какой-то странной работы, словно бы ты устроил все это представление ради меня, избегая, допустим, прямых указаний на свое могущество (которое и тебе самому могло быть не вполне ясно, как знать), и все же, как это понятно мне теперь, оставляя достаточно улик, чтобы я и тогда мог о чем-то задуматься, но пока ты был жив, у меня это, кажется, так всерьез и не получилось. Кого только из поселковых мы не были сами готовы уличить в темных практиках, когда были детьми: любая самодовольная старуха и всякий одинокий сосредоточенный мужик легко казались нам магами, которых не следовало зря раздражать; а ты, брошенный отцом и, по сути говоря, матерью, воспитанный стариками, учившийся за деньги в непотребном месте, все равно всегда был для меня вечным удачником, любившим удовольствия и всегда добивавшимся их (или они сами тебя находили и брали), которому, да, мешала жить непрестанная возня с неустойчивой мамой, но уж точно не так, как мне мешали контролеры в поездах, скользкие платформы, безмозглые однокурсницы, дорогие книжные магазины, нацболки, продающие «Лимонку» на Бауманской: ты их даже не видел (и тебя, как уже было сказано, устраивали и нашистки), а я видел и знал, что никогда до них не дотянусь; понимал ли я в те шестнадцать или семнадцать лет, что моя жизнь уже движется резко не в сторону захвата администраций и свального секса, как мне бы (наверно) хотелось, – какая, в общем, теперь кому разница; что же касалось тебя, я был убежден, что твое течение ровно таково, как ты сам его направлял: не потому ли меня так ранила твоя смерть, что я улавливал в ней, может, и не прямой твой выбор, но по меньшей мере предвосхитимое последствие некой договоренности, без спроса заключенной тобой? В столовой, куда мы приехали с кладбища (почему, черт возьми, после этого предписано что-то есть, и непременно всем вместе?), была неизвестная мне одинокая девочка, без слов, с каштановыми волосами: она почти не поднимала глаз, не отнимала локтей от тела, и по мере того, как я следил за ней, тоска, окружавшая ее, все плотнела, так что постепенно начало казаться, что все мы, собранные в этом бледном зале, стянуты сюда единственно силой ее каменной скорби. То, что ей тоже нужно было как-то справляться с этим, господи, супом и чем там еще, а потом пить компот, казалось так унизительно; она бралась за приборы как за инструменты анатома и каким-то чудом удерживала их в руках не роняя. Я был, однако, сам слишком подавлен и стерт для того, чтобы подступиться к ней, а потом, на девятый день, когда ближний круг собрался у твоих стариков, ее уже не было, и твоя плывущая мать, растроганная тем, что все снова пришли, но все же дождавшись, когда с ней рядом останусь я один, полушепотом и ни на кого не ссылаясь рассказала мне, что ты жил с девочкой, и никто об этом не знал, но почему же они ждали, нужно было рожать детей; и хотя эта удивительная новость и рифмовалась с появлением на поминках каштановой несчастницы, я не стал предпринимать никаких выяснений на этот счет, все было так поздно, а мама, в конце концов, тогда могла просто нести взбредшую ей от отчаяния околесицу. Без тебя она протянула в тупом алкогольном тумане еще полтора года: как-то я провожал ее от стариков до квартиры, где на вешалке еще жило твое пальто, и она попросила меня подождать в коридоре, а сама ненадолго исчезла в дальней комнате; я ждал, что она вынесет мне какую-то внезапную твою вещь, но мама вернулась с пустыми руками и мягко спросила, почему я совсем ею не интересуюсь: у тебя же были девочки? – она успела что-то проглотить в той комнате и стремительно опьянеть; я опешил и, от ужаса впав в малоумие, переспросил, о чем она говорит, и она так же мягко сказала, что хочет заняться со мною любовью. Мелко выругавшись, я распахнул дверь и ссыпался вниз по лестнице, подгоняемый тут же хлынувшей вслед мне истерикой; говоря совсем коротко, в следующий раз я увидел твою маму только на ее отпевании. Переспать с ней в доме, где еще висела твоя одежда и стояли книги, было бы совсем древнеримским актом, схлопыванием моего главного горизонта: к двадцати ты попробовал многих и мог, хоть и мертвый, собою гордиться, но я переиграл бы тебя, побывав там, откуда ты взялся на свет.
Старики продали вашу с мамой квартиру еще до того, как мы с К. накопили на свою, но если бы мне всерьез хотелось ее купить, я бы, наверное, как-то договорился с ними (а там бы вскрыл пол, пригласил духознатца, растерзал жену): деревья обнимали балкон, и в комнатах было прекрасно темно, вы жили на втором, над кошачьей квартирой с выпростанной из окна в палисадник длинной доской для тех, кто уже не мог запрыгнуть сам; ближе к холодам под то же окно приваливали нелепые бродячие собаки (как-то полупоехавшая хозяйка и ее отягощенная зобом подруга представили нам пса по кличке Пидарас): поселок был известно полон алкоты, но почему из всех возможных здесь обстоятельств именно проживание на первом этаже практически гарантировало тяжелую зависимость – это ведь неплохая загадка для антрополога, так? За эти годы многие из них умерли или делись куда-то еще, а в жилища их вселились, за редкими исключениями в виде сорокалетних русских семей, азиатские съемщики: было бы любопытно проверить, прервется ли на них это проклятие, но сам я, конечно, хотел бы переехать отсюда и оставить пост наблюдателя кому-то другому; хотя бы и никому. Я еще как-то держусь за наш лес, хотя и в него приходится забираться все глубже, чтобы это действительно означало «побыть в лесу»; ночью в мае за последними дворами вырастает черной пузырящейся стеной лягушачий хор; зимой грузовые поезда кричат так по-птичьи, что хочется обнимать их; а в одну душную летнюю заполночь я вышел на балкон и увидел, что справа от поселка, уже где-то за Клязьмой, в совершенно пурпурном небе, сцепившись в ком, катаются белые девятихвостые молнии, не издавая ни щелчка, ни шороха: оглушенный этим беззвучным неистовством, я вспомнил твой рассказ о том, как в июне девяносто восьмого ты вылез с военным биноклем на крышу дома, чтобы следить за приближающимся ураганом. В тот вечер я не мог составить тебе компанию, так как отбывал унылую (первую и последнюю в жизни) смену в детском лагере за городом; мало того, я оказался чуть ли не единственным из всех, кто все пропустил, потому что крепко спал, и стихия, добравшаяся до нас уже после отбоя, не сумела меня разбудить даже при поддержке всех подорванных ею солагерников, почему-то, впрочем, не ставших считать меня особенным существом после того, как все улеглось. Слушая утром их все еще напуганные речи, я ни секунды не завидовал им и считал, что мне более чем повезло; но история твоей одинокой и бесстрашной вылазки произвела на меня совсем другое впечатление и еще долго потом сосала мне сердце: все так непоправимо совпало тогда – я сходил с ума в лагере, где мне было не с кем хотя бы поговорить, а ты стоял на крыше, держа в руках бинокль размером с твою собственную голову (у меня дома лежал только театральный, из имитирующей кость пластмассы). И вот в эту ночь с бесшумно беснующимися молниями мне стало так же по-детски жаль, что ты не видишь, что творится в небе за нашей рекой: что вообще успела тебе показать эта земля: я даже не знаю, водили ли вас с рюкзаками на Старопавловскую дорогу, к памятнику Герасиму Курину, в лес за Молзино, на Карабановский мост. Все это при желании установимо: можно прийти к вам на станцию юных туристов (вы говорили почти по-французски: сютур) поднять списки и фотоальбомы, но мне кажется, что такие усилия оказались бы как раз разрушительны: чем меньше я знаю наверняка, тем податливей мир, а найти тебя в выцветшей детской толпе на фотографии у памятника древнему партизану означало бы просто, что в этой точке уже ничего не возможно, точно так же, как в квартире твоих стариков или на просеке от стадиона до школы.
Первый год без тебя я провел в стыдных дрязгах со всеми, кто попадался под руку, но больше, конечно, с самим собой: мне было настолько не в чем себя винить, что это только сильнее меня распаляло; подражая тебе, я выдумал несколько песен под гитару, которые до сих пор не могу полностью позабыть, и надеюсь только, что у тех немногих, кому их довелось услышать, память хуже моей. Как-то в тогдашней тоске меня навестили сероглазая А., в которую я был влюблен в последний школьный год, и наш общий веселый сержант из Электростали: она училась на философском, он ночевал в ее комнате в Новогирееве, но я в своей святой ушибленности был уверен, что они не более чем друзья, и сыграл им свою поделку на стихи Блока: ты ушла на свиданье с любовником, я один, я прощу, я молчу; все-таки, думаю я теперь, ты распространил на меня дар смеяться над собой, пусть и вот так запоздало (если бы еще сколько-то лет спустя, когда наш сержант уже застрелился из табельного пистолета, А. не рассказала бы мне обо всем сама, я бы, наверное, так и не догадался о них). Зимой я переехал жить в Пушкино к бедной Ю., слишком на меня надеявшейся; все это с самого начала пошло не так, как нам хотелось (каждому, очевидно, по-своему), и к осени, когда мне пришел срок отправляться на семестровую стажировку, мы сказали друг другу, что нам будет лучше не съезжаться обратно, когда я вернусь. Я улетел в Женеву, два дня не отвечал на звонки и сообщения (Ю. уже передумала), но на третий сдался и тоже отыграл все назад: это не принесло мне большого облегчения, но, пока впереди еще были три месяца небрежной жизни и учебы на швейцарские деньги, я мог позволить себе не особенно думать, что делать потом. Еще по дороге в город из аэропорта я вообразил себя покойником, отпущенным погулять на Пасху: так ослепительно солнечно было на улицах и огромные ненужные цветы склонялись из каменных клумб; я еще не так легко объяснялся en français, но за четыре года учебы во мне собралось столько раздраженной усталости от заносчивых москвичей и озлобленных в поездах и метро подмосковных (почему они все были живы?), что не слышать вокруг себя русскую речь тоже было подарком (уйти от нее до конца в Женеве было все-таки трудно, и всякий раз, когда рядом со мной на улице вспыхивали русские слова, я ощущал дуновение паники и старался не смотреть в ту сторону). Тугой на все новое, в ту самую осень я стал неуклюже разбирать без меня накопившиеся этажи инди-рока и легко отыскал свое счастье на пластинках New Pornographers и The Decemberists, а еще погодя, докатившись поездом до Лозанны, пришел на площадь перед Palais de Rumine, занятую фермерской ярмаркой и туманом с озера, наплывавшим во все прибрежные города и державшимся там до обеда так плотно, что не стоило расчехлять фотоаппарат (на первые же полученные франки я купил себе новый: «сайбершот» был уже плох), и, плутая между рядов с голубыми, зелеными и оранжевыми сырными головами, тускло светящими в добром полуденном сумраке, почувствовал, что впервые со дня твоей смерти, впервые за этот год, полный тоски и кретинских обид, мне стало на время легко и свободно и я больше не ненавижу себя за то, как это все так случилось. Я понял, что связь наша выстояла и не ослабла, что она сохранится и дальше, даже если я сам однажды вдруг захочу от нее избавиться; я не то чтобы смотрел на эти сказочные ярмарочные сыры твоими глазами, нет, но я находился там и за тебя: раз уж мы больше не могли вдвоем быть посланцами наших болот и собачьих промзон ни на швейцарской, ни на какой другой неизвестной земле, мне не оставалось ничего другого, как справляться за нас обоих.
Университетская résidence находилась в очаровательном и пустоватом кленовом предместье, где однажды в ночи у автобусной остановки мне мелькнула медная в фонарном свете лисица, в чем я после стал склонен видеть предсказание о К.; на выходных мои соседи разъезжались, и я оставался один на краю Женевы, с видом из комнаты на вечно безлюдное футбольное поле и сонные особняки, полуспрятанные в листве. Ровно в том сентябре неподалеку отсюда запустили и скоро сломали коллайдер, к которому я сам в силу гуманитарных привычек относился скорей настороженно и смеялся (привет еще раз) над тем, что моя первая в жизни вылазка за границу отправляла меня поближе к месту, откуда должен был начаться конец света, но случившийся квенч отменил его, что, понятно, добавило этой поездке ощущения глупого чуда. Разница в два часа с Москвой играла мне на руку, и, переписавшись вечером с Ю. и отправив ее спать, я включал кино: там я впервые увидел «Груз 200» и «Необратимость», после которых до изнеможения отжимался, чтобы то ли развеять, то ли утвердить чувство собственного бессилия, но и многое из того, что пересматриваю и сегодня; самым, однако, любопытным оказался опыт со второй частью Jeepers Creepers, где беспощадно чуткий к запахам демон принимается за целую баскетбольную команду с чирлидершами, застигнутую им в автобусе на шоссе. Досмотрев эту размашистую бойню без больших содроганий (разве что ожерелье из перепонок, дыбом вставших на голове демона, когда тому понадобился дополнительный психологический перевес в затянувшемся дольше обычного противостоянии с атлетом, заставило меня чуть отстраниться от ноута; ровно того же, на котором я теперь это пишу), я лег на узкую постель, и из глубокой субботней тишины чужой и стерильно-чистой страны ко мне поднялся голос детского ужаса, мелочный звон, изводящий рассудок и всякое терпение, и, хоть я был уже вовсе не мальчик, та преграда, что отделяла от меня отработавшие свое кошмары с отцом или Иисусом, вдруг показалась мне тонкой и мутно-прозрачной, как целлофан или те самые перепонки. За недозадернутым окном белела пожарная лестница, на которой Крипер мог бы развернуть арсенал своих скользких ужимок, упав сюда из темного европейского неба; лежа лицом к потолку и для надежности избегая лишних мелких движений, я понимал, что если сейчас не удержусь на границе, то скачусь в окончательный морок, где ничего не будет различимо, как в кипящем котле: мне подумалось, что переживать в двадцать лет тот же самый страх, с которым имел дело в шесть или десять, так же опасно, как взрослому болеть ветрянкой, и это почти медицинское соображение, выдавленное близким к отчаянию мозгом, выручило меня от катастрофы.
Очевидно, что я не владел тогда нынешними навыками преодоления ужаса посредством простой математики и не усвоил еще, что в безусловности появления демона скрыт ключ от победы над ним здесь, по эту сторону чужой фантазии: этому меня научили, хотя и на обратном примере, японские хорроры, за которые я взялся уже вместе с бесстрашной К., через два с лишним года после той памятной ночи с пожарной лестницей в окне, в совсем другой жизни. У тебя всегда есть возможность посмотреть и узнать, как они собирали чудовище, как натягивали на него слои силикона, накладывали когти, отягощали лицо, но такая победа никогда не будет достаточно убедительной уже потому, что она не твоя и к тому же вообще ненастоящая, в отличие от пережитого страха: демона нужно принять целиком, объяснить его себе в общем и через это определить его уязвимость, которая, надо ли повторяться, никак не заключена в накладных когтях, что скребут по металлическим перилам, высекая из них тонкие искры: это, конечно же, контаминация, но красно-зеленый джинн из спрингвудской котельной, чьи лезвия пописали не одно поколение, игривый выродок, действовавший в единственно не расчерченной никакими соглашениями среде, не мог не проскрестись в этот разговор. Я впервые увидел его на плакате в квартире приятеля, еще до того, как начальную часть показали по НТВ, и картинка казалась попросту неприятной, даже не неуютной, в отличие от моего Иисуса, еще неизвестно что таящего под похожим на торт облачением; но и тот живой и танцующий полосователь из семи исторических серий не был сам по себе генератором ужаса (никогда при этом не опускаясь до посмешища, что непросто для вечного героя): ужас был в том самом звенящем воздухе школьных коридоров и утопленных в зелени suburbs, так мало и так невыносимо похожих на наши дворы: призрачно тонкий в первом фильме, он плотнел до восковой густоты уже во втором, но выживал и длился, оплетал наши турники и текстильные башни, строгие библиотечные ряды и зияющий недострой, в чьих гулких стенах вот-вот должно было раздаться усыпительно-жуткое детское пение под звук чиркающей по асфальту скакалки; лето протягивалось далеко, за просторные грибные леса и деревни с плотинами, пропитанное тяжелой сладостью гибели, круглой и желтой, как солнце, как пицца с увязшими в сырной паутине головами: эту часть я смотрел совершенно один, в чужом доме, пока привезший меня отец о чем-то тер с дядей Виталей; порой я думаю, что это был лучший подарок, который он мне когда-либо сделал.
Что же до Иисуса, то явление детоубийцы с набором хитрых выдумок на какое-то время нас с ним примирило, я оставил кривляться перед нежным Спасителем: не знаю, как у меня получилось не застрять тогда на короткой торжественной реплике «вот тебе Бог», что Крюгер бросает еще в первой части овечке Тине перед тем, как настигнуть ее и изрезать; видимо, что-то всегда останавливало меня от предположения, что по ту сторону спрятанной под стекло картинки может находиться совсем другое лицо. Мне подарили еще до первого класса несколько детских Библий, но почти ничего не говорили о Боге, кроме самых общих пугающих фраз о всеведенье и неотвратимости его наказания, и так я усвоил, что ему единственно нужен мой страх, из которого должно вырасти все остальное, но тоже нескоро, как минимум после выдачи первого паспорта, а до этого времени мне предстоит питать его своим страхом и стараться, чтобы ни части его не досталось кому-то еще, будь то Ф. К., строгий учитель или Салман Радуев. Городские церкви, в которые меня приводили, были обычными пустыми пространствами, где могло помещаться все что угодно, как это было успешно доказано в советские годы, когда в Тихвинской был устроен кинотеатр, в Богоявленской – сапожный цех, а в Успенской – ремонтные мастерские; новые иконостасы смотрелись практически так же, как мой Иисус, а голые белые стены, с которых давно были сбиты все росписи, мозолили глаза своей плоской поруганной правотой. Мне покупали здесь небольшие священные вещи из пластика, которые я выпрашивал сам, вероятно, надеясь таким посредством если не приручить Бога, то хотя бы чуть лучше привыкнуть к нему, как к принимаемому в малых дозах яду; привычка, однако, так и не взялась, и к пятнадцати я стал тихим безбожником, но это и так хорошо известно: ты не упускал случая поддеть меня за этот изъян, как жестокие дети подтрунивают над калеками, но тогда, с десяти до четырнадцати, когда меня испытывал кремовый Иисус, я почти не говорил с тобой о нем, то есть говорил непропорционально мало тому, как много гадал про себя, к чему все это движется и чем мне грозит.
Не думаю, что дело было в смущении: мы легко и подолгу обсуждали, что делать с пробившимися волосами в паху и чем удобна увеличенная крайняя плоть: должно быть, меня тормозило то, что и библейский, и комнатный Иисусы возникли в моей жизни значительно раньше тебя, это была такая старая война, и мне надлежало разобраться с каждым из них в одиночку. Смешно писать это, но ты был похож на того-со-стены: детские совпадали глаза и щеки, а когда ты на ходу сочинял ту сказку про сомов, лицо твое светилось таким же высоким отрешением; с возрастом глаза твои стали другими (что уж говорить о щеках), но взялись длинные Иисусовы волосы, которые, кажется, особенно ценила твоя мама, а я делал вид, что ничего не замечаю. Единственным Иисусом, чей образ я когда-либо примерял сам, был и остается бичуемый желтый Христос из альбома репродукций Пушкинского музея: золотой фонд мазохизма, безвольное, бескостное почти тело, растением обвившееся вокруг столба; сейчас при взгляде на него меня всякий раз обжигает ледяной стыд. Тот-со-стены уже много лет покоится на шкафу в комнате, где я больше не живу: я снял его в год, когда окончил школу, после безуспешных маминых молитв о моем поступлении на журфак, о которых она имела неосторожность мне рассказать; почти что скрипя от злости зубами, я сделал то, о чем так долго боялся даже подумать, но и в эту минуту, изводимый сразу многими чувствами, все же не до конца был бесстрашен и не совсем исключал, что руки мои сейчас отнимутся или ноги врастут, как положено, в пол. Все, однако, обошлось, Иисус улегся ровно и почти сразу был чем-то дополнительно придавлен; впереди была еще половина подмосковного лета с летящим по улицам песком, без тебя, потому что мы были в ссоре и не здоровались, если встречались: до соцсетей было проще держать эту обиженную многомесячную оборону, о которой я, désolé, жалею сегодня не так, как, наверное, мог бы, но это, если задуматься, легко объяснимо: тот бледный опыт долгого и болезненного одиночества кое-как подготовил меня к жизни, начавшейся в октябре ноль седьмого и так все еще не прошедшей, непройденной; кажется, даже этим своим суетливым, разбегающимся конформизмом я все еще пытаюсь кому-то напомнить тебя.
Когда в сентябре мы сошлись заново, мне невозможно хотелось спросить, каково тебе было все это время, вспоминал ли ты что-нибудь из наших общих событий, не разговаривал ли ты с пустотой, представляя меня: ты простил бы мне это кокетничанье, но вряд ли ответил бы честно; скорее всего, ты прекрасно справлялся один, учась самоучкой гитаре, не хлопоча о московских бюджетных местах и катаясь по городам на чужих мотоциклах. Дело было не в том, что ты меньше во мне нуждался: со временем я понял о себе, что стремлюсь пожрать любого человека, с которым хоть сколько-то сближаюсь, и едва ли ты не ощущал это уже тогда, но после месяцев, прожитых порознь, что-то все же подтолкнуло тебя обратно (или не удержало, или ты был слишком добр, чтобы забыть обо мне); так или иначе, ты вернулся, а еще через несколько дней Ю. на улице Фридриха Энгельса сказала, что любит меня, и застала врасплох: еще не оправившийся от недавней неудачи с А., я сморозил в ответ что-то такое, отчего она почти расплакалась, но дорога домой была, как всегда, долгой, этих слов мне никто еще не говорил; Ю., о которой я мало что знал (а она обо мне), была мне скорей интересна, чем нет, и еще до того, как поезд уткнулся в знаменитый тупик, я решил, что нам с ней стоит попробовать. Эта осень, где у меня были ты, Ю. и отсырелая серая Москва вокруг Яузы, и беспощадное количество книг к прочтению, пересобрала меня после такого долгого бардака (может быть, не совсем удачно, но лучше, чем никак), и хотя ты мертв, а с Ю. мы все разнесли, и только чужая Москва все еще стоит на своих берегах, я по-прежнему думаю о ней как об одном из абсолютно счастливых кусков моей жизни и не могу убедить себя посмотреть на все это по-другому.
На стадион приезжал губернатор, и муниципалитет разломал наш с тобой дом в Аптечном переулке, чтобы тот не смутил его: два с половиной этажа полегли страшной грудой вместе с остатками столетних газет на стенах, хранивших новости с Первой мировой, и той белой и плоской, как лист бумаги, мумией кошки с чердака; все это не успели вывезти и обнесли забором, не скрывшим уродливую гору и наполовину, губер приехал и уехал, гора осталась гнить дальше, и в один из вечеров мы влезли на ее вершину не ради какого-то траурного ритуала, а просто потому, что это тоже было занятно. Там, наверху, я говорил тебе о Ю. и помалкивал об А., обе они казались одинаково ненастоящими в позднем воздухе, полном дачного дыма и твоего строгого тепла; ты успел завести много новых знакомств, ты окреп так, как я не окреп до сих пор, ты рассказывал не самые красивые истории, в которые нельзя было не поверить. Ты хотел, чтобы мы когда-нибудь, но все же как можно скорее взяли на двоих мотоцикл: я не очень чувствовал эту заношенную романтику (не чувствую и теперь), мне всегда казалось, что разъезжать на мотоцикле ровно так же претенциозно, как верхом на лошади, но доверие, звучавшее в этом неправдоподобном приглашении, было вполне оглушительно: впервые ты сам говорил о каком-то общем будущем, где нам поровну принадлежала огромная шумная глупость, которую мне предстояло научиться любить и беречь. Мы засиделись на развалинах до темноты и только тогда поняли, что спускаться следовало раньше: теперь было не разобрать, куда ставить ноги в черном наломанном месиве. Пожалуй, это был повод вызывать спасателей, но это даже не приходило в голову: нас учили, что в трудной ситуации любой звонок ментам, врачам и иже с ними лишь все усугубит; вдобавок мы незаконно проникли за муниципальный забор, чтобы забраться сюда, и было не по себе представлять, как нас могут за это отделать. Вроде бы ты как бывший юный турист должен был предугадать эту западню, но тебя никогда не водили в горы, забудем; нам нужно было выбрать между тем, чтобы до рассвета коченеть наверху, и тем, чтобы все-таки попробовать слезть по беспорядочным руинам, что, конечно, выглядело гораздо опасней, и здесь ты спохватился, что в твоей «нокии» с хрустящими, как солдатские мозоли, клавишами встроен фонарик. Этот ломкий луч, шарящий в ощеренных бревнах и балках, кирпичах и торчащих костях обрешетки, я помню так, словно все это случилось сегодня, но в целом я помню так мало и так ненадежно, что порой ощущаю себя запертым в чужой комнате со стенами в постерах групп, из которых я знаю не больше четверти, и занимаюсь тем, что перевешиваю их с места на место, чтобы самому себе доказать, что все это не просто так. Я не могу с ходу, без фотографий, описать твои ладони или плечи, не уверен насчет твоих сигарет («Бонд»?) и не знаю имени ни одной из тех, с кем ты спал; уже несколько лет назад мной был минован беспокоивший меня рубеж: тот отрезок жизни, что я живу без тебя, стал длиннее, чем тот, что я прожил бок о бок с тобой, и с тех пор все растет. Бог знает почему меня так волновало переваливание этой отметки, но по ту сторону, где я сейчас нахожусь, я чувствую, что твое присутствие в моем личном воздухе лишь возросло, и это не те спазматические вспышки, что преследовали меня в октябре, ноябре, декабре седьмого года и еще потом, когда на любом городском углу, где мы успели постоять вдвоем, мне хотелось усесться на землю и спрятать голову между колен; ты стал ровным неразмываемым фоном, обставшим наши дворы и леса, и это внушает мне то же спокойствие, что внушал мне ты сам в вечернем парке с глухими голосами у воды. Этот город с тех пор не стал ни дружелюбнее, ни безопасней, скорее все наоборот; от него в принципе мало что осталось – не только от того, что мы здесь любили и звали своим, а от города вообще, он почти что не виден из-под железных коробок ларьков и автомоек, из-за талых потеков растяжек, но ты окончательно пропитал его, если не сказать озвучил, и когда, возвращаясь домой в первом часу ночи, я перехожу мост над черной, запачканной Клязьмой, тащащей свои воды сначала к Павловскому Посаду, где жила твоя первая, и дальше, к менее удачным городам, мне слышен этот бессмысленный, почти радостный гул, начавшийся, можно подумать, еще до монголов, но теперь даже не населенный, а присвоенный тобой, тобой направляемый (всегда в одну точку) и тобой же снимаемый к утру (если перед работой везешь ребенка к врачу на ранний прием, то не слышишь вообще ничего, как под водой).
Что вообще произошло здесь с того октября: у меня больше никто не умер; те, с кем я был знаком еще при тебе, в основном мне никак не видны, и не надо; Настя Морозова, пару раз (с твоих слов) повисевшая у тебя на шее и подарившая тебе что-то из своего белья, стала Настей Афанасьевой, но в это все равно никто до конца не поверил, а тот, чья фамилия осталась ей (и твой тезка), покончил со всем сразу в заброшенном зернохранилище под Киржачом; прекрасная А. давно замужем и больше не ходит в церковь, а я не хожу в городское лито даже ради пастырского визита; мою школу и сад, где мы дышали зажженным сандалом, обнесли хорошим забором, теперь туда так легко не попасть, а там, где стоял дом с газетами, поставили новый компактный ЖК, но это место по-прежнему снится мне таким, каким я его помню; администрация отменила газету «Волхонка», куда я писал донесения с мероприятий и вольные лирические мелочи и чье имя известно смущает москвича; на ближних казармах повесили охранную табличку, а в Электростали стало сильно пахнуть; стадион перестроили, в «Знамя» купили потертых Самедова и Павлюченко, но команда как будто все еще никуда не взлетела. Мы перестали покупать одежду на городском рынке, я стал охотнее пить: мне кажется, что в какие-то выдающиеся вечера мы с К. выпиваем больше, чем я успел с тобой за всю нашу общую жизнь: у меня было сильное предубеждение, и обычно я покупал колу или просто смотрел, как ты пьешь, и жалел тебя, но и себя, потому что считал, что с каждым глотком ты становишься от меня дальше, ускользаешь, сплываешь, и я не могу это остановить, а если и выхвачу твой коктейль, ты, конечно, не вломишь мне, но станешь меня избегать, и те незнакомые мне иногородние, к которым ты ездишь и с которыми пьешь наравне, победят навсегда, ты останешься с ними: собственно, чем-то таким это все и закончилось, пишу я теперь, оставив великодушие; но у меня нет с тобой счетов, я продолжаю с того места, где ты остановился, слушая гул над ночной рекой, в которую ни разу не заходил и по щиколотку. Клязьма только мешает городу (как мешал в свои последние годы упраздненный теперь трамвай): вечная давка на подъезде к обоим мостам, завалы пластика в прибрежных кустарниках (иногда натыкаешься на этикетки от чего-то, что не продается уже много лет), незадачливые перебежчики, ушедшие под неверный лед, не говоря уже о тех бесконечно несчастных видах, что открываются с этих самых мостов в начале весны. Я думаю, что это прохождение реки через город напоминает мое: меня вряд ли можно куда-то отсюда деть (и сам я никуда не планирую деться), но я вписан сюда так неудачно, что мне в самом деле было бы правильнее устраниться, запрозрачневеть, если бы такое только было осуществимо; также можно осторожно предположить, что однажды в ночи Господь восхитит меня отсюда вместе с рекой, отчего это место станет если и не уютней, то собранней.
