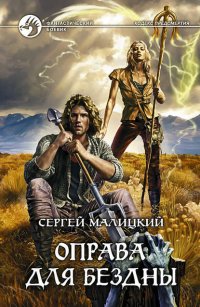Читать онлайн Блокада бесплатно
- Все книги автора: Сергей Малицкий
01
Коркин не любил леса. Тем более поднявшегося на развалинах: и так-то за каждым деревом жди беды, топырь уши да остри копье, а лес, да еще умноженный на каменные увалы, вывороченную арматуру и внезапные провалы, – вовсе наказание. То ли дело степь.
Оно конечно, в степи труднее построить дом, но если уж хватило силенок намешать глины, собрать с окрестных холмов валуны, поднять стену да выдолбить колодец – живи, не хочу. Да, ветра задувают, и пыльные бури не редкость, и пожары степные случаются, и проволочник иногда одолевает, и зимой несладко приходится, зато не нужно вздрагивать от каждого шороха и головой попусту вертеть. В степи головой вертеть вообще не нужно. Ставь старенький таймер на пять минут да оборачивайся на каждый звяк. Нет никого на дальних холмах – спи спокойно. Коровы пасутся, ветер дует, облака не желтые, а белые, дождя бояться не надо, ветросли иглы не мечут, солнце светит, в рассвет-закат красным небосвод вычерчивает – чего еще надо? Если и выбежит из распадка какая пакость, Рук – тут как тут, засвистит, защелкает, разбудит хозяина. Мелкую погань сам придавит, крупную коровы на рога возьмут, а уж среднюю – тут работа для Коркина. Какую стрелой можно подсечь, какую только на копье принять. Зато потом радость – или шкурка на обнову, или мясо на похлебку, или и то и другое вместе. Ночью только трудно: как ни тяни бечеву вокруг дома, как ни навешивай на нее жестянки или глинки, все одно не убережешься. Ночью спать нельзя. Вся надежда на высокую стену, за которой коровы стоят плотно, не протолкнешься. Если Рук защелкал с дальней стены, так по спинам их и беги, только смотри, чтобы штаны о рога не порвать или еще чего важного не повредить. А там уж присматривайся, молись на лунный свет да тычь копьем в тугие тени.
Одно плохо в степи – орда. Если пыль клубится, орда идет – клади копье и лук в траву, поворачивайся затылком к солнцу и вставай на колени. Повезет – заберут часть коров, одежду сорвут, утварь подгребут, что поновей на вид, позабавятся с женщинами и уйдут. Даже не покалечат никого. Не повезет – заберут всех коров, всех женщин, нагадят в колодец, сожгут дом, убьют хозяина.
Коркину долго везло. Орда приходила два раза в год, но орда была местная, ватага по-простому, коров забирала от совести, а женщин у Коркина, с тех пор как умерла мать, так и не завелось. И то ведь – что за интерес кормить жену, если она вынашивает чужое семя? Хотя кто мог знать: а сам-то Коркин был сыном своего отца или нет? Иногда он начищал углем медное блюдо, которое прятал под валуном у дороги, и рассматривал себя в желтом овале – нет, никак он не был похож на ордынца. И нос длинноват, и глаз не такой узкий, и лоб не слишком скошен. Хотя чего там было рассматривать-то? Отца-то своего он и не видел никогда. Опять же редко забредающие торговцы, что покупали за гроши шерсть, шкуры, войлок, желтый вонючий степной сыр и задорого продавали соль, ткани, вино, говорили, что орда разная бывает, – выходит, и ордынцы один другому рознь? Рознь не рознь, ему-то какой разбор? Ему и одной орды хватало – пообвыкся, в одном неудобство терпел: всякий раз плетьми доставалось за то, что жены нет. Хорошо, хоть плетьми – бывало, как рассказывала та же мать, при недостатке женщин ордынцы вместо них мужиков пользовали.
Мать много чего рассказывала, хотя чаще сказками забавлялась. Говорила, что когда-то давно, задолго до ее рождения, орды вовсе не было, и дома были другими, и стояли они кучками – по пять-шесть, ну чисто деревнями. Таймеры заводились не на пять минут, а на утро. Ветросли в небе не маячили, о желтых облаках никто и не слыхивал, машины ездили по степи, по небу летали, музыка играла из коробок, картинки живые показывались. А потом небо заволокло тучами, а когда разволокло, люди почти все умерли. Из десятка один выживал, да и то болел долго. А когда те, что выжили, отдышались да на ноги встали, тут и появилась орда.
Ерунду мать говорила. Как можно было жить деревнями, если два-три десятка коров, каждая из которых приносит за лето двух телят, начисто выедают траву в округе? Это что же, гонять их на дальние холмы? А если пакость какая, та же орда? Что за машины такие? Нет, телегу Коркин видел, не раз видел, но чтобы она по небу летала!.. Хотя что-то такое гудело пару раз у горизонта, ползло под облаками, как букашка какая, но мало ли что у горизонта ползает… Может быть, это птица была, по слухам, на западе всякая пакость водится, тем более где еще появляться пакости, как не у горизонта? Опять же ветросли. Куда же они девались, если их не было? Где тогда люди брали иглы, как не из неба? И как они жили без желтых облаков? Оно конечно, желтые дожди – еще та пакость, но как бы тогда степь чистилась от проволочного бурьяна, что даже копыта коровам просекает? Нет, что-то не сходилось в мамкиных рассказах. Лучше бы она рассказала, откуда берется вторая орда, та, о которой степняки друг другу вести с уха на ухо передают, что состоит сплошь из смуглых, украшенных шрамами и рисунками людей, та, что топчет степь не ногами, а копытами коней, что накатывает раз в пять или десять лет: повезет, если не зацепит, а зацепит – считай, что не повезло. Или мать и не видела такой орды никогда?
То, что везение закончилось, Коркин понял, еще когда стоял на коленях. Не оттого что орда была на лошадях. И не оттого что коров угонять стали всех, кроме двух, что забили на месте и начали разделывать. И не оттого что зажгли дом: чему там гореть, крышу можно и новую перестелить – по осени трава высока. Его не били. На него никто не обращал внимания, хотя лошади проскакивали в шаге от лица Коркина, и лошадиный пот бил ему в ноздри, и плетки свистели над ухом. Он уже думал, что все обойдется, когда одна из лошадей встала перед его лицом и спрыгнувший молодой ордынец схватил его за спутанные волосы и посмотрел Коркину в лицо. От разбойника пахло пеплом, кислым молоком и кровью. Темные волосы были собраны пучком на макушке, смуглое лицо густо покрывали шрамы-насечки. Ордынец расплылся в улыбке, покачал головой и с трудом выговорил слова чужого языка:
– Хорошо стоишь. Прощу. Уши и нос резать не буду. Освежевывать не буду. Мяса и так много. Просто убью.
И саданул ему кривым ножом в живот.
Коркин зажал рану ладонями и повалился на бок. Мать говорила ему, что смерть – это тепло и отдых. Так отчего же было не перетерпеть несколько минут боли, чтобы потом согреться и отдохнуть?
Он пришел в себя ночью. Неизвестно где прятавшийся Рук сидел у него на груди и зализывал распоротый живот. С языка ящера стекала тягучая слюна, и боль становилась едва заметной.
С рассветом Коркин встал на ноги. Зажимая рукой бесчувственную рану, нашел в развалинах дома глинку с иглами, выдернул из прокопченных камней запасенные волоконца коровьих сухожилий и зашил сначала петлю надрезанных сизых кишок, потом и весь живот. Рук сидел рядом, мигал нижними веками, постреливал иглами языка и словно кивал, а едва была сделана последняя стежка, тут же вновь начал слюнявить шов.
Коркин провел у развалин три дня. Глодал кости недоеденной ордынцами коровы, пытался собрать какую-то утварь, отвалил валун и достал из тайника блюдо, вытащил из проволочных зарослей завернутое в войлок старое ружье, которое мать сохранила еще от деда. На четвертое утро собрал узел, забросил за спину нехитрое имущество, мех с водой, свистнул Руку и пошел на запад, где, по слухам, водилась самая мерзкая пакость, но откуда никогда не приходила орда.
Девять лет миновало с тех пор. Год из них Коркин провел в пути, а восемь в качестве скорняка и валяльщика в грязной прилесной деревне. Жизнь постепенно наладилась. Коркин обвыкся, даже вошел во вкус деревенского бытия. Полюбил прислушиваться к перепалкам прилесных баб, перестал вздрагивать, когда за околицей раздавалось рычание или птичий гам. Да разве прилесье – это лес? Так, перелесок. Кусты. Дикий зверь в деревню не заходил, об орде в ней знали понаслышке. Ватажники в округе промышляли, но с ними староста за деревенских судачил. Хорошо устроился мужичок: и службу исполнял при алтаре, что в собственном дворе соорудил, и благочиние среди деревенских блюл, и деревенькой правил, и разбойников на себя замыкал. Откупался или отговаривался, Коркин не знал, но сам платил пузатому пятьдесят монет каждые три месяца – и знай себе скоблил мездру да бил шерсть. Нелегко приходилось, но складно. Можно было перетерпеть, и терпел, пока староста совести не лишился и не поставил у избушки скорняка долговой шест.
Вот тут-то и подперла Коркина нежитуха под самое горло. В прошлом году с дома сотня была, но так и бабка, что пригрела когда-то Коркина, уж год как умерла. Умерла и умерла, плата шла не с дыма, а с носа, было сто, стало пятьдесят – не оттого ли деревенские детей попусту не плодили, сосчитывали сначала? Попробуй-ка эти пятьдесят заработай. Бабка хоть врачевала да огородничала, все монетка катилась, а теперь что? Нет, заупрямился староста, – плати сто! Ты, мол, бога не почитаешь, к алтарю ни разу не то что не приложился – во двор даже не заглянул! Ни монетки от тебя приходская казна не увидела. Да еще и вонь от твоего сарая по всей деревне. Так что плати полной мерой. Пятьдесят за себя, пятьдесят – за мерзость. И на Рука, который знай себе хвостом стенку подпирал да посвистывал, палец наставил. Коркин, конечно, возмутился поначалу: мало ли у кого какие боги? Да и вонь его восемь лет нюхали, не мешало никому – или насморк залечили? И почему мерзость? И с какой стати за скотину платить? Косой за древесного кота не платит, Тошка кудрявый за двух собак не платит, Толстун щербатый за лошадь – и то не платит, а Коркин должен платить? Должен, уперся староста. Ты там веруй в кого хочешь, а живешь в единоверческой деревне – будь добр стучись лбом, куда велено. И не указывай людям, что лечить и что нюхать! Будешь и дальше вонять – и монета тебя не спасет. А пока плати за мерзость бесполезную. Древесный кот всю деревню от крыс пасет, собаки охрану несут, а лошадь Толстуна для общины сено с дальних покосов тягает. Только от мерзости твоей никакого толка нет. Плати, Коркин, а то вылетишь из деревни, как и пришел в нее.
Ушел староста, даже слушать не стал, что там Коркин ему бормотал насчет веры да насчет Рука. И что было говорить? Неужели слова собственной матери старосте пересказывать о том, что внутри у человека должно обретаться, что снаружи? Или за ящера спорить? Рук, конечно, сторожил лучше, чем глупые Тошкины пустобрехи, и крыс ловил так, что древесному коту и не снилось: неспроста тот усатую морду каждое утро под плетень совал – за давлеными крысами приходил к Руку, – а все одно старосту не переспоришь.
И все-таки не хотелось Коркину вылетать из деревни. И годов уж подстукивало под тридцать, и лететь было некуда. Со степи все чаще тянулись дымы, хорошо, хоть смертью пока не пахло, четыре больших села и десяток деревень держали наделы к востоку от прилесья, но в них и без Коркина пришлых нудило сверх мочи. По кромке же уходить было совсем глупо. На юге в часе хода начиналась Мокрень непролазная и ядовитая, огибать ее – себе дороже, пару недель в чахоточном тумане брести до ближайшего села. По степи и вовсе месяц тащиться. А в селе-то том самое что ни на есть гнездо ватажников и стояло. На севере – рукой подать Поселок диковинными лампами по ночам отсвечивал, так там еще избу поставить надо, обжиться, да разве даст староста обжиться: и там найдет, не отстанет, пока долга не вытребует. К тому же за Поселком торчали какие-то сверкающие металлом коробки, которые староста называл базой и людей из которых боялись даже ватажники. За базой же лес избывал и начиналась Гарь – обугленные развалины, пепел, пыль и камни до горизонта. Так что куда ни двинешься – в пекло попадешь. Конечно, оставались еще деревушки и заимки в самом лесу, но народ в них селился угрюмый, а порой и страшный, и днем-то разговаривать с такими охоты недоставало, говоришь, а сам глаз в сторону косишь, а уж ложиться спать, зная, что за страсть по соседству обретается… Видел бы староста, кто иной раз огородами к Коркину за войлоком выбредает, вовсе от побора отказался бы, брюхо проткнул бы скорняку – на том и успокоился. Нет, в лесу боязно было скрываться. Да и что там лесу наросло между Мокренью болотной и сухой Гарью? Заблудиться, конечно, можно, ну так это Коркину заблудиться труда не составит, а ватажники старостовы откуда хочешь за ноги вытянут.
Леса Коркин не любил, пусть даже и глубины-то тот имел всего в день-два пути. За ним лежала полосой какая-то черная пашня вроде той же Гари, за нею стоял железный забор или столбы, а за ними раскинулась Стылая Морось. Сырая и поганая, одним краем Мокрень под себя тянула, другим Гарь поперек резала. Сам Коркин в тех краях не бывал – байками от охотников кормился, которые ему шкуры на выделку сдавали, так у него от одних тех разговоров недержание делалось. Нет, лес был не для него. Вот и ходил Коркин от дома к сарайке, от сарайки к дому, затылок чесал.
Полмесяца прошло, долговой шест уж и почки выкинул, а работы как не было, так и не прибыло. Лето только подкатывало – какая по весне работа? В лес надо было идти. Через «не могу» и поперек «страшно». Скотину по осени бьют, сапоги валяные тоже к осени метят – как еще мог Коркин заработать, как не в лесу? К тому же была у него в голове одна задумка, с осени она теплилась. Так что копье в руки, лук на плечо, ружье за спину – и в лес. Вот и пошел. Ладно бы в первый раз. Не считая осенней прогулки, четыре раза уже ходил за последние полмесяца – чуть не обделался пару раз, а все толку не добился. В пятый пошел. Хорошо еще, опять хватило ума пройти по деревне затемно, а то бы на три дня хохоту стояло. Коркин, мокрый нос, глаза в кучку, пошел в лес со зверьем на случку. Если бы еще кто вызнал, что не на зверя охотиться пошел Коркин и не железки из-под камней тянуть, а старика выцеливать, что по осени сам к нему из лесу приходил валенки покупать, так и вовсе б дураком записали. А староста точно б ружье отнял, с него станется: все под себя гребет.
Ладно, идти – значит, идти. Оттоптал три мили прилеска, миновал дальний покос – вот он и лес. Маленький, в два дня пути вглубь, полдня поперек, а все одно небо застит. Встал Коркин у кромки и башку чесать начал, а ящер свистеть и трещать принялся. Руку тоже лес не нравился, но еще больше ему не нравилась хозяйская немощь.
– Что, Рук? – посмотрел на ящера Коркин. – Надо идти.
– Фьюить, – ответил Рук.
– Уже четыре раза ходили, – напомнил Коркин. – А вдруг опять откажет?
– Фьюить, – опечалился Рук.
– Ничего, – приободрился Коркин и погладил висевшие на плече валенки. – Мы сегодня опять с гостинцем. К тому же что нам надо? Полдня его времени? Да, за монеты стараемся, а то как же! Так мы за эти монеты его на себе готовы до поселка тащить. А там-то и он свой расчет получит. Нет, конечно, можно было бы покопаться в развалинах, поискать какой-никакой добычи, даже сходить к пашне, но страшно.
– Фьюить, – не стал лукавить Рук.
– Мерзости там, говорят, много, – затосковал Коркин. – Не меньше, чем в Стылой Мороси. А я с мерзостью плохо лажу. Дух у меня прерывается от всякой мерзости, хорошо еще, домишко бабка наша с конька до нижнего венца напрочь от мерзости отмолила. Так что не пойдем мы копаться в развалины, Рук. Пустой из Поселка, конечно, хорошую монету за всякие железки из развалин отсыпает, но не впрок пойдет нам та монета. Да и уже все развалины перешебуршили поселковые. Нечего там искать. А монета нужна. Вот выгонит нас староста – куда пойдем? Небось для ватажников старается! В деревню решил пустить супостатов? Точно для них. Избу захотел нашу с тобой, Рук, им отдать. Нет у нас другого выхода – придется отшельника опять просить. Опять же валенки у нас…
Рук внимательно слушал и вглядывался в лесную тень, в которой начиналась тропка длиной в милю к логову отшельника.
– Мы же не виноваты, что Пустой не только железки, но и стариков привечает? – в который раз вздохнул Коркин. – Он же не ест их, в конце концов. – В этом скорняк был не совсем уверен, поэтому зябко поежился. – Ему ж только поговорить надо. А за отшельника он деньжат вволю отвалит. У того ж два лица – считай, за двоих можно стребовать. Так, Рук?
Ящер убедительно клацнул зубами.
– Вот… – Коркин все не решался войти в лес. – Все-таки хорошо, что мы никому не рассказали про отшельника. Староста давно бы его или монетой обложил, или вовсе ватажников натравил. У них это запросто: чуть что не так, лишний палец на руке или ухо не на месте – сразу клинок в живот и в яму. А у этого два лица – это ж не три уха? Считай, четыре?
– Фьюить, – оскалил зубы Рук.
– Эх, – наморщил лоб Коркин. – А ну как не согласится? Пятую пару валенок ведь тащим, Рук. Да еще одну пару он по осени выторговал у меня за полцены. Как быть-то, Рук?
02
Филя еще с утра был уверен, что добром день не кончится. Сначала сгорела лебедка, причем Пустой предупреждал его, что она сгорит: грелась ведь. Филя и сам знал, что сгорит, надеялся, правда, что посвистит еще с недельку. Она и посвистела бы еще, конечно, если бы не передумала. Недосмотрел Филя, не принял мер. А в том, что напряжение в сети скачет, тоже Филя виноват? Попробуй подойди к инженеру базы, пожалуйся, что их линия не дает стабильного напряжения, – хорошо, если паленой задницей обойдешься: туда ход только Пустому. Тем более что на всей базе только дежурная смена в троих светлых, да и то двое из них пригнали машину к Пустому: зачем он им только эту переделку наобещал, второй месяц с их машиной возится, а третий светлый скорее всего с утра в Поселок отправился – нашел, говорят, себе вдовушку почище. Все-таки не деревенька, ватажники не забредают, в Поселке даже одинокие бабы спину держат, не всякому и поклонятся. Все от Пустого идет, все от механика, храни его бог.
Нет, у этого светлого, у седого Вери-Ка, что-то с головою. Зачем ему поселковая вдова? У светлых же бабы не чета поселковым. Нет, насчет красоты еще можно поспорить, но светлые бабы, пусть их всего две на базе появляются, всегда чистенькие, никакой вони, одежда не залатанная, взгляд прямой, словно ни разу в жизни ни одна из них плетей не пробовала, а уж та, что в этот раз с машиной прибыла, так и вовсе под стать мужику. Не по стати, стать-то у нее как раз мелкая, даже хрупкая, – по взгляду. Взгляд такой же, как у Пустого: холодом окатывает. Такая и сама плеть возьмет и приложит – так смотрела на Филю, когда он ворота вручную поднимал, что у него старые рубцы на спине саднить начали. Было бы за что плетей огребать. Или было?
Нет, вовсе безвинного строить из себя Филя тоже не собирался. Мог бы еще третьего дня запустить станцию на крыше и лебедку на нее закоротить, но кто б тогда от прочих вопросов его оградил? Куда девается топливо, Филипп? Что это постоянно шумит над головой, Филипп? Почему не хватает мощности, Филипп? Разумеется, со стабилизатором он тоже немного затянул, но разве не тот же Пустой то и дело звал его на помощь? Как же это можно – и свои дела все переделывать, и механику успеть помочь? Он же как за работу возьмется – головы не поднимет, пока не справится, и ты рядом с ним будешь носом в железки тыкаться да бегать то туда, то сюда. То это ему подержи, то это ему подай!
Опять же пришлось разбираться с Сишеком. Старик, как всегда, нажрался какой-то дряни. Хоть привязывай его к кровати. А привязывать себе дороже: будет орать какую-нибудь пакость, такое припомнит, о чем Филя и забыл давно, а уж вплетать в правду небылицы – этому Сишека учить не приходилось, это у него выходило лучше всего. Чего только стоила история, как он нашел четыре года с лишком назад Пустого. Будто бы тот валялся в пыли у Гари, в спине у него было пять пуль, да еще одна в животе, а поверх того еще и рана посередь груди, словно кто-то трубу загонял да слизь какую откачивал или, наоборот, внутрь вдувал. Нет, насчет мешка с разными странностями Сишек не соврал, тот мешок Филя сам видел – он в комнате у Пустого теперь лежал, а вот насчет всего основного нес сущую ерунду. Это где же такое было видано, чтобы на пустыре валялся самый настоящий механик, один на полгода пути в любую сторону, если не до края всего Разгона, да еще пулями посеченный, когда во всей округе ружья наперечет, а пули и того дороже? Или купцы, которые ежедневно тянули караваны к Поселку, врали, что нет больше таких умельцев в округе? Что же тогда выходит? Чтобы стать хорошим механиком, надо идти на окраину Гари, принимать пяток пуль в спину, одну в живот, да дыру в груди еще расковыривать? Нет, подозревал Филя, не получится таким способом из него механика.
Хотя стоило бы однажды набраться духу да обсудить все с Пустым. Правда ли, что он валялся у начала Гари в горелых развалинах? Не вранье ли, что пришел он в себя только через неделю? Точно ли, что пули сами из него вышли? (Из живота тоже? Совсем Сишек совесть потерял, хотя бы в мелочах не завирался!) Правда ли, что Пустой ничего не помнит, – кто он, откуда, как звать? Или все-таки что-то хоть помнит, иначе откуда взялась эта мастерская и вообще весь поселок? Как же, обсудишь с Пустым хоть что-то. Никакой он не Пустой, это Сишек Пустой, в глазах по трезвости муть, а по пьяни пустота, что пустее не бывает. А Пустой как раз полный, только молчун. И двух слов не свяжет – жестами обходится, а уж если заговорил, значит, весь Разгон вразнос пошел. Нет, никакой он не пустой. Все, что есть у Фили, все, что есть вокруг мастерской, – все от Пустого. Четыре года назад ведь не было ничего – так, четыре дома да черный остов от какой-то разрушенной в давнюю войну громадины, деревня Гнилушкой прозывалась, за счет зевак жила, что приходили на базу светлых поглазеть, и была еще меньше и поганее, чем Квашенка, из которой Коркин приперся.
Опять чего-то хочет длинный, притащил с собой какого-то старика, да и зверь его поганый – не поймешь, то ли птица ощипанная, то ли варан подрубленный, сидит, цокает. Вроде не птица, без крыльев ведь – так и курица без крыльев, две ноги, как у курицы, – так ни перьев, ни клюва! Бурый кожаный мешок о двух ногах. Спереди шея растет, сзади хвост, попробуй отличи издали, где что. Опять же подойти поближе – и не варан. Кожаный мешок-то весь тонким коричневым мехом покрыт – так бы и погладил, и морда в меху, но формой как у степного варана: тут тебе и язык растроенный, или даже раздесятеренный, и глаза круглые, и зубы как иглы – не суй палец, кисточка получится. А лапы – опять же как у птицы, только помощнее будут. Интересно, он яйца откладывает? Или это вовсе она? Давно надо было разузнать у Коркина, где он такую пакость нашел. Не в первый же раз с ней приходит, хотя в прошлые года он ее у бабки своей покойной оставлял. Нет, Коркин, конечно, отличные валенки делает, в зиму Филя так и не сносил пару, еще на ползимы хватит, но сейчас-то зачем они нужны?
Хорошо, что Сишек медленно соображает. Медленно соображает, а еще дольше думает. Месяц думал, что с Пустым делать, которого он в собственную халупу притащил. Целый месяц соображал – по частям его мешок распродавать или сразу весь на выкуп отдать. Хорошо, что не продал: Пустой как очухался – сразу в оборот Сишека взял. Нет, не обидел, наоборот даже, отблагодарил, но окоротил – точно. Пустой всех окорачивает. И Филю окоротил. Кем он был четыре года назад? Мальчишкой помойным без отца без матери? Ни на что не годным был, только и мог, что вокруг базы бродить и всякую железку подбирать, чтобы блестела да звякала, на которую можно что-нибудь съестное в деревне выменять. А как его тогда звали? Фи. Мусор то есть. А теперь-то все иначе! Помощник. Да еще и с именем. Пустой его Филом назвал, а деревня тут же переиначила в Филю. Пустой прислушался, покопался в пустой голове и добавил: «Если уж Филя – тогда Филипп. Так-то еще лучше, – подумал тогда Филя, – еще длиннее». Все-таки прав был Сишек, когда грозил мальчишке пальцем и силился выговорить: «Повезло тебе, парень. Точно повезло». И с тем, что Сишек пьяница, повезло: будь тот потрезвее, сам бы стал помощником, хотя что этому Сишеку – плохо ли? Вот разберется Пустой с машиной светлых, найдет старика, приложит пальцы к его пьяной башке – и вернет ему разум. Ненадолго. Сишек только того и ждет: тут же побежит к заначке. Знать бы еще, где он ее прячет… В глинки старые отливает или яму-бродильню где измыслил? И почему перегаром от него не разит? Чем пойло закусывает?
– Филя, – в который раз подал голос Коркин, что продолжал стоять у входа в мастерскую, придерживая за плечо закутанного в драный плащ отшельника, – позови механика. Я старика привел.
Филя бросил ключ, которым пытался сорвать болты с кожуха лебедки, и раздраженно упер руки в бока:
– Коркин, я же не прошу, чтобы ты понимал с первого раза, но хотя бы с пятого должен. Пустой занят. Ты что, не видишь, что машина пришла? Она каждый день приходит, и Пустой ее каждый день чинит, так сегодня, считай, половину ходовой поменять надо! Работы если не на день, так до упора! Пока он с ней возится, бесполезно звать. Вот закончит – и выйдет. Жди. А если стоять не можешь, вон камешки и чурбачки в тенечке. Посиди. А если водички хочешь попить, вон труба торчит, покрути вентиль – водичка потечет. Чего непонятного?
– Мне бы механика, – с тоской пробормотал Коркин и, поправив ружье, тут же вновь ухватился за плечо старика. – Уйдет отшельник-то. Я его сюда половину дороги на себе нес. Не было у меня договора с ним, что ему ждать здесь придется.
– Коркин, – сморщил жалобную гримасу Филя, – так и у меня не было договора, чтобы тебя здесь ждать да Пустого для тебя удерживать. Посмотри, нет никого. Все знают, что Пустой принимает с утра. Восемь сборщиков с утра пришли, вот… – Филя махнул рукой на кучу железа за воротами. – Добычу принесли, очередь отстояли, найденное сдали, монету получили, теперь, – Филя ткнул пальцем в сторону трактира, – кто празднует, а кто уж по Поселку разбрелся. А ты пришел после полудня. Не принимает Пустой после полудня. Я только из-за того, что больно валенки ты, Коркин, хорошие валяешь, согласился передать ему о тебе. Он ясно сказал: надо ждать! Значит, надо ждать. Пустой говорит мало, но слово держит. Жди.
Замолчал Коркин, но в тенек да на пенек не пошел, за старика держаться продолжил. А тот как стоял, так и сел на камень, пальцы из-под то ли плаща, то ли одеяла вытащил, пощелкал ими, подозвал коркинского зверя и шею ему начесывать стал. А Коркин стоять продолжил, словно ему отлить на то, что его зверя чужой привечает. Зверь шею вытянул, ушки-лопушки прижал, глаза закатил и присвистывать начал. Ну точно как Сишек, когда хмель ему в голову уже ударил, а до ног еще не добрался. Только хвоста у Сишека нет да язык не ветвится. К тому же Сишек в штанах и не соображает ничего – ни когда трезвый, ни когда хмелем глаза зальет, а зверь умный: шею старику дал, а сам на мальчишку глазом косит, ни на секунду желтого зрачка не отвел, как приплелся вслед за Коркиным. Не доверяет белобрысому помощнику механика, точно не доверяет.
Засмотрелся Филя, как зверь шею тянет, и палец себе раскровенил отверткой, которой шпонку из оси вытолкать пытался. Выругался сквозь зубы, палец облизал и побежал наверх за перчатками. Увидит Пустой, что у Фили палец сбит, узнает, что без перчаток работал, – накажет. Руку не поднимет, слова лишнего не скажет, а работы какой-нибудь подвалит. В прошлый раз заставил дорожки по всему Поселку мести. А Поселок-то растет день ото дня – за сорок домов, да купеческие шатры, да трактир с алтарем, да четыре лавки, да торжище, да коновязь, да постоялый двор, да лекарская. Так два выходных дня и убил. Ладно бы чище после его метелки стало: Ройнаг-сборщик, что дозорным к Пустому нанялся, как специально пластики да жестянки за спиной мальчишки раскидывал. Намаялся тогда Филя. Правда, в прошлый раз он ветряк сжег… Так и лебедка почти тот же ветряк. Ветряк-то починен уже давно, а слава уборщика от Фили все еще не отлипла. Тот же трактирщик и алтарщик деревенский – Хантик – метлы у трактира расставит и трогать никому не велит, говорит, что придет Филя и сам своими ватажниками распорядится. Сборщики да охотники, конечно, в хохот. Пускай смеются – им всем кажется, что Пустой добряк, Пустой тихий, Пустой молчун. В глаза бы Пустому посмотрели, тогда и поговорили бы…
Нет, надо бы палец тряпицей примотать да в перчатку спрятать. Мелочи не хватает, чтобы Пустой холодный взгляд гневом налил, последние дни сам не свой ходит – зубы у него, что ли, болят, тут и сбитый палец в учете окажется. Впрочем, чего гадать – похоже, плакали и эти выходные: лебедку точно перебирать придется, провод мотать, изоляцию править, да и ветряк все еще не запущен, хотя сам Пустой с ним занимался, а уж если механик за что-то взялся… Вот бы он и лебедку в порядок привел! Да и стабилизатор бы сам отладил… Все в руках у Пустого оживает – порой Филя и сам головой крутит да шепчет про себя: «Колдун Пустой, точно колдун».
Взлетел Филя по шести лестничным маршам на крышу, подхватил перчатки, что оставил у ветряка, собрался уже вниз бежать, как заметил, что Ройнаг-дозорный на вышке спит. Пригрелся на весеннем солнце, ноги и руки свесил, трехстволку свою под голову приладил – и знай храпака давит. А ведь только вчера кудлатый шутник Филе тарелку к столу приклеил – даже Пустой заулыбался, когда его помощник собрался за добавкой. Нет, такого случая упускать было нельзя. Оглянулся Филя, поднял лом, которым с утра дыру для кабеля в крыше долбил, забрался на помост, подкрался к вышке, сваренной из стальных полос и обитой жестью от стрел или еще какой пакости, да и врезал от души по одной из четырех опор.
Как только Ройнаг с крыши не свалился? Ойкнул, заверещал, попытался поддернуть под себя сразу и ноги, и руки, видно, ударился обо что-то там наверху головой, потому как запустил такой ругани, что у Фили рот сам собой открылся, да вдруг замолчал дозорный, ойкнул и загремел, зазвенел рукоятью ручного насоса. Заквакал, зашелестел бурдюк сирены, а вслед за тем понесся над Поселком, над ближним прилеском, над базой, до которой и мили не будет, вой.
– Ты вовсе, что ли, спятил? – заорал снизу Филя. – Чего дудишь? Ройнаг! Посмотри на горизонт! Сигнала нет! Ни одного дыма! Все в порядке!
А чего было орать? Сам же на вышке стоял, сирену отлаживал, не слышно же там ничего. Поднял Филя лом и опять ударил по опоре. Хотел было уже еще раз вдарить, как появилась у поручней растрепанная голова Ройнага с выпученными глазами, в которых сна и на толику не осталось, а еще секундой позже Филя увидел и сам: на юге, там, где в трех милях за чахлым прилеском лежала коркинская деревня Квашенка, поднимались дымы. Пять, восемь, четырнадцать! Четырнадцать темных столбов – по числу домов – вспучивались над лесом. Филя еще раз взглянул на разинутый рот Ройнага и полетел вниз по лестнице с тем же самым криком:
– Орда!
03
Коркин так и не понял – он ли уговорил отшельника прийти к Пустому или Рук тому поспособствовал. Скорняк и по осени впервые побрел к старику из-за Рука. Отшельник купил валенки, поплелся огородами к лесу, ящер потрусил за ним вслед, а Коркин пошел за Руком. Не то чтобы Рук приносил Коркину в деревне какую-то пользу, разве только жался к хозяину зимними вечерами да скуку отсвистывал, но терять ящера ему не хотелось. Всего и осталось у него от дома, от матери – ружье с четырьмя патронами и Рук. Блюдо-то староста забрал еще в первый год за право пойти в приживалы к бабке-лекарке. Нет, имелось еще копье, лук-то пришлось мастерить уже на месте новый, но и копье Коркин делал сам еще в степи: правил старый шест, варил смолу да выбивал из обрывка ржавой жести наконечник, а ружье и Рук достались ему от матери. Вот и побрел он тогда за ящером, потому как знал: если зверю что в голову втемяшилось – не отговоришь, бесполезно. Точно так же миновал последний покос да, холодея от ужаса, нырнул под полог страшного леса. Еще целую милю прыгал с камня на камень или нагибался, чтобы пробраться под упавшими стволами или полуразрушенными сводами. Уже на месте старик угостил гостей вяленым птичьим мясом, отсыпал в туесок из коры грязной соли да помахал рукой на прощание, поблагодарив за проводы. И Рук, который только что явно собирался остаться в убогом, устроенном в подвале рассыпавшегося дома логове, побежал как ни в чем не бывало домой.
Коркин больше и не вспомнил бы про отшельника, пока тот не придет к нему за следующей парой валенок, но тут случился тот самый разговор со старостой, после которого жизнь скорняка натянулась, как крысиная шкурка на пяльцах. Неделю Коркин ходил пришибленным, словно по нему пробежалось стадо коров, а потом вспомнил новость от Тошки кудрявого о Пустом.
О механике из Поселка всякий в деревне говорил. О чем еще было говорить, как не о Пустом? Коркин помнил тот год, когда и бабка его еще была бодра, да и староста смотрел на расторопного скорняка с одобрением – боялся, видно, бабкиных наговоров. Тогда, правда, народ больше говорил о диковинных людишках в странной одежде, которые ставили между Гнилушкой и Гарью странные домики-коробки и тянули вокруг них белую проволоку. Любопытные часами стояли вокруг сооружений, которые почему-то стали звать базой светлых, но близко не подходили, потому как светлые были лицом светлы, но нравом жестоки, стегали слишком любопытных тонкими молниями из причудливых трубок. Кто бы мог подумать, что скоро эта самая база светлых с языка слетит, а ляжет на него кто-то совсем другой, и ляжет надолго?
Тогда как раз пошел слушок, что пришлый бражник Сишек из той самой деревни Гнилушки в четыре двора нашел за базой светлых на краю Гари странного полудохлого парня. Выходил он его или парень сам оклемался, никому известно не было, только едва тот парень встал на ноги да глазищи свои огромные распахнул, сразу стали ясны две вещи: во-первых, в голове у него пусто, как весной в кадушке в погребе, а во-вторых, палец в рот этому парню не клади, иначе только палец от тебя и останется. В той деревеньке тоже своя ватага имелась, которая состояла из трех братьев-лесовиков. Через месяц после того, как Пустой, так его назвали тут же, начал ходить и даже говорить первые слова, которым он обучался с удивительной быстротой, братья заявились во двор к Сишеку, куда они и так заглядывали по особой ежедневной нужде, и потребовали от старика двойную плату за охрану. Тут-то Пустой и проявил себя в первый раз. Он задвинул Сишека за спину и объявил братьям, что в охране не нуждается.
Надо сказать, что братья, которые, может, и не были братьями, но жили в одном доме, да и похожи были друг на друга, как бывают похожи три болотные кочки, славились силой, но никак не умением сплетать слова. Хотя слышали они хорошо. Слова Пустого они обдумывали целый день, а на следующее утро заявились к Сишеку вместе с прежними ватажниками из соседней деревни Квашенки. Десять человек выстроились у Сишековой халупы, которую и избой назвать язык не поворачивался. У каждого было или копье, или топор. Каждый был если не выше худого и узколицего Пустого, то уж точно тяжелее раза в два. «Наша маленькая прикормленная орда», – уже тогда с бахвальством называл их староста Квашенки.
– Вот, – показал один из братьев на семерку ватажников из Квашенки. – Мы охраняем тебя от них.
– А они что делают? – спросил Пустой.
– Охраняют свою деревню от нас, – с легкостью заглотнули наживку братья.
– В задницу, – коротко сказал Пустой, перед тем как произнести свою самую длинную речь.
– Что? – не поняли братья.
– Идите в задницу, – повторил Пустой и расщедрился еще на восемь слов: – Вас десять. Выбирайте одну пошире и отправляйтесь туда. Вдевятером.
То, что случилось потом, Коркин точно представить себе не мог, потому как перворассказчиком о случившейся после слов Пустого рубке был Сишек, а когда он позволял себе рассказывать о столь серьезных вещах, он, как правило, уже с трудом выговаривал слова. Но все варианты повествования сходились к одному – десятка ватажников со всем тем железом, что было у них в руках, бросилась на Пустого, чтобы оставить от наглеца пустое место. Прошел ли миг, или три мига, или все пять, Сишек путался, потому как провел это недолгое время, спрятавшись в бочке для сквашивания браги, но деревенские разбойники оказались мертвы. На Пустом же, которого в то время еще не только не величали механиком, но не звали и Пустым, не случилось и царапины. Хотя помутнение случилось. Присел глазастый там, где стоял, растопырил перед лицом окровавленные ладони и завыл, закачался так, словно собственного ребенка прирезал. Ничего – покачался, да не выкорчевался.
Дальше шел долгий рассказ Сишека, как трудно долбилась яма для трупов в твердой земле и как обидно было копать ее еще четыре раза, так как охотники окоротить Пустого иссякли не сразу, даже чуть ли не настоящие ордынцы заглядывали с визитом, но в деревеньке Гнилушке ватажники вывелись вовсе, а те, что опять завелись в Квашенке, даже не смотрели в сторону владений Пустого.
Но самым интересным оказалось то, что Пустой сам не стал ватажником. Вместо того чтобы заняться прибыльным разбойничьим ремеслом, он быстро поправил дело Сишека и вскоре начал отпускать такую брагу, что ею можно было заправлять светильники, а уж в голову она давала так, что некоторые и отползти от хозяйства Сишека не успевали. И что самое главное, никто ею не травился. Да что там говорить, если пошел слух, будто даже светлые с базы, которые всегда смотрели на окрестных лесовиков как на какую-то пакость вроде навозных мух, якобы приходили к Пустому за его пойлом? И он, несмотря на всю свою пустоту, которая по незнанию Пустым самых обычных вещей была очевидна всякому, о чем-то говорил с ними на их языке.
Тут бы Пустому и сундуки сколачивать, чтобы в них монету ссыпать, дошло ж до того, что из всех окрестных сел к нему с подводами стали прибывать: гончары стали ему сначала глинки суживать, а потом и вовсе под него их вертеть, а он опять такого головорота выдал, что деревенские только глаза выпучили. Начал отдавать глинки со своим пойлом за камни и кирпичи. Коркин и сам целое лето только и делал, что шлялся по развалинам на краю леса, ковырял землю да оттаскивал те камни, что поровнее, в Гнилушку, которая теперь уже стала называться Поселком. Года за полтора теми камнями и поднялась громада, которую Пустой назвал непонятно, но звучно – Мастерская. Не зря он полгода бродил по окрестностям да все что-то ковырял в земле, смешивал с водой, отжигал на костре. Вскоре четыре бедолаги из тех, что вовсе не могли обходиться без Сишекова пойла, стали готовить какую-то белую полужидкую пакость, а еще столько же пустили в оборот собранную гору камней, что не убывала вместе со странной стройкой, а только росла, потому как хмельное ремесло пока еще не прекращалось.
Развалина, что стояла на холме на окраине Гнилушки, использовалась жителями деревни только для того, чтобы забраться по выщербленным ступеням на ее крышу и, разглядывая степь, забор базы или лес, погадить с высоты в заросли бурьяна и ядовитой ягоды. Размеры сооружения были шагов сто на пятьдесят, высота – шесть ростов Коркина, по два роста на ярус, и представляло оно собой обугленный скелет из стальных ферм, на котором рядами были уложены неподъемные плиты из серого камня.
Стройку Пустой начал с первого яруса, расчищать который приходили за две глинки в неделю все окрестные лесовики. И Коркин помахал там лопатой, разгребая объемистое, заваленное всякой дрянью глубокое подполье, в котором уместилась бы вся Квашенка вместе с лошадью щербатого Толстуна. Одновременно с расчисткой и обнаружением под грязью какого-то фундамента началась укладка камня.
Стены, которые затеял Пустой, навели Коркина на мысль, что скоро должна начаться еще одна война – вроде той, о которой ему рассказывала мать. Иначе зачем лепить толщину в размах рук? Да еще и на втором ярусе? И на третьем? И барьер на четвертом, словно Пустой собирался жить под открытым небом и боялся сверзиться по пьянке с высоты. А окна он замыслил еще страннее! Не окна, а щели – в Квашенке в избах и того шире окошки прорубались. А уж когда полтора года назад вся эта история закончилась, глазам Коркина предстала такая крепость, что даже сверкающая сталью и проводом база показалась всего лишь безделушкой.
Стены мастерской получились ровными, как тетива. Не зря Пустой заставлял прыгать лесовиков с бечевой. Так и ровности ему не хватило. Мало того что он вынудил старателей промазать все той же смесью, что и под камни лилась, кладочные швы, так и всю стену покрасить велел. Надолбить мела и покрасить. И приспособил для этой самой покраски какую-то ерунду навроде колодезного птаха. Как раз Коркин первым и повис на веревке возле стены, хотя страху натерпелся столько, что приплатить был готов – лишь бы на землю вернули. Ничего, пообвыкся и даже заслужил от Пустого дружеское похлопывание по плечу. Покраску, кстати, новить приходилось каждую весну, и как раз на ней Коркин рассчитывал через месячишко заработать очередные десять монет.
Но самым удивительным стало то, что год назад Пустой вовсе перестал продавать глинки с пойлом. Нет, пойло он еще делал, но цену загнул на глинки такую, что тут же случилось несколько серьезных драк и даже чуть не дошло до смертоубийства, – и дошло бы, не появись возле мастерской нового заведения, которое тот же Пустой окрестил трактиром. Заправлять в нем стал Хантик, бывший и нынешний алтарщик деревни и одновременно один из каменщиков Пустого, который умудрился не спиться за два года стройки, но владел трактиром, скорее всего, все тот же Пустой. Хантик обновил старый алтарь и стал подавать еду, пойло, пусть и пожиже, чем раньше Пустой, зато по той же цене, а сверх того затеял варить горькую настойку, что вскоре вся округа стала прозывать пивом. А Пустой сосредоточился на железках.
Железки тащила к Пустому вся округа. Все, что выковыривалось там же, где недавно выкапывались камни, теперь неслось в мастерскую. Сначала на приемке сидел сам Пустой, потом стал выходить только по особой нужде, и принимать железо навострился сопливый белобрысый мальчишка Филя, которого Пустой нашел на помойке и приставил к делу, как приставлял каждого, кто был способен думать не только об очередном глотке горячительного. К тому времени как Коркин попал в оборот со старостой, Пустой уже давно стал чем-то вроде той же Стылой Мороси или базы светлых, потому как объяснить его существования никто не мог, а не говорить о нем и подавно.
Но и это было еще не все. Во-первых, Пустой начал чеканить монету, которая вскоре пошла в оборот и в окрестных, и даже в дальних деревнях. Монета чеканилась из какого-то, как понял Коркин, технического серебра с добавлением меди, или меди с добавлением серебра, или олова с добавлением меди, лес его знает, кто-то говорил, что и вовсе из какого-то барахла. Коркин в глаза не видел серебра, а медь представлял только в виде медного блюда, на котором теперь обедал староста, лопнуть ему скорее, чем насытиться. Выглядела монета как желтоватый кругляшок с немудрящим узором и дыркой, чтобы нанизать ее на шнур. Безделушка, одним словом, но эта самая безделушка очень скоро поднялась в цене. Дошло до того, что серые полустертые кругляшки, которые были в ходу до того, стремительно подешевели, и даже староста из Квашенки утратил к ним всякий интерес. Зато за монету Пустого можно было упиться в трактире Хантика, или купить у него глинку с пойлом, или наполнить бутыль пивом, или же отправиться к самому Пустому и побаловать себя настоящим пойлом, а также нагрузить подводу жестяными мисками, фляжками и чашками, которые тот же Пустой начал лепить, варить или, как таинственно намекал Филя, давить в дальних комнатах мастерской.
Во-вторых, Пустой продолжал принимать всевозможные железки и другие мудреные штуки, которых все еще хватало в развалинах, особенно в дальних, что находились уж вовсе на окраине самой Стылой Мороси, а то и внутри ее.
В-третьих, Пустой начал чинить всякие устройства, которые хранились по избам не только без надежды их когда-нибудь поправить, но зачастую и понять их предназначение. Так старые, ржавые ружья немногих владельцев, если еще раньше не были проданы тому же Пустому, вновь начали стрелять, хотя каждый патрон у того же Пустого стоил дороже отборной и дорогущей глинки. У тачек появлялись колеса, у колодцев – вороты, вновь через десятилетия застучали швейные машинки, у одного из купцов даже завелась и затарахтела какая-то странная двухколесная машина, после чего к имени Пустой прочно добавилось не вполне понятное, но почтительное звание Механик. А уж когда Пустой сговорился со светлыми, бросил с базы провод и осветил единственную поселковую улицу настоящими лампами, его стали числить чуть ли не живым богом. Еще бы, даже светлые обращались порой к нему за помощью и подкидывали умельцу кое-что из старой отслужившей техники. Не просто так, конечно.
В-четвертых, о чем как раз и поведал Коркину кудрявый Тошка, Пустой слушал рассказы стариков. Одно условие ставил – чтобы старик, которого к нему ведут для разговора, не выжил из ума, то есть не только что-то помнил из былых лет, но и мог внятно изложить собственные воспоминания. За каждого такого старика Пустой обещал платить по двадцать монет. И платил – так же, как и платил по десять монет всякому, что разузнает хоть что-то интересное для Пустого. Другой вопрос, что стариков было мало, так как умирали в трудные годы в первую очередь именно старики, а те, что дожили до встречи с механиком, чаще всего ничего не помнили, хотя и пытались что-то придумать, чтобы заинтересовать Пустого. Но обмануть его было невозможно: он тут же выставлял прочь всякого фантазера.
Вот об этом и думал Коркин, пока стоял у входа в мастерскую и держал за плечо отшельника. Тот вроде и не собирался никуда уходить, но словно трепыхался в руке Коркина, даже когда опустился отдохнуть на камень. На самом деле отдыхать следовало Коркину. Мало того что он не меньше сотни раз повторил: «Старик, пошли к Пустому, он тебя накормит и мне денег даст», мало того что собственноручно надел на того валенки, когда старик наконец лениво кивнул – мол, пойду, а то ведь не отстанешь, – так еще и тащил старика на себе. Тот же, лесная гниль, через каждые сто шагов пешком говорил: «Отлить мне на тебя, Коркин, не пойду ногами дальше». Так или иначе, но теперь Коркин стоял у входа в мастерскую и думал, что, кроме того что следует взять с Пустого два раза по двадцать монет, так надо бы добавить к расчету и десять монет за то, что Коркин нашел что-то интересное. И то сказать: где еще взять старика, который не только может связать несколько слов, но еще имеет два лица? Смотришь на него – вроде обычный человек – седой, в морщинах, дед дедом, вроде Сишека, только трезвый, бросишь взгляд, когда он капюшон на лоб тянет, – а он уже вроде и другой. Лоб выдается вперед, глаза разбегаются, скулы темнеют, подбородок вострится. Нет, по-любому выходило, что Коркин тащил к Пустому одного отшельника, а привел двух. Пустой справедливый. Страшный, но справедливый. Ни разу Коркина не обманул – ни когда за камни платил, ни когда заказывал у него для своих работников десять пар валенок по осени, ни когда нанимал Коркина выкапывать подвал или красить стены. И теперь не должен был обмануть.
– Орда! – заорал Филя через миг после того, как на крыше мастерской что-то зазвенело, а затем завыла сирена. – Орда!
Мальчишка выскочил на улицу и начал судорожно опускать ворота, вытягивая тяжелую цепь.
– Где орда-то? – обернулся Коркин, но ни дыма на горизонте, ни темной тучи убийц и грабителей не разглядел.
– Дурак! – захрипел Филя. – Она по кромке идет! Твоей деревни уже нет! Помогай же, дурень! Лебедка-то сломалась!
04
Откуда только прыть у отшельника взялась – мигом проскочил под воротами. И ящер не заставил себя уговаривать: за ним же последовал. Зато Коркин не подкачал – пыхтел с Филей на равных, опускал сначала внешние ворота, потом внутренние, потом решетку, потом помогал затычку выбить, что перекрывала ларь с песком. Только когда зашуршал песочек, засыпая пространство между воротинами, да легли на место засовы, уперлись в выдолбленные гнезда козелки, понесся Филя наверх, к подъемнику, возле которого Ройнаг потом обливался, поднимал страдальцев – тех, кто добежать успел до мастерской. На смотровом помосте у вышки, по которой не так давно Филя стучал ломом, уже стояли Пустой и двое светлых, а возле Ройнага, накручивая ворот, пыхтел Хантик – как он только всякий раз умудрялся первым добегать до мастерской? Сирена всего-то гудела до того пару раз, для проверки, как говорил Пустой, но пока никто не опередил Хантика, который еще и обижался на механика – скрипел, что проверок и шуток не понимает. Конечно, трактир поближе прочих халуп к воротам торчал, так ведь и на весь Поселок один Хантик отличался не только резвостью, но и хромотой.
Филя подскочил к ограде, нырнул под жестяную крышу, высунулся в бойницу и сразу забыл и об испуганной роже Ройнага, и о напрягшихся скулах Пустого. Поселка, а вместе с ним и прежней жизни белоголового мальчишки больше не было. Висели, вопя от ужаса и торопя Ройнага, на веревке подъемника еще двое сборщиков, но никто, кроме них, не бежал к мастерской от домов, от лавок, от трактира. Орда числом в несколько тысяч конных выкатилась из-за перелеска и не только заполонила улицу, но неслась уже и к мастерской, и к базе светлых, словно собиралась взять ее штурмом. Крайние дома пылали, в трактире рубили двери, растаскивались по бревнышку и остальные постройки. Ордынцы выволакивали на улицу жителей, мужчин убивали тут же, а на женщин наваливались кучами. Окаменев, Филя уставился на кровь, на грабеж, на зверства и, только когда захлебнулась накачанная Ройнагом сирена, понял, что уже несколько минут сам надрывно орет. Осекся мальчишка, захрипел, закашлялся, захлебнулся слезами и ненавистью, скорчился в комок под стеной, и только тогда до мастерской донеслись и истошные крики селян, и вопли ордынцев, и треск разгорающихся пожаров.
– Хвала твоему деревянному богу, Хантик, – застучали зубами взмыленные сборщики – чернявый худышка Файк и лысоватый толстяк Рашпик, – переваливаясь через ограждение. – Успели! А ребятки-то в трактире остались! Рубят ребяток, рубят! По живому рубят! Хантик, кривая кость! Как догадался? За минуту до сирены бросился бежать! Еще и чурбана резного с алтаря прихватить успел!
– Чего гадать-то? – с трудом перестал стучать зубами трактирщик. – Дымом потянуло с юга, плохим дымом. Я со двора вышел, а вы же в зале гудели. И не чурбана я прихватил, а молельного истукана. И бог не деревянный, труха головная. Это ты, Файк, деревянный! А ты, Рашпик, вообще бычий пузырь с требухой!
– Так чего ж ты нам ничего не сказал? – возмутился Файк.
– Посмотреть выбежал, посмотреть, – затряс головой Хантик. – А как увидел первых конников – ноги сами меня понесли. Да опоздай я на пять секунд, вы бы меня затоптали под этой стеной!
– Рашпик, – обессиленно рухнул у ограждения Ройнаг, – благодари бога, что веревка не лопнула! В тебе же, толстяк, веса как в двух лесовиках! Да не худых, а в теле! Если бы не Хантик – бросил бы, клянусь, бросил бы рукоять…
Чувствуя, что спазмы корежат лицо, грудь, руки, Филя размазал слезы по щекам и, продолжая рыдать, поднялся на ноги, посмотрел на Поселок, с мучительным, страшным любопытством пытаясь выхватить из кровавого месива знакомые лица, услышать знакомые голоса. Вот точно, точно завизжала девчонка, с которой он собирался прогуляться вечером до базы и обратно. Захрипел лавочник, которому Филя был должен пять монет. Закашлял кровью из перерезанного горла долговязый охотник, ни с того ни с сего посадивший Филе месяц назад фингал под левым глазом. Из крайнего дома вытащили голую бабу, за ней упирающегося светлого в исподнем, в котором Филя узнал второго техника базы Вери-Ка, взмахнули над ним широким степным клинком, но любитель простолюдинок заверещал и исчез, растворился прямо в руках рассвирепевших ордынцев. Оторопев, Филя выпучил глаза, обернулся к светлым, что стояли возле Пустого, но ни гнева, ни удивления не разглядел на их лицах. Маленькая сухая женщина по имени Яни-Ра щурилась, словно пыталась посчитать ордынцев, а высокий и плечистый, с тугой щеткой рыжих волос инженер Рени-Ка ухмылялся. Светлые не изменили себе даже тогда, когда засверкали искры на ограде базы и орда, верно потеряв десяток-другой разбойников, перехлестнула через проволочный забор и заполнила запретную территорию.
– Филипп! – окликнул мальчишку Пустой.
– Так и должно было случиться, – медленно выговорила Яни-Ра на языке светлых, который Филя уже года три как научился разбирать. Повернулась к Пустому, подняла руки и потрогала волосы, сдвинув к ушам рубиновый ободок, словно поправляла сияние над головой. – Можно отловить десяток, даже сотню крыс и обучить танцевать под музыку, но, если их выпустить на волю, другие крысы неминуемо их сожрут. Но даже если их не выпускать, – Яни-Ра по-прежнему была спокойна, даже величава, – рано или поздно они сами нападут на хозяина. Беспричинно. Просто так.
– Не согласен, – хмуро ответил Пустой и вновь обратился к Филе: – Гранаты и ружья наверх.
– Не стоит, – подняла руку Яни-Ра, и Филя сквозь накативший ужас с удивлением сообразил, что она знает язык прилесья.
Филя перевел вытаращенные глаза на Пустого – тот не шелохнулся.
– Подожди пять минут, механик. – Яни-Ра скривила губы, и Филя понял, что и его знание языка светлых перестало быть тайной. – Ордынцы еще празднуют победу, но уже обречены. Этой мерзости скоро не будет. Ка-Ра уничтожат отбросы.
– И нас? – продолжал хмуриться Пустой. – Или Ка-Ра будут сберегать наши жизни?
– Думай что хочешь, – подал стальной голос Рени-Ка. – Ка-Ра не рвут на себе волосы из-за мелочей. Ка-Ра взвешивают не вещи, а их суть. Ка-Ра смотрят за горизонт. Твоя мастерская не пострадает не благодаря нам. У тебя наш вездеход – он исключит твою мастерскую из зоны удара.
– Время полета? – спросил Пустой.
– Десять минут, – бросила быстрый взгляд на Пустого Яни-Ра, и Филя почему-то подумал, что светлая ненавидит механика. – И они в небе. Были бы уже здесь, но на все требуется время. Главная база – в горах, там, куда не так легко добраться. К тому же истребители не могут лететь над Стылой Моросью: техника над ней отказывает. Но если тебе хочется пострелять, конечно, ты можешь развлечься. У тебя есть немного времени. Но стоит ли марать руки в крови? Хотя твои гости не прочь это сделать.
Филя с трудом шевельнул негнущейся шеей и тут только увидел неуклюжего Коркина, который трясущимися руками натягивал тетиву лука и отправлял через бойницу в закручивающийся вокруг мастерской язык ордынской конницы одну за другой короткие стрелы. Вряд ли скорняк попал хотя бы раз, но он вновь и вновь тянул к щеке тетиву, пока не выпустил все стрелы до одной, после чего схватил кривое копье с ржавым наконечником и тоже бросил его вниз.
– Почему они не стреляют, засоси меня в болото? – принялся тереть мокрые щеки Хантик, приседая под жестяным навесом, идущим вдоль ограждения. – У них луки! Почему они не стреляют?
– Они никуда не торопятся, – отозвался, нервно подергивая скулами, Ройнаг. – Да и куда мы денемся? Я слышал, что ордынцы едят пленников. Файк? Не ты ли мне это рассказывал? Едят только женщин, и только тех, кого успели истерзать. У них вроде бы мясо становится нежнее. Но если в орде голод, они едят и мужчин. Говорят, что обычно они женщин угоняют, чтобы надолго хватило…
– Заткнись, Ройнаг! – крикнул Пустой. – Файк, Рашпик, Хантик! И ты, Ройнаг! Быстро! Встаньте по углам, следите, чтобы ордынцы не полезли на стены! И запомни, Ройнаг, я тобой недоволен!
– Он спал на посту? – четко выговорила на прилесном языке Яни-Ра, презрительно улыбаясь едва держащемуся на ногах Филе. – Механик! Ты – командир, значит, ты и виноват. Он спал каждый день – сколько раз ты наказал его за это? А если бы он не спал? Спас бы десяток селян? Десятком больше, десятком меньше. Зачем? Сотня-другая селян – не слишком большая цена, чтобы уничтожить орду. Или даже ее часть. Имей в виду, механик, это, скорее всего, первый отряд. Здесь десять тысяч клинков. В десять раз больше наши разведчики видели невдалеке. Если они идут следом, то прибудут послезавтра.
– Что им нужно здесь? – сдвинул брови Пустой. – На сотни миль только редкие деревни и села!
– Наверное, слухи о сундуках с монетами удивительного механика разошлись слишком далеко, – с усмешкой вмешался в разговор Рени-Ка. – Так же как и слухи о силе Ка-Ра. Эти два слуха – как две пощечины главарю степняков. Ордынцы идут к тебе, механик, и к нам. И еще ходят слухи, что очередной ордынский вождь провозгласил светлых силами зла. Так что на улицах твоего Поселка властвуют силы добра, механик. Поэтому не закрывай глаза – любуйся их добротой. Осталось дождаться, когда эти силы добра доберутся до Стылой Мороси и нахлебаются настоящего ужаса.
– Если не испугаются, – рассмеялась Яни-Ра. – Это ведь не резню устраивать в убогом поселке. Впрочем, ордынцы верят, что Стылая Морось – место обитания их бога, которого прячут от них светлые. Пусть, пусть посмотрят, что там.
– И что они увидят? – мрачно спросил Пустой. – Дом бога или его отхожее место?
– Прогуляйся сам и узнаешь, – обнажила в улыбке ровные зубы Яни-Ра. – У тебя за спиной единственный удобный путь в Стылую Морось. С других сторон к ней гораздо труднее подобраться. Может быть, это привлекло орду?
– Морось огорожена, – холодно заметил Пустой.
– Это ограда для того, что таится внутри ее пределов, – объяснил Рени-Ка. – Сборщикам она не мешает, кстати. И тем несчастным, что живут в пределах Мороси, тоже. Разве я не говорил тебе, механик, что раньше Стылую Морось приходилось сдерживать? Но и теперь она перемалывает и калечит всякого. Ордынцы хотят владеть всем сосудом, в том числе его дном. Одно им невдомек: кто овладевает сосудом, тот и пьет из него!
Светлый громко рассмеялся, скривила губы и его спутница. От подножия здания донесся громкий вопль. Филя подбежал к стене и опять приник к бойнице, чтобы оледенеть от ужаса окончательно. Поселок догорал, но кровавое непотребство на его улицах продолжалось, хотя крики несчастных захлебнулись, и даже женские тела уже не выделялись наготой среди окровавленных трупов. В отдалении вскидывала к небу столб дыма база. Улицы поселка заполонили спешившиеся степняки. Теперь они деловито и неторопливо занимались грабежом. Вязали узлы, набивали мешки, бросали в огонь трупы мужчин и действительно освежевывали трупы убитых женщин! Ордынцы даже начали коптить их на наскоро разложенных коптильнях! А если они доберутся до тех, кто на крыше?
– Не смотри, парень! – повернул страшное лицо к мальчишке Хантик.
– Пусть смотрит! – крикнул с другой стороны Рашпик, срываясь на сип.
Не меньше тысячи конников выстроилось вокруг мастерской. Нет, их луки и в самом деле оставались на конских крупах. Вперед выехал чернявый воин с насечками на щеках и вновь проорал что-то, потрясая окровавленным топором.
– Пустой, – перевел бледный и трясущийся Файк, – это брат вождя орды. Он обращается к тебе, Пустой. Он хочет, чтобы ты склонил голову перед ордой и служил ей. Он хочет, чтобы ты отдал для пыток светлых и отдал для еды и радости женщин, если они у тебя есть. Мужчин ты можешь убить сам. И тогда ты получишь коня.
– Конь – это хорошее предложение, – насмешливо сдвинула брови Яни-Ра. – Тебя хотят принять в орду, механик. Это честь для безродного и беспамятного.
– Нет, – твердо сказал Пустой.
Файк повернулся к ордынцу, но ответить ему не успел. Коркин, который возился с тяжелым ружьем, наконец нажал на спуск. Выстрел получился таким громким, что у Фили зазвенело в ушах, а у самого Коркина из носа хлынула кровь.
– У скорняка-то не ружье, а ружьище! – удивленно завопил Рашпик.
Выстрелом Коркина не только снесло ордынца вместе с конем, но и ранило пятерых или шестерых всадников, что гарцевали за спиной главаря.
– Берегись, – процедил Пустой и в следующее мгновение потеснил обоих светлых внутрь укрытия. Сотни стрел одновременно просвистели над головами осажденных, застучали о склепанную жесть.
– Механик! – Показалась в люке голова полупьяного Сишека. – Мне поможет кто-нибудь?
Филя, преодолевая оцепенение, бросился к старику, который выставил на ступени корзинку с гранатами и, пыхтя, пытался протиснуться наверх сразу с тремя ружьями. И в это время где-то у горизонта послышался чуть различимый гул.
– Раздай, – процедил Пустой Филе, пригибаясь под шелестящими в воздухе стрелами, и обернулся к светлым. – Вери-Ка с блеском выпутался из переделки. Вы так умеете?
– Ты коснулся меня! – с ненавистью прошипела Яни-Ра. – Не забывай, кто ты!
– Рад бы не забыть, да не помню ничего, – отчеканил Пустой. – А так-то я только механик, который взялся переделать привод на вашей машине. Не за деньги: за электричество с вашего генератора. Машина почти готова, вот только генератора больше нет.
– Успокойся, Яни-Ра, – сказал Рени-Ка. – Он уберег тебя от стрелы!
– Лучше пусть побережет себя! – почти зарычала Яни-Ра и тут же начала растворяться, таять, как дым.
– Да, похоже, денек не задался, – пожал плечами Рени-Ка и, прежде чем последовать примеру Яни-Ра, добавил: – Заканчивай с машиной, механик, и гони ее на главную базу. Это на западе. Думаю, ты слышал о ней. Если сможешь доехать, конечно.
– Пустой! – пролепетал Филя, когда и Рени-Ка растворился в воздухе. – А я уж подумал, что мне показалось насчет Вери-Ка. Пустой, может быть, светлые все-таки боги?
– Если только самого низкого ранга, – медленно проговорил Пустой и тут же закричал скорняку, который только что произвел третий выстрел: – Коркин! Брось мне четвертый патрон. Филипп, запомни: я приказываю – ты выполняешь. Повторять больше не буду. Уволю. Льешь слезы – отвернись, чтобы никто их не видел. Нечем вытереть – глотай. Понял?
– Понял, – скорчился от ужаса Филя.
– Это касается всех! – окинул взглядом крышу Пустой. – И тебя, Коркин, пока ты со мной, тоже. А теперь – всем в укрытие. Быстро! Филипп и Коркин, останьтесь!
05
Коркин не сразу сообразил, что происходит. Слова Фили об орде просвистели у него над ушами, как порыв ветра. Орды не могло быть в прилесье, потому что ее никогда здесь не было. Селяне даже над давним визитом ордынцев к Пустому посмеивались уже, как над веселой байкой. Коркин сам брел в этот край целый год, половину из которого пересекал почти вовсе безводную пустыню, поэтому сразу представил ватажников и решил, что староста все-таки собрался рассчитаться с ненавидимым скорняком и собрал для этого не только своих разбойников, но и их подельников из дальнего села. Раздумывая об этом, Коркин увидел, что взмокший Филя рвет жилы, вращая рукоять лебедки, и стал ему помогать. Потом побежал вслед за мальчишкой наверх, подошел к бойнице, чтобы понять, о какой все-таки орде идет речь, отчего воет сирена, почему ожил и поскакал в ворота отшельник, подошел и застыл. Стоял и смотрел, как жгут дома, как режут на части живых людей, как насилуют женщин, зыркал глазами вправо, влево, словно старался увидеть и запомнить как можно больше. И в голове его отстукивала одна мысль – надо было уходить дальше на запад, дальше на запад, дальше на запад. «Куда же дальше», – шептали онемевшие губы, но мысль не успокаивалась. Дальше на запад. Дальше. Хоть и в Стылую Морось. Ничего не может быть страшнее орды, и если там, за лесом, кроется еще больший ужас, тогда вся надежда останется на бога, о котором еще мать Коркина говорила, что он забыл о своих детях. Вся надежда на бога, что он пошлет быструю смерть: забыл он о детях или не забыл, но в смерти он им, кажется, пока еще не отказывал.
Потом отряд конников поскакал к мастерской, и Коркин стал вглядываться в смуглые лица, пока не увидел во главе всадников того самого, с посеченными щеками, который пырнул его в живот кривым ножом почти десять лет назад. Волосы ордынца поседели, плечи раздались, но лицо было тем же – веселым и страшным. Сердце в груди скорняка замерло, ноги подогнулись, и он едва не упал на колени, как падал всю свою жизнь, с первого нападения орды, которое помнил еще ребенком. Нет, теперь он уже не собирался склонять голову и спину перед неизбежной смертью. Тело Коркина попыталось встать на колени само, без его ведома, в силу привычки. Тело предало скорняка – поторопилось принять привычную позу, встать так, как стояло оно сначала рядом с матерью и сестрой, потом, когда сестру увели на погибель, только рядом с матерью, а когда мать умерла, стояло в одиночестве, заведя руки за голову, пока этот самый ордынец не похвалил Коркина и не распорол ему живот. Скорняк едва не упал на колени и в этот раз – упасть не дала стена, колени, сдирая кожу, уперлись в ограду, но стыд, непонятный жгучий стыд обдал Коркина жаром, и, прячась от этого стыда, он принялся яростно чесать занесенными за голову руками затылок, потом схватил лук, одну за другой выпустил в ордынскую конницу все десять никчемных и бесполезных стрел, метнул туда же никудышное копье, а затем ухватил за цевье и потащил с плеча ружье.
Хантик вытаращил на него глаза, Файк отпрыгнул в сторону, Рашпик попятился, прикрывая брюхо руками, а Коркин сдвинул затвор, проверил в обойме четверку патронов, которые пропитались салом и блестели не от новизны, а от ежегодной многолетней чистки войлоком, и, высунув ружье в бойницу, поймал в кольцо прицела рожу степняка, которого запомнил на всю жизнь, и первый раз в жизни нажал на спусковой крючок.
Раздался такой грохот, что Коркин на мгновение лишился слуха, к тому же едкий дым заставил его зажмуриться, а когда глаза открылись, над стеной уже свистели стрелы, а меченый ордынец дергался в крови на крупе упавшего коня. Еще четверо или пятеро его спутников валялись тут же, и Коркин почувствовал облегчение. Его стыд почти растворился, от него осталась самая малость, еще два или три выстрела – и он вылечится навсегда: и от боязни орды, и от боязни старосты, и от боязни ватажников, и, самое главное, от боязни смерти, которая так часто казалась ему желанной и доброй, но, когда надвигалась, подходила вплотную, неизменно пугала его. Коркин втянул носом хлынувшую на губы кровь, с трудом выцарапал застрявшую в патроннике гильзу, вновь сдвинул затвор и еще раз выстрелил. И его стыд стал еще меньше. Осталась вовсе крупица – кроха, соринка, что и пальцем-то не нащупаешь, но моргать не дает. И Коркин опять несколько минут выцарапывал застрявшую в патроннике гильзу и опять целился в живую конно-ордынскую массу под стеной мастерской, которую он красил в белый цвет собственными руками. Вновь прогремел выстрел, который оказался последним. Где-то далеко раздался крик Хантика:
– Коркин! Ты дюжину положил! Дюжину за три выстрела! – а потом донесся как сквозь войлок голос Фили:
– Коркин! Пустой просит отдать ему четвертый патрон! Отдай ему патрон, Коркин!
– На, – протянул Коркин дрожащими руками ружье бледному, как стена мастерской, мальчишке и поднял голову к небу. Оно гудело, как ствол столетнего дубовника, в котором синие осы устроили гнездо. Прижмешь ухо к коре – и через секунду кажется, что гудит не дерево, а твоя голова, весь ты, начиная от затылка и заканчивая подушечками пальцев. И Коркин вдруг понял, что вот теперь, только что, он наконец-то начал дышать.
Над горизонтом показались черные точки. Их было не больше десятка, они двигались с юга ровной линией, и гудение, которое по-прежнему пронизывало Коркина, явно исходило от них. Коркин огляделся, понял, что на крыше остался только он, Филя да Пустой, который рассматривал его ружье, бросил взгляд в сторону Поселка и увидел замерших, неподвижных степняков, которые все, как один, побросали узлы, страшную добычу и стояли, подняв лица к небу.
Точки стремительно приближались. Сначала Коркин различил, что пять из них были чуть выше, пять чуть ниже. Потом разобрал темные выступы по краям каждой из них, наконец решил, что к бывшему Поселку летит стая степных падальщиков: уж больно напоминали их силуэты силуэты стервятников, которые складывают крылья и пикируют на замеченную добычу, – но гудение все усиливалось, и странные машины или еще какая непонятная пакость становились ближе и ближе. Где-то над Квашенкой, над которой все еще поднимались дымы, они исчезли за лесом, и пару минут их не было видно, только к гудению добавился какой-то шелест и треск. Почти сразу клубы дыма над деревней стали слабеть, а секундами позже десяток странных стервятников оказался над окраиной Поселка.
Пугающие устройства были велики, чтобы оказаться птицами, но не настолько, чтобы пугать своими размерами, – по крайней мере, Коркину показалось, что вряд ли хоть одно из них превышало величиной короткую тележку для хвороста. Их тела напоминали веретена, как если бы те туго обмотали шерстью, а потом раз за разом опустили в смешанный с сажей расплавленный воск. Форма их словно плыла, переливалась, и крылья или выступы по сторонам веретен тоже менялись, и низкое гудение, от которого весь Коркин начинал трястись и гудеть, тоже как-то было связано с плывущей формой. Коркин попытался смахнуть что-то с лица, не смог попасть пальцами по щеке – и вдруг понял, что вот теперь, в этот самый миг, он видит самое страшное в своей жизни, и даже бойня, которая несколько минут назад продолжалась в поселке, ерунда по сравнению с бесформенными птицами.
Томительные секунды прошли. Пять веретен, те, что находились в нижнем ряду, двинулись еще ниже и, опустившись на уровень крыши мастерской, пошли над Поселком, сделали круг, еще один, обогнули мастерскую, отчего Коркин почувствовал страшное желание немедленно облегчиться и удержался с великим трудом, потом направились к базе, и везде, где они пролетали, раздавался все тот же звук, который доносился со стороны Квашенки. Звук, который бывает, если сминать в руках высохший лист теневика, чтобы он хрустел и крошился в пыль. И сквозь этот хруст отовсюду несся страшный, невыносимый стон, как будто множество людей и животных испытывали ужасные муки, но не могли ни произнести ни слова, ни даже закричать. Коркин пригляделся и понял, что вроде бы исчезающие на первый взгляд степняки и их лошади никуда не девались. Они расплывались комами живой плоти там, где стояли или где двигались, метались, пытаясь убежать от страшных веретен. Они оплывали, как лепешки на печной плите, словно их тела разом лишались всех костей, но при этом оставались живы. И Коркин, который мгновение назад хотел порвать степняков на части, сжечь их всех живьем на огромном костре, почувствовал, как холод охватывает его тело.
Первая пятерка веретен взяла вверх, и за ней пошла вторая. И везде, где она пролетала, трепыхающаяся, живая плоть застывала, словно падающие в снег капли воска, а затем начинала шевелиться и зеленеть, курчавиться, взбухать.
– Проволочник! – прохрипел Коркин. – Проволочный бурьян! Но быстро, очень быстро, очень!
Упругая, как стальная пружина, проволочная трава поднималась над разоренным Поселком, над базой и над всем пространством между ними. Она окончательно гасила и так уже утихающие пожары, пронзала крепкими корнями стиснутую застывшей оболочкой еще живую плоть и медленно убивала ее, высасывая из нее соки.
– Кара божья! – закричал вдруг Филя, поднял руки к лицу, зажал глаза, уши, нос и закричал еще громче, почти завизжал: – Кара божья!
– Кара или Ка-Ра? – переспросил его Пустой, проводил взглядом исчезающие в небе две пятерки страшных веретен, подошел к помощнику, встряхнул его так, что даже Коркин услышал стук зубов, и громко и отчетливо проговорил: – Филипп! У нас очень много работы!
06
– Зачем ему мое ружье?
Филя с досадой обернулся на Коркина. Тот, закинув на крепкое плечо мешок, медленно брел за ним по упругому ковру молодого проволочника в сторону уничтоженной базы и то и дело оглядывался.
– Коркин, что ты головой вертишь? По зверю своему соскучился? Ничего с ним не сделается. Отшельник твой его гладит. И Пустой не будет со стариком без тебя говорить. Иди уже. Времени мало. Скоро вечер, стемнеет: охота была в темноте копаться. Или ты забыл, что Пустой сказал? Послезавтра здесь опять будет орда. А у нас правило такое: жди удачу годом позже, а беду – до того, как обещано. Понял?
– Понял, – пробормотал Коркин и вновь повторил, как заведенный: – Зачем Пустому мое ружье?
– Какой ты странный, Коркин, – наморщил лоб Филя, который хоть и не согнал с лица недавней бледности, но прежнюю говорливость вернул. – Тебе же сказали – дай патрон, а ты ружье дал. Сам дал.
– А чего мне ружье без патрона? – пробормотал Коркин. – Да и гильзы плохо вынимаются, замучаешься пальцы ломать. Ружье старое. Еще от моего отца. А у него от деда. Или от материного деда. Дуло хорошее, я его салом чистил, а патронник еще до меня сломался. Гильзы не выщелкивает – выкорябывать приходится. Хотя я вообще первый раз из него стрелял. Мне мать еще сказала, что после каждого выстрела гильзы выкорябывать надо. Она и сама стреляла из него один раз только.
– «Выкорябывать»! – передразнил Коркина Филя. – Правильно ты сделал, что Пустому ружье отдал. Пустой все ремонтирует. Он же механик! Второе наше правило: если что-то может работать, должно работать. Или идти на запчасти. Так что твое ружье будет работать как надо.
– Чего ему работать, если патрон один остался? – не понял Коркин. – Куда я с одним патроном?
– Тут такое дело, приятель… – Филя хотел почесать затылок, но руки и у него были заняты, поэтому он только с досадой подергал подбородком. – Нам много чего натаскали за последний год-два, так у нас два мешка только пустых гильз было. Это я о приличных говорю, которые калибровку прошли, а дутых там, мятых – без счета. Так вот из них как раз под твое ружье больше половины. Очень много. Я на вид так прикидываю. Пустой уже хотел сам стрелялку под них соображать, трубу подбирал, мудрил что-то с чертежами, а тут как раз ты. Капсюли-то мы давно уж делать навострились, да и патроны снарядить – дело нехитрое. А вот ружье…
– Непонятное ты что-то говоришь, – пробурчал Коркин, с дрожью обходя по пружинящему проволочнику подозрительные бугры. – Ка… калиб… тьфу, не выговоришь. Зачем Пустому ружье? С ордой, что ли, воевать? Без этих-то… – скорняк мотнул подбородком в ту сторону, куда улетели веретена, – и десяти ружей не хватит, чтобы от орды отбиться.
– Дурак ты, Коркин, – Филя плюнул и опустил на ковер проволочника мешок и лом, которые до этого тащил в руках. – Ружье Пустому там понадобится.
– Где – там? – не понял Коркин и, проследив за вытянутой рукой Фили, прошептал: – Он в лес, что ли, собрался? Нет зверя в нашем лесу под это ружье.
– Дальше, – замотал головой Филя и зашептал хрипло: – В Стылую Морось!
– Зачем? – испугался Коркин. – От орды, что ли, прятаться?
– «От орды», – передразнил Коркина Филя. – Орда только нынче появилась, ее тут никто и не видывал никогда. А Пустой в Стылую Морось давно собирается.
– Зачем? – вытаращил глаза Коркин.
– Затем, – подхватил лом и мешок Филя. – Теперь-то понятно зачем, теперь и вправду от орды прятаться надо, только у Пустого в Мороси и другие дела есть. Да и вон светлые подарок подкатили – гони им вездеход на базу. Ты только зубами-то не выстукивай раньше времени. Про эту Стылую Морось больше наговорено страшного, чем там на самом деле страшного есть. Ты думаешь, откуда Пустому самое хорошее железо тащат? Из Стылой Мороси. Там самые развалины. Только мало кто глубоко забирается, но по окраине шастают. Так в ней и поглубже обретаются люди. Да столько, что тут и со всех деревень не соберешь. А уж нелюди… Да ты хоть со сборщиками поговори. Тут-то поблизости никакого железа не осталось.
– Так зачем Пустому в Стылую Морось? – еще сильнее выпучил глаза Коркин. – Зачем, если ему все равно железо оттуда несут? Да и ну этих светлых, пусть сами свой вездеход забирают! А если бы они сказали мне валенки туда тащить?
– Дурак, – плюнул Филя. – То тебе принесут, а то сам выберешь. И со светлыми шутить не надо. Или ты не видел, что они могут? Да и чего монетами швыряться? И орда опять же. Но главное в другом… – Филя вновь остановился, хотел опять бросить груз, но только поморщился и прошептал, словно механик стоял у него за спиной: – Он хочет перестать быть Пустым.
– Это как же? – не понял Коркин.
– Не знаю, – пожал плечами Филя и вновь потопал в сторону базы, до развалин которой оставалось всего ничего. – Говорят, там ведунья одна есть, может поспособствовать. Да и ищет он там кого-то. Я так думаю, что те, кого он ищет, что-то знают о Пустом. И он хочет их расспросить. Знаю только, что всем сборщикам, которые уходят в Стылую Морось, да и купцам, что во все стороны товар от нас тащат, Пустой показывает картинку и просит, чтобы они человека искали, что на картинке, а если кто какую весть о том человеке узнает, то он тому платит сто монет. А если приведет его к тому человеку – так всю тысячу.
– Тысячу?! – затаил дыхание Коркин. – Это ж… это ж за пять лет можно со старостой рассчитаться! А почему Пустой решил, что тот, кого он ищет, в Стылой Мороси?
– Ничего он не решал.
Филя подошел к обрывкам ограждения базы и остановился, приглядываясь к покосившимся столбам с изоляторами, к обугленным стенам казармы, к покосившемуся прямоугольнику лаборатории, к буграм на затянувшем разоренное поселение проволочнике.
Обернулся, посмотрел на освещенную лампами мастерскую, возле которой уже не было Поселка, поднял лицо к темнеющему небу, луна в котором еще висела без звезд, прислушался к тарахтящей на крыше мастерской станции.
– Устал я уже от тебя, Коркин. Я ж тебе говорю: он всем ту картинку в лицо тыкал. Всем, кто дома не сидит. И каждому сборщику ту картинку показывал, а один из них и сказал, что видел человека с картинки. И видел его у одного старика, что живет в Стылой Мороси. Вот так некоторые по сто монет зарабатывают!
– Наш староста говорил, что нет в Мороси людей, – вытер рукавом взмокший лоб Коркин. – Там только пакость одна водится. Именно что нелюдь. Зачем Пустому нелюдь? А кто он такой-то? Ну тот, которого Пустой ищет? Что за… человек?
– Не он, а она, – поправил Коркина Филя и медленно двинулся через ограждение, обходя страшные бугры. – Девка какая-то. Девчонка. Может, дочь Пустого, может, сестра, он и сам не знает, а может, просто знакомая какая. Человек, а не нелюдь. Нелюдью как раз твой староста был. Один из шрамов у меня на спине от его бича! Или вот ордынцы эти самые… вот уж нелюдь. Нелюдь от люди по нутру отличается, а не по роже. И выкинь ты эту девчонку пока из головы. Нам с тобой поручили дело, вот делом и надо заниматься. А то болтаешь без умолку!
– Эй, – просипел Коркин, тыча перед собой пальцем. – Шевелится!
Филя обернулся, увидел подрагивающий бугор, бросил мешок и, закусив губу, отогнул ломом упругие стебли проволочника. Из пронзенной острыми корнями плоти на него смотрел наполненный болью и ужасом лошадиный глаз. Мальчишка ойкнул и, выронив лом, закрыл лицо ладонями.
– Дай, – сдвинул брови Коркин, поднял лом, примерился и вонзил его между побегами проволочника. Бугор заколыхался и замер.
– Ты чего? – начал шмыгать носом Филя.
– Нельзя над скотиной издеваться, – пробурчал Коркин. – Она ни в чем не виновата. Даже корову, когда режешь на мясо, надо убивать быстро. Так, чтобы она и понять не успела, что с ней делают. И другие коровы этого видеть не должны. Нельзя так со скотиной. Отлить мне на ордынцев, а со скотиной нельзя.
– Так ты чего хочешь? – почти закричал Филя. – Чтобы светлые сортировали их, что ли? Лошадей в одну кучу, а ордынцев в другую?
– Ничего не хочу, – четко выговорил Коркин и опять забросил за спину мешок. – Чем дольше живу, тем меньше хочу. Пришли мы уже. Чего тут Пустой хотел найти?
– Все, что найдем, все в дело пойдет, – с отвращением поднял лом Филя и, вытерев его конец о ленты проволочника, пробурчал: – Работы еще выше макушки, а дня всего ничего осталось.
Засветло они не успели. Филя для порядка осмотрел сначала казарму, в которой постоянно жили двое или трое светлых, но там не сохранилось ничего. Мало того что ордынцы подожгли ее: уже в огне они продолжали ее грабить, – там их и застали летучие машины светлых. Все отсеки казармы, крыши над которой не сохранилось, заполняли бугры проволочника.
– Они еще живы? – спросил Коркин.
– Не знаю, – огрызнулся Филя. – Надеюсь, что нет.
– Если корова падет в степи, проволочник накрывает ее через день, – пробормотал Коркин. – Поэтому стервятники торопятся. Но если идет желтый дождь, тогда проволочника не будет, и корова начинает гнить. Но во время дождя и стервятники не могут ее клевать. Когда идет желтый дождь, птицы должны прятаться.
– Это как же? – не понял Филя. – Где можно спрятаться в степи? Норы, что ли, роют?
– Они взлетают выше облаков, – ответил Коркин. – И ждут, когда желтые тучи истают.
– А если тучи не истаивают? – Филя остановился у входа в лабораторию. Жестяная, еще недавно отливающая серебром дверь была помята и закопчена. Сразу несколько холмиков проволочника поднимались возле нее, но сама лаборатория уцелела. Стекла на окнах покрывала паутина трещин, виднелись выбоины, но ордынцам удалось разрушить только верхний слой прозрачного покрытия.
– Что тут горело? – Коркин осторожно прошел между кочками проволочника и постучал по закопченной стене. – Это же жесть? Белая, но жесть. Она не горит.
– Топливо, – ответил Филя, подбираясь к двери лаборатории. – За казармой стояли емкости, ну бочки с топливом. Это такая жидкая штука вроде пойла, которым торговал Хантик. Только его пить нельзя. Оно ядовитое. Светлые им заправляют машины. На самом деле не только им, но и им тоже. Наверное, ордынцы вскрыли их, а там долго ли до беды. У них же у каждого второго факелы в руках были. Но там, скорее всего, мало было топлива. Или бочки были вовсе открыты. Пустой говорил, что светлые сильно рискуют: держать возле казармы такие емкости – все равно что подбрасывать над головой нож. Воткнется рано или поздно в макушку. Весь пустырь бы затопило пламенем. От базы до Поселка!
– А так чем затопило? – Коркин ковырнул ветхим сапогом куст проволочника. – Что светлые сделали с ордой?
– Не знаю, – отчеканил Филя и вытряхнул из мешка какое-то устройство. – У Пустого надо спросить.
– А Пустой – светлый? – спросил Коркин. – Похож ведь. Глазастый он, как и светлые. Вот смотри, у нас у всех глаз узкий, а у светлого большой, почти круглый. И у светлых глаза круглые.
– Дурак ты, – в который раз поморщился Филя и осторожно приставил устройство к двери. – Пустой – это Пустой. Механик. Он не светлый, не лесовик, не ордынец и даже не аху.
– Аху? – не понял Коркин. – Что такое аху?
– Аху… – Филя щелкнул тумблером, и из-под устройства повалила тонкая струйка сизого дыма. – Это такой человек из развалин. Дикий, чужой человек. Ну вроде нас с тобой, только поплотнее, покрепче в кости, да на рожу странный. Цвет лица такой… смуглый, подбородок узкий, глаза, наоборот, широкие, скулы пошире, чем у нас, и лоб такой… лобастый. Это от ума, говорят. Запомни, Коркин, всякая пакость – чем пакостнее, тем умнее. Бабки в деревне, когда она еще называлась Гнилушка, рассказывали, что мир похож на полосатый пирог. Ну знаешь, когда слой теста, потом слой мяса, потом опять теста, потом толченые клубни, потом снова тесто. Представь, что мы – толченые клубни. Но ниже есть слой мяса. Или сверху. Вот там и живут аху. И иногда они пробираются к нам. В клубни. Чтобы гадить и всячески вредить. Некоторые говорят, что они вроде нечисти. Ну то есть все мы после смерти должны попасть к аху. А когда народу мало мрет, аху приходят за ним сюда. Правда, их давно никто не видел. Понял?
– Я никогда не пробовал полосатых пирогов, – признался Коркин, отчего-то судорожно принявшись чесать затылок. – А клубни я просто варю в котелке. Иногда добавляю туда сала. Если есть. У нас в Квашенке этими аху детей пугают, только называют их просто пакостью. Только их не бывает. Сказки это все. К тому же после сегодняшнего дела аху, похоже, досталось много гостей, и они не скоро придут. Хотя мать моя говорила, что богу нет до нас дела и что если верно то, что за всякое сотворенное зло надо после смерти платить, а за перенесенное зло после смерти получать благоденствие, то он нам сильно задолжал. А что это у тебя?
– Это? – Филя отнял от двери устройство и пощелкал тумблером, показав ошеломленному Коркину короткий синеватый столбик пламени. – Это, Коркин, лучевой резак. У нас их два, но этот поменьше. Пустой на спор выиграл их у Вери-Ка, сказал, что починит кондиционер у него в отсеке. Правда, резаки тоже были сломанными, но Пустой и их починил.
– Я не знаю, что такое кондиционер, – растерянно пробормотал Коркин, глядя на резак. – А зачем нужен резак?
– Вот. – Филя ударил кулаком по двери, и вырезанный вместе с замком кусок упал на ковер проволочника. – Он режет металл.
– Ты тоже светлый? – ошарашенно пробормотал Коркин.
– Только по масти, – взъерошил волосы мальчишка и потянул дверь на себя.
Проволочник у входа мешал, но получившейся щели хватило, чтобы протиснуться внутрь. Филя положил резак у входа и огляделся. Ни разу еще ему не приходилось бывать не только в помещениях базы, но даже и за ее оградой. Когда-то аккуратные дорожки и чистые домики грезились ему сказкой наяву. Теперь, когда не стало ни того, ни другого, он все-таки оказался внутри лаборатории и немного разочаровался. Ее обстановка Филю ничем не удивила. В помещении размером десять на десять шагов стояли стулья, странная мягкая скамья со спинкой, большой стол с цветными листами пластика и какие-то приборы у дальней стены.
– Иди сюда, – позвал Филя Коркина.
Скорняк с трудом пролез через щель.
– Вот. – Филя ткнул пальцем в серый диск, укрепленный на потолке над столом. – Это кондиционер. Я помогал Пустому отремонтировать такой же, только чуть поменьше. Он делает зимой в помещении тепло, а летом прохладно. И… – Филя пощелкал пальцами, – свежо. Чтобы не воняло.
– У Пустого в мастерской и так не воняет, – растерянно пробормотал Коркин.
– Воняет, – не согласился Филя. – Ты принюхался только. Как сборщики стадом забредут, хоть нос зажимай. Да и ты, Коркин, тоже не цветочек. Мыться надо хотя бы через день.
– Я каждый день моюсь, – обиделся Коркин, – это я от пакости вспотел…
– Ладно, – пробормотал Филя, – значит, надо два раза в день. Ты только не пугайся, сейчас я тут разберусь…
Мальчишка подмигнул Коркину и подошел к приборам.
– Сейчас-сейчас. Коркин, ты пока посиди у стола. Посмотри картинки. Видишь куски… пластика. Ну вон на столе. Только ничего не воруй и не ломай. Пустой за каждый такой листок вернее, чем за железку, хватается. А я сейчас… Так. Пустой сказал, что значок должен быть в виде восьмиконечного креста. Резервное питание. Ага!
Филя отыскал нужное пятно на матовой поверхности рабочего стола и надавил на него пальцем. Где-то на крыше что-то со скрежетом зашевелилось, панели приборов затеплились мягким светом, из кондиционера подул легкий ветерок. Филя оглянулся на окаменевшего за столом Коркина и довольно вытер со лба пот.
– Точно я сказать не могу, Коркин, может, я и в самом деле светлый, хотя бабки и говорили, что мою мать убили ватажники, когда она ходила в степной поселок за сыром, а отец замерз в лесу, и были они обычными лесовиками. Так что и я лесовик. Но хочу стать светлым. Тут, по словам Пустого, главное – начать. Вот стану я светлым – и все мои дети будут светлыми. Понял?
– Нет, – как зачарованный, замотал головой Коркин.
– Ну ладно, – вздохнул Филя. – Потом поймешь. Я тоже вначале ничего не понимал и смотрел на Пустого или как на бога, или как на чудовину из конца мира. А потом кое-чего соображать начал. Вот смотри сюда.
Филя коснулся пальцем правого экрана, среди всплывшего орнамента выхватил взглядом нужную фигуру и, нажав на нее, радостно заорал:
– Пустой! Пустой! Это я! Сработало!
– Филипп? – откуда-то из стены или с потолка донесся чуть глуховатый голос механика. – Хорошо. Больше ничего не трогай, я сейчас буду. Кстати, я тебя порадую: лебедку твою я починил. Вот только не знаю – зачем она нам теперь? Ты понял?
– Понял, – сразу скис Филя и обернулся к Коркину, который был близок к обмороку. – Теперь будет мне какая-то дополнительная работа. Надеюсь, не уборка улиц Поселка. Ты чего, Коркин? Закрой рот, и не такое увидишь. Я когда только сошелся с Пустым, у меня от изумления даже понос случался. Давай распаковывай мешки, инструменты там у тебя, сейчас будем здесь кое-что снимать.
– Как? – прохрипел Коркин, тыкая пальцем в сторону приборов. – Как туда забрался Пустой?! И когда? Он же в мастерской остался!
07
День выдался таким длинным, что на ходу засыпающему Коркину чудилось, будто с давнего-давнего утра, когда он собрался в пятый раз уламывать отшельника на поход к Пустому, прошла неделя. Лес, уговоры старика, долгая дорога к мастерской, томительное ожидание и уговоры Фили, орда, резня в Поселке, налет страшных веретен светлых, живое опадающее месиво людей и коней, ужасающий ковер проволочника и поход на разоренную базу светлых склеились в голове Коркина в неразделимый комок, и, когда уже в темноте Пустой дал команду выносить из лаборатории упакованные в мешковину, как сказал тот же Филя, «приборы», Коркин работал, ничего не соображая, напрягался, как запряженная в тяжелую телегу лошадь щербатого Толстуна, которого самого, скорее всего, еще с полудня не было в живых.
Над Поселком опустилась ночь, небо показалось Коркину звездным как никогда, к тому же луна сияла в половину диска, и унесший запахи гари северный ветер обратил закурчавившийся проволочником Поселок в кочковатый луг, о происхождении которого думать не хотелось. Сразу у выхода из лаборатории Коркин увидел светящийся квадрат, в котором суетился все еще не вполне трезвый старик Сишек, и стал подавать «приборы» туда, не сразу сообразив, что сверкающая огнями комната – не что иное, как внутренности той самой машины, которую светлые отдали в ремонт Пустому. Сил на то, чтобы рассматривать при лунном свете таинственную машину, у Коркина уже не было, он подал Сишеку в светящееся нутро последний мешок, ухватился за протянутую руку, плюхнулся на мягкое, обволакивающее тело боковое сиденье и уснул. Коркин не проснулся ни когда из лаборатории вышли утомленный Филя и напряженный Пустой, ни когда механик занял место за управлением машины, а Филя уселся рядом и принялся запоминать манипуляции Пустого, ни когда машина зашуршала колесами по ковру проволочника и сзади громыхнул взрыв. Механик остановил машину, открыл боковую дверь и встал на подножку, всматриваясь в пылающие развалины, словно пытался вспомнить что-то важное, а Филя выпучил глаза и вновь превратился в испуганного мальчишку, которым еще недавно был на крыше мастерской.
Коркин не проснулся даже тогда, когда Филя и Ройнаг подхватили его за руки и за ноги и отнесли в спальную комнату без окон, где уже сладко сопел отшельник и посвистывал у него в ногах Рук, который тем не менее немедленно проснулся и переполз под бок к хозяину. Коркин открыл глаза только на следующий день и только от запаха еды, потому как не ел ничего со вчерашнего утра, но тут же вспомнил кровавое месиво на улицах Поселка и подавил рвотный позыв лишь потому, что живот у него был пуст.
– Коркин! – Запустивший в комнату через дверь снопы света Филя был подтянут, хотя красные глаза его говорили о том, что выспаться ему все же не удалось. – Предлагаю умыться, потому как на крыше накрыт стол и второй раз тебя звать никто не будет.
– Почему на крыше? – не понял Коркин.
– Тут внизу запах, – потянул Филя носом, и Коркин и вправду почувствовал пробивающийся сквозь запах еды сладковатый аромат смерти.
– А там ветерок, – постарался приободриться Филя. – С запада, свежий. Странно – со стороны Мороси, а свежий. Вода в бочке за дверью, ковш на крючке, тряпица, чтобы утереться, там же. Да поторопись! А то ветер задует с Поселка – будет не до еды. Потом Пустой хочет с тобой говорить.
Коркин кивнул, опустил ноги на застеленный травяными циновками пол и с интересом оглядел и десяток деревянных топчанов, на одном из которых он очутился неведомо как, и стены, беленные так же, как была выбелена мастерская снаружи. Бочка оказалась именно там, где и сказал Филя, и вскоре Коркин поднимался наверх, думая сразу о многих вещах: что неплохо было бы поскоблить подбородок ножом, но мыльный вар остался у него дома, и что, наверное, кухня все-таки внизу, потому как запахи поднимаются вверх, что есть и вправду очень хочется, что он впервые проснулся не с восходом солнца, а позже, и о том, заплатит ли ему Пустой, и если заплатит, то где ж Коркин разыщет теперь старосту, и что же теперь стало с его мыльным варом и со всей избой? Наверху и в самом деле был накрыт стол, вокруг которого на позаимствованных в лаборатории стульях сидели знакомые лесовики и сам Пустой.
– Сюда! – позвал Филя Коркина и кивнул ему на свободное место.
Коркин опустился на стул и только тут узрел, что перед ним стоит пластиковое блюдо, а на нем лежит порция еды, которой в другое время ему хватило бы дня на три. В центре блюда отливали салом и исходили парком пять больших розовых клубней, запеченных с травами, без кожуры. Тут же лежал пучок вымоченного с солью молодого тростника, половинка поджаренного на жире зеленого яблока, четыре отваренных с медом шляпки дубового гриба и сочный, покрытый коричневой корочкой кусок мяса! «Оленина!» – с ходу определил Коркин по форме изогнувшихся ребрышек и растерянно посмотрел на соседей. Их порции уменьшились уже наполовину, и, судя по всему, поедание остатков давалось им с немалым трудом. Тут же лежал лист пластика, на котором высились ломти настоящего, чистого, без примеси орехов дубовника хлеба и стояла плошка с чистой солью. В довершение у каждого пирующего имелась стальная кружка, которую следовало наполнять из кадушки, стоявшей недалеко от стола, над которым, кроме всего прочего, витал невыразимо сытный дух. Коркин наклонился над блюдом и стиснул зубы. Перед глазами встала вчерашняя резня.
– Нет, – пробормотал Сишек, зачерпывая из кадушки и прикладываясь к предложенному питью. – Вино – это совсем не мое пойло. Да еще разбавленное водой. Даже для утреннего прояснения мозгов не подходит.
– Было бы что прояснять, – буркнул Хантик, но никто не засмеялся шутке.
Коркин оторвал взгляд от тарелки и тут только заметил, что приведенный им отшельник сидит напротив него и с удовольствием обгладывает оленьи ребрышки. Капюшон драного плаща лежал у него на плечах, и Коркину и всем окружающим представала обычная физиономия седого старика, зубов которому уже не хватало, но аппетита доставало на пятерых.
«Плакали мои монетки, – ухнуло сердце у Коркина. – Одна рожа у старика осталась! А может, оно и к лучшему? А ну как он и в самом деле аху?»
Тем временем старик доглодал кость и бросил ее под стол, откуда донеслось уже знакомое щелканье и урчание. Коркин приподнял серую холстину и с удивлением увидел Рука, который, раскинув лапы, сидел на толстом хвосте и дробил крепкими зубами одну кость за другой. Полузакрытые глаза ящера говорили о его полном удовлетворении и счастье.
– Фьюить, – поздоровался он с Коркиным.
– Ешь, – дотронулся кто-то до его плеча, скорняк поднял голову и увидел Пустого. Тот уже был чисто выбрит и бодр. – Потом бери старика, зверя и приходи. Филипп отведет.
– Отведу, – подтвердил с набитым ртом Филя и добавил, когда механик удалился: – Только не думай, Коркин, что мы каждый день так пируем. Нет. Просто уходить придется, а всех запасов с собой не возьмешь, так что набирай жирок, пока есть возможность. Потом тратить будешь.
Коркин еще раз оглянулся, посмотрел на набитые щеки того же Фили, Сишека, который вливал в себя уже третью порцию разбавленного вина, на отшельника, на кривившегося Ройнага, на Рашпика, на оседлавшего сторожевую вышку Файка, на тщательно пережевывающего пищу Хантика. Скорняк знал их всех как облупленных, потому что каждому продавал валенки, войлок, выделывал шкуры, но теперь они казались Коркину другими людьми. Не обычными лесовиками, сборщиками, охотниками, а кем-то, кто знает друг о друге что-то важное и страшное.
– Ешь, скорняк, – сипло закашлялся Хантик. – Понимаю, наружу воротит, но что делать? Жизнь пошла трудная, каждая жрачка последней может оказаться. Ешь, бог видит, ты заслужил эту еду.
Коркин управился со своей порцией за пять минут, считая и три ломтя хлеба, и три кружки вина, которое вряд ли было способно нагнать хмель, но проглатывать пищу помогало точно. Ел скорняк быстро, стараясь не смаковать сытную еду, а просто забрасывать ее внутрь, но к концу его трапезы за столом не оказалось никого, кроме Фили и отшельника. Видно, жизнь в мастерской настала трудная, только Файк продолжал торчать на вышке, но не только прилечь – даже присесть себе не позволял и то и дело прикладывал к глазам какую-то штуку навроде двух скрепленных между собой стопок, выточенных из коровьих рогов.
– Ну, – громко кашлянул Филя, чтобы отшельник очнулся и протер глаза. – Пошли, стало быть. Пустой ждет.
Каморка механика находилась в дальнем углу верхнего яруса. Уже дважды поднявшись на крышу, Коркин так и не смог разобраться во внутренностях мастерской, потому как лестница была отгорожена от остальных помещений. Даже проем за воротами, которые теперь, когда лебедка снова заработала, перегораживала опущенная сверху решетка с калиткой, не позволял вглядеться в нутро мастерской из-за занавешивающей его за лестницей ткани. Хотя кто мешал Коркину заглянуть за ткань, когда он умывался у бочки, которая стояла возле двери спальной комнаты как раз между решеткой и занавесью? Теперь же Коркин шел вслед за Филей по узкому коридору третьего яруса, за ним цокал когтями по каменному полу Рук и кряхтел отшельник. Коридор, оставляя доступ к бойницам, шел вдоль наружной стены, а по его внутренней стороне темнели ржавчиной запертые двери.
– Здесь никто не живет, кроме Пустого, – обернулся на немой вопрос Коркина Филя. – Мы тут барахло всякое держим. В основном железки нужные, но в одной комнате глинки с отличным пойлом лежат. Сишеку день и ночь они снятся, уж сколько раз он пытался замок вскрыть, не сосчитать, – все без толку, а тут вот и живет Пустой. Редко кого он к себе зовет, повезло вам… наверное.
Филя распахнул дверь и тут же двинулся обратно по коридору. Коркин зашел внутрь, посторонился, дав войти отшельнику и Руку, и замер. Комнатка механика вовсе не была покрыта дорогими шкурами и заставлена сундуками с монетами. Она показалась скорняку огромной по сравнению с деревенскими бревенчатыми закутками, но сравнительно небольшой для громады мастерской, где-то шагов шесть на шесть. Под потолком висела белая бутылка, которая, как Коркин уже знал, называлась «лампа», но свет падал из бойниц, которых было четыре – по две в двух стенах. Из этих же бойниц дул легкий ветерок, потому как рамы окон открывались точно так же, как двери, а не вынимались из проемов, как в самых богатых избах Квашенки. На полу лежали все те же тростниковые циновки, в дальнем углу стоял обычный топчан, рядом с ним ящик с полками высотой повыше Коркина, который, как скорняк уже знал, в поселке называли «шкаф», и нередкая в деревенских домах круглая железная печка. Посреди комнаты красовался обыкновенный, но тщательно отшлифованный стол. Заканчивала обстановку четверка обычных табуретов. Отшельник прислонился к стене, закряхтел, Рук защелкал, а Коркин огляделся и вдруг понял, что стены и потолок комнаты Пустого не грязные, как ему показалось с первого взгляда, а исписанные. Каждая пядь выбеленных поверхностей была покрыта причудливыми, неровными письменами. Кое-где виднелись какие-то рисунки, значки, но больше всего оказалось букв, чтению которых мать Коркина все-таки успела обучить сына. Правда, буквы на стенах комнаты Пустого были Коркину незнакомы.
«Колдовство, – с трепетом подумал Коркин. – Пустой – колдун. Как я раньше не догадался? Сейчас он будет меня околдовывать. И денег, наверное, не заплатит».
– Проходите. – Вошедший в комнату вслед за гостями Пустой отстранил Коркина, перешагнул через недовольно засвистевшего Рука и быстрым шагом прошел к столу. – Садитесь. Познакомимся и поговорим.
Коркин оглянулся на отшельника, который словно спал на ходу, на Рука, что тут же вперевалочку потрусил за Пустым, и, прихватив старика за плечо, повел того к столу. На табурет тот уже садился сам.
– Поели? – дружелюбно спросил Пустой, и Коркин впервые сумел разглядеть глазастого вблизи. Раньше как-то неловко было в него всматриваться, а теперь он смотрел на скорняка сам. Механик всегда казался Коркину надменным и злым, что, правда, не вязалось с его честностью, но теперь скорняк не смог обнаружить ни надменности, ни злости. Лицо у Пустого было худым, чуть вытянутым, брови сходились над переносицей, точно так же, как поднимались уголки губ, нос был длинноват, хотя и не уродлив, на лоб падала черная челка, выбившаяся из тугого узла длинных волос, и во всем этом облике, особенно в темных внимательных глазах, мешались вместе собранность, легкое утомление, дружелюбие и как будто надежда, но никак не злость и надменность. И еще Коркину почудилась скрытая, но мучительная боль, которую терпел Пустой.
– Поели, – проскрипел отшельник. – Хорошо поели. Даже в сон клонит. С непривычки.
– У тебя оружие под одеждой, – повернулся к отшельнику Пустой. – Клинок. Длина чуть больше локтя. Висит рукоятью вниз.
– Есть такое дело, – удивленно поднял брови отшельник. – Как заметил-то? Однако же нельзя старику без защиты.
– Здесь тебе защита не нужна, – спокойно ответил Пустой. – У меня на теле нет оружия, разве только короткий нож в кармане. У Коркина все оружие – его ящер с острыми зубами. Положи клинок на стол, и мы продолжим разговор. Я не заберу его у тебя.
Отшельник недовольно закряхтел, но руку под драный плащ сунул и непостижимо быстро, так, что Коркин почувствовал мурашки, бегущие между лопатками, выхватил из-под одежды и опустил на стол клинок. Как только Коркин не ощутил железа на теле старика? Ведь пару миль точно протащил его на спине!
Клинок был серым, без точки ржавчины. Рукоять обматывала бечева, на ее конце сиял черным шар.
– Другое дело, – проговорил нешелохнувшийся Пустой. – Теперь можно и посидеть.
– Двадцать монет, – робея, напомнил Коркин. – Двадцать монет за старика. У него два лица, значит, за двоих. Он, правда, прячет второе лицо, но вдруг покажет – тогда будет два. Стало быть – сорок монет. И еще десять, как за что-то интересное.
– И за переноску старика, – добавил Пустой. – Крепкий ты лесовик, Коркин. Или степняк? Отшельник тяжелый. Не голодал он, судя по всему, в лесу. Пять монет устроит? Получается пятьдесят пять. Ну что, Коркин? Рассчитаемся и разбежимся? Отправишься старосте своему должок выплачивать? Только куда? Квашенки нет. Поселка нет. Поселка за Мокренью тоже, скорее всего, нет. Вчера я был в степных деревушках. Они пока есть, но людей в них считай, что нет. Все оседлые степняки сегодня с утра должны уходить в северные леса. Да, почти тысяча миль, но только там есть надежда спастись от орды. В полдень они начнут жечь за собой степь. Куда ты пойдешь, Коркин? Завтра орда будет здесь. В лес? Не думаю, что ее остановят два десятка миль леса между степью, Стылой Моросью, Мокренью и Гарью. Что скажешь?
Ничего не смог сказать Коркин. Ошалел оттого, что Пустой столько слов сразу сказал. Рот открыл, чтобы что-то молвить, так не только нужного ответа не нашел – и мыслей в голове сыскать не смог. Так и щелкнул зубами и посмотрел на Пустого вроде не жалобно, но с понятием – не мучай, мол.
– Ладно, – кивнул Пустой. – Посиди пока. Ружье у тебя хорошее. Завидное ружье. Ящер отличный, лучше любой собаки. Посиди, подумай, откуда пришел, куда идти хочешь, а я пока о себе скажу. Болтать попусту не люблю, но один раз нужно и поговорить, чтобы потом зря языком не молоть. Имени у меня нет, поэтому представиться не смогу. Меня тут все Пустым зовут, зовите и вы так пока. Говорю вам об этом только потому, что так завернулись здешние дела, что держаться лучше вместе. Держать никого не стану, но держаться лучше вместе. Хотя бы пока.
– И где же лучше держаться вместе? – пробормотал вдруг отшельник, который не сводил с Пустого внимательного, вовсе не сонного взгляда.
– Там, – махнул рукой за спину Пустой, и Коркин с дрожью понял, что он говорит о Стылой Мороси.
– И что ты там хочешь найти? – прищурился отшельник.
– Себя, – коротко бросил Пустой. – Ну, может, и еще кое-кого.
– Но ты же здесь, – не понял отшельник.
– Я не знаю, где я, – с невольной гримасой прикрыл глаза Пустой. – Здесь четыре с небольшим моих года, а все остальное – даже не в тумане, а в непроглядной тьме. Здесь – мое умение, которое тьма сохранила мне, да шрамы на теле. Не меньше десятка от пуль, да еще неизвестно от чего на груди. Здесь кое-какие вещи, что остались при мне, когда я вынырнул из тьмы. А там… – Пустой снова махнул рукой за спину. – Там все остальное. Думаю, что там. Потому что там видели девчонку, чей портрет у меня был при себе. Там что-то делают светлые, хотя и не говорят об этом, а я вынес из тьмы их язык, и они здесь явно присматривали за мной. К тому же Стылая Морось не вечна. Ей чуть больше тридцати лет. Мне примерно столько же. Может быть, это случайность, но мы ровесники, так что познакомиться с нею надо поближе. Да и где еще прятаться от орды?
– От орды трудно спрятаться, – непослушными губами прошептал Коркин. – Она как желтый дождь из желтых облаков: воевать бесполезно. Но прятаться надо и пережидать, когда схлынет. Или сразу на колени. А еще лучше горло самому себе вскрыть. Только если тебе туда надо, механик, чего ж ты это дело под орду подвел? Давно мог сходить в Стылую Морось. Я слышал, что сборщики и охотники заходят… на ее окраину.
– Я готовился туда пойти, – кивнул Пустой. – Но тут были светлые. Они что-то знали про меня. Я даже думал, что я тоже светлый. Но скорее всего я не из них. Я знаю и другие языки, пусть даже они вертятся у меня в голове, как дожди без туч. Я пытался получить сведения у светлых. Теперь их нет, и меня ничто не держит.
– Орда так даже подгоняет, – прошелестел Коркин.
– И это тоже, – согласился Пустой. – К тому же о девчонке я узнал всего пару месяцев назад. Хотя пошел бы туда даже и без известий о ней. Я уже переговорил с выжившими лесовиками. Со мной пойдут все. Не все с большим желанием, но все с открытыми глазами. В самое пекло не потащу никого, безопасное местечко сыскать можно и в Стылой Мороси – оставлю там всякого, кто захочет. Вы тоже можете идти со мной. Считайте, что нанимаю вас на службу. Платить буду немного. Так же, как плачу Филиппу: монету в день. К этому добавьте оружие, патроны, которые после окончания похода останутся у каждого, кому я его дам. Еду. Но есть и кое-что кроме денег. Мы будем вместе жить, может быть, вместе умирать. Это все, что я могу обещать. Но я никого не предаю и не обманываю. Если только болтать не люблю попусту.
– Это больше любой платы, – пробурчал отшельник.
– Руку тоже платить будешь по монете в день? – сдвинул брови Коркин.
– Нет, – сдержал усмешку Пустой, – зверю придется довольствоваться едой. Но все его подвиги, если таковые случатся, монетой отмечу.
– Что ж тогда? – Коркин растерянно взъерошил волосы. – Выбора ведь нет у нас никакого?
– Тогда, – Пустой окинул взглядом гостей, – перед тем как продолжить разговор, перед тем как я задам вам какие-то вопросы, можете спросить меня сами.
– Что за отметка? – прищурился отшельник. – Что за отметка у тебя на груди, Пустой?
– Смотри. – Пустой распустил завязки рубахи и открыл мускулистую грудь. В центре грудины красовался круглый шрам. Он напоминал ожог, оставленный чем-то вроде раскаленного среза стальной трубки. В центре белесого кружка красной точкой темнело зарубцевавшееся отверстие.
– Тогда я тоже пустой, – проскрипел отшельник и, поднявшись, распахнул плащ и задрал серую рубаху.
В центре его груди была точно такая же отметина.
– Или полупустой, – опустил рубаху отшельник.
08
К вечеру Филя едва стоял на ногах. К тому же к усталости добавилось смутное раздражение. Он, конечно, привык выполнять распоряжения Пустого беспрекословно и предпочитал не задавать лишних вопросов, но разве не тот же Пустой всегда говорил, что, каким бы делом ни занимался, должен понимать, что делаешь и чего хочешь добиться? Вот с этим-то у Фили никак не складывалось. Вся та ясность, которая у него была в голове до последнего дня, окончательно затуманилась и исчезла. И к собственному раздражению, Филя был уверен, что единственным из оставшихся у Пустого лесовиков, которого беспокоило его будущее, был он один. Все прочие слепо полагались на то, что Пустой вытащит их из любой передряги.
Ну с Сишеком было просто – старик, как всегда, хотел заполучить глинку отборного пойла. Но остальные-то должны были задуматься, что их ждет в Мороси? Хотя чего скрывать, это Пустой всегда смотрел вперед, а весь Поселок жил одним днем. Так и закончил. Чего ж удивляться короткой памяти односельчан? Растрепанный и суетливый Ройнаг прежде всего думал о прощении за сон на вышке, хотя кто там не спал? И как не уснуть, если даже Хантик – старожил Гнилушки – не помнил, чтобы орда добиралась до здешних мест? Саму вышку на крыше мастерской все втихую считали блажью Пустого – другой вопрос, что имел механик право на блажь. Так вот, вовсе не блажью оказались его опасения.
Кто там еще пыхтел, кроме Фили, весь день? Хантик, Рашпик и Файк? Ну Хантик мог пыхтеть и лежа, с него б не убыло. Как к мастерской добежать – первым оказался, а вот поработать когда пришлось, тут же захромал так – хоть костыль ему выдавай. С другой стороны, да отлить на него с его хромотой. Подумаешь! Пусть в подвале корячится. Взялся укладывать барахло – укладывай, а Рашпик с Файком пусть таскают. Эта троица ясно о чем думала. В первую очередь, конечно, в живых остаться, а во вторую – приглядывала, где и что лежит, да запоминала, а может, и припрятывала кое-что по ходу дела. Вот уж, наверное, сборщики локти кусали, что ворота закрыты: никак не набьешь мешочек да не оттащишь в прилесок. Хотя с этих станется и в окошко выбросить что поценнее. Ничего, если что и выбросят, Сишек увидит. На вышку старик лезть отказался, а так-то ходил по крыше, смотрел по сторонам да зубами выстукивал от головной боли. Вот уж кому было все равно, останется он в живых или нет. С глинкой пойла и смерть в стойло. Интересно, почему Пустой приказал перетаскивать глинки с пойлом в последнюю очередь? Боится, что не только Сишек, но и остальные сборщики перепьются? Ну если только Хантик. Впрочем, разве кто-то видел Хантика пьяным?
И что Пустой засел в своей каморке на полдня с этим долговязым Коркиным и стариком? Да еще и зверя этого с собой взяли. Как его зовут-то? Рук? И этого зверя теперь кормить? Неужели никого, кроме самого Фили, не волнует главный вопрос: что будет потом? Что будет после того, как Пустой спрячется и переждет в Мороси эту ордынскую напасть?
Филя вздохнул и полез в карман за потертым листом пластика. Как-то все дальше пойдет? Как сложится? И что будет с механиком, если он и впрямь перестанет быть пустым? Сишек как-то брякнул в редкую минуту просветления, что нечего добра искать от добра. Вот очухался четыре года назад Пустой прозрачным, как лист теневика после желтого дождя, – и все, что потом на этом листе появилось, все было стараниями Сишека и добрых людей положено и закреплено; а ну как, если этот самый лист перевернуть, окажется, что Пустой – убийца и разбойник? Глаз-то у него такой, что в самое нутро острит. Нет, пусть лучше Пустым и остается.
Филя тогда еще спросил у Сишека: а как же талант Пустого? Все говорят, что у Пустого талант к железкам да всяким механическим штуковинам, ну как, к примеру, у Хантика талант к трактирному промыслу: многие пытались, да только у хромого так все пошло, что и порядок держался, и денежка копилась. Сишек тогда долго скреб лоб, морщил курносый, в красных прожилках нос клубеньком, пока не выговорил уверенно: то все от базы. Там же база светлых неподалеку была. Вот от нее вся пакость. Тебя и меня не задевает, потому как у нас голова и так всякой ерундой занята, а Пустой – он и есть пустой. Голова-то у него пустая была. Вот и налезло с этой базы в его голову всякого таланту.
Филе на тот разговор года на два меньше, чем теперь, было. Он долго потом головой тряс, подумывал, как бы так вытрясти из нее всю дурь, чтобы потом подойти к базе да наполнить пустую голову талантом. Понятно, что не вышло ничего, хотя тот же Пустой недолго держал Филю в качестве подавальщика ключей и уборщика – вскоре кое-что поручать стал, а там и вовсе назначил главным помощником, правда, через каждые дней пять перед им же устроенными странными, но приятными выходными требовал с Фили отчета да вдалбливал, вдалбливал ему в голову, чтобы тот не зажрался да в крысу не превратился. Филя поначалу даже в зеркало смотрел, которое Пустой повесил возле душевой, – может, он и вправду постепенно в крысу начинает превращаться? Потом понял.
А с чего все началось? С того, что Филя один-единственный во всем поселке мог по-светлому говорить. Тянуло его к базе – близко не подходил: слышал разговоры, что, когда светлые только появились, когда база эта встала, словно ее с неба опустили, светлые вовсе никого не подпускали туда. Били любопытных молниями. Шарахнет такая – потом месяц будешь заикаться и в штаны ходить. О последнем Филя не сильно беспокоился, потому как штанов у него вовсе не было – так, рубаха до колен, а заикаться – так что с того? Можно было и позаикаться, лишь бы любопытство утолить: кто такие эти светлые, что они делают в своих блестящих домах-коробочках, куда ездят на диковинной восьмиколесной машине, почему никогда не едят – съестным-то ведь точно никогда не пахло от их базы. Вот и бродил Филя вокруг диковинных коробок да под ноги смотрел – когда и отыскать что удавалось, когда и светлого увидеть. А уж если кто из них говорить что начинал, Филя тут же каждый звук на язык клал. Укладывал и перекатывал его вдоль зубов, пропасть раз повторял, словно заклинание какое, думал, что сам светлым станет, если все, как они, делать будет. Год почти так ходил, даже зимой, когда ноги тряпьем перематывать приходилось. Отощал, как пес шелудивый сделался, но тут и начал понимать кое-какие слова. Посчитал потом, когда Пустой первый раз на Филю глаз положил, что уже двести слов знает. Пустой тогда еще только затевал стройку, пойло у Сишека делал. Увидел в ладони Фили гайку-семиклинку и вымолвил на ломаном еще тогда прилесном:
– Где взял?
А Филя возьми и ответь Пустому по-светлому:
– У базы. Где взял, там больше нет.
Тут-то Пустой глазищи свои и вытаращил. А то он раньше не замечал Филю, когда и сам ходил к базе и пытался говорить со светлыми. Неохотно они его привечали – смотрели как на приблуду какую паршивую. Это потом уже Пустой в доверие к ним вошел, когда кондиционер им отладил, топливохранилище отстроил.
– Откуда язык знаешь? – спросил.
– Выучил, – пробурчал Филя и перешел на привычный, прилесный: – Мало пока выучил. Двести слов всего. Ходил, смотрел, слушал. Думал. Запоминал.
– Зачем учил? – нахмурился Пустой.
– Интересно же, – пожал плечами Филя.
Тут его поганая жизнь и закончилась. Уже тем же вечером Филя получил новые штаны, имя Фил, которое вскоре выросло до Филиппа, и был определен на постой к Сишеку как помощник и приятель Пустого. А теперь все его благополучие, кажется, шло прахом.
Филя расправил скомканный листок пластика и вгляделся в ровные строчки, выведенные Пустым. Тот мог писать и по-прилесному, и по-светлому, и еще как-то, чего Филя прочитать не мог и как были исписаны потолок и стены в комнате Пустого. Правда, по-прилесному механик писал редко. На всю деревню грамоте был обучен только Хантик да сам Филя – и то нахватался в последний год. Сборщики частенько приносили Пустому древние пластики с текстами. Платил он по монетке за лист, доплачивал сверху, чтобы не рвали листки на части, а сдавали целиком, но большого интереса не проявлял, даже морщился для вида. Зато уж потом, когда сборщики уходили, именно листки с буквами были у Пустого на первом месте. Филя, конечно, тоже стал листки теребить, да Пустой признался помощнику – мол, не знает, что посоветовать тому насчет грамоты. Языков, судя по всему, в старые времена в ходу хватало, оттого и буквы на листках разнились, а те листки, что совпадали с нынешним наречием, свидетельствовали о серьезных переменах в нынешнем прилесном говоре. Пустой так и сказал: «свидетельствовали». Филя тут же запомнил заковыристое слово, а для себя решил, что все равно будет учить алфавит собственного языка да разбирать листки, написанные на нем, а что непонятно, сверять у того же Хантика. Но прежде всего Филя взялся за язык светлых, тем более что и буквицы у них были проще, и слова он уже знал, да и листки, что Пустой приносил с базы, приятно было взять в руки. Вот и теперь Филя разбирал наставления механика на языке светлых и думал, что неплохо было бы поучить и тот язык, словами на котором Пустой пачкал стены.
На листке был выписан список имущества, которое следовало погрузить в машину светлых. Филя, конечно, сильно сомневался, что светлые всерьез поручили Пустому доставить их машину в Морось, – думал, что обязательно прилетят за ней или появятся из той пустоты, в которую они обратились, но думы думами, а указания Пустого следовало выполнять, и выполнять строго и по пунктам. Боеприпасы и запасы пищи Филя в специальные отсеки загрузил. Полноту баков и запасных канистр проверил, хотя опять же не понял, зачем им такой запас. Нужные запчасти и инструменты взял тоже, но, когда добрался до таких пунктов, как веревки, топоры, фольга, жесть, кислота в пластиковых бутылях, провода, лопаты, молотки, ключи, гвозди и винты, понял, что и во вторую ночь ему вряд ли удастся поспать больше пары часов. По всему выходило, что Пустой собрался строить мастерскую на новом месте, только никакого нового места ни вблизи, ни вдали Филя не знал, да и всерьез сомневался, что сможет уместить требуемое Пустым имущество в большой, но не безразмерной машине. Вдобавок в салоне должны были расположиться, считая самого Пустого и Филю, десять лесовиков, конечно, если причислять к последним Коркиного зверя. Кстати, что-то они задержались в комнате у Пустого!
– Все. – В кладовую вошел Ройнаг, вытер со лба пот и окинул взглядом стеллажи, заваленные разным товаром, который сделал бы любого из жителей бывшей Гнилушки богачом. – Со второго яруса все перетащили. Хантик уже на обе ноги хромает. Сишек просил, когда глинки с пойлом будем носить, чтобы его позвали. А что? – Ройнаг выпрямился. – Я готов его подменить. Больше не усну!
– Глинки носить пока не будем, – отрезал Филя, опуская в ящик моток веревки. – А как будем, и без Сишека обойдемся. Сейчас на третьем ярусе начинайте с крайнего левого склада. Там гайки, болты, гвозди, мотки провода и прочее. Передай Хантику, чтобы все складывал аккуратно. Стеллажей в подвале предостаточно. Потом я открою второй склад. Там все запасы еды – для них стеллажи отдельно отмечены. Хантик знает. Надо еще за ночь снять лебедки, ветряк, станцию, топливо, баки для воды.
– Станцию? – разинул рот Ройнаг. – Да она не пролезет в подвал. И тяжелая она, сволочь.
– Разберем, – вздохнул Филя. – Вся ночь впереди.
– Филя, – Ройнаг поморщился, – зачем мы все это таскаем? Нет, я понимаю, что орда идет, так что ты думаешь, ордынцы не доберутся до подвала?
– Когда-нибудь, может быть, и доберутся, – кивнул Филя. – Только подвал-то глубиной в двадцать локтей. Так?
– Так, – согласился Ройнаг.
– И лестница над ним локтей в пятнадцать, так?
– Ага! – хмыкнул Ройнаг. – Только охота была ноги на лестнице ломать. Мы почти все в шахту опускаем. Цепляем мешок – лебедка работает. А внизу Хантик да Рашпик справляются. Проходы там, правда, узковаты. Толстый брюхом да задницей все углы посшибал. Изнылся весь.
– Все равно, – махнул рукой Филя. – Как закончите, заварим шахту на всех отводах, лестницу внизу и на марше запрем, а верхние люки тоже заварим. Еще и песок пустим.
– А как же открывать потом? – не понял Ройнаг.
– Зачем открывать-то? – удивился Филя.
– Мы что, – Ройнаг нахмурился, неуверенно махнул рукой в сторону запада, – навсегда туда идем?
– Не знаю, – признался Филя и тут же добавил: – Но если вы не поторопитесь, мы и уйти не успеем.
Ройнаг побежал вниз, а Филя осторожно положил в ящик связку свечей и пару мотков стального тросика. Нет, точно Пустой собрался что-то строить в Мороси. Но почему тогда столько важного оставляет в подвале, а берет какие-то сомнительные вещи? Филя покачал головой и вновь обратился к листку. Все-таки жаль, что не оказался Филя в свое время с пустой головой возле базы. Потому и понять Пустого теперь не может. Конечно, если механик что-то затеял, сомневаться можно было, но только быстро и аккуратно выполняя его указания. Просто так набивать богатством странное помещение, которое Пустой почему-то называл «бомбоубежище», механик бы не стал. Мальчишка бросил в ящик кирку и перевернул листок. В конце него было написано более крупными буквами:
«Филипп! Четыре больших ящика, которые я закрепил на крыше вездехода, набей лучшими глинками с самым крепким пойлом да переложи соломой, чтобы не побились. Потом закрой на замки, да еще забей гвоздями. Затем приготовь малый резак – когда все заварим, возьмем его с собой. Большой залей маслом, упакуй в пленку и вместе с канистрой топлива отвези в тайник, что в прилеске в двух сотнях шагов. Ты знаешь. Повезешь, как стемнеет, на тележке с широкими колесами, следа на проволочнике она не оставит и не застрянет. Сишек тебя в темноте не разглядит, да и не услышит. Он глуховат».
Внизу было приписано мелко:
«Вдруг придется возвращаться – как попадем в подвал? Листок сожги».
09
Солнце еще только начинало подкрашивать край небосвода, а Пустой уже вывел машину, которую он называл вездеход, из мастерской. Тут бы Коркину и рассмотреть ее вблизи, понюхать огромные, похожие на панцири лесных черепах колеса, потрогать серые, покатые борта, заглянуть в круглые окна, но осмотр чуда опять пришлось отложить. Рук уже сидел внутри вездехода, прижавшись к ногам отшельника, и весело свистел Коркину, которого успокаивало лишь одно: стоило ему подойти к старику, как ящер тут же возвращался к прежнему хозяину. Середину отсека вездехода занимали сундуки или, как говорил Пустой, ящики, которые были притянуты стальными лентами к скобам в полу, но места хватало и для ног, и для мешков, к тому же Сишек заботливо укрыл те же ящики толстым войлоком. Филя вымотался окончательно. Замученный хлопотами мальчишка через пару часов после полуночи уснул на ходу и едва не свалился с лестницы и разбил бы себе голову, если бы не отшельник. Старик поймал Филю на руки так мягко, что тот даже не проснулся. Коркин после этого обиделся на отшельника: еще бы, две мили его на себе тащил, хотя сам мог на отшельника взгромоздиться. А Филя как всхрапнул в полете, так и продолжал похрапывать. Файк с Рашпиком так и погрузили его в вездеход спящим. Пустой вышел из мастерской с резаком на плече предпоследним, поднял голову и крикнул Ройнагу, который сменил на крыше Сишека:
– Пошел дым?
Дым с северо-востока шел еще со вчерашнего полудня. Народ степных сел уходил к северу и жег за собой степь. Теперь же Пустой ждал дымов со стороны брошенных жилищ – как сигнала о подходе орды.
– Только-только! – заорал Ройнаг, почти свесившись над краем крыши со все той же чудной штукой возле глаз, которую, как успел уяснить Коркин, следовало называть биноклем. – Дальние села занялись. Скоро и до ближних доберутся.
– Доберутся, а там никого нет, – хихикнул Сишек, который, судя по всему, каким-то чудом все-таки сумел хлебнуть крепкого пойла. – Вот обозлятся.
– Быстро вниз! – крикнул Ройнагу Пустой и уже через минуту приложил резак к двери. Засверкал луч, зашипели, потекли капли металла. Коркин, который еще вчера на всякую мелочь смотрел как на чудо, теперь вглядывался в действия Пустого с интересом. Потом завертел головой, как вертел ею каждые пять минут долгие годы в родных местах. На горизонте поднимались едва различимые дымы.
– Зачем они так? – пробормотал недоуменно скорняк. – Почему жгут, почему убивают? В наших краях была маленькая орда – так редко кого убивала. Могли женщину забрать, еще что, но убивать… Даже поговорка такая была у разбойников: съел последнюю корову – забудь вкус сыра.
– Всех по себе меряют, – буркнул, залезая в вездеход, Ройнаг. – Я их язык знаю немного, побродил тут, за Мокрень заглядывал. Не так, как Файк, но знаю. Ну у Файка напарник был из ордынских, Морось его пожрала, да он и сам из ордынцев. Так ведь, Файк? Попадаются иногда в здешних местах выходцы с востока. Те, которым и самим невмоготу вся эта пакость стала. Или те, кого свои же наказали: уши отрезали, нос, еще что, да отпустили подыхать в степь. Так вот они все говорили, что ордынцы всех по себе меряют. А мерка-то простая: оставишь хоть полростка в чужом доме, хоть семечко неподрубленное – вырастет из него твой враг пуще того, что ты рубил, не перерубил. Вот ты знал того ордынца, что пристрелил?
– Знал, – кивнул Коркин. – Он убивал меня, я чудом выжил.
– Ну вот, – пожал плечами Ройнаг. – Он тебя не добил – тем и поплатился.
– Так что, ничего поделать с этой ордой нельзя? – скорчил гримасу толстяк Рашпик.
– Жизнь покажет, – коротко бросил Пустой, сунул резак под сиденье и, ударив Коркина по плечу, махнул в сторону кабины: – Садись, Коркин, справа от меня. И приглядывайся, как я вездеходом управляю: вдруг пригодится.
Коркин оторопел, замешкался, но тут же собрался и бросился к передней двери. Дверь плавно защелкнулась за ним, подобрались и лепестки задних дверей. Пустой занял место в центре кабины, слева от него похрапывал Филя. Справа возле кресла, в которое с трепетом опустился Коркин, стояло ружье скорняка.
– Хорошее у тебя ружье, – сказал Пустой и включил что-то перед собой, отчего весь черный скос от толстых стекол до его рук засверкал огнями. – Я подправил кое-что в нем. Теперь гильзы не будут оставаться в патроннике. Магазин рассчитан на пять штук, больше не пихай: пружину заклинит. С чисткой и без меня справишься. Без ружья никуда. И таскать его за тебя никто не будет. Запасные магазины в подсумке. В желтых – мелкая картечь. В красных – вязаная. В черных – пули. Большие надежды у меня на твое ружье, Коркин. И на тебя. Ты уж не подведи нас, приятель.
Пустой смахнул со лба непослушную черную прядь, положил руки на торчащее у его ног из панели колесо и что-то нажал ногами на полу. Вездеход заурчал, шевельнулся, рассекая утреннюю мглу, выбросил вперед полосы яркого света и медленно двинулся вперед, разворачиваясь на месте и направляясь в сторону узкой просеки в лесу, по которой, по словам того же Фили, светлые ездили осматривать границу Стылой Мороси.
– Двинулись! – восторженно заорали лесовики за спиной Коркина.
– Тихо, – обернулся Пустой и что-то еще нажал на панели перед собой. Свет погас, стекла вездехода потемнели, а прямо за колесом, которое Пустой придерживал одной рукой, высветился овал, в котором Коркин тут же узнал дорогу. Только теперь она не была освещена ярким светом, а словно светилась сама.
– Так-то будет лучше, – кивнул Пустой.
И в то же мгновение позади раздался страшный грохот. В ушах у Коркина зазвенело. Скорняк дернул головой вправо, ударился виском о стекло, уставился на Пустого.
Механик, остановив машину, рассматривал членов своего отряда. Вглядывался в каждого, не упустив никого. Морщился, словно в голове у него что-то взорвалось секунду назад. Только взглянув каждому в глаза, открыл двери и встал на подножку. Коркин высунул голову наружу. Мастерской больше не было. Остался только первый этаж, а все, что находилось выше, представляло собой груду обломков, обрушившихся меж устоявших стальных балок, которые теперь оказались без перекрытий. В светлеющее небо поползли первые клубы дыма, над развалинами взметнулись языки пламени.
– Сколько добра пропало! – завопил мигом протрезвевший Сишек.
– Завалило, а не пропало, – закашлялся Хантик.
– Что это? – пробурчал проснувшийся Филя, обернулся, вскочил на подножку. – Что это?!
– Бабахнуло, – ощупывал уши Хантик. – Считая базу, во второй раз бабахнуло!
– Может, и не во второй, – процедил сквозь зубы Пустой.
Механик проговорил с Коркиным и отшельником половину дня. Филя пару раз всовывал в дверь озабоченную физиономию, но Пустой холодно отсылал его прочь. После того как отшельник показал Пустому шрам, тот замер, посидел минуту-другую с закрытыми глазами, но, вместо того чтобы спрашивать о чем-то гостей, вновь заговорил сам. Медленно и глуховато:
– Как вы знаете, вся эта земля называется Разгон. От горизонта и до другого горизонта, если идти, идти и идти и никуда не сворачивать, пока не упрешься в заднюю стенку собственного дома, если ты уходил от передней стены. Я не знаю точно, верны ли старые карты, но, судя по всему, та часть суши, на которой мы находимся, велика. В какую сторону ни пойди, будешь добираться до ближайшего моря не меньше месяца. А к примеру, на восток – и года не хватит. Я не знаю точно, какие теперь народы живут в Разгоне, но все те, кого я встречал, называют себя людьми и мне кажутся людьми, хотя что я могу сказать, если память моя коротка? По крайней мере, я почти такой же, как и любой лесовик, разве только чуть выше, чуть тоньше в кости, да глаз у меня шире, чем у прочих, но и таких, как я, отыскать несложно. Возьмите хотя бы Сишека – явно в молодости глазастым был, пока от пойла не заплыл. То же самое могу сказать и о светлых. Они тоже не слишком отличаются от лесовиков или степняков и еще меньше отличаются от меня, но их глаза чуть шире расставлены, скулы приподняты, лбы чуть более округлы, но, с другой стороны, лбы степняков еще более чудны, чем у всех прочих. В Разгоне жили и живут люди. Они разные, но они все люди. Все они могут создавать семьи и рожать детей. Все это я нашел в тех текстах, что доставали для меня сборщики, узнал у тех редких стариков, что сохранили память и знания, если они у них были. Но никто из них не мог сказать мне, что теперь творится на просторах Разгона. Никто из них не мог сказать мне, что происходит с другой стороны планеты или даже через тысячу миль в любую сторону. Разгон погружен во тьму.
Пустой замолчал, а Коркин подумал, что вряд ли можно прийти к дому с другой стороны, если очень долго идти и идти в одну сторону. Мать, конечно, говорила ему, что земля, на которой он живет, подобна чешуйке на спине степного броненосца, который сворачивается в шар, едва завидит опасность, но ведь есть еще и моря? По ним Пустой тоже собирается ходить или без лодки никак не обойтись? И как же с тьмой, в которую вроде бы погружен Разгон? Солнце пока что всходит там, где ему положено, и не спешит, не опаздывает ни на минуту.
– А когда-то Разгон погрузился во тьму и наяву, – продолжил рассказывать Пустой. – Много лет назад, когда на этой земле были и города, и большие села, и фонари горели не только на базе светлых и в нашем Поселке, а у каждого дома, началась война. Не такая, какая бывает, когда идет орда. Страшнее, много страшнее. Война, в которой гибли не тысячи людей, и даже не миллионы, а гибли почти все поголовно. Она терзала этот мир долго. Годы шли боевые действия, затем на годы над миром опускалась ночь, потому что лучи светила не могли проникнуть сквозь поднявшиеся тучи пепла. Потом, когда затянувшаяся зима отпускала землю, вновь начиналась война. Вот… – Пустой махнул рукой в сторону. – Гарь тому свидетельство. Некоторые части этого мира были выжжены так сильно, что не ожили и до сих пор. Но все закончилось. Или нечем уже стало воевать. Или некому. Разгон забыл о том, чем он был. Города превратились в села и деревеньки, которые населяли потомки выживших. Среди них было много несчастных, страдающих различными врожденными уродствами, но они выживали хуже прочих, да и их гнали прочь, родители старались избавиться от калек. Так или иначе, жизнь продолжалась. Понемногу все начало налаживаться. В деревеньках появились старосты, священники, в селах вожаки или ватажники. История, судя по тем листкам, что мне удалось прочитать, начала повторяться. Но примерно тридцать – тридцать пять лет назад пришла Стылая Морось.
Пустой замолчал, а Коркин оглянулся на прикрывшего глаза седого отшельника, который все еще не показывал второго лица, на раскинувшего лапы и вытянувшегося по полу Рука – и вспомнил рассказ матери. Когда пришла Стылая Морось, ей было тринадцать. Она жила в доме вместе с Коркиным дедом, бабкой и двумя его дядьями – ее братьями, которые были старше ее. Тогда об орде еще и не слышали. Ни о большой, ни о малой. По степи бродили ватажники, которые раз в три месяца забирали у каждой семьи десятую часть от всего. Женщин не трогали, но звали в ватагу братьев. Дед не пускал их. Но старший однажды ушел сам. Ушел и словно пропал. А потом случилось страшное. Как-то рано утром небо на западе посветлело. Не так, как бывает в знойный летний полдень, и не так, как бывает зимой, когда степь покрывает снег и небо кажется белым. Оно словно исчезло. Матери показалось, что там, у горизонта, открылась бездна. Она не была ни черной, ни белой. Она вообще не была.
Мать замерла в оцепенении, а дед выскочил на улицу с ружьем, поднес его к плечу и замер, словно оттуда, с запада, должен был прибежать страшный огромный зверь. А через несколько минут бездна исчезла. Горизонт помутнел, вдалеке заклубились тучи и поползли на восток. Они ползли три дня, пока не закрыли все небо от горизонта до горизонта. И все это время над степью не было даже слабого ветерка. А потом началась морось. Дождь не шел, но все становилось липким. Таким липким, словно с неба летела невидимая паутина. Она ложилась на лицо, на руки, на одежду, на траву. Коровы переставали пастись, на воде появлялась пленка, словно кто-то плеснул в источник грязного топленого сала. И пришел страх. Он таился в каждой тени, в каждой ложбине. Неделю вся семья сидела под крышей. Бабка Коркина молилась, дед вместе со вторым сыном поил коров из колодца и скармливал им то сено, что было приготовлено на зиму, а мать Коркина стояла дозором на стене дома и смотрела во мглу. Все кончилось через неделю. Что-то произошло на западе. Она так и не поняла что, но оттуда поползли нормальные тучи и поднялся ветер. Потом хлынул дождь, который зарядил на неделю и все-таки смыл всю эту липкость и весь страх, а когда дождь кончился, на ближнем холме показался старший брат матери Коркина. Он был испуган и вымотан. Одежда на его плечах расползлась, лопнула по швам. Рукава и грудь брата были вымазаны в крови. Дед вместе с младшим сыном побежали ему навстречу, обняли и привели в дом. Он не мог говорить, только трясся и шептал что-то неразличимое, похожее на слова: «Не я, не я, не я». Бабка раздела его и подозвала деда. На теле старшего сына не нашлось ни одной раны. Дед наклонился над ним и, встряхнув его за плечи, потребовал объяснений. И тут старший брат матери Коркина изменился. Лицо его расплавилось, превратилось в маску. Руки и плечи набухли, как у брошенного в степи трупа, а пальцы превратились в когти, которые пронзили деда насквозь. Бабка закричала, но ее крик оборвался в ту же минуту. Мать метнулась к выходу и осталась жива только потому, что зверь, в которого превратился ее брат, занялся ее вторым братом. Когда зверь вышел из дома, она стояла на стене и сжимала ружье. Зверь засмеялся, как человек, и пошел на нее. И она выстрелила. Один раз. Истратила один патрон из обоймы, в которой всего было пять. Выстрел снес зверю голову. Но на землю упало тело брата.
– Тридцать пять лет назад, – повторил Пустой. – Но кое-кто из стариков говорил, что за год или за два до Стылой Мороси пришли аху. Они были похожи на людей. Скорее всего, они и были людьми, но каким-то дальним, неизвестным народом. Никто не знает, откуда они пришли. У них была смуглая кожа. Узкие подбородки. Широкие скулы. Большие глаза. Чуть выдающиеся вперед лбы. Они были добры, нанимали на работу лесовиков. А потом вроде бы исчезли. Нанятые ими лесовики что-то строили там, – Пустой махнул рукой в сторону Стылой Мороси, – но их стройка, похоже, закончилась бедой. Той самой бедой. Именно аху сотворили Стылую Морось. Или распахнули для нее ворота. Так мне кажется. Потом, когда началась Стылая Морось, аху вновь появились, они мелькали среди людей. Они бежали прочь так же, как и все те, кому удалось выбраться живыми оттуда. Их убивали, потому что уже тогда многие считали, что именно они принесли беду на эту землю, и аху быстро исчезли. Растворились. Среди лесовиков ходили слухи, что аху могут обращаться деревьями, зверями, даже обычными людьми. Но мы, может быть, не узнали бы ничего ни об аху, ни о Стылой Мороси, если бы не светлые. Они появились здесь уже после того, как случилась беда. Никто не может сказать когда. Два года назад я успел переговорить перед его смертью с одним лесовиком, который был свидетелем начала Стылой Мороси. Он рассказал, что, когда небо исчезло и наступила тишина, а потом все вокруг покрылось невидимой паутиной, мимо их дома бежали все – и звери, и птицы, и гады, и люди, и аху, которые бросили и свои машины, и оружие там, на западе, а потом начался ужас. Беспричинный, невыносимый ужас, для описания которого у старика не нашлось слов. Он не помнил, что было потом. Он не помнил, сколько прошло дней. Может быть, лет. Он сказал, что восходы и заходы солнца мелькали для него, как взмахи крыльев птицы. Он видел чудовищ и был уверен, что пожран ими, и пожран не один раз. Он пришел в себя там. – Пустой вновь махнул рукой в сторону Стылой Мороси. – Там, на границе. Он не помнил, как он туда попал. Тогда еще не было ограды. Ее строили неизвестные. Старик говорил, что вокруг была все та же паутина, но уже слабее. И ужас был чуть слабее. Он рвал сердце, но не лишал сознания. Через лес ползли странные машины, которые все сжигали перед собой. И были эти неизвестные людьми, которых потом назвали светлыми. Они появлялись из ниоткуда и исчезали в никуда. Наверное, точно так же, как тогда, на нашей крыше. Они строили ограждение. Они запирали Стылую Морось в ее границах. И они заперли ее. И постепенно ужас за ее границами рассеялся.
– Но как они определили, где граница? – хрипло спросил Коркин. – Ужас был везде. За сотни миль отсюда моя мать испытала его сполна!
– Границей стала линия, за которой машины переставали их слушаться, – ответил Пустой. – Это все, что мне удалось узнать у светлых. Они не слишком охотно идут на контакт. Они ничего не смогли сделать с Моросью и, судя по всему, очень уязвлены этим. Их исследования прекращены. Думаю, только поэтому они обратились ко мне. Для них это просто забава. Забава от бессилия. Не верю, что их слишком уж занимает возможность сделать так, чтобы их машина обходилась без электроники. То есть без той силы, что освещает… освещала улицы Поселка. Они могли бы справиться с этим и без меня.
Пустой помолчал недолго, посмотрел в окно.
– Светлые замкнули Стылую Морось в кольцо. Якобы обнаружили, что металлический экран позволяет исключить… помехи в работе их аппаратуры, и окружили Стылую Морось экранирующим кольцом. Оградой. За ней светлые бессильны. Их машины не действуют там и теперь. Или действуют не везде. Хотя краем уха я иногда улавливал их разговоры между собой. Они обсуждали глаз Стылой Мороси, ее центр, где все иначе… Там у них база, туда, получается, я должен отогнать вездеход. Впрочем, я не уверен ни в их словах, ни даже в силе их ограды. Думаю, что та пакость, что угнездилась за нею, просто сама по себе осела в собственных границах. А ограда – это так. Баловство.
– А откуда взялись светлые? – нарушил затянувшееся молчание Коркин.
– Не знаю, – качнул головой Пустой.
– Ничего не смогли сделать с Моросью? – с усмешкой протянул отшельник. – А побороться с зимой они не пробовали? А солнце остановить в зените? Я не горю желанием отправиться в Стылую Морось. Я не помню своего детства и юности, но то, что помню, хочу забыть. Я был там. И бежал оттуда вместе с прочими. И для меня это бегство затянулось на ужасные годы, которые промелькнули, как взмахи крыльев. Только здесь это была паутина, а там это была стена. И сквозь эту стену на нас глядели страшные призраки. К счастью, для меня самое страшное осталось только сном. Но мне достаточно и сна. Нет, я больше не хочу туда.
– Я и не зову туда никого, – пожал плечами Пустой. – Но сам я пойду туда. Хотя тебя, Коркин, просил бы пойти со мной. Те сборщики и охотники, что отваживаются прогуляться по окраинам Мороси, говорят, что такое ружье, как у тебя, многим бы из погибших в Мороси спасло жизнь. Там трудно.
– Зачем тебе туда, механик? – робея, спросил Коркин. – А если ты не найдешь той девчонки, не избавишься от собственной пустоты? Я слышал, что страшная Морось поделена еще более страшными пленками, как стенами, на кольца, и через их границы не всякий человек может пройти и остаться живым. Я знаю, что завтра придет орда, но в Мороси может оказаться еще труднее, еще хуже, чем под клинками орды. У тебя есть эта машина. Ты мог бы уйти через Гарь. Уйти на север, куда ушли селяне. Зачем тебе Морось? Забудь ты о светлых, они мне не понравились. Им нельзя верить.
– Через Гарь уйти нельзя, – задумался Пустой. – Ближе к ее центру земля отравлена так сильно, что даже теперь, через много лет, появиться там – значит умереть. Даже светлые проводили ограду через Гарь только машинами без людей, хотя их ограда не задевала центра Гари. Можно уйти на север, но нельзя уйти от судьбы. Но дело даже не в этом. Там, в Мороси, – не просто часть меня. Я как-то связан с этой бедой. Не только тем, что там прячется или живет загадочный для меня человек. Не могу объяснить как, но связан. Мне тоже не нравятся светлые. Они относятся ко всем чужим как к мусору, как к крысам. И, даже обратившись ко мне за помощью, вели себя так, будто делают мне одолжение.
– Еще бы не одолжение, – закашлялся старик. – Считай, подарили машину! Дали покататься.
– Оставили, – нахмурился Пустой, – но могут забрать ее в любую минуту. Но для нас она очень кстати.
– И ты надеешься, что ее не заберут? – скривил губы старик. – Послушай, хозяин, а обеды в твоем доме такие же вкусные, как и завтраки?
– Увидишь, – прикрыл на мгновение глаза Пустой. – Если захочешь. Светлые не заберут машину. Думаю, что они рассчитывают, что я воспользуюсь ею. Светлые ничего не делают просто так. Я нашел в машине приборы, которые записывают все, что будет происходить в ее кабине, в ее салоне и на ее панели. И они были надежно экранированы. Думаю, что даже от действия Мороси.
– Как это… записывают? – не понял Коркин.
– Я покажу после, – ответил Пустой и посмотрел на старика. – Если твой отшельник и в самом деле откажется идти в Морось.
– Чего я там забыл? – сморщил нос старик. – Я спрячусь в свою нору и переживу еще десять таких орд. Валенок, по крайней мере, Коркин мне надарил на пять лет вперед. Ты лучше скажи, Пустой, чего тебе там все-таки нужно? Я ж ведь тоже, считай, беспамятный, но меня туда никакие посулы вернуть память не затянут. Я и так-то живу, словно из обморока вычухиваюсь. А девчонка? Что тебе девчонка, о которой ты ничего не помнишь? А вдруг она случайная девка с отвратительным характером? Вдруг ты нашел ее картинку на помойке? Ветром ее туда принесло! Ты тут, Пустой, как пес в мясной лавке – сдается мне, что ты и в любом другом месте такую же мастерскую возвел бы. Может быть, пройти тебе по краешку Мороси, да на другую сторону, и там в тихом месте… Ну не за бабой же идти в самое пекло!
– За бабой? – задумался Пустой. – За девчонкой, отшельник. Хотя она могла бы уже стать и… бабой. Я не знаю, может быть, у нее и в самом деле отвратительный характер и картинка ее у меня случайно. Вот скажи мне, Коркин, ты ведь беспамятством не страдаешь. У тебя девчонка есть? Или была?
– Сестра была, – замялся Коркин. – Нет ее. Орда ее увела и погубила, скорее всего. Давно.
– А будь она жива? – безжалостно уставился ему в глаза Пустой. – Будь она жива и знай ты, что она там? Ладно, не скрипи зубами. Я вижу, легко тебе, – повернулся он к отшельнику. – Легко тебе не помнить. А мне трудно.
Он поднялся, пошел к ящику, на котором лежали войлочный сверток и странный мешок, покрытый карманами и застежками.
– Вот, – повел рукой вокруг себя Пустой, остановившись посредине комнаты. – Ты, отшельник, не хочешь прошлого вспоминать, а для меня оно словно часть меня. Оно – мой скелет, которого я не вижу, но чувствую. Я свое прошлое из памяти своей мертвой по крупицам выцарапываю. Исписал все стены. Записывал все слова, что приходили мне в голову. Все, что всплывало у меня в голове на том языке, которого никто не знает, кроме меня. Но все эти слова словно камни, из которых был когда-то построен дом. Тот, кто его не видел, никогда его не восстановит, а я не могу вспомнить, как он выглядел. Правда, одно слово знают и здесь. Бирту!
Пустой ткнул пальцем в слово, выделенное темной рамкой.
– Это там. Почти в центре Мороси. Никто не видел этого места, много лет уже не видел, но многие говорят о нем. И я что-то должен знать об этом месте, если я помню это слово. А вот видение, которое преследует меня ночами.
Пустой коснулся рисунка на стене, и Коркин приподнялся, чтобы рассмотреть его. Там был грубо обозначен контур, силуэт странного человека. Плечи его были не просто широки, а раздуты, а кисти чудовищных рук обращены в свисающие до колен клинки. Задрожал Коркин, как рассмотрел рисунок. Лоб его покрылся бисером пота, руки затряслись, хрип забурлил в горле.
– Я иду с тобой, Пустой, – чужим голосом произнес скорняк. – Такая же тварь убила, еще до моего рождения убила всю мою семью. Всех, кроме матери. Она и пристрелила ее из этого ружья! Но она… – Пустой нервно сглотнул. – Эта тварь была как болезнь. Она пришла в теле моего дяди и оставила это тело, когда он был убит.
– Все как в густом тумане, – скрипнул зубами Пустой. – Не вижу почти ничего, только случайные черты, звуки, запахи. Но у меня есть не только слова и видения. Кое-что было у меня при себе, когда меня нашел Сишек. Не только картинка. И кое-что, отшельник, я хотел бы показать именно тебе.
Пустой подхватил мешок, сверток, положил все это на стол. Распустил шнуровку, рывком расправил горловину.
– Вот. – На стол лег кусочек пластика. – У меня есть довольно много предметов из моего прошлого, но я покажу самое важное.
Коркин потянулся к пластику, перевернул его. С исцарапанной, потертой картинки на него смотрела девчонка. Светловолосая, задорная, красивая.
– Вот она какая? – протянул старик. – На дочь непохожа. Нет ни одной твоей черты, Пустой. Но хороша. Глазастая! Говоришь, что она в Мороси?
– Надеюсь, – убрал картинку Пустой. – Один сборщик видел ее у старика, что живет на окраине Мороси. Она повзрослела, но все еще похожа сама на себя. Такую не спутаешь, как он сам сказал. Так что, – механик повернулся к отшельнику, – в Морось не только ходят, там и живут.
– Это все? – с ухмылкой спросил отшельник.
– Нет, – убрал картинку Пустой. – Но сначала я покажу еще кое-что. Это я нашел здесь. Вчера ночью. На базе светлых. Вот, Коркин это видел. Если, конечно, способен был видеть что-то после резни в Поселке.
Пустой положил на стол яркий лист пластика. Коркин нервно сглотнул. Это тоже была картинка с изображением женщины, но женщины взрослой, лет двадцати – двадцати трех. Она была совершенна. Коркин не так часто видел женщин, но он сразу понял, что перед ним красавица. Даже на картинке она казалась притягательной и зовущей. Вдобавок она была почти обнажена. Восхитительное тело обволакивала полупрозрачная сетка.
– Светлая? – удивился отшельник.
– Не знаю, – спрятал картинку Пустой. – Я не успел спросить об этом, картинка была обнаружена уже после того, как светлые исчезли. Там есть и еще… похожие. Но она была только на одной. Я не знаю, как ее зовут, но я ее знаю. Я определенно был с нею знаком. Раньше знаком – до того, как потерял память.
– Да, – зевнул отшельник. – Достаточная причина, чтобы лезть в кучу дерьма. Будь я помоложе, тоже полез бы. За такой можно. Только как связать вторую картинку и Морось?
– Светлые занимаются Моросью, – уверенно сказал Пустой. – В центре Мороси у них база. Это совершенно точно. Они меня туда позвали. Не уверен, что я отгоню туда машину, но сам я туда доберусь точно. И если они мне не ответили здесь, ответят там.
– Ответят, – хмыкнул отшельник. – Так ответят, что не унесешь. Дергают они тебя, как мне кажется, за ниточки. Ну чисто как рыбак над ручьем вешает червяка и дергает за бечеву, чтобы крупная рыба прыгнула за лакомством и на крючок насадилась. А может, ты и есть рыба, Пустой? А эта, на картинке, что ты спрятал, – червячок. А?
– Как тебя зовут? – спросил старика Пустой.
– Я не помню имени, – развел тот руками. – Коркин зовет меня отшельником.
– Откуда у тебя меч? – прищурился Пустой.
– Не знаю, – с таким же недоумением ответил отшельник.
– А откуда у тебя умение? – не отставал Пустой. – Не может быть, чтобы ты нашел этот меч вместе с умением!
– Не помню, – расплылся в улыбке отшельник и постучал себя по груди. – Я тоже пустой.
– Или полупустой, – кивнул Пустой и вдруг раскатал войлочный сверток.
Необычный, удивительный меч сверкнул в падающем через окно луче солнца, как осколок стекла. И Пустой сделал несколько плавных движений и замер, почти коснувшись острием переносицы отшельника. Тот отшатнулся, захрипел и начал меняться. То, что Коркин видел только мельком в просвете вечно надвинутого капюшона, теперь происходило у него на глазах. Лоб старика чуть выдвинулся вперед, подбородок заострился, скулы раздались, и из побледневших на фоне смуглой кожи губ послышался низкий голос, который произнес несколько непонятных фраз.
10
Филю успокоил кусок лепешки с копченой олениной. Он бы так и стоял на подножке машины с разинутым ртом, но Пустой нырнул мимо него на центральное место и затянул помощника за пояс внутрь, а все понимающий Хантик сунул мальчишке в рот кусок лепешки. Конечно, горе от разрушения результатов долгого и тяжкого труда нельзя было восполнить лакомством, но Хантик, как и Пустой, знал: только работа отвлекает от горестных раздумий, а пережевывание тугих копченых волокон требовало немалого труда. Глотая слезы пополам с олениной, Филя посмотрел на Коркина, который ко всякой беде относился как к восходу и заходу солнца, потом перевел взгляд на Пустого, который словно и не был расстроен взрывом мастерской. Только губы его стали еще тоньше да глаза налились тьмой. Филя нечасто видел механика таким, не потому что у него до сего дня все получалось, а потому, что тот ни с кем не делился переживаниями, уходил в свою комнату, где часами иногда просиживал неподвижно, то стискивая голову ладонями, то соединяя пальцы. Порой Пустого настигали приступы боли, он опирался руками о стену, садился там, где стоял, и так скрипел зубами, что Филя готов был увидеть, как его благодетель обратится в чудовище, но все пока обходилось. Сишек как-то, в редкую минуту трезвости, обмолвился, что, если бы всякий в Разгоне так переживал сделанную им пакость, мир никогда бы не покинул благословенную землю. Филя, конечно, не понял насчет пакости, потому как не замечал за Пустым ничего пакостного, а что касалось ватажников, которых тот порубил в первый год его пребывания в Гнилушке, так они-то как раз пакостью и были. Те же рубцы на спине у Фили так и не рассосались полностью и вряд ли когда рассосутся, а за что ему доставалось, когда еще Пустого не было, когда он сам откликался на кличку Фи и ел то, на что и бродячая собака не посмотрит? За то самое – за нищету, за слабость, за бесполезность…
Машина медленно ползла по заросшему проселку. Лесовики в отсеке угрюмо молчали. Светлые редко выезжали к Стылой Мороси, Филя так и вовсе не мог припомнить, чтобы их вездеход куда-нибудь отправлялся, кроме как до Поселка и обратно. Так и стоял на приколе между казармой и лабораторией, пока тот же Пустой не разговорил Вери-Ка и не услышал от седого светлого жалобу на бесполезность техники. Впрочем, ездили светлые к Мороси или не ездили, но дорога в мелколесье еще угадывалась. Хантик говорил, что никто просеку в лесу не прорубал, пролетела какая-то ерундовина размером с трех лопоухих Ройнагов, если связать их в пучок, распылила какую-то гадость, а потом полосой шириной в двадцать шагов да на двадцать миль до самой ограды лес за неделю обратился в сухостой. А там уж хватило искры – выгорел шрамик в зарослях, и получилась дорога. Поначалу и сборщики, и охотники ее торили, а потом то один труп на ней нашли, то другой – так и вернулись добытчики на прежние тропы. Многим хотелось заполучить добытое в Мороси, да только не многим хватало смелости за ограду шагнуть. Куда как проще казалось пустить стрелу в спину да обобрать старателя.
Филя поежился. Несколько раз к Пустому приходили жители лесных деревенек. Поселковых они таились, прошмыгивали в мастерскую уже в сумерках, но в каморку к Пустому не поднимались: он их всегда ждал внизу. Там и происходил или разговор, или обмен, или какая покупка. Иногда Филя сталкивался с незнакомцами в проходе и всякий раз с трудом сдерживал дрожь. Он не встречал совсем уж переродков, о которых иногда вполголоса говорили сборщики, но и те врожденные увечья, что замечал глаз на лицах ближних лесовиков, спокойствия ему не добавляли.
– Этих людей следует жалеть, – объяснил ему как-то механик. – Они обречены. Конечно, если их уродства не сгинут в потомках. Но дело ведь не только в рассеченных губах, в отсутствии нижней челюсти или нёба. И уж тем более не в неправильных ушах, губах, носе, глазах. Почти все они постоянно испытывают физические неудобства и страдания, а некоторые так и постоянную боль. Подумай об этом. И не забывай о том, что «жалеть» не значит «не опасаться». И об этом подумай.
Филя думал постоянно. Особенно когда видел, какие диковины иногда приносят сборщики из Мороси. Некоторые из них, те, что побойчее, даже хвастались, что в Мороси какая железка за неделю в прах обращается, а какая хоть сто лет пролежит в воде – а все одно как новая будет. Мальчишка гладил стальные детали, удивлялся затейливому устройству странных механизмов и думал, что если те люди, которые могли изготовить подобные чудеса, были недостаточно мудры, чтобы уберечь Разгон от страшной беды, так чего тогда требовать от нынешних лесовиков?
Вездеход полз медленно. Вскоре солнце поднялось и стало светить странному разномастному отряду, забравшемуся в подарок светлых, в спину, отчего никак не удавалось разглядеть, стоит ли дым над разрушенной мастерской или нет. Впрочем, чему там было гореть-то? Все более или менее ценное Филя собственноручно отправил в подвал. Пустой в итоге даже оставшиеся глинки велел туда спустить, циновки с полов собрать. Прошелся потом по каморкам, в этом Филя не сомневался. Тогда что там могло взорваться? Один раз Пустой, который поручал снаряжение патронов только Филе, показал ему, что будет, если он ненароком ударит по капсюлю или еще какую искру организует. Возле мастерской стояла ржавая железная бочка, в которой Сишек сжигал мусор. Пустой бросил на угли патрон, снаряженный картечью, и тут же затащил мальчишку за шиворот за угол. Бабахнуло так, что у Фили заложило уши, а бочка с одной стороны получила порцию свежих дыр. Филя урок усвоил хорошо, а потом и вовсе привык к взрывам, потому как Пустой начал выплавлять начинку из тяжелых железок, которые ему приносили сборщики и которые он называл «снаряды», и пробовал эту начинку, начиняя ею ружейные гильзы и испытывая их на стальных трубах разной толщины. Однако, подумалось Филе, и всей выплавленной Пустым взрывчатки не хватило бы, чтобы два этажа мастерской взлетели и сложились грудой обломков. Значит, бывает и другая взрывчатка? И кто же ее тогда заложил?
Филя вспомнил быстрый взгляд Пустого, который тот обратил на разместившийся в отсеке отряд, и обернулся сам. Неужели механик заподозрил кого-то? Более или менее спокойными выглядели трое: Хантик, который, поместив под локоть темного молельного истукана, копался в своем мешке, дремлющий старик-отшельник и свернувшийся у его ног Рук. Сишек крутил головой и раздувал ноздри, явно подумывая об очередном глотке чего-нибудь покрепче. Файк, обхватив плечи руками и закрыв глаза, с трудом сдерживал дрожь. Рашпик вдвигал и выдвигал из ножен короткий нож и надувал щеки. Только Ройнаг храбрился. Он держал между ног не выданную Пустым, а собственную, добытую в Мороси трехстволку и, выпятив грудь, гладил ладонью цевье, замки, тяжелый приклад. Серьезнее оружие было только у Коркина. У Файка и Рашпика на груди висели обыкновенные дробовики, а Сишек вообще обошелся выточенным из обломка рессоры тесаком. Зато Хантик приготовился к войне обстоятельно. Филя точно помнил, что Пустой Хантика не вооружал, но из мешка у того торчали сразу две рукояти. Правда, к какому оружию они были приделаны, Филя так и не понял. Он сунулся к своему мешку, который или Сишек, или Хантик сунули под переднее сиденье, и с облегчением нащупал в нем пружинный самострел с запасом болтов и короткий дробовик. У Пустого было кое-что и посерьезнее, но хранилось оно в отдельных отсеках.
– Файк, – с подозрением спросил Филя, – что трясешься? Никогда ведь еще не добирался с таким удобством до Мороси. Ни тебе опасностей, ни гнуса. Отдыхай.
– Он всегда трясется, сынок, – отозвался Хантик. – Морось всякого ломает, но первую пленку Файк хуже всех проходит. Откачивать его придется потом. Об этом все сборщики знают.
– Откачаем, – буркнул Рашпик. – Посмотрим, Хантик, как ты пройдешь первую пленку. Зато потом без Файка никуда. У него чутье!
– У меня тоже чутье, – проскрипел Хантик. – Как знал, что мастерская бабахнет. Вот словно задницу пекло. Усидеть не мог. Пустой! Это не ты ее приговорил?
– Нет, – отрезал Пустой.
– Ну не ты – значит, не ты, – согласился Хантик и опять вернулся к своему мешку. – И то правда – чего тебе ее приговаривать? Орда пришла и ушла, так хоть вернуться было можно, а теперь-то, если в пару рук, – развалину и за пару месяцев не разгребешь. А там ведь еще и твои люки да двери. Нет, удовольствие не для меня.
– Нечего там больше делать, – проворчал Сишек. – Вот прикинь, Хантик, кто будет мое пойло покупать? Народ вывели, все смысл потеряло. Ну поставишь ты трактир, и что? И истукана своего куда денешь? Теперь перед ним некому будет не только монетку оставить – ладони у груди соединить!
– Ничего, Сишек, – заскрипел Хантик. – Вернемся с тобой вдвоем, разгребем развалины. Я поставлю трактир, ты – бродильню. Буду покупать у тебя пойло, а ты будешь приходить ко мне его пить. Как думаешь, долго так протянем? И у кого барыш больше случится?
– По-любому у тебя, Хантик, – хмыкнул Рашпик. – Это уж точно. Вот я всякий раз дивлюсь: вроде ты и не дуришь никого, и слово держишь, а монета все одно к тебе в прибыль сыплется. Как так?
– Истукан за него хлопочет, – отозвался Ройнаг. – А ты думаешь, чего он с собой его тащит? Другой бы на месте нового вырубил, а Хантик за старого держится.
– Дурак ты, Ройнаг, – пробурчал Хантик и погладил деревянную плашку, на которой едва были намечены линии глаз, носа, рта, сложенные ладони. – Нового вырубить легко, а кто его намаливать будет? Может, мы и живы только потому, что я эту деревяшку сберег?
– Мы живы потому, что Пустой мастерскую построил, – заметил Рашпик.
– Не обольщайся, – хмыкнул Хантик. – Слышал, что брат вождя кричал? Если Файк, конечно, правильно перевел. Ну так вроде и Ройнаг немного по-ордынскому разумеет? В орду механика приглашал. Думаю, что насчет базы – ерунда. За Пустым орда шла. Он ведь, помнится, некогда посланников их подрубил? Ну и Поселок заодно подгребла под себя.
– А ты хотел, чтобы я кланялся им? – бросил через плечо механик.
– Уж не знаю, – проворчал Хантик, – а вот тому, что ни деток, ни жены не имею, радуюсь.
– Что же делать-то? – встревожился Рашпик. – Орда ведь тогда за Пустым и в Морось пойдет. Может, нам разбежаться?
– Может быть, – отозвался механик. – Увидим. Впрочем, особо нетерпеливые могут разбегаться уже теперь.
– Погожу пока, – решил Рашпик. – Будет догонять – тогда и поговорим.
– Не догонит, – уверенно заявил Ройнаг. – Что там их лошади? Они еще на первой пленке завязнут. Я уж не говорю, что там дальше в Мороси на этот случай имеется. Опять же с нами Хантик с истуканом.
– На себя больше надейся, – заскрипел трактирщик. – Мы все дети одного бога. Не рассчитывай, что отец возьмет сторону одного из сыновей, если один будет убивать другого.
– А мне кажется, что бог уже взял сторону ордынцев, – вздохнул Рашпик.
– А мне кажется, что сторону светлых, – поморщился Сишек.
– Если возле дома трава в рост? – вдруг подал голос отшельник. – Если куры мертвы, собаки ушли в лес, кошаки не сидят на крыльце? Если крыша рухнула, не говорю уж вовсе сгорела, – что скажем о хозяине дома?
– О хозяине? – удивленно пожал плечами Ройнаг. – Нет в доме хозяина. Помер, ушел.
– Или пьян, – толкнул локтем Сишека Рашпик.
– Вот посмотри вокруг, – отшельник покосился в окно, за которым тянулся чахлый перелесок, – вспомни, что стало с Поселком, и ответь сам себе: есть бог на этой земле или нет его?
– Ерунду мелешь, старик, – обнажил в усмешке желтоватые зубы Хантик. – Люди – не трава и не куры, и бог – не скотник. Он тебя потом спросит, а покуда забавляйся.
– Потом и поговорим, – вновь прикрыл глаза отшельник и пробормотал чуть слышно: – А пока я, так и быть, позабавлюсь.
Филя не мог отвести от старика глаз. Что-то переменилось в нем после того долгого разговора с Пустым. Перестал отшельник прятаться под капюшоном, перестал то и дело кривить губы в усмешке – и одновременно с этим наполнил самого себя каким-то напряжением.
– Внимание! – Пустой остановил вездеход у серого валуна, который едва выглядывал из-под кудрей мха. – Запоминаем правило, которое, надеюсь, поможет нам выжить. Пока мы в машине, слушаем меня или старшего, если я отошел. Но в любом случае кто-то – я, Филипп или Коркин – должен оставаться за управлением машины. Нет меня – Филипп. Нету Филиппа – Коркин. Если уж и Коркина нет – тогда Хантик. Правило второе – двери в машине всегда закрыты. Надо войти-выйти – старший открывает дверь и тут же ее закрывает. Если погрузка-выгрузка – один сразу перебирается на крышу машины и смотрит по сторонам. Оружия из рук не выпускать. Понятно?
– Понятно, – буркнул Хантик, – а если по нужде отойти надо?
– Все так же, – ответил Пустой. – Филипп, действуй.
Пустой открыл левую дверь и выпрыгнул из машины.
– Ройнаг! – тут же заорал Филя, открывая заднюю дверь. – Наверх! У остальных есть пара минут. Коркин. Зверь твой убежит – никто ждать его не будет!
– Не убежит, – забеспокоился Коркин. – Филя, с кем это разговаривает Пустой?
Филя обернулся и в самом деле заметил, что возле Пустого, который отошел к валуну, как из-под земли вырос невысокий, но крепкий широкоплечий человек. У него были крупные черты лица, разве только губы складывались в тонкую упрямую линию. На абсолютно лысой голове был повязан платок, на плече висело длинное причудливое ружье со сложными прицельными приспособлениями. На поясе поблескивал странный нож с зубчатой отсечкой напротив лезвия.
– Это Горник, – прошептал Филя. – Самый лучший охотник и сборщик в Мороси. Не слышал, что ли, о нем? Ну точно, он ведь валенки не носит. Да и в Поселке редкий гость. В мастерскую выбирался раз в месяц, не чаще, но если уж приносил что-то, так приносил.
Пустой ударил Горника по плечу, тот кивнул, повернулся и словно растворился в невысоком, едва по грудь Пустому, кустарнике.
– По местам, – бросил механик, возвращаясь в кабину, окинул взглядом отсек, дождался, когда Хантик заберется внутрь, скользнет в люк Ройнаг, перевалится, пыхтя, через задние лепестки вездехода Рашпик, коснулся плеча мальчишки: – На будущее, Филипп. Орать не нужно. Ор действует только тогда, когда используется редко. Говори тихо. И чем тише будешь говорить, тем лучше тебя будут слушать. Понял?
– Понял, – прошептал Филя.
– Вот-вот, – обиженно прогудел Ройнаг. – А то сразу: «Ройнаг! Наверх!» Не можешь забыть мне приклеенной тарелки?
– Давай, парень, – подтолкнул Филю Пустой. – До Мороси где-то с миль пять. Кое-что я тебе уже объяснял, садись за управление. Посмотрим, на что ты годен.
Филя с трепетом уселся на центральное кресло, нащупал ногой педали, которыми Пустой заменил сенсоры, вцепился в рулевое колесо.
– Спокойно, – ободрил его Пустой. – Двигатель не глушили? Не глушили. Ставь правую ногу на левую педаль. Про левую ногу вообще пока забудь. Теперь тяни колесо на себя. Слышишь щелчок? Переноси ногу с левой педали на правую и легонько дави. Давай-давай, не стесняйся.
Филя надавил на стальной прямоугольник и почувствовал, как огромная машина оживает под ним. Восторг охватил мальчишку! Он нажал сильнее, и вездеход двинулся с места.
– Я не верю собственным глазам! – пролепетал Ройнаг за спиной мальчишки.
– Напрасно, – пресек развязный тон сборщика Пустой. – Хотя в Мороси, я слышал, разное бывает.
– Разное, – прошептал продолжающий дрожать Файк. – Часто глазам надо верить в последнюю очередь. Чего новенького сообщил Горник? Если, конечно, это не секрет.
– У Горника всегда одни секреты, – захихикал Хантик.
– Секреты есть у каждого, – согласился Пустой, продолжая следить за действиями Фили. – Но не в этот раз. Горник обошел все лесные деревни и заимки. Предупредил лесовиков. Они решили пережидать орду на окраине Мокрени.
– В Морось, значит, не хотят? – растянул губы Хантик.
– Они привычны к ядовитому туману, а лошади ордынцев его не перенесут, – отрезал Пустой.
– Жаль, что я не привычен к ядовитому туману, – вздохнул Хантик. – А Горник что же?
Механик не ответил.
– Значит, все-таки пойдет орда в Морось? – пробормотал вдруг Коркин.
– Думаю, да, – ответил Пустой.
– А какая она, Морось? – спросил Коркин.
– Глаза протри! – захрипел, забился в спазмах Файк. – Вон она. Перед тобой.
11
Филя остановил вездеход в полусотне шагов от ограды светлых. Коркин посмотрел на мальчишку, который судорожно тискал рулевое колесо и сдувал капли пота с верхней губы, открыл дверь и вслед за Пустым спрыгнул с подножки. Из-под ног взметнулась серая пыль.
Вездеход замер на полосе безжизненной земли. Она тянулась вдоль леса и уходила за горизонт в обе стороны. По ее противоположному краю через каждые двадцать – тридцать шагов стояли металлические столбы. Высотой они вряд ли превышали десяток локтей и ничем не напоминали ни ограды, ни какого бы то ни было препятствия. Каждый столб заканчивался поперечиной, но все они были развернуты как попало – вдоль линии, под углом, поперек. Металл покрывала рыжими хлопьями ржавчина, на поперечинах развевались обрывки ветрослей.
– Не поднимай пыли, – предупредил Коркина Пустой. – Если на этой полосе ничего не выросло за тридцать пять лет, без яда тут не обошлось.
Коркин поправил подсумок с патронами, который съезжал с плеча, подумал, что надо будет как-нибудь подвязать его к поясу, нащупал приклад ружья у правого бедра и вдруг понял, что перед ним в какой-то полусотне шагов – Стылая Морось. Пригляделся и даже протер глаза, потому как за столбами тянулся обычный прилесок. Кое-где торчали раскидистые дубовники, но между ними всюду, насколько хватало глаз, росли обычные кусты мелколесья. Только чуть дальше, милях в трех или четырех, все плыло, словно из белесого с зелеными прожилками ветрослей неба сам собой пылил дождь. Или стоял туман, поднимаясь до уровня облаков. Коркин оглянулся. Филя по-прежнему сидел за управлением, на крыше вездехода стоял Рашпик, Сишек облегчался у заднего колеса.
– Ты смотри! – проворчал Сишек, завязывая штаны. – Все иглами усыпано. Знамо дело, ветросли-то из Мороси плывут. Что же их тут никто не поднимает?
– Ничего не трогать! – предупредил Пустой, настроил какой-то прибор на запястье, похожий на таймер Коркина, и пошел к столбам.
– Рыжий из Квашенки как-то набрал тут игл, – подал голос с крыши вездехода Рашпик. – Говорили ему: ничего нельзя поднимать на полосе, тут даже зверье дохнет. А грибы и ягоды не стоит собирать ближе пары миль отсюда. Нет! Иглы хорошие, каленые. Жене отдал. А через месяц – ни жены, ни Рыжего, ни деток его. Словно порча какая напала!
– А я и не беру ничего, – поспешил объясниться Сишек. – Что теперь? Разуваться, перед тем как в машинку-то вернуться?
– Нет, – отозвался от столбов Пустой. – Но в машину пока не лезь. По травке пройдешься полсотни шагов – потом залезешь. Коркин, тебя тоже касается. Рашпик! Оставайся на крыше, только сядь на ящик и держись за поручни. Филипп! Подавай на меня медленно!
Филя кивнул и двинул вперед вездеход. Коркин шел рядом с огромными колесами, которые приминали сухую землю, и думал, что, если орда захочет найти Пустого, затрудняться ей не придется. Вот он, след. А уж если вездеход по кустам двинется, так еще и просеку за собой оставит…
– Весна! – расплылся в улыбке Сишек, теребя в пальцах веточку кустарника. – Листочки молодые, липкие. Такие в брагу хорошо бросать. Дух от пойла будет стоять, как будто в траве перед покосом облегчиться присел.
Филя остановил вездеход у первого же дубовника. Коркин шагал по колее, оставленной колесами, и не мог отделаться от странного чувства, что его обманули. Чем отличался этот перелесок от того, что тянулся от Квашенки?
– Не работает. – Пустой щелкнул прибором, махнул рукой Рашпику. – Блокада светлых, перегнуть ее пополам. Слезай. По местам.
Коркин полез на правое сиденье.
– Внимание. – Пустой вновь сел за управление. – Машину без команды не покидать. Но если я дам команду, а задние двери не откроются, нужно будет потянуть вниз рычаг, который справа от двери. Понятно?
– Куда уж понятнее, – пробурчал Сишек.
– Теперь дальше. – Пустой опустил руку под сиденье и с усилием переключил там что-то. Раздалось шипение, и крыша вездехода приподнялась на локоть вверх. Заблестели смазкой стальные трубы, повеяло запахом весенних листьев.