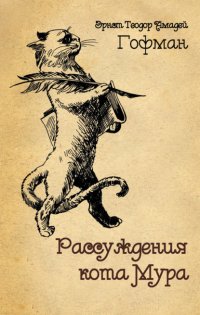
Читать онлайн Рассуждения кота Мура бесплатно
- Все книги автора: Эрнст Гофман
Предисловие издателя
Ни одна книга не нуждается в предисловии так, как эта. Необходимо объяснить, каким удивительным образом она возникла и появилась в свет. Поэтому издатель просит благосклонного читателя непременно прочесть это предисловие.
У издателя есть друг; с ним у него одна душа и одно сердце, и он знает этого друга, как самого себя. Друг сказал ему однажды: «Так как ты, мой милый, напечатал уже много книг и знаешь толк в издателях, тебе не трудно будет найти кого-нибудь их этих храбрых господ, который напечатал бы по твоей рекомендации вещь, написанную молодым автором с блестящим талантом. Займись моим автором. Он этого сто́ит».
Издатель обещал сделать все возможное для своего литературного коллеги. Ему показалось только немного странным, что рукопись, по словам его друга, принадлежала коту, которого звали Муром, и заключала в себе его житейскую философию. Но слово уже было дано, а так как он нашел, что введение книги написано довольно хорошим стилем, то он отправился немедленно с рукописью в кармане к Дюмлеру на Unter den Linden и предложил ему издать книгу кота.
Дюмлер сказал, что никогда еще не видывал писателей из котов и не слыхал, чтобы кто-либо из его уважаемых коллег имел дело с подобными личностями. Тем не менее он не прочь был попробовать.
Рукопись начали печатать, и к издателю пришли первые корректурные листы. Как же испугался он, когда увидел, что история Мура местами прерывается вставками из совершенно другой книги: из биографии Иоганна Крейслера.
После тщательных розысков и расследований издатель узнал, наконец, следующее: когда кот Мур писал свою «Житейскую философию», он без церемонии рвал печатную книгу, которую нашел у своего хозяина, и преспокойно употреблял эти листы частью для прокладки, частью для просушки рукописи. Эти листы остались в рукописи и были теперь напечатаны по недоразумению, как принадлежащие к рукописи.
К сожалению, издатель должен сознаться, что это смешение материалов произошло по его легкомыслию; ему, конечно, следовало просмотреть рукопись кота, прежде чем пустить ее в печать. В утешение мы можем сказать, что читатель легко справится с книгой, если будет обращать внимание на частые заметки «М. л.» (макулатурные листы) и «М. пр.» (Мур продолжает). Разорванная книга, по всей вероятности, никогда не появлялась в продаже, так как никто о ней ничего не знает. Друзьям капельмейстера, по крайней мере, будет приятно, что, по милости литературного вандализма кота, им станут известны кое-какие весьма странные обстоятельства из жизни в некотором роде замечательного человека.
Издатель надеется на великодушное прощение.
Справедливость требует заметить, что нередко авторы бывают обязаны наиболее смелыми своими мыслями и самыми удивительными оборотами добрым наборщикам, которые содействуют полету их идей так называемыми опечатками. Например, один автор говорит во второй части своего рассказа «Nachtstücke», на странице 326-й, о густом боскете, находившемся в саду. Но это показалось наборщику недостаточно гениальным. Он набрал слово «каскет» вместо «боскет». Есть также рассказ «Девица Скюдери». Наборщик коварно одел героиню вместо черного платья в черную краску (Farbe и Robe) из тяжелого шелка.
Но да воздастся всякому по заслугам. Ни кот Мур, ни автор биографии капельмейстера Крейслера не должны рядиться в чужие перья. Поэтому издатель просит благосклонного читателя, прежде чем он начнет читать эту книгу, просмотреть нижеследующие примечания для того, чтобы не думать об обоих авторах хуже или лучше того, чего они заслуживают. Впрочем, здесь отмечены только главные ошибки, что же касается мелких, то в этом мы полагаемся на догадливость благосклонного читателя.
(Затем следует 14 опечаток в первом издании, в последующих изданиях они исправлены.)
В заключение издатель должен прибавить, что он знал лично кота Мура. Это был мужчина с приятным и мягким характером.
Берлин. Ноябрь 1819-го года.
Э. Т. А. Гофман.
Предисловие автора
Робко, со стесненным сердцем отдаю я для печати несколько страниц моей жизни, полных страданий, надежд и стремлений, волновавших меня в сладкие часы досуга и поэтических вдохновений.
Устою ли я перед строгим судом критики? Но я писал для вас, родственные чувствительные души с детски-невинными чувствами, – да, для вас писал я, – и одна слеза умиления, пролитая вами, утешит меня и заживит раны, которые нанесет мне холодное порицание бесчувственных рецензентов.
Берлин, в мае 18…
Мур.
(Etudiant en belles lettres)[1].
Интимное предисловие автора
С уверенностью и спокойствием, свойственными истинному гению, отдаю я на всемирный суд свою биографию. Пусть видят все, как развиваются великие коты, пусть все узнают мои совершенства, любят меня, ценят, уважают, удивляются мне и даже несколько благоговеют передо мною. Но если кто осмелится выразить какое-либо сомнение насчет достоинств этой удивительной книги, пусть помнит, что будет иметь дело с котом, у которого есть острый ум и острые когти.
Берлин, в мае 18…
Мур.
(Homme de lettres très renommé)[2].
Примечание. Это уж слишком! Напечатано даже и то предисловие автора, которое не предназначалось для публики. Остается попросить благосклонного читателя извинить литературному коту несколько надменный тон его предисловия и принять во внимание то, что, если бы перевести на настоящий язык сокровенный смысл предисловий многих смиренных авторов, вышло бы почти то же самое.
Издатель.
Том первый
Отдел первый
Чувство бытия. Юношеские месяцы
Нет ничего прекраснее, возвышеннее, великолепнее жизни! «О сладкая привычка бытия!» – восклицает некий нидерландский герой в знаменитой трагедии. То же говорю и я, но не в столь тяжкую минуту, как упомянутый герой. Ему приходилось расставаться с жизнью, а я весь проникнут блаженным сознанием, что я окончательно освоился с этой сладкой привычкой и потому не желаю с ней расставаться. Я разумею ту духовную силу, ту неведомую власть или, вернее, то управляющее нами начало, которое навязало мне эту привычку, не спросясь моего согласия. Эта неведомая мне власть не могла иметь худших намерений, чем мой милый хозяин, который никогда не вытаскивает у меня из-под носу приготовленного мне рыбного блюда, если запах его мне нравится.
О природа, святая, великая природа! Какой восторг и отрада наполняют мою взволнованную грудь, как обвевает меня твое таинственное дыхание! Ночь свежа, и я хотел бы… Но тот, кто прочитает или не прочитает эти строки, не может понять моего высокого вдохновения; он не знает возвышенного пункта, на который я вознесся, – вернее было бы сказать – влез, – но поэты не говорят о своих ногах даже в том случае, если их четыре, как у меня: они упоминают только о крыльях, хотя бы эти крылья были произведением искусного механика, а не выросли у них за спиной. Надо мной расстилается звездное небо, полная луна сияет в вышине, озаряя серебристым блеском крыши и башни вокруг меня. Постепенно стихает подо мной городской шум. Все спокойнее становится ночь. Облака плывут. Одинокая голубка с робкой любовной жалобой порхает вокруг церковной башни. О, если бы милая крошка приблизилась ко мне! Я чувствую, как внутри у меня что-то переворачивается, мечтательный аппетит поднимается во мне с непобедимой силой. О, подойди сюда, моя нежная голубка! Я хотел бы прижать ее к израненному любовью сердцу и никогда не отпускать ее. Но коварная улетает и оставляет меня безнадежно сидящим на крыше. Как редка истинная симпатия душ в наше жалкое, черствое, бессердечное время!
Неужели ходить на двух ногах такая великая вещь, что существа, называющие себя людьми, смеют властвовать над теми, кто тверже стоит на четырех ногах? Я знаю, в чем дело: они ужасно высокого мнения о том, что будто бы сидит у них в голове и называется разумом. Я не совсем ясно представляю себе, что они под этим разумеют, но, судя по тому, что я слышал от моего хозяина, разум есть не что иное, как способность действовать сознательно и не делать глупостей. Если так, то я не уступлю в этом ни одному человеку. Кроме того, я думаю, что к сознанию привыкают. Ведь мы сами не знаем, как живем и являемся на свет. По крайней мере, так случилось со мной, и, насколько я понимаю, ни один человек не знает по собственным наблюдениям, как и почему он родился, он знает это только по преданиям, которые часто бывают очень неточны.
Города нередко оспаривали друг у друга честь места рождения знаменитых людей. Я сам не знаю ничего положительного о том, где я увидел свет: в погребе, на чердаке или в дровяном сарае; вернее сказать, не я увидел свет, а меня увидала на свете моя дорогая мамаша. По свойству нашей породы мои глаза были закрыты. Я помню, как в полной темноте раздавались вокруг меня какие-то урчащие и пискливые звуки, которые производил почти невольно и я, когда мною овладевал гнев.
Яснее помню я себя в тесном пространстве с мягкими стенками. Я едва дышал и в страхе издавал жалобный писк. Я почувствовал, как что-то вторгнулось в тесное помещение и очень грубо схватило меня. Это дало мне случай проявить первую удивительную способность, которой наделила меня природа. Из моих богато опушенных передних лап я выпустил острые когти и вонзил их в то, что, как я узнал впоследствии, было человеческой рукой. Эта рука вынула меня из тесного помещения, бросила меня, и немедленно вслед за тем я почувствовал два сильных удара по щекам, на которых у меня выросли вскоре почтенные усы. Теперь я понимаю, что рука эта наградила меня пощечинами за движение моих когтей. Это было мое первое открытие в области нравственных причин и следствий. Нравственный инстинкт заставил меня так же быстро спрятать когти, как я их выпустил. Впоследствии справедливо признали мое последнее действие за акт величайшего добродушия и любезности. За это я и получил прозвище «бархатной лапки».
Итак, рука бросила меня на землю. Но вскоре за тем она опять взяла меня за голову и нагнула вниз так, что я попал мордочкой в жидкость, которую начал лакать совершенно невольно, вероятно, по физическому инстинкту, и чувствовал при этом необыкновенное удовольствие. Теперь я знаю, что я пил молоко, что я был голоден и насытился. Так вслед за нравственным развитием наступило физическое.
Еще раз взяли меня две руки и осторожно положили на мягкое теплое ложе. Я чувствовал себя все лучше и лучше и начал выражать мое удовольствие особыми звуками, свойственными нашей породе; люди довольно удачно называют их мурлыканьем. Так шел я гигантскими шагами по пути развития. Какое наслаждение, какой бесценный дар неба выражать свое внутреннее удовольствие звуками и движениями! Сначала я мурлыкал, потом у меня явился неподражаемый талант грациозно поводить хвостом, а затем – чудный дар выражать одним словечком «мяу» радость, горе, блаженство, отчаяние, – словом, все чувства и страсти в их разнообразнейших оттенках. Что человеческий язык в сравнении с этим простейшим средством заставить себя понять! Но будем продолжать интереснейший рассказ о моей юности, полной разнообразных событий.
Я проснулся после глубокого сна. Ослепительный свет испугал меня. Пелена упала с моих глаз – я видел! Прежде, чем я привык к свету и к пестрому разнообразию цветов, которое открылось передо мной, я несколько раз сряду сильно чихнул, но скоро все пошло на лад, как будто я давно уже привык к зрению. О зрение! Без этой чудной привычки было бы трудно существовать на свете! Счастливы те высокоодаренные натуры, которые так легко привыкают к зрению, как я.
Я не стану лгать: я опять почувствовал некоторый страх и испустил жалобный писк в этом тесном пространстве. Показался маленький старичок, которого я никогда не забуду, так как, несмотря на обширный круг моего знакомства, я никогда не встречал подобной фигуры. Часто бывает в нашей породе, что тот или другой мужчина носит белую с черным шкурку, но редко бывает, чтобы у человека были белоснежные волосы и совершенно черные брови. Этим отличался мой воспитатель. Он был одет в короткий ярко-желтый халат, которого я так испугался, что сполз с мягкой подушки, насколько позволяла мне моя тогдашняя беспомощность. Человек этот подошел ко мне с ласковым движением, внушившим мне доверие. Он взял меня. Я воздержался от выпускания когтей. Связь между царапанием и ударами сама собой возникла в моем уме. Человек этот желал мне добра. Он посадил меня перед блюдечком молока, которое я с жадностью вылакал, что, по-видимому, его очень обрадовало. Он говорил мне много такого, чего я не понял, потому что в то время я еще не понимал человеческой речи: я был еще неопытным котенком. По-видимому, человек этот много знал и был хорошо знаком с науками и искусствами, так как его посетители (я видел у него людей, носивших кресты и звезды на том самом месте, где природа поместила у меня желтое пятнышко, то есть на груди) обходились с ним особенно вежливо, а иногда даже с некоторым подобострастием (так обходился впоследствии я сам с пуделем Скарамуцем), и называли его не иначе, как «много уважаемый, дорогой, бесценный мейстер Абрагам». Только два человека называли его просто «мой дорогой»: высокий худой человек в ярко зеленых панталонах и белых шелковых чулках и маленькая, очень толстая женщина с черными волосами и множеством колец на пальцах. Господин был, вероятно, владетельный князь, а дама – еврейка.
И хотя его навещали такие важные лица, мейстер Абрагам жил в маленькой комнатке на самом верху, так что я мог очень приятно совершать мои первые прогулки через окно на крышу и на чердак.
Да это не могло быть иначе: я родился на чердаке. Что погреб! Что дровяной сарай! Я стою за чердак! Климат, родина, ее нравы и обычаи, – какое влияние оказывают они на характер и на внешность гражданина! Откуда явились во мне этот высокий дух, эта непобедимая склонность к возвышенному? Откуда эта изумительная ловкость в лазании, это завидное искусство прыгать? Ах, сладкое чувство наполняет мою грудь! Во мне шевелится тоска по родном чердаке! Тебе посвящаю я эти строки, прекрасная родина, тебе это странное ликующее «мяу», тебя прославляют эти прыжки! И в этом заключаются добродетель и патриотический дух. О чердак! Ты давал мне в изобилии мышей, и у тебя я находил колбасу и сало; сидя на трубе, подстерегал я воробьев и даже время от времени ловил голубей.
- «Безгранична любовь моя к тебе, о родина!»
- Но я должен рассказать еще многое…
(М. л.) …«но, ваша светлость, разве не помните вы ту ужасную бурю, которая сорвала и сбросила в Сену шляпу у адвоката, проходившего ночью по Новому мосту? Такой же случай приведен и у Раблэ, только шляпу адвоката похитила не буря: предоставив свой плащ разыгравшимся стихиям, он крепко прижал к голове свою шляпу, но в это время мчался по мосту гренадер и, проскакав мимо с громким возгласом: «Какой сегодня ужасный ветер!», быстро стащил с парика адвоката его прекрасную касторовую шляпу; однако в Сену попала не касторовая шляпа, а драная шапка солдата, которую бурный ветер сбросил в пучину. Вашей светлости известно также, что, пока адвокат стоял на месте совершенно ошеломленный, мимо проехал другой солдат и, также воскликнув: «Какой сегодня ужасный ветер!» – схватил адвоката за воротник и стащил с него плащ; а затем пронесся третий солдат; он тоже воскликнул: «Какой сегодня ужасный ветер!» – и вырвал из рук адвоката испанскую трость с золотым набалдашником. Адвокат закричал изо всех сил, бросил свой парик вдогонку негодяю и пошел с непокрытой головой, без плаща и без трости, намереваясь составить самое удивительное завещание и разоблачить самое таинственное дело. Все это известно вашей светлости?
– Ничего этого я не знаю, – сказал князь, когда я кончил свою речь, – не знаю и не понимаю, как вы, мейстер Абрагам, можете рассказывать мне такую чепуху. Я очень хорошо помню Новый мост, он находился в Париже. Я никогда не ходил по нему пешком, но зато часто проезжал, как это прилично моему званию. Адвоката Раблэ я никогда не видал, и мне не было никакого дела до солдатских проказ. Когда в молодых годах я командовал армией, я приказывал раз в неделю сечь юнкеров за те глупости, которые они делали или могли сделать, простых же солдат я предоставлял лейтенантам, которые по моему примеру тоже секли их каждую неделю по субботам, так что к воскресенью не оставалось ни одного юнкера, ни одного нижнего чина во всей армии, который не получил бы своей порции палок. Посредством моей палочной системы войска вполне привыкали к побоям прежде, чем они видели врага, так что при встрече с ним они, конечно, стали бы его бить. Кажется, это ясно? А теперь скажите мне, ради бога, мейстер Абрагам, что хотели вы сказать вашей бурей и вашим адвокатом Раблэ, ограбленным на Новом мосту, и чем объясните вы то, что праздник кончился такой сумятицей, что в тупей мой попала шутиха, что мой сын упал в бассейн и был окачен с головы до ног предательским дельфином, что принцесса бежала через парк, как Аталанта, в разорванном платье и без вуали, что… что… Но кто исчислит все несчастья этой роковой ночи? Ну, что вы скажете, мейстер Абрагам?
– Ваша светлость, – отвечал я, почтительно кланяясь, – что же было причиной всего несчастья, как не буря, как не ужасная гроза, разразившаяся в ту минуту, когда все шло так прекрасно? Могу ли я повелевать стихиями? Разве я сам не подвергался величайшим неприятностям, разве не потерял я, как тот адвокат, которого я покорнейше прощу не смешивать с знаменитым французским писателем Раблэ, разве не потерял я шляпу, сюртук и плащ, разве я…
– Послушай, – прервал здесь мейстера Абрагама Иоганн Крейслер, – послушай, друг, даже теперь, когда это уже давно прошло, все еще говорят о дне рождения княгини и о празднике, устроенном тобой в этот день, как о какой-то непонятной тайне, и, конечно, ты, по обыкновению, натворил много чудес. Если и прежде народ считал тебя чем-то вроде колдуна, то теперь он еще более в этом уверился. Расскажи-ка мне теперь, как все было. Ты знаешь, что меня тогда здесь не было…
– Ну да, – перебил друга мейстер Абрагам, – то самое, что тебя здесь не было и что ты, бог знает – почему, бежал, точно сумасшедший, преследуемый адскими силами, – именно это и привело меня в бешенство, потому-то и призвал я на помощь стихии, желая расстроить праздник, приводивший меня в отчаяние, что недоставало тебя, главного героя пьесы. Сначала праздник был только бледен и скучен, но потом он принес некоторым милым особам страдания, ужас и страшные сны. Знай, Иоганн, я глубоко заглянул в твою душу и открыл ее опасную и ужасную тайну, – клокочущий вулкан, вечно угрожающий извергнуть губительное пламя и уничтожить все вокруг себя. В глубине нашей души часто покоятся такие тайны, о которых мы не говорим даже самым близким друзьям. Поэтому я скрывал от тебя то, что я заметил, но хотел овладеть твоим «я» посредством этого праздника, глубокий смысл которого касался не княгини, а другой милой особы и тебя самого. Я хотел оживить самые сокровенные твои страдания и отдать твое сердце на растерзание этим проснувшимся фуриям. Это средство хотел я употребить, как целебный яд, которого в смертельной опасности, грозящей больному, не должен бояться ни один мудрый врач. Это лекарство принесло бы тебе или смерть, или выздоровление. Знай, Иоганн, что день именин княгини совпадает с днем именин Юлии, которую, так же как и княгиню, зовут Марией.
– А, – воскликнул Крейслер, вскакивая и сверкая глазами, – а, мейстер, кто дал тебе власть так дерзко надо мной насмехаться? Или ты – сама судьба, что осмеливаешься проникать в глубину моего сердца?
– О дикий, необузданный человек, – спокойно возразил мейстер Абрагам. – Когда же, наконец, обратится в чистое пламя пожирающий огонь, горящий в твоей груди, и в тебе останется только присущее тебе глубокое понимание искусства и того, что прекрасно? Ты требовал описания этого рокового праздника, так выслушай меня спокойно; если же силы тебе изменят, и ты этого не выдержишь, я тебя оставлю.
– Рассказывай, – сказал Крейслер глухим голосом и снова сел, закрыв лицо руками.
– Милый Иоганн, – сказал мейстер Абрагам, неожиданно переходя в веселый тон, – я не буду утруждать тебя описанием интересных приготовлений, бывших по большей части плодом богатой фантазии князя. Праздник начался поздно вечером, и, разумеется, весь парк, окружающий увеселительный дворец, был иллюминован. Я постарался ввести в эту иллюминацию особые эффекты, но это удалось только отчасти, так как, по желанию князя, на всех дорожках горел вензель княгини с княжеской короной, составленный из разноцветных лампочек, приделанных к черным щитам. Эти щиты, укрепленные на высоких столбах, очень походили на иллюминованные надписи, гласящие, что здесь курить или проезжать воспрещается. Главным пунктом праздника была знакомая тебе сцена, устроенная в парке среди кустов и искусственных развалин. На этой сцене городские актеры должны были представить аллегорию, которая была достаточно глупа, чтобы особенно понравиться публике, даже если бы она не была произведением самого князя и не вышла бы из-под «светлейшего» пера, как остроумно выразился директор театра, ставивший одну из княжеских пьес. От дворца до театра довольно далеко. Согласно поэтической мысли князя, парящий гений должен был освещать этот путь двумя светильниками. Кроме этого, никакого освещения не полагалось, но, как только княжеская фамилия и ее свита займут свои места, театр должен был внезапно осветиться. Поэтому все это пространство оставалось в темноте. Напрасно указывал я на трудность этих махинаций, усложненную еще длиною пути. Князь вычитал нечто подобное в версальских празднествах, а так как эта поэтическая мысль принадлежала ему самому, то он настаивал на ее исполнении. Во избежание незаслуженных нареканий я предоставил гения с его светильниками машинисту из городского театра.
Когда княжеская чета со свитой вышла из зала, с крыши увеселительного дворца опустили кругленького, толстого человечка в княжеской ливрее с двумя горящими светильниками в руках. Но кукла эта оказалась слишком тяжела. Шагов за двадцать от дворца машина остановилась, и светящий гений-хранитель княжеского дома – повис в воздухе. А так как машинисты начали тянуть его сильнее, то он перевернулся вверх ногами. Тут из опрокинутых светильников закапал горячий воск. Первая капля упала на самого князя. Он перенес боль со стоическим хладнокровием. Тем не менее князь несколько изменил важность своей походки и пошел скорее. Гений парил теперь над группой, состоявшей из гофмаршала, камер-юнкеров и других придворных чинов. Он висел вверх ногами так, что огненный дождь из светильников падал кому на голову, кому на нос. Выказать боль и испортить этим праздничное настроение значило бы нарушить этикет. Интересно было видеть, как эти несчастные выступали вперед подобно целой когорте Муциев Сцевол. Лица их были страшно искажены, тем не менее они пересиливали боль и даже слегка улыбались, хотя улыбка у них выходила несколько дьявольская. Они шли в гробовом молчании, едва испуская сдерживаемые вздохи. Тем временем зазвучали трубы, и тысячи голосов воскликнули: «Да здравствует светлейший князь, да здравствует светлейшая княгиня!» Трагический пафос всей этой сцены, происходящий от контраста лаокооновских лиц и ликующих восторженных криков, придал ей невообразимое величие.
Толстый, старый гофмаршал наконец не выдержал. Когда жгучая капля упала ему прямо на щеку, он вне себя от ярости отскочил в сторону и задел за веревки, идущие от воздушной машины и прикрепленные к земле вдоль дороги. Зацепившись, он упал на землю, громко воскликнув: «Ах, черт возьми!» В ту же минуту воздушный паж покончил со своей ролью. Увесистый гофмаршал сильно потащил его вниз. Кукла полетела в самую середину свиты, которая с громкими криками рассыпалась во все стороны. Все очутились в полной темноте. Все это произошло перед самым театром. Я старался зажечь тут шнурок, от которого должны были вспыхнуть лампы и огни в этом месте, но провозился с этим минуты две, то есть ровно столько, чтобы дать время всему обществу заблудиться среди кустов и деревьев.
«Огня, огня!» – кричал князь, как король в «Гамлете». «Огня, огня!» – кричало множество голосов. Когда все было освещено, разбежавшаяся свита напоминала стадо, которое с трудом собирается в одно место. Обер-камергер выказал большое присутствие духа. Он вел себя как искуснейший тактик своего времени, так что, благодаря его расторопности, порядок был восстановлен в несколько минут. Князь со свитой взошел на возвышенье, убранное цветами, которое поднималось в виде трона посреди зрительного зала. Как только княжеская чета села на места, на нее посыпался дождь цветов (это была выдумка одного искусного машиниста). Но жестокая судьба, как нарочно, устроила так, что огромная красная лилия упала прямо на нос князя и покрыла все лицо его красной пылью, причем он сохранил необыкновенно величавый вид, вполне отвечавший торжественности случая.
– Это великолепно, это восхитительно! – воскликнул Крейслер, разражаясь хохотом, от которого задрожали стены.
– Не смейся так судорожно, – сказал мейстер Абрагам, – я тоже смеялся в эту ночь, как никогда; я был расположен ко всяким безумствам, мне хотелось, как духу Дролю, еще больше все запутать, но от этого только глубже вонзались в мою грудь те стрелы, которые я направлял на других. Теперь я скажу тебе все. В момент глупого осыпания цветами начал я вытягивать ту невидимую нить, которая должна была идти через весь праздник и, подобно электрическому току, проникнуть в души тех, кого хотел я привести в соприкосновение с таинственным духовным аппаратом, где терялась моя нить… Не перебивай меня, Иоганн, слушай спокойно… Юлия с принцессой сидели сбоку за княгиней. Я видел их обеих. Когда замолкли трубы, к Юлии на колени упала полураспустившаяся роза, окруженная душистыми ночными фиалками, и, как волнующееся дуновение ветра, полились звуки твоей глубоко трогательной песни: «Mi pignero tacendo della mia sorte amara»[3]. Сначала Юлия испугалась. Когда же раздалась песня, которую играли по моему приказанию лучшие музыканты (я говорю это, чтобы у тебя не были никаких сомнений), из уст Юлии вылетел легкий вздох, и я расслышал ясно, как она сказала принцессе: «Верно, он опять здесь!» Принцесса порывисто обняла Юлию и так громко воскликнула: «Нет, нет, никогда!», что князь обратил в ее сторону свой огненный лик и сердито проговорил: «Silence!»[4] Он, вероятно, не очень сердился на это милое дитя, но здесь я должен заметить, что его удивительные румяна (оперный tirano ingrato[5] не мог бы лучше загримироваться) придавали его лицу выражение неумолимого гнева, так что самые трогательные речи, самые нежные места, аллегорически изображавшие семейное счастье на троне, как будто пропадали даром. Актеры и зрители пришли от этого в немалое замешательство. Даже тогда, когда князь целовал княгине руку и утирал платком слезу в моментах, заранее отмеченных красным карандашом в экземпляре, который он держал в руках, он, казалось, был охвачен ужасным гневом. Камергеры, стоявшие по обеим сторонам трона, шептали друг другу: «Боже, что случилось с его светлостью?»
Я должен сказать тебе, Иоганн, что в то время, как шла вся эта чепуха, я с помощью оптического зеркала и других снарядов давал в воздухе призрачное представление в честь милой Юлии, – этого небесного создания. После других твоих песен раздалась мелодия, которую ты создал в минуту высокого вдохновения; то ближе, то дальше, как робкий и страстный призыв духов, прозвучало имя Юлии. И тебя здесь не было! Когда я, по окончании пьесы, должен был, как шекспировский Просперо, хвалить моего Ариеля и говорить ему, что все шло отлично, я находил в душе, что все придуманное мною с таким глубоким смыслом, вышло вяло и бледно. Но Юлия поняла все своим тонким чутьем. Казалось, будто она находится под впечатлением приятного сна, которому обыкновенно не придают значения в действительной жизни. Принцесса была очень задумчива. Рука об руку бродили они по освещенным дорожкам парка в то время, как двор ужинал в одном из павильонов. Я рассчитал главный удар для этой минуты, а тебя все не было, Иоганн! Недовольный и рассерженный, побежал я присмотреть за приготовлениями к большому фейерверку, которым должен был закончиться праздник. Взглянув на небо, я заметил в сумраке ночи над дальним Гейерштейном маленькое красноватое облачко, которое всегда предвещает грозу. Оно медленно плывет и потом разражается над нами с страшным громом. Ты знаешь, что я рассчитываю время этого извержения по секундам, судя по состоянию облака. Гроза могла разразиться в течение этого часа, и потому я решил поспешить с фейерверком. В эту минуту я заметил, что мой Ариель начал фантасмагорию, которая должна была все разрешить: я услышал, что хор запел в конце парка в маленькой капелле св. Марии твое произведение «Ave, Maris Stella». Я поспешил туда. Юлия и княжна преклонили колени на скамейке, поставленной перед капеллой под открытым небом, как только я подошел… Но тебя не было! Тебя не было, Иоганн! Позволь мне умолчать о том, что было после. Ах, то, что я считал ве́рхом моего искусства, было напрасно, и я открыл только то, чего не понимал по своей глупости!
– Перестань болтать! – воскликнул Крейслер. – Говори все, что случилось.
– Зачем? – возразил мейстер Абрагам. – Тебе это не принесет теперь никакой пользы, а у меня разрывается грудь при воспоминании, как печально кончились все мои замыслы. «Облако, – подумал я, – счастливая мысль! Итак, – воскликнул я в безумии, – все должно кончиться полным хаосом!» И я побежал к месту фейерверка. Князь желал, чтобы я подал знак, когда все будет готово. Я не сводил глаз с облака. Оно поднималось все выше и выше над Гейерштейном. Когда мне показалось, что оно уже довольно высоко, я велел выстрелить из мортиры. Скоро весь двор и все общество были на местах. После обычных ракет, колес, шутих взвился вензель княгини, играющий пестрыми китайскими огнями, а над ним, сияя белым светом, горело имя Юлии. Теперь пришло время. Я зажег римскую свечу, и в то время, как, шипя и свистя, взвивались на воздух ракеты, разразилась гроза с огненно-красными молниями и страшными ударами грома, от которого дрожали горы и лес. А ветер ревел в парке и завывал на тысячу жалобных голосов в глубине леса. Я вырвал трубу из рук пробегавшего музыканта и извлек из нее ликующие звуки, а лопающиеся ракеты и пушечные и мортирные выстрелы весело гремели навстречу раскатам грома.
Слушая рассказ мейстера Абрагама, Крейслер вскочил и стал быстро ходить по комнате, размахивая руками. Наконец, он воскликнул в порыве восторга:
– Это прекрасно, это великолепно! Я узнаю в этом мейстера Абрагама, с которым у меня одна душа и одно сердце!
– О, – сказал мейстер Абрагам, – я знаю, что тебе по душе все дикое и странное! Но я забыл рассказать о том, что окончательно свело бы тебя с ума. Я велел натянуть эолову арфу, которая, как тебе известно, перекинута через большой бассейн, и буря играла на ней, как искусный музыкант. Среди рева и воя урагана, среди ударов грома грозно звучали аккорды гигантского органа. Все быстрее и быстрее неслись могучие звуки. Это была настоящая пляска фурий такого величавого стиля, какой едва ли можно услышать в стенах театра. Через полчаса все кончилось. Месяц выплыл из-за туч. Ночной ветер, утихая, шелестел по испуганному лесу и осушал слезы на темных кустах. И время от времени звучала еще эолова арфа, как глухой, отдаленный звон колоколов. На душе у меня было странно. Ты, Иоганн, так наполнял собой мою душу, что мне казалось, будто ты встаешь передо мною из-под могильного холма потерянных надежд и несбывшихся снов и падаешь ко мне на грудь. В тишине ночи я думал о том, какую игру я затеял, как хотел я разрубить тот узел, который завязала судьба, и как из глубины моей души выглянул в ином виде я сам, и я ужаснулся. Множество блуждающих огоньков плясало и прыгало по всему парку, – это были слуги с фонарями, разыскивающие шляпы, парики, сетки, шпаги, перчатки и шали, потерянные в быстром бегстве. Я стоял на большом мосту перед нашим городом и еще раз оглянулся на парк: залитый лунным сиянием, он казался волшебным, и чудилось, что там резвятся эльфы. И вдруг долетел до моих ушей слабый писк, похожий на крик новорожденного ребенка. Заподозрив преступление, я наклонился через перила и увидел на ярком лунном свете котенка, судорожно уцепившегося за решетку. Вероятно, его хотели утопить, и он выкарабкался. «Ну, – подумал я, – хоть это и не ребенок, но все же бедный зверек, взывающий о помощи. Надо его спасти».
– О чувствительный Юст, – со смехом воскликнул Крейслер, – где же твой новый Тельгейм?
– Извини, Иоганн, – возразил мейстер Абрагам, – едва ли можно сравнить меня с Юстом. Я переюстил самого Юста. Он спас пуделя, – животное, которое все любят, от которого можно ждать даже приятных услуг: пес приносит перчатки, кисет, трубку и т. д. Я же спас кота, – животное, которого многие боятся и обыкновенно считают коварным, неспособным к искренней дружбе и никогда не перестающим враждебно относиться к человеку; да, я спас кота из чистого, бескорыстного человеколюбия. Я перегнулся через перила и, не без некоторой опасности для жизни, достал котенка и положил в карман. Придя домой, я быстро разделся и бросился в постель (я очень устал в этот день). Но как только я заснул, меня разбудил жалобный писк, который раздавался как будто из моего платяного шкапа. Я забыл про котенка и оставил его в кармане сюртука. Я освободил его из тюрьмы, за что он меня оцарапал, и у меня все пять пальцев были в крови. Я уже хотел бросить кота в окошко, но опомнился и устыдился своей мелочности и мстительности, еще более непростительной по отношению к неразумному существу, чем по отношению к человеку. Я самым тщательным образом воспитал котенка. Это – самое милое, забавное и благонравное животное в своей породе. Ему недостает только высшего образования, которое ты легко можешь ему дать, мой милый Иоганн, поэтому я и решил передать тебе кота Мура, – так я его назвал. Хотя Мур еще не homo sui juris[6], как выражаются юристы, я все-таки спросил его, согласен ли он поступить к тебе на службу. Он рад перейти к тебе.
– Ты все шутишь, мейстер Абрагам, – сказал Крейслер. – Ты знаешь, что я не выношу кошек, ты знаешь, что у меня есть любимая собака.
– Я прошу тебя, милый Иоганн, – сказал мейстер Абрагам, – возьми моего многообещающего кота Мура, хотя бы на время моего путешествия. Я уже принес его для этого. Он за дверью и ждет только милостивого приглашения. Взгляни на него!
При этом мейстер Абрагам открыл дверь. На половике, свернувшись клубком, спал кот, который был действительно чудом красоты в своем роде: черные и серые полосы шли у него по спине и по затылку, образуя на лбу самые замысловатые иероглифы. В таких же полосах был хвост, необыкновенной длины и силы. Пестрая шкурка кота блестела и лоснилась на солнце так, что между серыми и черными полосами можно было различить еще и золотистые.
– Мур, Мур! – позвал мейстер Абрагам.
– Kppp… Kppp… – ответил кот, потянулся, встал, изогнул спину и открыл свои зеленые искристые глаза, в которых светились разум и сознание. Так утверждал по крайней мере мейстер Абрагам, и даже Крейслер должен был подтвердить, что у кота какой-то необыкновенный вид, что голова его достаточно велика, чтобы вместить науки, а усы, несмотря на молодость, так белы и длинны, что придают ему важность греческих мудрецов.
– Как это можно вечно спать! – сказал коту мейстер Абрагам. – Ты потеряешь свою веселость и сделаешься угрюмым котом. Ну, причешись хорошенько, Мур!
Кот сейчас же сел на задние лапы, начал гладить лоб и щеки бархатной лапкой и испустил звонкое, веселое «мяу».
– Смотри, Мур, – начал мейстер Абрагам, – вот это – капельмейстер Иоганн Крейслер, к которому ты поступаешь на службу.
Кот обвел капельмейстера своими большими, сверкающими глазами, потом начал мурлыкать, вскочил на стол, стоявший около Крейслера, а оттуда без церемонии прыгнул к нему на плечо, точно хотел сказать ему что-то на ухо. Затем он опять соскочил на пол и начал ходить вокруг своего нового господина, мурлыча и урча, точно хотел с ним познакомиться.
– Боже мой, – воскликнул Клейслер, – мне положительно кажется, что у этого маленького серого существа есть разум! Он, верно, происходит от потомков знаменитого Кота в сапогах!
– Я знаю одно, – заметил мейстер Абрагам, – что кот Мур – забавнейшее животное в мире, настоящий пульчинелло; кроме того, он благонравен и не назойлив, как бывают иногда собаки, надоедающие нам своими неуклюжими ласками.
– Этот умный кот, – сказал Крейслер, – наводит меня на печальные мысли о том, как ограниченны наши познания. Кто скажет, как далеко простираются духовные способности животных? Если мы чего-нибудь не понимаем в природе, мы сейчас придумываем название, а потом кичимся нашей глупой школьной ученостью, идущей не дальше нашего носа! Точно так же и духовные способности животных, проявляющиеся иногда самым удивительным образом, обозвали мы словом «инстинкт». Я хотел бы знать только одно: совместима ли способность грезить с идеей инстинкта, – этого слепого, бессознательного побуждения? Ведь всякий, кто наблюдал за спящей охотничьей собакой, знает, что она видит очень живые сны. Перед ней проходит во сне вся охота: она ищет, обнюхивает, двигает ногами как будто на бегу, визжит и лает. О грезящих котах я пока еще ничего не знаю…
– Кот Мур, – перебил друга мейстер Абрагам, – видит очень живые сны, и нередко я замечаю, как он впадает в то приятное, мечтательное настроение, в тот лунатический бред, в то странное состояние, граничащее между сном и бодрствованием, которое внушает поэтическим душам гениальные мысли. С некоторых пор он необыкновенно стонет и охает, и я подозреваю, что он или влюблен, или сочиняет трагедию.
Крейслер громко рассмеялся и воскликнул:
– Ну поди сюда, умный, благонравный, забавный, поэтический кот Мур, позволь нам…
(М. пр.) …о моем первоначальном развитии и главное – о юношеских месяцах моей жизни.
В высшей степени поучительно, когда личность высокого ума подробно рассказывает в автобиографии о всех событиях своей молодости, даже самых незначительных. Да и может ли быть незначительно что-либо, касающееся гения? Все, что он предпринял или не предпринял во времена своего отрочества, в высшей степени важно и проливает яркий свет на сокровенный смысл его бессмертных творений. Благородная гордость поднимается в груди пылкого юноши, мучимого сомнениями в своих силах, когда он читает, что и великий человек в детстве играл в солдатики, был лакомкой, иногда получал колотушки, бывал ленив, шаловлив и бестолков. «Совсем как я, совсем как я!» – в восхищении восклицает юноша и не сомневается больше в том, что он – такой же великий гений, как и его кумир.
Многие, читая Плутарха или только Корнелия Непота, воображали себя героями, а читая в переводах трагедии древних, а также Кальдерона, Шекспира, Шиллера и Гёте, воображали себя если не великими поэтами, то хоть маленькими, милыми стихотворцами, которых очень любит публика. Так, вероятно, и мои творения зажгут высокий пламень поэзии в груди многих юных котов, богато одаренных разумом и чувством, и если благородный юноша-кот прочтет на крыше мои биографические забавы и проникнется возвышенными идеями книги, которую я держу теперь в лапах, он воскликнет в восторженном порыве: «Мур, божественный Мур, величайший гений нашей породы! Тебе, тебе обязан я всем, твой пример делает меня великим!»
Очень похвально, что, воспитывая меня, мейстер Абрагам не придерживался ни забытой системы Базедова, ни мето́ды Песталоцци, а предоставлял мне полную свободу развиваться самостоятельно, требуя, чтобы я руководствовался только некоторыми главными принципами, которые он считал необходимыми в обществе, господствующем на земле. Он думал, что общественная жизнь была бы немыслима, если бы мы стали бессмысленно и слепо кидаться друг на друга, угощая встречных толчками и пинками. Эти принципы мейстер Абрагам называл естественной вежливостью в противоположность условной, в силу которой следует говорить «виноват», когда какой-нибудь болван набежит на тебя или наступит тебе на ногу. Быть может, эта вежливость и нужна людям, но я не могу понять, почему должна она связывать также и нашу свободную породу, а так как главное средство, которым мейстер Абрагам внедрял в меня эти принципы, был один роковой березовый хлыст, то я имею полное основание жаловаться на строгость моего воспитателя. Я убежал бы от хозяина, если бы меня не связывало с ним мое прирожденное стремление к высокой культуре. Чем больше культуры, тем меньше свободы, это – несомненная истина. С культурой возникают потребности, с потребностями… Вот именно немедленное удовлетворение некоторых естественных потребностей без уважения ко времени и месту было первое, от чего совершенно отучил меня хозяин при помощи рокового березового хлыста. Потом мы перешли к обжорству, которое, как я убедился впоследствии, происходит от особого ненормального состояния духа. Это состояние – вероятное следствие моей психической организации – побуждало меня оставлять молоко и даже мясо, поставленное передо мной хозяином, вскакивать на стол и слизывать то, что хозяин приготовил себе. Я испытал силу березового хлыста и – перестал делать это. Теперь я вижу, что хозяин был прав, отвлекая мой ум от того, что, как мне известно, приводило к величайшим несчастиям и доводило до печального состояния многих из моих добрых собратьев, менее культурных и хуже меня воспитанных. Мне известно, например, что один многообещающий юный кот, не имея духовной силы противостоять искушению вылакать горшок молока, поплатился за это удовольствие хвостом и, осмеянный, опозоренный, должен был удалиться от мира. Итак, хозяин был прав, отучая меня от этого, но я не могу простить ему того, что он противился моему стремлению к наукам и искусствам. Ничто не привлекало меня в комнате хозяина так сильно, как письменный стол, загроможденный книгами, бумагами и разными странными инструментами. Я могу сказать, что этот письменный стол притягивал меня магической силой, но я ощущал некоторый священный ужас, который мешал мне вполне отдаться моему увлечению. Однажды, когда хозяина не было в комнате, я победил свой страх и вскочил на стол. Как я был счастлив, когда очутился наконец между книгами и бумагами и начал рыться в них! Нет, это были не шалость и не любопытство, а только жажда знания; я схватил в лапы одну рукопись и до тех пор таскал ее во все стороны, пока она не оказалась разорванною на мелкие части. Тут вошел хозяин; увидав, что случилось, он бросился ко мне с обидным возгласом «Проклятое животное!» и так жестоко наказал меня березовым хлыстом, что я, визжа от боли, забился под печку и целый день не откликался на самые ласковые слова. Кого бы не отучило такое испытание от желания следовать влечению, хотя бы и вложенному в него самой природой? Едва я оправился, как снова вскочил на стол, следуя непобедимому влечению. Правда, достаточно было одного слова хозяина, одного возгласа «Не сметь!», чтобы согнать меня со стола, так что ученье мое все еще не начиналось. Я терпеливо ждал удобной минуты, чтобы начать занятия, и эта минута скоро настала. Однажды хозяин собрался выйти из дому, причем я так хорошо спрятался в комнате, что он не нашел меня: я знал, что он хотел выгнать меня, помня о разорванной рукописи. Как только он вышел, я одним прыжком вскочил на письменный стол и разлегся на бумагах, что доставило мне необыкновенное наслаждение. С восхищением открыл я лапой довольно толстую книгу, лежавшую передо мной, и попробовал понять начертанные в ней знаки. Сперва мне это не удавалось. Я не читал, а только смотрел в книгу, ожидая, что на меня снизойдет вдохновение и научит меня читать. В таком положении застал меня хозяин. Он громко воскликнул: «Ах, ты, скверное животное!» – и подскочил ко мне. Спасаться было уже поздно. Я прижал уши, свернулся в клубок и уже чувствовал хлыст над спиной. Но хозяин, занесший руку, вдруг опустил ее, разразился смехом и воскликнул: «Кот, кот, да ты читал? Этого я не могу и не хочу тебе запретить. Какова жажда образования!» Он вытащил книгу у меня из-под лап, заглянул в нее и захохотал еще громче. «Мне кажется, – сказал он, – что ты составил себе собственную маленькую библиотеку, так как я не знаю сам, как попала сюда эта книга. Ну читай же, учись прилежно, котик, ты можешь даже отмечать легкими штрихами места, поразившие тебя в книге, – я тебе это позволяю». При этом он опять подложил мне раскрытую книгу. Это было, как я узнал впоследствии, сочинение Книгге «Об обхождении с людьми», и я почерпнул в этом прекрасном произведении много житейской мудрости.
Оно написано совершенно в моем духе и так подходит к котам, желающим играть некоторую роль в человеческом обществе, что просто удивительно. Тенденция книги, насколько мне известно, до сих пор еще не принята во внимание, и потому сложился фальшивый взгляд, будто человек, точно придерживающийся правил, изложенных в этой книге, непременно делается черствым педантом. С этого времени хозяин не только пускал меня на свой письменный стол, но ему даже нравилось, когда я вскакивал на стол и располагался между бумагами, пока он работал.
У мейстера Абрагама была привычка часто читать вслух. При этом я не упускал случая так садиться, чтобы заглядывать ему в книгу, что при остроте зрения, которым наделила меня природа, я мог делать, сидя довольно далеко от него. Я сравнивал письменные знаки с произносимыми им словами и в короткое время научился читать. Тот, кому покажется это невероятным, не имеет никакого понятия о необычайных способностях, вложенных в меня природою. Гениальные умы, которые меня поймут и оценят, конечно, не усомнятся в возможности такого способа обучения, так как они, вероятно, испытали его на себе. При этом я не могу не поделиться одним интересным наблюдением, сделанным мною относительно понимания человеческой речи. Я заметил, что я не знаю, как достиг я этого понимания. С людьми случается то же самое, но это не кажется мне чудом, потому что порода эта бывает в детстве гораздо глупее и неуклюжее нас. Когда я был маленьким котиком, мне никогда не случалось царапать себе глаза, хвататься за огонь или съедать сапожную ваксу вместо вишневого киселя, как это часто бывает с детьми.
Начав свободно читать и с каждым днем все более начиняться чужими мыслями, я почувствовал непреодолимое желание спасти от забвения свои собственные мысли, порожденные моим гением, но для этого нужно было владеть трудным искусством писания. Как внимательно ни следил я за рукою хозяина в то время, как он писал, мне не удавалось усвоить его приемы. Я изучал старого Гильмара Кураса, – единственный учебник чистописания, который был у хозяина, – и почти пришел к убеждению, что загадочную трудность писания можно победить только большими манжетами, надетыми на пишущей руке, изображенной в учебнике; то, что хозяин писал без манжет, доказывало, как я думал, только его необыкновенное искусство, подобно тому, как опытный плясун на канате не нуждается уже в палке для сохранения равновесия. Я мечтал о манжетах и хотел уже надеть на правую лапу ночной чепчик нашей старой служанки, как вдруг в минуту вдохновения явилась у меня гениальная мысль, которая все перевернула. Я открыл, что невозможность держать перо и карандаш так, как держит хозяин, происходила, вероятно, от различного строения наших рук, и это открытие подтвердилось.
Я должен был найти новый способ писания, приспособленный к строению моей правой лапки, и я, конечно, нашел этот способ. Так возникают новые системы, порожденные особой организацией индивидуумов.
Другая трудность заключалась в макании пера в чернильницу. Мне не сразу удалось уберечь свою лапу: она все попадала в чернила, поэтому почерк моих первых страниц, написанных больше лапой, чем пером, вышел немного груб. Непонятливые субъекты могут принять мои первые рукописи за бумагу, закапанную чернилами, но выдающиеся умы легко угадают гениального кота в его первых творениях и будут удивляться глубине и полноте ума, впервые вырвавшегося наружу. Чтобы свет не спорил о порядке моих бессмертных творений, я скажу, что прежде всего я написал философски-сентиментально-дидактический роман «Мысль и догадка, или Кот и собака». Уже и это произведение заслуживает величайшего внимания. Потом я, успешно пробуя себя в разных областях знания, написал политическую статью под названием «О мышеловках и их влиянии на миросозерцание и деятельность кошачества». Затем я вдохновился и написал трагедию «Крысиный царь Кавдаллор». Эта трагедия должна была бы пользоваться блестящим успехом и, если бы ее поставили, наверное, прошла бы множество раз во всех театрах, какие только существуют на свете. Эти произведения моего возвышенного ума должны стоять на первом месте в ряду моих сочинений. О том, как и почему они были написаны, я скажу в надлежащем месте.
По мере того, как я выучивался держать перо и не пачкать лапы, мой стиль делался свободнее, чище и приятнее, я с удовольствием располагался на альманахе муз, писал разные милые вещицы и вообще скоро сделался тем чувствительным и милым мужчиной, каким остаюсь и поныне. Я чуть было не написал героической поэмы в 24 песни, но у меня вышло нечто совсем другое. И за это Тассо и Ариост должны благодарить небо в своих могилах. Если бы из-под моих лап вышла действительно героическая поэма, ни один человек не захотел бы читать ни того, ни другого. Теперь я приступлю к…
(М. л.) …для полного понимания моего рассказа, читатель, я считаю необходимым объяснить тебе положение дел.
Всякий, кто хоть раз побывал в гостинице красивого городка Зигхартсвейлера, конечно, уже слышал про князя Иринея. Закажет, например, гость хозяину блюдо форелей, которыми славится эта страна, и хозяин сейчас же скажет: «Наш светлейший князь, сударь, тоже любит кушать форель, и я умею приготовлять эту рыбу совершенно так, как готовят ее при дворе».
Образованный путешественник знал из новейших географий, карт и статистических отчетов, что городок Зигхартсвейлер с окрестностями и с Гейерштейном находился в великом герцогстве, по которому он проезжал. Ни о каком князе там не упоминалось, и он должен был весьма удивиться, найдя здесь его светлость и двор. Вот, однако, в чем дело: князь Ириней действительно управлял маленькой земелькой близ Зигхартсвейлера и с помощью хорошей подзорной трубы мог обозревать все свои владения с бельведера своего дворца. Неминуемым следствием этого было то, что счастье и несчастье его любезных подданных были постоянно у него на виду. Во всякую минуту мог он знать, какова пшеница у Петера, живущего в отдаленнейшем участке его владений, а также наблюдать, прилежно ли возделывают Ганс и Кунц свои виноградники. Говорят, что князь Ириней выронил свою землю из кармана во время одной прогулки через границу. Как бы то ни было, но в новом, исправленном и дополненном, издании великого герцогства земелька князя Иринея оказалась приписанной к герцогству. Князя избавили от тягот правления, уделяя ему ежегодно из его прежних доходов довольно крупную сумму, которую он проживал в прелестном Зигхартсвейлере.
Кроме своей земельки, князь Ириней владел еще и значительным капиталом, которого у него не отняли и теперь. Итак, он превратился из мелкого правителя в богатого частного человека, который мог располагать своей жизнью по собственному усмотрению.
Князь Ириней слыл за тонко образованного человека, склонного к наукам и искусствам. Часто он, проходя, жаловался на тяготы правления и выразил однажды в прелестных стихах романтическое желание вести одинокую, идиллическую жизнь в маленьком домике, окруженным домашними животными. Поэтому можно было ожидать, что теперь он посвятит себя радостям домашней жизни, как подобает богатому и независимому частному человеку. Однако этого не случилось.
Быть может, любовь сильных мира к наукам и искусствам есть только неотъемлемая часть придворной жизни. Приличия требуют любить картины и слушать музыку, и было бы странно, если бы придворные переплетчики бездельничали и не одевали в золото и кожу произведений новейшей литературы. Если же эта любовь составляет неотъемлемую часть придворной жизни, то она должна исчезать вместе с ней и вспоминаться лишь, как существенное утешение в печали о потерянном троне или маленьком стуле регента, на котором привыкли сидеть.
Но князь Ириней оставил за собой и то, и другое: и придворную жизнь, и любовь к наукам и искусствам, он видел наяву приятный сон, в котором фигурировал он сам, его близкие и весь Зигхартсвейлер.
Он жил так, как будто продолжал управлять страною: держал придворный штат, государственного канцлера, финансовую коллегию и т. д. У него был свой этикет, он давал даже придворные балы, на которых бывало от двенадцати до пятнадцати особ. На этих балах этикет соблюдался строже, чем при больших дворах, а город был довольно добродушен и делал вид, что придает значение фальшивому блеску этого призрачного двора. Добрые зигхартсвейлерцы называли князя Иринея «ваша светлость», иллюминовали город в день его именин и в именины членов его семьи и охотно жертвовали собой для удовольствия двора, как афинские мастеровые в шекспировом «Сне в летнюю ночь».
Надо признаться, что князь Ириней выдерживал свою роль с большой серьезностью и умел заражать этой серьезностью всех окружающих. Вот появляется в зигхартсвейлерском клубе княжеский советник финансов. Он мрачен, сосредоточен и скуп на слова. На челе его ходят тучи. Часто впадает он в глубокое раздумье и по временам быстро поднимает голову, как бы внезапно проснувшись. В его присутствии едва смеют громко говорить и двигаться; как только бьет девять часов, он вскакивает и берет свою шляпу. Тщетно стараются его удержать. Он заявляет с гордой улыбкой, что его ждут кипы бумаг, что ему нужно просидеть всю ночь, готовясь к очень важному, последнему в этой четверти года, заседанию коллегии и быстро уходит, повергая все общество в благоговейное удивление перед необыкновенной важностью и трудностью его службы. В чем же состоят важные дела, к которым нужно готовиться всю ночь этому несчастному человеку? Это просто хозяйственные счета из всех департаментов, как-то: гардеробной, кухни, буфета и т. д. Они накопились за четверть года, и ему предстоит составить об этом доклад. Немало сочувствовали в городе и бедному княжескому каретнику, но в то же время о решении, которое приняла по этому поводу княжеская коллегия, отзывались так: «Строго, но справедливо». Согласно полученному предписанию, каретник продал половину одного экипажа, пришедшую в негодность, и под страхом немедленной отставки должен был в течение трех дней указать коллегии, куда девал он другую половину, которая, может быть, еще годилась на что-нибудь.
Самой яркой звездой при дворе князя Иринея была советница Бенцон, вдова под сорок лет, когда-то признанная красавица, еще и теперь не утратившая своей привлекательности.
Несмотря на то, что вряд ли она была дворянского происхождения, князь Ириней раз навсегда дал приказ принимать ее при дворе. Ее светлый, проницательный ум, живой нрав и житейская мудрость при известной холодности характера, неизбежно связанной с уменьем повелевать, поддерживали ее власть во всей силе, так что она держала в руках все нити, управлявшие кукольной комедией этого миниатюрного двора. Ее дочь Юлия выросла с принцессой Гедвигой, и советница имела такое влияние на душевный склад принцессы, что она казалась чужой в кругу княжеского семейства и резко отличалась от брата. Юный князь Игнатий был обречен на вечное детство: он был почти идиот. Так же близко стоял ко двору и таким же влиянием, только совсем иначе, пользовался тот удивительный человек, который уже известен тебе, читатель, как maître de plaisir[7] и насмешливый чернокнижник при дворе князя Иринея. Мейстер Абрагам попал в княжеское семейство при весьма странных обстоятельствах. Блаженной памяти папаша князя Иринея был человек простого и мягкого нрава. Он видел, что всякое напряжение может только сломать маленький, слабый механизм его государственной машины вместо того, чтобы дать ему лучшее направление. Поэтому он оставлял все по-старому, и, если у него не было случаев выказать блестящий ум или другие особые дары неба, он довольствовался тем, что всем было хорошо в его княжестве и что по отношению к иностранцам с ним было то же, что с женщинами, которые пользуются наилучшей репутацией, если о них не говорят. При маленьком дворе князя было чопорно, церемонно и старомодно, князь не принял новых идей, появившихся в последнее время, и все это происходило от неподвижности того деревянного механизма, который составляли вместе его обер-гофмейстеры, гофмаршалы и камергеры. Но в этом механизме работало маховое колесо, которого не мог остановить никакой гофмейстер. Это было свойственное князю стремление к чудесному и таинственному. Часто любил он, по примеру достойного калифа Гарун-аль-Рашида, ходить переодетым по городу и по окрестностям, желая удовлетворить свое стремление к чудесному, идущее вразрез с остальным складом его жизни, или хоть дать ему пищу. Он надевал тогда круглую шляпу и серое пальто, вследствие чего все знали с первого взгляда, что князя теперь не следует узнавать. Случилось однажды, что переодетый таким образом и неузнаваемый князь шел по аллее, ведущей от дворца в дальний угол поместья, где стоял домик вдовы княжеского повара. Придя к домику, князь увидал двух людей, закутанных в плащи, стремительно выскочивших из двери. Князь отошел в сторону. Историограф княжеского дома, у которого я заимствую эти сведения, уверяет, что князь не мог быть ни замечен, ни узнан, даже если бы надел вместо серого пальто блестящий придворный костюм со сверкающей орденской звездой, так как вечер был необыкновенно темен. Когда обе закутанные фигуры медленно проходили мимо князя, он услышал следующий разговор. Один говорил: «Прошу тебя, брат, успокойся и не будь на этот раз ослом! Человека этого нужно удалить прежде, чем князь о нем что-либо узнает. Мы должны вытолкать в шею этого проклятого колдуна, а не то он погубит нас всех своим сатанинским искусством». Другой отвечал: «Mon cher frère[8], ты можешь не горячиться на этот счет, ты знаешь мое искусство, мое savoir fair[9]. Завтра я разделаюсь с этим опасным человеком, и он может проделывать свои штуки, где ему угодно. Здесь ему нельзя оставаться, ведь князь…»
Голоса затихли; князь так и не узнал, за кого считал его гофмаршал, так как особы, вышедшие из дома и разговаривавшие таким образом, были не кто иные, как гофмаршал и его брат обер-егермейстер. Князь прекрасно узнал их по выговору.
Конечно, князь немедленно решил отыскать этого опасного колдуна, знакомству его с которым желали помешать. Он постучал в дверь домика. Вдова вышла со свечой в руках и, увидев серое пальто и круглую шляпу, спросила с холодной вежливостью:
– Что вам угодно, monsieur[10]?
Monsieur обозначало самого князя, так как он был переодет и неузнаваем. Князь спросил о незнакомце, который, как он узнал, находился в гостях у вдовы, и узнал, что это очень известный фокусник, снабженный многими аттестатами и привилегиями и желавший показать здесь свое искусство. Вдова рассказала, что у него только что были два придворных господина, перед которыми он проделал совершенно непонятные вещи. Они были так поражены, что оставили ее дом бледные и расстроенные. Не расспрашивая больше, князь вошел в дом. Мейстер Абрагам (он и был знаменитый фокусник) встретил его, как давно ожидаемого гостя, и запер за ним дверь.
Никто не знает, что делал мейстер Абрагам. Известно только, что князь провел с ним всю ночь, а на другое утро во дворце были приготовлены комнаты для мейстера Абрагама, куда князь мог незаметно проходить через потайной ход из своего кабинета. Известно также, что князь не называл больше гофмаршала «mon cher ami»[11] и никогда уже не заставлял обер-егермейстера рассказывать про удивительную охоту на рогатого белого зайца, которого он – обер-егермейстер – никак не мог подстрелить на своей первой охоте. Это повергло обоих братьев в такую печаль и уныние, что они скоро оставили двор. Известно, наконец, и то, что мейстер Абрагам удивил весь двор, город и государство не только своими фокусами, но также и все возрастающим влиянием на князя.
О фокусах его вышеупомянутый историограф княжеского дома рассказывает столько невероятного, что нельзя их описывать, не рискуя потерять доверие читателя. Самый удивительный фокус, по мнению историографа, доказывающий, по его уверению, преступную связь мейстера Абрагам с таинственными силами, есть не что иное, как акустическая игра. Фокус этот, пользовавшийся впоследствии огромным успехом, был известен под названием «невидимой девушки»; эту игру мейстер Абрагам умел уже и тогда обставлять самым фантастическим, поразительным и остроумным образом.
Известно было, что сам князь занимался с мейстером Абрагамом некоторыми магическими операциями, и между придворными дамами, камергерами и другими лицами, допущенными ко двору, возникло приятное соревнование в глупых и бессмысленных догадках относительно этих фокусов. Утверждали, что мейстер Абрагам обучает князя делать золото, так как иногда из лаборатории поднимался дым, и что князь, через посредство мейстера Абрагама, общается с духами и совещается с ними. Все были убеждены, что князь не выдавал ни одного патента, не разрешал ни одной просьбы придворного истопника, не посоветовавшись с «добрым демоном», со «spiritus familiaris»[12] или с небесными светилами.
Когда умер старый князь, и сын его Ириней принял бразды правления, мейстер Абрагам покинул страну.
Молодой князь, не унаследовавший от отца склонности к чудесному и загадочному, не удерживал его, но скоро нашел, что магическая сила мейстера Абрагама была очень полезна для заклинания некоего злого духа, который слишком часто поселяется при маленьких дворах, т. е. духа адской скуки. Уважение, которым пользовался прежде мейстер Абрагам, пустило глубокие корни в сердце юного князя. Минутами мейстер Абрагам казался князю Иринею сверхъестественным существом, стоявшим выше всего человеческого. Говорят, что это совершенно особое ощущение осталось у него после одного незабвенного критического момента, пережитого князем в детстве. Как-то раз вбежал он из детского любопытства в комнату мейстера Абрагама и сломал маленькую машину, сделанную мейстером с большим трудом и искусством. Мейстер Абрагам в гневе дал сиятельному олуху изрядную пощечину и вывел его из комнаты в коридор с некоторой, не совсем приятной поспешностью. Проливая слезы, юный князь едва мог выговорить слова: «Abraham… soufflet»[13], – так что пораженный обер-гофмейстер счел опасным и нескромным глубже проникнуть в страшную тайну князя, которую он осмеливался подозревать.
Князь живо почувствовал необходимость сохранить при себе мейстера Абрагама как живое олицетворение придворного механизма, но все старания вернуть его были напрасны. Однако после той роковой прогулки, когда князь Ириней потерял свою землю и завел в Зигхартсвейлере химерическую придворную жизнь, мейстер Абрагам появился снова, и надо признаться, что он не мог прийти более кстати, так как, не говоря уже о том, что…
(М. пр.) …удивительному событию, которое, – воспользуюсь остроумным выражением всех биографов, – составило эпоху в моей жизни.
Читатели! Юноши, мужчины, женщины, под чьими шкурками бьются чувствительные сердца, стремящиеся к добродетели! Если вы цените нежные узы, которыми соединяет нас природа, то вы меня поймете и полюбите!
День был жаркий. Я спал до вечера под печкой. Спустился сумрак, и свежий ветер повеял в окно моего хозяина. Я пробудился от сна; моя грудь расширялась под влиянием неизъяснимого чувства: в нем было и горе, и радость, и самые сладостные предчувствия. Чувство это побудило меня подняться и сделать известное выразительное движение: выгнуть спину, как сказали бы бездушные люди. Меня влекло туда, туда – на лоно свободной природы. Я вышел на крышу и стал весело бродить под лучами заходящего солнца. Тогда услыхал я с чердака невыразимо приветливые, сладкие, ласкающие звуки; что-то неведомое влекло меня к себе с непобедимой силой. Я покинул прекрасную природу и проник на чердак через слуховое окно. Спрыгнув туда, я увидел большую, красивую кошку с белыми и черными пятнами; она сидела в приятной позе на задних лапках, издавая ласкающие звуки, и смотрела на меня испытующим взглядом. Я немедленно сел против нее и, следуя внутреннему влечению, старался вторить той песне, которую пела пятнистая красавица. Я должен сказать, что это удалось мне свыше всякой меры, и с этой минуты, – замечу это для психологов, изучающих мою жизнь, – я почувствовал веру в свой музыкальный талант; но вот что удивительно: вместе с верой возник и самый талант. Взгляд пестрой кошки становился все пристальнее и острее. Вдруг она смолкла и прыгнула ко мне. Я выпустил когти, не ожидая ничего хорошего, но в эту минуту из глаз красавицы брызнули слезы, и она воскликнула:
– О сын мой, сын мой, приди в мои лапы! – Потом она обняла меня и воскликнула, прижимая к груди: – Да, это ты, мой сын, милый сын мой, которого я произвела на свет без особых страданий!
Я почувствовал глубокое волнение; уже одно это чувство свидетельствовало о том, что пестрая кошка была моя мать, но я все-таки спросил ее, твердо ли она в этом уверена.
– Ах, это сходство! – сказала пестрая кошка. – Эти глаза, эти черты лица, эти усы и шкурка – все живо напоминает мне того неверного, неблагодарного, который меня покинул. Ты – точное подобие отца, милый Мур, – ведь так тебя зовут? Но я надеюсь, что вместе с красотой отца ты унаследовал образ мыслей и добрый нрав твоей матери Мины. У отца твоего была очень внушительная осанка, лицо его выражало много достоинства, зеленые глаза сверкали умом, на усах и щеках часто играла приветливая улыбка. Эти физические преимущества, вместе с умом и той любезной легкостью, с которой он ловил мышей, покорили мое сердце. Но скоро обнаружился его тяжелый и деспотический нрав, который он сперва искусно скрывал. О ужас!.. Едва ты родился, как отец хотел съесть тебя и твоих братьев!
– Дорогая мамаша, – перебил я пеструю кошку, – не осуждайте эту склонность. Самый образованный народ на земле приписывает богам эту удивительную склонность к детоедению, но Юпитер был спасен так же, как я!
– Я не понимаю тебя, сын мой, – ответила Мина, – мне кажется, что ты или говоришь глупости, или желаешь оправдать отца. Не будь неблагодарным: ты наверно был бы сожран этим кровожадным тираном, если бы я не защищала тебя храбро вот этими острыми когтями и не скрывалась туда и сюда: то в погреб, то на чердак, то в конюшню, спасая тебя от преследований противоественного варвара. Наконец он меня покинул. Больше я никогда его не видала. Но сердце мое и теперь еще полно им! Он был красивый кот! Многие принимали его за странствующего графа, судя по его важной осанке и изящным манерам. Потеряв его, я мечтала вести спокойную жизнь в тесном домашнем кругу, посвятив себя детям. Но, увы, меня ждал новый, страшный удар! Когда я вернулась с небольшой прогулки, я не нашла детей. Ты исчез вместе с твоими братьями! За день перед тем одна старая женщина открыла мое убежище и говорила что-то ужасное о том, что надо бросить вас в воду и т. п. Счастье твое, что ты спасся! О милый сын мой, приди ко мне на грудь!
Пестрая мамаша ласкала меня с большой нежностью и расспрашивала о всех событиях моей жизни.
Я рассказал ей все, как было, и не забыл упомянуть о моем высоком развитии и о том, как я его достиг.
Казалось, редкие способности сына радовали Мину менее, чем можно было ожидать. Да, она ясно дала мне понять, что я со своим необыкновенным умом и глубокой ученостью стою на фальшивой дороге, которая может привести меня к гибели. Она убеждала меня не открывать мейстеру Абрагаму приобретенных мною познаний, так как он мог ими воспользоваться, чтобы обречь меня на позорное рабство.
– Я не так образованна, как ты, – сказала Мина, – но не лишена природных способностей и приятных талантов. К ним причисляю я, например, уменье пускать искры из шкурки, когда меня гладят. Сколько мучений принес мне этот единственный талант! Дети и взрослые постоянно хлопали меня по спине, желая увидеть этот фейерверк, и, когда я отпрыгивала от них или показывала когти, меня называли диким животным, а иногда и наказывали… Итак, если мейстер Абрагам узнает, что ты умеешь писать, милый Мур, он сделает тебя своим переписчиком, и то, что ты делал по склонности, обратится в обязанность.
Мина много говорила о моих отношениях к мейстеру Абрагаму и о моем образовании, но только позднее увидел я, что ею руководило не отвращение к наукам, а истинная житейская мудрость.
Я узнал, что Мина жила у соседки в довольно стесненных обстоятельствах и что ей было трудно снискивать себе пропитание. Это глубоко потрясло меня. Сыновняя любовь проснулась в моей груди со всей силой: я вспомнил о прекрасной селедочной головке, оставшейся у меня от вчерашнего обеда; я решил принести ее моей доброй матери, которую так неожиданно нашел.
Кто опишет непостоянство нашего сердца? Зачем предает нас судьба игре жестоких страстей? Зачем мы, слабые тростинки, должны гнуться под бурей жизни? Неумолимая судьба! О аппетит, твое имя – Кот! Неся в зубах селедочную головку, взбирался я, как второй pius Aeneas[14], по крыше и хотел уже влезть в слуховое окно. Но тут я пришел в состояние, которое как-то странно отчуждало мое «я» от меня самого и вместе с тем как будто и было моим настоящим «я». Полагаю, что я выражаюсь достаточно ясно, чтобы в описании моего состояния каждый увидел глубину проницательного психолога. Я продолжаю. Странное чувство, состоящее из желания и нежелания, смутило мой ум и победило меня… Сопротивление было невозможно, я… съел селедочную головку!
Я слышал, как печально мяукала Мина, печально звала она меня по имени. Терзаемый раскаянием и стыдом, я прыгнул назад, в комнату хозяина и забился под печку. Тогда стали преследовать меня самые мрачные образы. Я увидел Мину, мою вновь обретенную пеструю мать, безутешную, покинутую, тоскующую об обещанной пище, близкую к потере чувств… А!.. Ветер в дымовой трубе завывал: «Мина, Мина!..» – «Мина!» – шелестели бумаги мейстера Абрагама, «Мина!» – говорили тростниковые стулья. «Мина» – жаловалась печная заслонка. Сердце мое разрывалось. Я решил при первой возможности пригласить к утреннему молоку мою бедную мать. Эта мысль снизошла на меня освежающей тенью и наполнила меня блаженным спокойствием. Я прижал уши и заснул.
О вы, понявшие меня, чувствительные души! Вы увидите, если вы только не ослы, а настоящие, честные коты, вы увидите, говорю я, что эта буря в моей груди должна была очистить небо моей юности, как благодетельный ураган, который, рассеяв мрачные облака, раскрывает чистейшие горизонты. Как ни тяжело легла на мою душу эта селедочная головка, я все-таки узнал теперь, что такое аппетит, а также и то, что бороться с матерью-природой – дерзость. Пусть всякий сам снискивает себе селедочные головки и не рассчитывает на уменье других, которые, движимые законным аппетитом, ищут их для себя.
Так заключу я этот эпизод моей жизни…
(М. л.) …хуже всего для историографа или биографа, когда приходится ему, подобно человеку, скачущему на диком коне, носиться то туда, то сюда, перепрыгивать через овраги, камни и заборы, вечно ища желанной дороги и никогда ее не находя. Так случилось с тем, кто решил записать для читателей то, что узнал он про удивительную жизнь капельмейстера Иоганна Крейслера. Охотно начал бы он так: «В маленьком городке Н. или Б. или К. весной или осенью такого-то года увидел свет Иоганн Крейслер».
Но такой прекрасный хронологический порядок здесь невозможен, так как в распоряжении несчастного рассказчика есть только отрывочные сведения, которые он должен сейчас же обрабатывать, чтобы ему не изменила память.
Как составлялись эти сведения, ты можешь узнать в конце книги, милейший читатель, и тогда ты, быть может, простишь мне рапсодический характер всего произведения, а может быть – даже подумаешь, что, несмотря на кажущуюся отрывочность, крепкая нить соединяет все части его воедино.
В эту минуту я хочу рассказать только то, что вскоре после прибытия князя Иринея в Зигхартсвейлер в один прелестный летний вечер принцесса Гедвига и Юлия гуляли по прекрасному зигхартсвейлерскому парку. Лучи заходящего солнца пронизывали лес золотой сетью; в молчании стояли кусты и деревья, ожидая ласкающего вечернего ветра. Только журчанье лесного ручья, пробиравшегося по белым камешкам, нарушало глубокую тишину.
Молча, рука об руку, шли девушки по дорожкам, переходили через мостики, перекинутые через изгибы ручья, и, наконец, пришли к большому озеру, где отражался далекий Гейерштейн со своими живописными развалинами.
– Как хорошо! – воскликнула Юлия.
– Пойдем в рыбачий домик, – сказала Гедвига, – солнце ужасно жжет, а там из среднего окна вид на Гейерштейн еще лучше, чем здесь, так как местность там представляет настоящую картину, а не панораму.
Юлия последовала за принцессой, которая, едва взглянув в окно, потребовала карандаш и бумагу, чтобы нарисовать открывавшийся вид, находя его необыкновенно удачным.
– Я хотела бы, – сказала Юлия, – обладать твоим искусством рисовать с натуры кусты, деревья, озера и горы. Но я знаю, что если бы я умела рисовать даже не хуже тебя, мне никогда не удалось бы срисовать ландшафт с натуры, и чем он был бы лучше, тем мне было бы труднее. Мне кажется, что от радости и восторга я не могла бы приняться за работу.
При этих словах Юлии на лице принцессы мелькнула улыбка, которая могла бы показаться опасной для шестнадцатилетней девушки. Мейстер Абрагам, выражавшийся иногда немного своеобразно, говорил, что такую игру лица можно сравнить с рябью на поверхности воды, если в глубине ее есть нечто угрожающее. Итак, принцесса улыбнулась. Когда же она открыла свои розовые уста, чтобы ответить кроткой и безыскусственной Юлии, совсем близко от них раздались аккорды, зазвучавшие сильно и дико: почти не верилось, что играют на простой гитаре. Обе девушки поспешно вышли из рыбачьего домика.
Теперь они еще отчетливей услышали странные модуляции и аккорды. К этому присоединился звучный мужской голос, который то разливался нежнейшей итальянской песней, то, вдруг обрываясь, переходил в строгие мрачные мелодии или в речитатив, придавая словам особое выражение.
Снова настраивают гитару, снова раздаются аккорды, все обрывается… опять настраивают гитару, потом слышны энергичные, точно в гневе сказанные, слова, потом мелодия, потом опять настраивание.
Заинтересовавшись этим странным виртуозом, Юлия и Гедвига подходили все ближе и ближе и, наконец, увидали человека в черном платье, сидящего к ним спиной на обломке скалы у самого озера. Это он так странно играл, пел и разговаривал. Только что перестроил он гитару каким-то особенным способом, попробовал взять несколько аккордов и воскликнул:
– Опять неверно, никакой чистоты, то чуть-чуть ниже, то чуть-чуть выше, чем нужно!
Взяв обеими руками инструмент, висевший у него через плечо на голубой ленте, он заговорил, держа его прямо перед собой:
– Скажи мне, маленькая, упрямая вещица, где же твой настоящий строй? В каком углу запряталась у тебя чистая гамма? Или ты, может быть, взбунтовалась против твоего господина и станешь уверять, что его ухо оглохло в кузнице темперированного строя, а его энгармонизм – пустая детская игра? Мне кажется, ты надо мной смеешься, несмотря на то, что борода моя выбрита гораздо лучше, чем у маэстро Стефано Пачини, detto il veneziano (прозванного венецианцем), вложившего в тебя дар гармонии, остающийся для меня неразгаданной тайной. Знай же, милая вещица, что если ты не дашь мне унисонирующих дуализмов Gis и As или Cis и Des, а также и других тонов, то я напущу на тебя девять новых ученых немецких музыкантов, и они уж тебя как следует выругают и будут честить самыми негармоническими словами. И тебе не удастся спастись в объятия твоего Стефано Пачини и оставить за собой последнее слово, как делают обыкновенно сварливые женщины. А может быть, ты очень горда и думаешь, что обитающие в тебе прекрасные духи покоряются только волшебной силе, давно уже покинувшей землю, и что в руках труса…
При последних словах человек этот вдруг замолк, вскочил с места и стал смотреть в озеро, погрузившись в глубокое раздумье. Девушки, пораженные этим странным поведением, стояли за кустом и едва смели дышать.
– Гитара, – вдруг заговорил человек, – это самый жалкий и несовершенный инструмент, он годится только для воркующих влюбленных пастушков, которые потеряли амбушюр и не могут так громко играть на свирели, чтобы будить эхо вместе с мычанием коров и в сладостном томлении посылать жалобные мелодии в дальние горы навстречу Эммелинам, сгоняющим милых животных при громком хлопаньи бича. О боже! Пастушки, «вздыхающие, как печки, с печальной песней к милым пастушкам», объясните им, что трезвучие состоит только из трех тонов, и что оно уничтожается острым ударом септимы, и тогда дайте им в руки гитару! Но серьезные люди с кое-каким образованием и громадной эрудицией, выдающие себя за греческих мудрецов и отлично знающие, что делается при пекинском или нанкинском дворе, не понимают ни черта ни в пастухах, ни в пастушестве; и что им за дело до вздохов и бренчанья? Что ты делаешь, дурак? Вспомни о покойном Гиппеле, уверявшем, что человек, обучающий игре на фортепиано, производит на него такое впечатление, как будто он сбивает яйца всмятку… А тут еще бренчанье на гитаре! Черт возьми!
При последних словах человек с досадой бросил инструмент в кусты и быстро ушел, не заметив девушек.
– Однако! – воскликнула Юлия со смехом. – Что ты скажешь, Гедвига, об этом необычайном явлении? Откуда взялся этот странный человек, который умеет так хорошо говорить со своим инструментом и потом бросает его, как разбитую коробку?
– Это нехорошо, – сказала Гедвига, вдруг рассердившись, и ее бледные щеки вспыхнули ярким румянцем, – нехорошо, что парк не заперт и всякий может в него входить.
– Как, – возразила Юлия, – ты думаешь, что князь должен бессердечно закрыть для зигхартсвейлерцев и для всех, кто идет по дороге, самое лучшее место в окрестностях? Не может быть, чтобы ты так думала!
– Но ты не думаешь, – еще с большим волнением сказала принцесса, – о той опасности, какой мы подвергаемся. Часто гуляем мы одни, как сегодня, по самым отдаленным дорожкам парка. И вдруг какой-нибудь злодей…
– Но, – прервала принцессу Юлия, – я не думаю, чтобы ты серьезно боялась, что из-за куста вдруг выйдет страшный великан или рыцарь и увезет нас в свой замок. Что может с нами случиться? Я должна признаться, что мне было бы даже приятно, если бы с нами случилось маленькое приключение в этом уединенном, романтическом лесу. Я вспомнила про шекспировское «Как вам будет угодно». Мама долго не давала нам этой комедии. Нам прочел ее наконец Лотарио. Ну отчего бы тебе не разыграть хоть Целию, а мне – твою верную Розалинду? Какую роль дадим мы нашему неизвестному виртуозу?
– О, – воскликнула принцесса, – этот неизвестный! Поверишь ли, Юлия, его вид и странные речи навели на меня необъяснимый ужас. И теперь еще я нахожусь под влиянием странного чувства, овладевшего всеми моими помыслами. В самой глубине моей души встает смутное воспоминание, которое я напрасно стараюсь выяснить. Я уже видела этого человека при каких-то ужасных обстоятельствах; быть может, это был только тяжелый сон, впечатление которого у меня осталось, но все равно: этот человек с его странным поведением и запутанными речами показался мне грозным призрачным существом, желавшим увлечь нас в заколдованный круг.
– Что за мысли! – воскликнула Юлия. – Я с своей стороны превращаю грозный призрак с гитарой в monsieur Жака или почтенного Оселка, философия которого звучит почти так же, как странные речи незнакомца… Но прежде всего нужно спасти бедную крошку, которую этот варвар бросил в кусты с таким ожесточением.
– Ради бога, Юлия, что ты делаешь? – воскликнула принцесса.
Но Юлия не обратила на ее возглас внимания, прыгнула в кусты и пришла через несколько минут, с торжеством неся гитару, брошенную незнакомцем.
Принцесса пересилила свой страх и внимательно рассматривала инструмент, странная форма которого указывала на его почтенный возраст; это подтверждали год и имя мастера, хорошо видные на дне через отдушину. Там выжжены были следующие слова: «Stefano Pacini fec. Venet.[15] 1532».
Юлия не могла удержаться: она взяла аккорд на струнах красивого инструмента и почти испугалась полноты и силы звука, изданного этой небольшой вещицей.
– Чудо, чудо! – воскликнула Юлия и заиграла еще. А так как она привыкла аккомпанировать себе на гитаре, то и запела почти невольно, продолжая идти вперед. Принцесса молча следовала за ней. Юлия остановилась. Тогда Гедвига сказала:
– Пой, играй на этом волшебном инструменте: может быть, тебе удастся прогнать в ад злых духов, которые хотели мной овладеть.
– Что ты толкуешь про злых духов, – возразила Юлия, – нас с тобой они не должны касаться! Но играть и петь я буду. Я никогда не думала, что найду инструмент, который будет мне так по руке, как этот. Мне кажется даже, что мой голос звучит с ним лучше обыкновенного.
Она начала петь известную итальянскую канцонетту и рассыпалась в красивых фиоритурах и смелых пассажах, давая волю звукам, таившимся в ее в груди. Если принцесса испугалась вида незнакомца, то Юлия уж совсем окаменела, когда он вдруг предстал перед ней на повороте дорожки.
Незнакомец, по виду лет тридцати, был одет в черный костюм, сшитый по последней моде. По одежде он ничем не отличался от молодых нарядных мужчин: ничего необычного, – но все же имел какой-то странный вид. Несмотря на опрятность его костюма, в нем была заметна некоторая небрежность, происходившая не столько от недостатка старания, сколько оттого, что человеку этому, видимо, пришлось сделать непредвиденное путешествие, к которому не был приспособлен его наряд. У него выбился жилет, галстук почти развязался, башмаки так запылились, что их золотые застежки были едва заметны. Странно было и то, что у его маленькой треугольной шляпы, предназначенной только для ношения под мышкой, были отогнуты передние поля для защиты от солнца. Очевидно, он пробирался сквозь самую густую чащу парка, так как его спутанные черные волосы были полны еловых игл. Он едва взглянул на принцессу и остановил на Юлии сверкающий взгляд больших темных глаз. Это усилило ее смущение: на глазах у нее выступили слезы, как это часто бывало с нею в таких случаях.
– И эти божественные звуки, – начал незнакомец мягким и нежным голосом, – замолкают и превращаются в слезы при виде меня?
Принцесса старалась побороть первое впечатление, произведенное на нее незнакомцем, гордо взглянула на него и сказала ледяным тоном:
– Нас поражает ваше нежданное появление. В это время в княжеском парке обыкновенно не бывает чужих. Я – принцесса Гедвига.
Едва заговорила принцесса, как незнакомец быстро повернулся к ней и стал смотреть ей прямо в глаза. При этом весь вид его изменился. Исчезло выражение задумчивой мечтательности, исчезла нежность в глазах, странная блуждающая улыбка появилась на губах, горькая ирония появилась на лице. Принцесса остановилась в середине речи, как бы пораженная электрическим ударом, и, вся покраснев, стояла, опустив глаза.
Казалось, незнакомец хотел что-то сказать, но в эту минуту заговорила Юлия.
– Ну не глупа ли я, – сказала она, – что пугаюсь и плачу, как малое дитя, наказанное за лакомство? Я действительно лакомилась: я наслаждалась чудными звуками вашей гитары. Во всем виноваты гитара и наше любопытство. Мы подслушали, как вы мило разговаривали с вашей гитарой, и видели, как потом, рассердившись, вы бросили бедняжку в кусты; она испустила громкий, жалобный вздох. Это поразило меня в самое сердце; я пошла в кусты и отыскала гитару. А потом… вы сами знаете, каковы девушки… я начала что-то бренчать на гитаре, и, раз уж она попалась мне в руки, я не могла с ней расстаться. Пожалуйста, извините меня и возьмите ваш инструмент.
И Юлия протянула незнакомцу гитару.
– Это очень редкий и звучный инструмент, – сказал незнакомец, – он принадлежит доброму старому времени, но в моих неловких руках… на что похожи эти руки!.. Куда они годятся?.. Удивительный дух гармонии, заключенный в этой странной вещице, живет также и в моей груди, но только он связан и неспособен сделать ни одного свободного движения. Из вашей же души он летит к небесам в тысяче переливающихся красок, как блестящая, пестрая бабочка! Когда вы пели, вся мука тоскующей любви, весь восторг сладостных грез, надежд и желаний – все это носилось по лесу и спускалось живительной росой в благоуханные венчики цветов и в грудь внимающих соловьев! Сохраните инструмент у себя. Вы одни повелеваете чарами, которые в нем заключены.
– Но ведь вы в гневе бросили инструмент, – сказала Юлия, сильно краснея.
– Это правда, – ответил незнакомец, порывисто схватывая гитару и прижимая ее к груди, – я бросил его, а теперь беру назад, как святыню, и никогда больше с ним не расстанусь.
Но тут лицо незнакомца снова приняло вид комической маски, и он сказал холодным тоном:
– Случай или, вернее, мой злой гений сыграл со мной очень плохую шутку: я должен был явиться перед вами, многоуважаемые дамы, совершенно ex abrupto[16], как говорили римляне и другие почтенные господа. О боже мой! Ваша светлость, рискните осмотреть меня с головы до ног. Быть может, вы заметите по моему костюму, что я собрался делать визиты. Я хотел побывать в Зигхартсвейлере и оставить этому доброму городу если не мою особу, то хоть мою визитную карточку. Не думаете ли вы, принцесса, что у меня мало связей? Но разве гофмаршал вашего папаши не был моим истинным другом? Я уверен, что если бы он меня увидел здесь, он прижал бы меня к своей атласной груди и сказал бы в волнении, предлагая мне табакерку: «Мы здесь одни, мой милый, и я могу дать волю моему сердцу». И я получил бы аудиенцию у светлейшего князя Иринея и был бы представлен также и вам, о принцесса, и заслужил бы ваше расположение, – бьюсь об заклад и ставлю мою лучшую коллекцию септ-аккордов против одной пощечины. Но здесь, в саду, в самом неприличном месте, между утиным прудом и лягушечьим болотом, я должен представляться сам, к моему великому горю. Боже мой! Если бы я умел колдовать хоть настолько, чтобы subito[17] превратить эту благородную зубочистку (он вынул зубочистку из жилетного кармана) в самого блестящего камергера княжеского двора, он взял бы меня под свое покровительство и сказал бы: «Ваша светлость, вот такой-то и такой-то»… Но теперь… che far, che dir![18] Простите, простите, о принцесса! О благородные дамы и господа!
Здесь незнакомец бросился на колени перед принцессой и запел пронзительным голосом: «Ah, pietà, pietà, signora!»[19]
Принцесса схватила Юлию за руку и побежала так быстро, как только могла, с громким криком:
– Это сумасшедший! Он убежал из сумасшедшего дома!
Из дворца вышла советница Бенцон и пошла навстречу девушкам, которые, едва дыша, почти упали к ее ногам.
– Боже мой, что случилось? Что значит это бегство? – спросила она.
Принцесса, совершенно расстроенная, могла сказать только несколько бессвязных слов про какого-то сумасшедшего, который попался им в парке, но Юлия спокойно и точно рассказала, как было дело, и прибавила, что она приняла незнакомца не за сумасшедшего, а за насмешливого хитреца, совершенно вроде monsieur Жака из комедии «В Арденском лесу».
Советница Бенцон попросила повторить рассказ. Она расспрашивала о мельчайших подробностях, заставила описать походку, осанку, костюм, тон речи незнакомца и наконец воскликнула:
– Да это наверное он! Это не может быть никто другой!
– Кто, кто «он»? – нетерпеливо спросила принцесса.
– Успокойтесь, дорогая Гедвига, – ответила Бенцон, – вы напрасно запыхались. Незнакомец, показавшийся вам таким странным, совсем не сумасшедший. Какую бы горькую и неприятную шутку он себе ни позволил по своей странной манере, я все-таки думаю, что вы с ним помиритесь.
– Никогда, никогда! – воскликнула принцесса. – Я не хочу видеть еще раз этого угловатого глупца.
– Однако, Гедвига, – смеясь сказала Бенцон, – какой дух подсказал вам слово «угловатый»? После того, что случилось, оно, быть может, подходит гораздо больше, чем вы думаете.
– Я не понимаю, отчего ты так сердишься, милая Гедвига, – сказала Юлия. – Даже в непонятных и запутанных речах этого человека было что-то, подействовавшее на меня странно, но совсем не неприятно.
– Да, ты, конечно, можешь быть спокойна и невозмутима, – сказала принцесса со слезами на глазах, – а мне раздирает сердце насмешка этого ужасного человека. Скажите, Бенцон, кто он? Кто этот сумасшедший?
– Я объясню вам все в двух словах, – сказала Бенцон. – Пять лет тому назад, когда я…
(М. пр.) …убедивший меня в том, что у истинных поэтов сыновняя любовь и сострадание совмещаются с угнетением ближних.
Мечтательность, к которой часто бывают склонны молодые романтики, когда в глубине их душ происходит борьба великих и возвышенных мыслей, влекла меня к уединению. Долго не посещал я крыши, чердака и погреба. Я ощущал те же тихие, идиллические радости, как некий поэт, живший в маленьком домике на берегу ручья, осененного плакучими ивами и березами. Я остался у печки, предавшись своим мечтам.
Так и случилось, что я не видел больше Мины, моей нежной и прекрасной пестрой мамаши. Я нашел отраду и утешение в науках. В них столько прекрасного! Приношу мою горячую благодарность придумавшему их благородному человеку. Насколько лучше и полезнее это открытие, чем изобретение того ужасного монаха, который первый начал делать порох, – вещь, противную мне по самому существу. Потомство заклеймило насмешливым почитанием этого варвара, этого адского Бартольда. В наше время, когда хотят высоко поставить какого-нибудь остроумного ученого, проницательного сатирика или исключительно образованного человека, то говорят: «Он не выдумает пороха!»
В поучение многообещающей кошачьей молодежи я не могу оставить без внимания тот факт, что, желая заниматься, я вскакивал обыкновенно с зажмуренными глазами в библиотеку моего господина, вытаскивал оцарапанную при этом книгу и прочитывал ее, каково бы ни было ее содержание. Развиваясь таким способом, мой ум получил разнообразие и многосторонность, накопив познания, блеску и пестроте которых будет удивляться мое потомство. Я не буду перечислять книг, прочитанных мною в этот период поэтической мечтательности, отчасти потому, что для этого найдется, быть может, более подходящее место, отчасти же потому, что я забыл названия книг, – и это случилось, вероятно, оттого, что я большею частью не читал названий и потому их не знаю. Всякий останется доволен этим объяснением и не станет обвинять меня в библиографическом легкомыслии.
Меня ожидали новые открытия.
Однажды, когда мой господин углубился в большой фолиант, развернутый перед ним, я был под его письменным столом и лежал на листе прекрасной бумаги, упражняясь в греческом письме, которое пришлось мне как раз по лапе. В это время быстро вошел молодой человек, которого я уже много раз видел у хозяина. Он обращался со мной с дружеским уважением и даже с известным почтением, воздаваемыми обыкновенно признанному таланту и несомненному гению, так как не только говорил мне всегда: «Здравствуй, кот», но даже слегка щекотал меня между ушами и нежно гладил по спине. Это обращение очень радовало меня, так как я заключал из него, что свет признает мои дарования.
Но в этот раз все случилось иначе.
Против обыкновения рядом с молодым человеком прыгало косматое черное чудовище со сверкающими глазами; оно вбежало прямо в дверь и, увидев меня, прыгнуло прямо ко мне. Я почувствовал неописуемый ужас. В одно мгновение был я на письменном столе моего господина и издавал оттуда жалобные звуки. Вдруг чудовище вскочило на стол, производя при этом страшнейший шум. Мой добрый господин, испугавшись за меня, взял меня в руки и завернул в свой халат. Но молодой человек сказал:
– Не беспокойтесь, мейстер Абрагам, мой пудель никогда не обижает кошек, он только играет. Посадите сюда кота и порадуйтесь на то, как будут знакомиться мой пудель и ваш кот.
Хозяин хотел меня посадить, но я начал горько жаловаться, чем добился по крайней мере того, что он посадил меня на стуле, рядом с собой.
Ободренный близостью хозяина, я сел на задние лапы, свернул хвост и принял позу, достоинство и благородство которой должны были импонировать моему мнимому черному противнику. Пудель сел на пол против меня. Он, не двигаясь, смотрел мне в глаза и произносил отрывистые слова, которые мне были непонятны. Мало-помалу страх мой прошел, я успокоился и увидел, что глаза пуделя выражают добродушие и прямоту. Невольно начал я выражать доверчивое настроение моей души мягкими движениями хвоста то в ту, то в другую сторону; также и пудель сейчас же начал самым приятным образом махать своим коротким хвостом.
О, мы поняли друг друга: нельзя было сомневаться в созвучии наших чувств. «Почему, – говорил я себе, – почему испугал тебя необычный вид этого незнакомца? Что выражают эти прыжки, это тявканье, этот шум, эта беготня, этот вой, как не свободную радость жизни порывистого, сильного и подвижного юноши? О, под этой черной шкурой бьется добродетельное пуделиное сердце!» Под влиянием этих мыслей я решил сделать первый шаг к более тесному сближению наших душ и хотел сойти со стула моего господина.
Как только я поднялся, пудель вскочил и с громким лаем забегал по комнате. Это было выражение прекрасного, здорового чувства! Бояться было нечего. Я сошел со стула и тихими шагами приблизился к моему новому другу. Мы начали тот акт, который символически выражает первое распознавание сродных душ, заключение союза, проистекающего из глубокого чувства. Недальновидные и грубые люди называют его пошлым и неблагородным словом «обнюхиванье». Мой черный друг выразил желание поесть куриных костей, которые лежали на моем блюдечке. Я дал ему понять, как умел, что светское воспитание и вежливость требуют того, чтобы я его угостил. Он ел с большим аппетитом, в то время как я сидел в стороне. Хорошо, что я унес жареную рыбу и спрятал ее под свою постель. После обеда мы начали самые милые игры. Мы дружески обнимались, кубарем скатывались друг через друга и клялись во взаимной дружбе и верности.
Я не знаю, что могло быть смешного в этой встрече прекрасных душ, в этом обмене сердечных юношеских чувств. Тем не менее мой господин и незнакомый молодой человек хохотали во все горло, к моей немалой досаде.
Новое знакомство произвело на меня такое сильное впечатление, что в тени и на солнце, на крыше и под печкой я не мечтал ни о ком, кроме пуделя, пуделя и пуделя. В блестящих красках предстала передо мной пуделиная натура, и это знакомство породило глубокомысленное сочинение, о котором упоминалось уже выше: «Мысль и догадка, или Кот и собака». Нравы, обычаи и язык обеих пород ставил я в глубокую зависимость от особенностей натуры и доказывал, что обе они – только два различных луча, отраженных одной и той же призмой. Я прекрасно уловил характер языка и доказывал, что вообще язык есть только символическое изображение природного принципа, выраженное в звуках; поэтому может быть только один язык, – и кошачий язык, так же как и собачий в особом – пуделином – диалекте, суть ветви одного дерева, вследствие чего и поняли сразу друг друга вдохновенные кот и собака. Чтобы уяснить это положение, я привел много примеров из обоих языков и обратил внимание на сходные корни – бау-бау, мяу-мяу, блаф-блаф-ауау, корр-курр, птси-пшрци и т. д.
Окончивши книгу, я почувствовал непреодолимое желание действительно изучить пуделиный язык, что удалось мне, однако, не без труда при помощи моего нового друга, пуделя Понто, так как пуделиный язык очень труден для котов. Но гений везде найдет пути. Эту гениальность признает один знаменитый человеческий писатель, уверяющий, что для того, чтобы говорить на иностранном языке со всеми особенностями народа, для которого этот язык является родным, нужно быть по меньшей мере дураком. Мой господин думал, вероятно, то же и допускал в иностранных языках только научные познания, противопоставляя их разговору, под которым подразумевал уменье разговаривать о пустяках на иностранном языке. Он заходил так далеко, что считал французский язык наших придворных дам и господ за своего рода болезнь, которая обнаруживалась такими же опасными симптомами, как каталепсические припадки. Я слышал, как он поддерживал это бессмысленное мнение в присутствии самого княжеского гофмаршала.
– Извините меня, ваше превосходительство, – говорил мейстер Абрагам, – но вы можете наблюдать за собой сами. Не наградило ли вас небо прекрасным звучным голосом? Когда же вы говорите по-французски, вы начинаете шептать, шипеть, свистеть, причем приятные черты вашего лица страшно искажаются, и вся ваша прекрасная и строгая внешность портится странными конвульсиями. Что же означает это все, как не возрастающие признаки какой-то роковой болезни?
Гофмаршал очень смеялся, и гипотеза мейстера Абрагама о болезни иностранных языков была в самом деле смешна.
Один остроумный учитель советует в какой-то книге стараться думать на иностранном языке, который желаешь изучать. Совет этот прекрасен, но последствия его бывают иногда опасны. Я очень скоро научилася думать по-пуделиному, но так углубился в эти мысли, что начал забывать свой собственный язык и не понимал, о чем я думаю. Эти непонятные мысли я большей частью излагал на бумаге. Я удивляюсь глубине этих замечаний, которые я собрал под названием «Акантовых листьев»; я их и теперь еще не понимаю.
Я думаю, что эти краткие разъяснения относительно истории моих юношеских месяцев дают читателю ясное представление обо мне в настоящем периоде и в прошлом.
Но не могу оторваться от самой цветущей поры моей замечательной и разнообразной жизни, не упомянув еще об одном случае, составляющем переход к более зрелым годам. Кошачья молодежь узнает из этого, что розы не бывают без шипов, что и возвышенные умы встречают много препятствий в жизни, и что на их дороге лежит немало камней, о которые они ранят себе лапы. А боль от этих ран бывает очень и очень чувствительна.
Вероятно, читатель, ты почти позавидовал моей счастливой юности и благодетельной звезде, которая меня оберегала. Родившись от честных, но бедных родителей, близкий к ужасной смерти, попадаю я вдруг в роскошь, в богатейшие залежи литературы! Ничто не мешает моему образованию, ничто не задерживает моих склонностей; гигантскими шагами иду навстречу совершенству и стою гораздо выше своего времени. И вдруг меня настигает таможенный чиновник и требует дань, которая губит все дело.
Кто мог бы подумать, что под узами нежнейшей дружбы скрываются шипы, нанесшие мне впоследствии жестокие раны?
Каждый, у кого бьется в груди такое же чувствительное сердце, как у меня, легко поймет из того, что сказал я о моих отношениях с пуделем Понто, чем стал он для меня, и все же – он был первым поводом к катастрофе, которая могла бы меня погубить, если меня бы не охранял дух великого предка.
Да, читатель, у меня был предок, без которого я, по всей вероятности, не мог бы существовать, – великий и замечательный предок, мужчина в чинах, с влиянием, с обширной ученостью, необыкновенно добродетельный, утонченно гуманный, изящный, с передовыми вкусами, – мужчина, который… Но теперь я замечаю об этом только вскользь, после я уделю гораздо больше места тому, кто был не кто иной, как знаменитый премьер-министр Гинц фон Гинценфельд, так высоко ценимый и уважаемый всеми под именем Кота в сапогах.
Как я уже сказал, впереди еще будет речь об этом благороднейшем из котов.
Могло ли быть иначе? Когда я научился легко и красиво выражаться по-пуделиному, то о чем же я мог говорить с другом Понто? Конечно, о том, что было для меня всего важнее, то есть о себе самом и о своих произведениях. Так случилось, что я стал известен своими необыкновенными способностями, гениальностью и талантом, но, к моему немалому огорчению, я открыл, что ветреное легкомыслие и некоторая кичливость делали для юного Понто невозможными успехи в науке и искусствах. Вместо того, чтобы удивляться моим познаниям, он уверял, что не понимает, как мог я заниматься такими вещами, и что по части искусств он с своей стороны ограничивается тем, чтобы прыгать через палку и приносить из воды фуражку своего господина; относительно же наук он был того мнения, что этим можно только расстроить себе желудок и испортить аппетит.
Во время одного из таких разговоров, когда я старался научить добру моего легкомысленного друга, случилось нечто ужасное. Не успел я оглянуться, как…
(М. л.) – Да, – возразила Бенцон, – вашим фантастическим сумасбродством и леденящей иронией вы всегда будете вызывать у всех только беспокойство и путаницу, – словом, вносить полный диссонанс во все существующие условные отношения.
– О дивный капельмейстер, способный производить такие диссонансы! – смеясь, воскликнул Иоганн Крейслер.
– Не смейтесь, – продолжала Бенцон, – будьте серьезны, вы не отвертитесь от меня этой горькой шуткой! Я держу вас крепко, мой милый Иоганн!.. Да, я буду звать вас этим нежным именем; все еще надеюсь, что под маской сатира скрывается нежное чувство. И, кроме того, я никогда не поверю, что странное имя Крейслер не есть контрабанда, взятая взамен совсем другой фамилии.
– Дражайшая советница, – сказал Крейслер, и в это время в лице его странно играл каждый мускул, – что вы имеете против моего честного имени? Может быть, я и носил когда-нибудь другое, но это было уже давно, и со мной случилось то же, что с подателем советов в сказке Тика «Синяя Борода». Он говорит в одном месте: «У меня было когда-то великолепное имя, но с течением времени я забыл его, и у меня осталось от него только смутное воспоминание».
– Вспомните, Иоганн! – воскликнула советница, пронизывая его сверкающим взглядом. – Вам, наверно, приходит иногда на память полузабытое имя.
– Нет, дражайшая, это невозможно, – возразил Крейслер. – Я думаю даже, что мое смутное воспоминание и я сам, и моя наружность, рассматриваемая по отношению к имени как паспорт на жизнь, – все это имело бы совершенно другой вид, если бы удалось вспомнить то приятное время, когда меня еще не было на свете. Будьте так добры, многоуважаемая, взгляните на мое простое имя в настоящем свете, и вы найдете его премилым по отношению к моему колориту и физиономии. И даже больше! Ощупайте его, разрежьте его анатомическим ножом грамматики, и его внутренний вид покажется вам еще прекраснее. Ведь невозможно, чтобы вы находили корень моего имени в слове Краус[20], а меня по аналогии с этим словом считали парикмахером, так как тогда я должен был бы подписываться Kreusler[21]. Вы не можете отступиться от слова Kreis (круг). Думайте же лучше всего о тех удивительных кругах, в которых вращается все наше бытие, и из которых мы не можем выйти, как бы мы их себе ни представляли. В этих кругах вертится Крейслер, и хорошо было бы, если бы он, утомленный прыжками виттовой пляски, которой он подвержен, и борясь с темными, непонятными силами, описывающими эти круги, мог бы почаще выскакивать на свободу, как это предписано его и без того уже слабому организму. Острая боль этого стремления и есть, может быть, та ирония, которую вы так строго осуждаете, не замечая, что сильная мать породила сына, вступающего в жизнь, как властный король. Я говорю об юморе, который не имеет ничего общего со своей развратной сводной сестрой – насмешкой.
– Да, – сказала советница, – этот юмор, эта постоянная игра необузданной и причудливой фантазии без образа и без красок есть то самое, что черствые мужчины любят представлять как нечто великое и прекрасное, высмеивая все, что нам дорого и свято. Знаете ли вы, Крейслер, что принцесса Гедвига до сих пор вне себя вследствие вашего поведения в парке? Она очень самолюбива и страдает от всякой шутки, в которой видит хоть малейшую насмешку над своей особой. Вас же, милый Иоганн, она приняла за сумасшедшего, и вы навели на нее такой ужас, что она чуть не заболела. Ведь это непростительно!
– Не больше, чем поведение какой-то незначительной принцессы, желающей импонировать своей маленькой особой незнакомому человеку, которого она случайно встретила в открытом парке своего папаши, – возразил Крейслер.
– Как бы то ни было, – продолжала советница, – ваше загадочное поведение в нашем парке могло повести к дурным последствиям. Теперь уже все улажено, и принцесса привыкла к мысли опять увидеть вас, но этим вы обязаны моей Юлии. Она одна вас защищает, находя во всем, что вы делали и говорили, только доказательство особого настроения, часто бывающего у глубоко оскорбленных или слишком восприимчивых людей. Одним словом, Юлия, которая только недавно прочла комедию Шекспира «Как вам будет угодно», сравнила вас с меланхолическим monsieur Жаком.
– О милое дитя! – воскликнул Крейслер, и на глазах его навернулись слезы.
– Кроме того, – продолжала Бенцон, – Юлия открыла в вас чудного композитора и музыканта в то время, как вы фантазировали на гитаре, пели и разговаривали. Она говорит, что в эту минуту на нее снизошел какой-то особенный музыкальный дух, и после вас она пела и играла, повинуясь непонятной силе, и была как-то особенно в голосе. Юлия никак не могла помириться с тем, что не увидит больше человека, явившегося ей в виде странного, но милого музыкального призрака, а принцесса со всей свойственной ей порывистостью уверяла, что «второе свидание с этим сумасшедшим» причинит ей смерть. Так как девушки живут душа в душу, и между ними не бывает никаких несогласий, то я могу сказать с полным правом, что эта сцена была повторением того, что было у них в раннем детстве, когда Юлия хотела бросить в камин смешного паяца, которого ей вырезали, а принцесса взяла его под свое покровительство и объявила, что он – ее любимец.
– О, – прервал Крейслер, громко смеясь, – я позволяю принцессе бросить меня в камин, как второго паяца, и уповаю на нежное сострадание милой Юлии.
– Вы должны, – продолжала Бенцон, – считать воспоминание о паяце за юмористический случай, ведь в этом, по вашей собственной теории, нет ничего дурного. Вы легко можете себе представить, что я вас немедленно узнала, когда девушки описали мне ваше появление и весь случай в парке, и для меня излишне было заявление Юлии, что она хочет увидеть вас опять: я и без этого немедленно послала бы всех людей, бывших у меня в распоряжении, чтобы обыскать парк и Зигхартсвейлер и найти вас; вы знаете, как я полюбила вас за время нашего кратковременного знакомства. Все поиски были тщетны. Я думала, что ваш след уже потерян, и потому очень удивилась, когда вы пришли ко мне сегодня утром. Юлия теперь у принцессы. Какое разногласие чувств поднялось бы сейчас, если бы девушки узнали о вашем присутствии! Что же касается объяснения того, что привело вас сюда так внезапно, то я потребую его только тогда, когда вы сами захотите сказать мне что-нибудь об этом. Я удивлена вашим появлением здесь еще и потому, что считала очень прочным ваше положение при дворе эрцгерцога.
В то время, как говорила советница, Крейслер был погружен в глубокое раздумье. Он опустил глаза и барабанил пальцами по лбу, как человек, который напрасно старается что-то вспомнить.
– Ах, – начал он, когда она замолчала, – это очень глупая история, которой почти не сто́ит рассказывать! То, что принцессе угодно было принять за бессвязные речи сумасшедшего, было основано на правде. В то время, как я имел несчастье напугать в парке эту самолюбивую особу, я действительно делал визиты; я только что посетил самого светлейшего эрцгерцога. Здесь же, в Зигхартсвейлере, я хотел делать только самые приятные визиты.
О Крейслер, – воскликнула советница с тихим смехом (она никогда не смеялась громко), – это, верно, опять какой-нибудь странный случай, которому вы предоставили полную свободу! Если я не ошибаюсь, резиденция эрцгерцога лежит по крайней мере на расстоянии тридцати часов пути от Зигхартсвейлера.
– Да, это правда, – сказал Крейслер, – но дорога идет по саду, устроенному так изящно, что даже «nous autres» можем ему подивиться. Если вы не верите, что я делал визиты, то вы легко себе представите состояние духа впечатлительного капельмейстера, обладающего голосом и гитарой. Гуляя по благоухающему лесу, по зеленым лугам, среди дико нагроможденных скал, переходя через ветхие перекладины, под которыми, пенясь, бегут лесные ручьи, и исполняя при этом соло в звучащих вокруг него хорах, он легко может зайти в уединенную часть сада. Так попал и я в княжеский зигхартсвейлерский парк; ведь он не что иное, как микроскопическая часть большого парка, раскинутого самой природой. Но нет, дело было иначе! Я только что слышал от вас, что вы снарядили веселую охоту, желая поймать меня в лесу, как дичь; и тут в первый раз понял я необходимость моего пребывания здесь, – необходимость, которая привела бы меня сюда, даже если бы я продолжал свой неверный бег. Вы сказали, что знакомство со мной было вам дорого. Разве при этом не должны были прийти мне на ум те роковые дни заблуждения и несчастья, когда нас свела судьба? Вы видели тогда, что я бросался то туда, то сюда, не находя себе выхода, с растерзанным сердцем. Вы приняли меня приветливо и, раскрывши надо мной светлое, безоблачное небо спокойной, замкнутой в себе женственности, задумали меня утешить; вы осуждали и в то же время извиняли безумие моих поступков, объясняя их безутешным сомнением, и вырвали меня из обстановки, которую я сам должен был признать двусмысленной, ваш дом был дружеским и мирным убежищем, где я, уважая ваше тихое горе, забывал свое собственное. Ваши веселость и мягкость действовали на меня, как благодетельное лекарство, несмотря на то, что вы не знали моей болезни. Но меня мучило не то, что угрожало разрушить мое положение в свете. Давно желал я порвать с тем, что меня пугало и стесняло, и потому не мог сетовать на судьбу, совершившую то, что я сам не имел силы и духу исполнить. Нет! Когда я почувствовал себя свободным, меня охватило то беспокойство, из-за которого так часто с ранних лет я находился в разладе с самим собою. Это не то стремление, которое, – как прекрасно говорит поэт, – берет свое начало из высшей жизни духа: оно вечно, оно не может умереть, потому что никогда не может быть удовлетворено. Нет, безумное желание влечет меня вперед, к чему-то, чего я ищу вне себя в непрестанном стремлении, хотя оно живет в глубине моей души, как смутная тайна, как загадочный сон о рае высочайшего блаженства, который даже нельзя назвать сном, но можно только предчувствовать, и это предчувствие терзает меня муками Тантала. Еще в детстве это чувство часто овладевало мной так внезапно, что среди веселых игр с товарищами я вдруг убегал в лес, бросался там на землю и неутешно рыдал и плакал, несмотря на то, что был перед тем всех глупее и необузданнее. Позже я научился побеждать себя, но я не могу описать своих мук, когда среди самой веселой обстановки, в кругу милых, доброжелательных друзей, наслаждаясь искусством, в те самые минуты, когда так или иначе удовлетворялось мое тщеславие, вдруг все начинало казаться мне ничтожным, бесцветным и мертвым, и я чувствовал себя в мрачной пустыне. Есть только один светлый ангел, имеющий силу над этим злым демоном: это – дух музыки; часто встает он победоносно из глубины моей души, и перед его могучим голосом умолкают все скорби земной юдоли…
– Я всегда, всегда думала, – прервала его советница, – что музыка действует на вас сильно и пагубно. Во время исполнения какого-нибудь прекрасного произведения все ваше существо как будто проникалось им насквозь, вы менялись в лице, бледнели и не могли выговорить ни слова, только вздыхали и плакали, а потом осыпали самыми горькими, оскорбительными насмешками всякого, кто хотел сказать хоть одно слово против исполненного вами произведения. Даже когда…
– О милейшая советница, – прервал Крейслер советницу Бенцон, причем вся его прежняя серьезность и глубокое волнение исчезли, и он принял свойственный ему иронический тон. – Это все уже изменилось! Вы не знаете, как я был скромен и приличен при эрцгерцогском дворе. Я могу теперь с величайшим спокойствием и приятностью отбивать такт в «Дон-Жуане» или «Армиде», а потом приветливо кивать первой певице, когда она в необычайной каденце взбирается на вершину звуковой лестницы; когда гофмаршал шепчет мне после «Времен года» Гайдна: «C’était bien ennuyant, mon cher maître de chapelle!»[22], – я могу, улыбаясь, склонять голову и многозначительно брать щепотку табаку, я могу даже терпеливо слушать, когда считающий себя знатоком искусства камергер и спектакельгер доказывает мне, что Моцарт и Бетховен ни черта не понимали в пении, и что Россини, Пучитта и как там еще зовут всех этих человечков, поднялись à la hauteur[23] всей оперной музыки. Да, многоуважаемая, вы не знаете, как много приобрел я во время моего капельмейстерства, а главное – вполне убедился в том, как хорошо бывает, когда артист поступает на службу; черт и его бабушка могли бы поддержать это мнение вместе с гордыми и кичливыми людьми. Заставьте любого композитора сделаться капельмейстером или музыкальным директором, стихотворца – придворным поэтом, художника – придворным портретистом, и у вас скоро не будет в государстве бесполезных фантазеров, а только полезные граждане с хорошим образованием и мягкими нравами!
– Тише, тише! – воскликнула советница. – Остановитесь, Крейслер; ваш конь опять начинает бунтовать на обычный лад! Остальное я подозреваю, но хочу теперь знать подробно, какой неприятный случай заставил вас поспешно бежать из резиденции, так как все обстоятельства вашего появления в парке свидетельствуют о бегстве.
– А я могу вас уверить, – спокойно сказал Крейслер, не спуская глаз с советницы, – что неприятный случай, изгнавший меня из резиденции, лежал во мне самом независимо от всех внешних условий. То самое беспокойство, о котором я говорил, овладело мной сильнее, чем когда-либо, и я больше не мог там оставаться. Вы знаете, как я радовался моему капельмейстерству при дворе эрцгерцога. Я имел глупость думать, что, живя искусством, я успокоюсь и укрощу своего внутреннего демона. Из того немногого, что я сказал вам о моем пребывании при дворе, вы можете видеть, как сильно я ошибался. Избавьте меня от описания того, как эта мелкая игра со святым искусством, которой я вынужден был заниматься, все эти глупости бездушных кропателей и безвкусных дилетантов и глупая светская жизнь с ее искусственными куклами все больше и больше убеждали меня в жалком ничтожестве моего существования. Однажды утром мне пришлось явиться к эрцгерцогу, чтобы поговорить о моем участии в празднествах, которые должны были наступить через несколько дней. Директор театра, конечно, тоже присутствовал и напал на меня с разными бессмысленными и безвкусными распоряжениями, которым я должен был подчиниться. Это касалось преимущественно им самим сочиненного пролога, для которого я должен был написать музыку. «Так как на этот раз, – говорил он эрцгерцогу, бросая на меня искоса злые взгляды, – речь будет идти не об ученой немецкой музыке, а о прекрасном итальянском пении, то я сам сочинил несколько мелодий, которые нужно хорошенько обработать». – Эрцгерцог не совсем согласился, но счел уместным поставить мне на вид, что он ожидает от меня дальнейшего развития, если я буду усердно изучать новейших итальянцев. Как жалок я был в ту минуту! Я глубоко презирал себя самого, и все это показалось мне справедливой карой за мое глупое, детское долготерпение. Я оставил дворец с тем, чтобы никогда больше не возвращаться. В тот же вечер хотел я подать в отставку; но даже и это решение не могло меня успокоить, так как мне казалось, что я уже изгнан тайным остракизмом. Я взял из экипажа гитару, приготовленную для иного употребления, а экипаж отправил назад, как только выехал из ворот, сам же ушел на свободу и шел все вперед и вперед. Солнце уже садилось, все темнее и шире ложилась тень от горы и от леса. Невыносима, мучительна была для меня мысль, что я должен вернуться в резиденцию. «Какая сила тянет меня назад?» – громко воскликнул я. Я узнал, что был на дороге в Зигхартсвейлер, и вспомнил о старом мейстере Абрагаме, от которого за день перед тем получил письмо, где он, догадываясь о моем положении в резиденции, писал, чтобы я оттуда ушел, и приглашал меня к себе.
– Как, – прервала советница Крейслера, – вы знаете этого удивительного старика?
– Мейстер Абрагам, – продолжал Крейслер, – был лучшим другом моего отца, он мой учитель и отчасти воспитатель… Итак, многоуважаемая, теперь вы знаете, как пришел я в парк доброго князя Иринея, и больше не будете сомневаться, что при случае я умею рассказывать вполне спокойно, с надлежащей исторической точностью и так приятно, что мне самому делается страшно. Вообще вся история о моем бегстве из резиденции кажется мне, как я уже сказал, такой глупой и ничтожной, что нельзя даже говорить о ней, не впадая в некоторую слабость. Не можете ли вы воспользоваться этим маленьким случаем наподобие компресса, действующего против спазм, чтобы успокоить испуганную принцессу? Подумайте о том, что станется с честным немецким музыкантом, которого, как только он надел шелковые чулки и удобно поместился в хорошей карете, обратили в бегство Россини и Пучитты, Павези и Фиоравенти, и бог весть еще какие «итты» и «ини». Не может же он оставаться особенно рассудительным. Итак, я надеюсь, что вы меня простите. А как поэтическое заключение этого скучного приключения примите то, что в ту минуту, когда я хотел бежать, бичуемый злым демоном, меня приковали к месту самые сладостные чары. Демон злорадно старался омрачить глубочайшую тайну моей души, но вот шевельнул крылами дух музыки, и от этого мелодического шелеста проснулись надежда, утешение, даже сладостное стремление, которое и есть вечная любовь и восторг вечной юности. То пела Юлия!
Крейслер замолчал. Бенцон ждала дальнейшего рассказа, но так как капельмейстер, казалось, погрузился в глубокое раздумье, она спросила его с холодной приветливостью:
– Вы в самом деле находите приятным пение моей дочери, милый Иоганн?
Крейслер порывисто встал, но то, что он хотел сказать, исторгло только вздох из глубины его души.
– Это мне очень приятно, милый Крейслер, – сказала Бенцон. – Юлия может научиться у вас многому по части пения; вы, конечно, здесь остановитесь; я считаю это уже решенным делом.
– Многоуважаемая… – начал Крейслер, но в эту минуту открылась дверь, и вошла Юлия.
Когда она увидала капельмейстера, ее милое личико просияло нежной улыбкой, и с уст слетело тихое восклицание.
Бенцон встала, взяла капельмейстера за руку и повела его навстречу Юлии, говоря:
– Вот, дитя мое, тот странный…
(М. пр.) …юный Понто бросился на мою новую рукопись, лежавшую около меня, схватил ее в зубы и стал носиться по комнате; при этом он злорадно улыбался, и это одно уже могло бы убедить меня в том, что это не простая юношеская шалость; в игре его было нечто другое. Скоро все объяснилось.
Дня через два к мейстеру Абрагаму пришел человек, у которого служил молодой Понто. Как узнал я впоследствии, это был господин Лотарио, профессор эстетики в зигхартсвейлерской гимназии. После обычных приветствий профессор посмотрел вокруг и сказал, глядя на меня:
– Не могу ли я попросить вас, мейстер, удалить из комнаты вашего кота?
– Зачем? – спросил мейстер. – Вы всегда охотно терпели кошек, профессор, особенно же моего любимца, красивого и умного кота Мура.
– Да, – сказал профессор и саркастически улыбнулся. – Красивый и умный, это правда! Но все-таки сделайте мне удовольствие и удалите вашего любимца, так как я хочу говорить с вами о вещах, которых он не должен слышать.
– Кто? – воскликнул мейстер Абрагам, с удивлением глядя на профессора.
– Ваш кот, – отвечал профессор. – Я прошу вас, не спрашивайте меня больше, но сделайте то, о чем я вас прошу.
– Это интересно, – сказал мейстер, отворяя дверь кабинета, и позвал меня. Я пошел на его зов, но затем незаметно прокрался назад и забился на нижнюю полку книжного шкапа, откуда, никем не замеченный, мог видеть всю комнату и слышать каждое слово, которое могло быть сказано.
– Ну, – сказал мейстер Абрагам, садясь в кресло против профессора, – хотел бы я знать, что это за тайна, которая должна быть скрыта от моего честного кота Мура.
– Скажите мне прежде вот что, – начал профессор очень серьезно и глубокомысленно. – Многие думают, что при одном только телесном здоровьи, без природных способностей ума, талантов и гениальности можно посредством особенно правильного воспитания создать в короткое время из всякого ребенка, даже в детских годах, светило науки и искусства. Что думаете вы об этом положении?
– Э, – отвечал мейстер, – что же могу я о нем думать, как не то, что оно глупо и безвкусно. Легко может статься, что ребенка с хорошей памятью и приблизительно с такой же сообразительностью, как у обезьян, можно постепенно выучить многим вещам, которые он потом выложит перед учителями. Но даже если у него не будет никаких природных способностей, его внутреннее чувство воспротивится этой нечестивой процедуре. Ну кто же и когда назовет такого глупого малого, откормленного всеми съедобными крохами науки, ученым в настоящем смысле слова?
– Свет! – порывисто воскликнул профессор. – Весь свет! О, это ужасно! Вся наша вера в высшую природную силу духа, которая одна создает ученых и художников, летит к черту из-за этого безбожного, глупого принципа!
– Не горячитесь, – улыбаясь сказал мейстер, – насколько я знаю, в нашей доброй Германии был выставлен только один продукт этой методы воспитания, мир довольно долго говорил о нем и потом все-таки увидал, что продукт не особенно удался. Притом цветущая пора этого препарата наступила в тот период, когда вошли в моду вундеркинды, которые, как хорошо выученные собаки и обезьяны, показывали свое искусство за дешевую входную плату.
– Так говорите вы теперь, мейстер Абрагам, – начал профессор, – и вам можно было бы верить, если б не знать, что вы – неисправимый шутник, и что вся ваша жизнь представляет ряд удивительных экспериментов; признайтесь, что вы в тишине и в полнейшей тайне совершали эксперименты в духе вышеупомянутого принципа, но вы хотели перещеголять изобретателя того препарата, о котором была речь; вы хотели, когда все будет сделано, явиться с вашим воспитанником и повергнуть в удивление и в сомнение весь мир и всех профессоров. Вы хотели совершенно испортить прекрасное правило «non ex quivis ligno fit Mercurius»[24]. Quivis (всякий) уже налицо, а на место Меркурия – кот!
– Что вы говорите? – громко смеясь, воскликнул мейстер. – Что вы говорите? Кот?
– Если я не ошибаюсь, – продолжал профессор, – то вы испробовали у себя в комнате над котом особый метод воспитания, вы научили его читать и писать и преподавали ему науки так, что теперь он начинает уже разыгрывать автора и даже пишет стихи.
– Однако, – сказал мейстер, – со мной в самом деле никогда не случалось ничего глупее этого. Я воспитывал моего кота и преподавал ему науки! Скажите, профессор, какие сны бродят в вашей голове? Уверяю вас, что я ровно ничего не знаю об образовании моего кота и считаю это совершенно невозможным.
– Да? – протяжно спросил профессор, вынув из кармана тетрадь, в которой я сейчас же узнал рукопись, похищенную у меня молодым Понто, и затем прочел:
Стремление к высокому
- О, что за чувство грудь мою томит!
- К чему восторги сладостных волнений?
- Или мой дух одним прыжком спешит
- Достичь туда, куда стремится гений?
- О чем и мысль, и сердце говорит?
- Что значит буря пламенных стремлений?
- Что в глубине души моей кипит?
- Чем бьется сердце, полное томлений?
- Стремлюсь туда, в волшебный, дивный край,
- Язык в цепях, ни слова нет, ни звука…
- Но кончится, я знаю, сердца мука:
- Весна идет! Надежды сладкий рай
- Открылся мне; восторгом упоенный,
- Несусь вперед, надеждой окрыленный.
Я надеюсь, что благосклонный читатель вполне признает совершенство этого прекрасного сонета, вылившегося из глубины моей души, и будет еще более удивлен, когда узнает, что это – первый сонет в моей жизни. Однако профессор прочел его так скверно и бесцветно, что я насилу узнал себя и в порыве внезапного самолюбивого гнева, свойственного молодым поэтам, хотел было выскочить из моего укромного уголка, броситься в лицо профессора и дать ему почувствовать остроту моих когтей. Но мысль о том, что я буду сильно раскаиваться, если профессор и хозяин меня заметят, заставила меня побороть свой гнев. Все же я невольно издал урчащее мяуканье, которое непременно бы меня выдало, если бы в то время, как профессор кончил сонет, хозяин не разразился громким смехом, что было мне еще более неприятно, чем неумелое чтение профессора.
– Ого! – воскликнул хозяин. – Вероятно, этот сонет вполне достоин кота, но я все-таки не понимаю вашей шутки, профессор; скажите же мне прямо, мой милый, чего вы хотите?
Профессор молча перелистывал рукопись и начал читать дальше:
Рассуждение
- Всюду к нам любовь приходит,
- Дружба ищет тишины,
- Быстро нас любовь находит,
- Дружбу мы искать должны.
- Томно жалобные звуки
- Слышу я со всех сторон.
- Что в них: радость или муки?
- Что сулит их нежный стон?
- То не греза ли? Не сон?
- Так я часто вопрошаю.
- И, душой воспрянув вновь,
- Я разумно отвечаю:
- Крышу, погреб наполняя,
- Всюду царствует любовь.
- Но любовное мученье
- Долго сердце не томит,
- Раны страсти заживит
- Тишина уединенья,
- В ней приходит исцеленье.
- Милой кошечки любовь
- Разве может долго длиться?
- Прочь от этих злых оков!
- Лучше с пуделем укрыться
- К печке, в дружбы мирный кров.
- Да, нельзя…
– Нет, друг мой, – прервал хозяин читающего профессора, – вы положительно хотите вывести меня из себя! Не знаю, вам или другому хитрецу вздумалось пошутить, сочинив стихи в духе кота, долженствующего изображать моего доброго Мура, и вот вы угощаете меня этим все утро. Шутка эта, впрочем, невинная и могла бы очень понравиться Крейслеру: он не упустил бы случая устроить при этом маленькую охоту, в конце которой вы сами очутились бы в положении затравленного зверя.
Профессор сложил рукопись, серьезно посмотрел в глаза мейстеру Абрагаму и сказал:
– Эти листы принес мне несколько дней тому назад мой пудель Понто, который, как вам известно, состоит в дружбе с вашим Муром. Он принес рукопись в зубах, как он привык носить все остальное, но положил мне ее на колени в нетронутом виде, чем ясно дал мне понять, что она могла к нему попасть только от его друга Мура. Как только я на нее взглянул, меня поразил ее странный, своеобразный почерк; когда же я начал читать, то не знаю уж, каким непонятным образом пришла мне в голову странная мысль, что все это мог написать сам кот Мур. Мой разум и известный жизненный опыт, от которого никто из нас не может отделаться и который в конце концов и есть тот же самый разум, – все это говорило мне, что идея моя бессмысленна, так как кот не может ни писать, ни сочинять стихов, но я никак не мог отделаться от этой мысли. Я решил наблюдать за вашим котом и, зная от моего Понто, что Мур проводит много времени на вашем чердаке, я вынул несколько кирпичей из своего чердака, так что мог свободно смотреть в ваше слуховое окно. И что же я увидел? Слушайте и удивляйтесь: в отдельном углу чердака сидит ваш кот; расположившись перед маленьким столиком с бумагой и письменными принадлежностями, он сидит и трет себе лапой то лоб, то затылок, проводит ею по морде, обмакивает перо в чернила и пишет, затем перестает писать и мурлычет, – я ясно слышал, как он мурлычет и урчит от удовольствия, – а вокруг него лежат разные книги в переплетах, взятые из вашей библиотеки.
– Да ведь это был бы сам черт! – воскликнул хозяин. – Я сейчас посмотрю, все ли мои книги на месте!
Он встал и подошел к книжному шкапу, но, увидев меня, отступил на несколько шагов и посмотрел на меня с величайшим удивлением. А профессор воскликнул:
– Вот видите, мейстер, вы думаете, что ваш кот тихонько сидит в той комнате, куда вы его заперли, а он прокрался в книжный шкап, чтобы заниматься, а еще вероятнее – чтобы нас подслушать. Теперь он слышал все, что мы говорили, и может принять свои меры.
– Послушай, кот, – начал мейстер, остановив на мне взгляд, полный удивления, – если бы я знал, что ты, совершенно изменив своей честной натуре, действительно принялся сочинять такие странные стихи, как прочел мне сейчас профессор, если бы я мог думать, что ты в самом деле занимаешься науками, а не мышами, то я, вероятно, жестоко выдрал бы тебя за уши, или…
Тут я почувствовал невыразимый страх и, зажмурив глаза, сделал вид, что я сплю.
– Да нет же, нет, – продолжал мой хозяин, – вы взгляните только, профессор, как беззаботно спит мой честный кот, и скажите сами, неужели в его добродушной морде есть хоть что-нибудь, указывающее на те удивительные, таинственные плутни, в которых вы его обвиняете.
– Мур! Мур!
Заслышав зов хозяина, я не упустил случая ответить ему моим обычным «крр… крр…», открыть глаза, потянуться и приятнейшим образом изогнуть спину.
Профессор в гневе бросил мне мою рукопись в морду, но со свойственным мне лукавством я сделал вид, что принял это за игру, и, прыгая и танцуя, рвал бумагу так, что куски летели во все стороны.
– Ну, – сказал хозяин, – теперь уже ясно, что вы были неправы, профессор, и что ваш Понто что-нибудь напутал. Взгляните, как Мур обрабатывает стихи; ну какой же поэт способен так обращаться с своей рукописью?
– Я предупредил вас, мейстер, теперь делайте, что хотите, – возразил профессор и вышел из комнаты.
Я думал, что буря прошла мимо, но как жестоко я ошибся! К великой моей досаде, мейстер Абрагам начал противиться моему научному образованию, и, несмотря на то, что он сделал вид, будто не поверил словом профессора, я вскоре убедился, что он везде за мной следит, тщательно запирает свой книжный шкап, преграждая мне этим доступ в библиотеку, и не желает больше, чтобы я ложился на его письменном столе между бумагами, как я делал это раньше.
Итак, страдания и горе омрачили мою юность. Видеть себя непонятым и осмеянным! Что может быть ужаснее для гениального существа? Встречать препятствия там, где ожидаешь найти поддержку! Что может больше озлобить великий ум? Но чем сильнее гнет, тем больше сила сопротивления; чем больше натянута тетива, тем сильнее удар стрелы. Читать мне было запрещено, но тем свободнее творил мой дух.
В этот тяжкий период моей жизни я проводил много дней и ночей в домовых погребах, где стояли мышеловки и где поэтому собиралось много котов разных званий и возрастов.
От смелого философского ума не укроются даже самые таинственные отношения жизни к живущему: он умеет распознавать, как именно образуется из них сама жизнь. Так проходили передо мной в погребах отношения кошек и мышеловок в их взаимодействии, и мне, как коту благородного ума, стало тяжело на сердце, когда я должен был признать, какую скуку внесли в кошачью молодость эти безжизненные машины с их пунктуальными движениями. Я взялся за перо и написал бессмертное творение, которое обдумал еще раньше, под названием: «О мышеловках и их влиянии на миросозерцание и деятельность кошачества». Эта книга служила для расслабленной кошачьей молодежи зеркалом, в котором она должна была увидеть себя самое лишенной всякой инициативы, вялой, бездеятельной, спокойно смотрящей на то, как гибнут из-за сала презренные мыши. Я пробудил их от сна громовыми речами. Кроме пользы, которую должно было принести мое произведение, оно имело и для меня очень большое значение: я сам тоже никогда не мог поймать ни одной мыши; теперь же, когда я заговорил с такой силой против бездействия, никому не могло прийти в голову требовать, чтобы я показал на деле пример того геройства, о котором писал.
Этим я заключаю первый период моей жизни и перехожу к тем юношеским годам, которые соприкасаются с периодом возмужалости; но я не могу не предложить благосклонному читателю прочесть две последние строфы великолепного произведения, которое не хотел дослушать мой хозяин.
Вот они:
- Да, нельзя – я это знаю —
- Избежать ее оков…
- Там, меж розовых кустов,
- Раздаются звуки рая:
- Скачет милая, играя;
- Жадный взор за ней следит…
- Но лишь только голос нежный,
- Призывая, прозвучит —
- Уж на зов она спешит.
- Так любовь всегда мятежна.
- Это сладкое томленье
- Может разум помутить.
- Беготня, прыжки, круженье
- Скоро могут утомить.
- Тихой дружбой лучше жить.
- Ты, кого я разумею,
- Я найти тебя сумею,
- За тобой я с вышины
- Брошусь, лапок не жалея.
- Дружбу мы искать должны.
(М. л.) …вечером был он в таком веселом и приятном настроении, в каком давно уже его не видали. Благодаря этому, случилась неслыханная вещь. Вместо того, чтобы убежать и спрятаться подальше, как он делал это обыкновенно в подобных случаях, он очень спокойно и даже с добродушной улыбкой прослушал скучнейший и длиннейший вступительный акт ужасной трагедии в переводе некоего розового и прекрасно завитого поручика.
Когда же автор, прочтя свое произведение со всеми замашками счастливого поэта, спросил капельмейстера, что думает он об его стихах, этот последний со светлым лицом, выражающим глубочайший восторг, принялся уверять юного героя войны и поэзии, что его вступительный акт – настоящий лакомый кусок эстетической пищи, заключающий в себе прекрасную мысль, за гениальную оригинальность которой говорит уже то обстоятельство, что ею воспользовались раньше такие всесветные знаменитости, как Кальдерон, Шекспир и Шиллер. Поручик порывисто обнял музыканта и объявил с таинственным видом, что намерен в тот же вечер осчастливить своим прекрасным первым актом общество начитанных девиц, в числе которых будет даже одна графиня, читающая по-испански и пишущая масляными красками. Крейслер подтвердил, что это будет прекрасно, и поручик в полном восторге распрощался со своими слушателями.
– Я не могу понять, мой милый Иоганн, – заговорил маленький тайный советник, – что за кротость напала на тебя сегодня. Как мог ты так спокойно и внимательно слушать эту невозможную дрянь? Я пришел в ужас, когда поручик напал на наше беззащитное собрание и опутал нас сетями своих бесконечных стихов! С минуту на минуту ожидал я, что ты от нас уйдешь, как ты делаешь это обыкновенно при всяком удобном случае. А ты сидишь спокойно, взгляд твой выражает даже удовольствие, и под конец, когда я почувствовал себя совершенно несчастным и подавленным, ты угощаешь беднягу иронией, которой он неспособен понять, и даже не говоришь ему в виде предостережения на будущее время, что вещь его слишком длинна и требует серьезной ампутации.
– Ах, – возразил Клейслер, – ну что бы я выиграл этим плачевным советом? Разве может такой здоровенный поэт, как наш милый поручик, с пользою произвести ампутацию своих стихов? Разве они не вырастут у него снова? Или ты не знаешь, что стихи наших юных поэтов обладают свойством ящериц, у которых хвосты превесело вырастают вновь, даже если их отрезать до самого основания? Если же ты думаешь, что я спокойно слушал поручика, то ты сильно ошибаешься. Гроза прошла; все травы и цветы в маленьком саду подняли склоненные головки и жадно впивали божественный нектар, падавший отдельными каплями из покрывала облаков. Я стоял под большой цветущей яблоней и прислушивался к раскатистому голосу грома в отдаленных горах. Он звучал в моей душе, как таинственное пророчество, а я смотрел на небесную лазурь, которая, подобно сияющим очам, проглядывала там и сям сквозь бегущие облака. «Но в таком случае, – воскликнул дядя, – ты должен сидеть в комнате и не портить этой мокротой своего нового халата; ведь этак ты схватишь от сырой травы страшный насморк!» – И вот перед мной уже не дядя, а какой-то попугай или скворец, говорящий за кустом или из куста, или уж я и не знаю, кто такой, задумавший глупую шутку дразнить меня, выкрикивая на свой лад самые дорогие для меня мысли Шекспира. И этот крикун был не кто иной, как поручик со своей трагедией!.. Заметь, пожалуйста, друг мой, что воспоминание детства далеко унесло меня и от тебя, и от поручика. Я действительно чувствовал себя двенадцатилетним мальчиком и стоял в саду моего дяди, надевшего ситцевый халат, лучше которого ничего еще не снилось душе ситцевого фабриканта, – и напрасно ты, друг мой, потратил сегодня свой курительный порошок: я не чувствовал ничего, кроме аромата цветущей яблони, не ощупал даже и помады стихоплета, который мажет свою голову, не имея возможности когда-либо защитить ее от ветра и непогоды лавровым венком, ибо не смеет надевать на нее ничего, кроме войлока и кожи, предназначенных, по уставу, для военного кивера! Итак, мой милый, из нас троих только ты и был жертвенным агнцем под адским ножом трагедии. В то время как я, нарядившись в халат, с двенадцатилетним легкомыслием прыгал по саду, мейстер Абрагам, как ты видишь, истратил три или четыре листа прекрасной нотной бумаги, вырезывая разные фантастические фигуры. Значит, и он спасся от поручика.
Крейслер был прав. Мейстер Абрагам умел так искусно вырезывать из картона, что сразу нельзя было ничего разобрать в его рисунке, но если за листом поставить свечку, то тени, образующиеся на стене, составляли группы удивительных фигур. Мейстер Абрагам всегда чувствовал отвращение к чтению вслух, а вирши поручика были ему особенно не по нутру; поэтому-то и случилось, что, как только тот принялся читать, мейстер Абрагам поспешно схватил нотную бумагу, лежавшую случайно на столе у тайного советника, вынул из кармана маленькие ножницы и принялся за занятие, которое вполне защитило его от покушения поручика.
– Послушай, Крейслер, – сказал тайный советник, – в душе твоей зашевелилось воспоминание детских лет, и ему я могу приписать то, что ты сегодня так кроток и мил; послушай, дорогой друг, меня (как и всех, кто тебя любит и уважает) мучит мысль, что я ровно ничего не знаю о ранних годах твоей жизни; ты упорно уклоняешься от разговоров на эту тему и умышленно набрасываешь на свое прошлое покрывало, которое, однако, часто бывает настолько прозрачно, что подстрекает любопытство странными переливами просвечивающих картин. Будь откровенен с теми, кому ты уже подарил свое доверие.
Крейслер посмотрел на своего собеседника большими удивленными глазами, как человек, проснувшийся после глубокого сна и видящий перед собою незнакомое лицо, и начал самым серьезным тоном:
– В день св. Иоанна Крестителя, т. е. 24 января тысяча семьсот какого-то года в полдень родился некто, имевший лицо, руки и ноги. Отец его ел в это время гороховый суп и от радости пролил себе на бороду целую ложку этого варева, над чем родильница, даже не видя этого, до того хохотала, что у некоего музыканта, игравшего на лютне свои новые пьесы, лопнули все струны в инструменте, и он поклялся ночным чепчиком своей бабушки, что в музыке новорожденный Ганс Газе[25] на вечные времена останется олухом. Но тут отец мой утер себе подбородок и сказал патетическим тоном: «Иоганном его действительно будут звать, но зайцем он не будет!»… Музыкант…
– Прошу тебя, Крейслер, – прервал капельмейстера маленький советник, – не впадай ты в этот проклятый тон, от которого у меня просто захватывает дыхание. Разве я требую твоей автобиографии? Я прошу только, чтобы ты позволил мне заглянуть немного в твою прошлую жизнь, которой я не знаю. Право, ты мог бы не укорять меня за это любопытство, проистекающее из сердечного расположения к тебе. Ты мог бы извинить это. К тому же твои поступки настолько странны, что всякому приходит в голову, что только самая пестрая жизнь, полная сказочных приключений, могла образовать и вылить такую психическую форму, как твоя.
– О, какая грубая ошибка! – сказал Крейслер, вздыхая. – Моя юность подобна бесплодной пустыне, усыпляющей чувство и разум печальным однообразием.
– Ну нет, уж это-то вздор! – воскликнул советник. – По крайне мере я знаю, что в этой пустыне есть премиленький садик с цветущей яблоней, которая благоухает сильнее моего лучшего курительного порошка. А теперь, Иоганн, я надеюсь, что ты поделишься с нами воспоминаниями о твой ранней юности, которые, по твоим же словам, переполняют сегодня твою душу.
– Я тоже думаю, Крейслер, – сказал мейстер Абрагам, вырезывая тонзуру у только что оконченного монаха, – что при сегодняшнем вашем настроении вы не можете сделать ничего лучшего, как открыть ваше сердце или ваши чувства или, как могли бы вы сказать, вашу внутреннюю денежную шкатулку и кое-что оттуда вынуть. Вы уже признались, что, вопреки желанию заботливого дядюшки, бегали по дождю и суеверно прислушивались к пророчеству замирающего грома, значит – можете рассказать и больше. Только не лгите, друг мой, потому что вы знаете, что находились под моим контролем, по крайней мере в то время, когда носили первые панталоны и вам заплели первую косу.
Крейслер хотел что-то возразить, но мейстер Абрагам быстро повернулся к маленькому советнику и произнес:
– Вы не можете себе представить, до какой степени наш Иоганн предается злому духу лжи, когда он, – что бывает, впрочем, очень редко, – начинает рассказывать про свою раннюю юность. В то время, когда дети говорят только «папа» и «мама» и показывают пальцем на горящую свечку, он будто бы все уже замечал и глубоко заглядывал в человеческое сердце.
– Вы ко мне несправедливы, – сказал Крейслер кротким голосом и нежно улыбнулся. – Моглу ли я разуверять вас в чем-либо, касающемся раннего развития духа, как это делают тщеславные дураки?.. Но скажи, пожалуйста, мой милый советник, разве не случается и с тобой, что в душе твоей ясно встают моменты из того времени, которое многие умнейшие люди называют прозябанием, не желая признавать за ним ничего, кроме инстинкта, высшую степень которого мы должны признавать у животных?.. Я думаю, что тут есть особое обстоятельство… Вечно непонятным останется первое пробуждение ясного сознания!.. Если бы это случилось вдруг, то, я думаю, можно было бы умереть от страха. Кто не испытывал страха в первый момент пробуждения от глубокого сна, когда человек переходит от бессознательного состояния спящего к сознанию себя самого?.. Не желая заходить слишком далеко, я скажу, что всякое сильное психическое впечатление этого переходного времени оставляет в нас зародыш, который всходит с развитием нашего духовного роста. И так живет в нас каждая печаль или радость этих предрассветных часов, а те нежные и грустные голоса дорогих нам людей, которые мы принимаем за грезу, когда они пробуждают нас от сна, действительно существуют и звучат еще в нашей душе. Но я знаю, на что намекает мейстер. Это не что иное, как история об умершей тетушке, которою он желает меня уколоть. И вот для того, чтобы хорошенько его позлить, я именно ее-то и расскажу тебе, друг мой, если ты обещаешь мне снисходительно принять мою ребяческую чувствительность. То, что я говорил тебе про гороховый суп и про музыканта…
– О, перестань, перестань, – прервал капельмейстера тайный советник, – я вижу, что ты хочешь меня надуть, и это прескверно с твоей стороны!
– Вовсе нет, душа моя! – воскликнул Крейслер. – Я оттого только заговорил о музыканте, что он составляет естественный переход к лютне, небесные звуки которой баюкали ребенка в его сладких снах. Младшая сестра моей матери прекрасно играла на этом инструменте, давно уже сданном в музыкальный архив. Серьезные люди, умеющие писать и считать и даже знавшие еще кое-что, проливали в моем присутствии слезы, вспоминая об игре на лютне покойной мамзель Софи. Поэтому нет ничего удивительного, что я еще ребенком, почти без сознания, жадно ловил унылую скорбь волшебных звуков, выливавшуюся из глубины души музыкантши. А упомянутый выше музыкант был не кто иной, как учитель покойной, маленький человечек с необыкновенно кривыми ногами. Его звали monsieur Туртель; он носил красный плащ и белый парик с косой… Я говорю это, чтобы показать, как ясно сохранились у меня в памяти эти фигуры, и чтобы ни мейстер Абрагам, ни кто-либо иной не мог усомниться в моей правдивости, когда я стану уверять, что еще до трех лет помню себя на коленях у девушки, кроткие глаза которой смотрели мне прямо в душу, – что я и теперь еще слышу нежный голос, которым она со мной говорила и пела, и отлично знаю, что я отдавал всю свою нежность и любовь этой милой особе. Это была тетя Софи, которую называли странным уменьшительным именем «Фюсхен». Однажды я очень жаловался на то, что не вижу тети Фюсхен.
Няня принесла меня в комнату, где тетушка лежала в постели, но старик, сидевший около нее, быстро вскочил и выгнал няньку, державшую меня на руках. Скоро после этого меня одели, завернули в теплые платки и унесли в другой дом, к моим многочисленным дядям и теткам, и сказали мне, что тетя Фюсхен очень больна, и что если бы я с ней остался, то и я заболел бы. Через несколько недель меня перенесли в мою прежнюю обстановку. Я плакал, кричал к просился к тете Фюсхен, потом пошел в комнату, где она лежала, подошел к ее кровати и раздвинул полог, но кровать была пуста, и другая особа, которая тоже была моя тетка, сказала мне со слезами: «Ты не найдешь ее, Иоганн, она умерла и лежит под землей».
Я отлично знаю, что не мог понять тогда смысла этих слов, но даже теперь, вспоминая ту минуту, я содрогаюсь от неизъяснимого чувства, охватившего тогда меня. Сама смерть придавила меня своим ледяным панцырем, ужас проник в мою душу, и сразу исчезла вся моя детская радость. Я не знаю, что со мной сделалось, и, вероятно, никогда этого не узнаю, но мне часто рассказывали потом, что я медленно опустил полог, постоял несколько минут очень серьезно и спокойно, а потом сел на маленький плетеный стул, стоявший рядом, как будто я был глубоко потрясен и размышлял над тем, что мне только что сказали. К этому прибавляли, что в этом тихом горе ребенка, обыкновенно склонного к самым живым проявлениям своих чувств, было что-то невыразимо трогательное! Я несколько недель оставался в том же настроении, не плакал, не смеялся, не хотел играть, не отвечал ни на какие ласковые слова, не замечал ничего, что вокруг меня делалось.
В эту минуту мейстер Абрагам взял в руки лист, изрезанный скрещивающимися и поперечными линиями, поднял его перед горящими свечами, и на стене отразился хор монахинь, играющих на странных инструментах.
– Ого, мейстер, – воскликнул Крейслер, разглядывая прекрасно составленную группу сестер, – я отлично знаю, о чем вы хотите напомнить! И теперь еще буду я утверждать, что вы были неправы, выбранив меня и назвав беспокойным и нелепым мальчуганом, способным сбить с такта и с тона целое собрание поющих и играющих людей диссонирующим голосом своей глупости. Разве в то время, когда вы повезли меня в монастырь св. Клариссы миль за 20 или за 30 от родного города, чтобы впервые послушать настоящую католическую музыку, не имел я полного права на самое блистательное невежество, находясь в самом невежественном возрасте? Что же дурного в том, что давно забытое горе трехлетнего мальчика воскресло с новой силой в безумном порыве, наполнив мое сердце восторгом и ужасом? Разве не должен был я уверять и думать, несмотря на все увещания, что на странном инструменте, называемом морской трубой, играла не кто иная, как тетя Фюсхен, хотя я и знал, что она уже давно умерла? Зачем не позволили вы мне ворваться в хор, где я наверно нашел бы ее в знакомом зеленом платье с розовым шарфом?
Крейслер подошел к стене и проговорил взволнованным, дрожащим голосом:
– Ну да, конечно, тетя Фюсхен выше всех монахинь. Она встала на скамейку, чтобы лучше управлять своим трудным инструментом.
Но тут маленький советник закрыл собою китайские тени, взял его за плечи и сказал:
– Право, было бы умнее, Иоганн, если бы ты оставил эти странные бредни и не говорил об инструментах, не существующих на свете, так как я никогда в жизни не слыхивал о морской трубе.
– О! – смеясь, воскликнул мейстер Абрагам, бросая на стол лист бумаги, причем разом исчез весь хор монахинь вместе с химерической тетей Фюсхен и ее морской трубой. – О уважаемый друг мой, тайный советник! Господин капельмейстер теперь, как и всегда, человек разумный и спокойный, а не фантазер и не шутник, как думают про него многие. Что же тут невероятного, что музыкантша, игравшая на лютне, и после смерти с неменьшим успехом играет на странном инструменте, который, может быть, встречается еще и теперь в женских монастырях? Так вы думаете, что морская труба не существует? Откройте-ка на этом слове лексикон Коха, который стоит у вас на полке.
Тайный советник исполнил просьбу Абрагама и прочел следующее:
«Этот старинный и простой струнный инструмент состоит из трех тонких семифутовых досок, которые внизу, там, где инструмент касается пола, достигают шести или семи дюймов ширины, а наверху около двух. Доски эти соединены вместе в форме треугольника так, что корпус, имеющий наверху место для колков, постепенно суживается кверху. Одна из этих трех досок составляет деку, в которой сделано несколько отверстий, на ней же натянута одна довольно толстая кишечная струна. При игре инструмент ставят наклонно к себе, прислоняя его верхнюю часть к груди. Большим пальцем левой руки играющий слабо прижимает струну в соответствующих известному тону местах, подобно тому, как это делается на скрипке при флажолетах, а правой рукой водит по струне смычком. Своеобразный тон инструмента, похожий на звук глухой трубы, получается от подставки, через которую проходит струна. Эта подставка или кобылка, как называется она у струнных инструментов, имеет форму башмачка, который спереди очень тонок и узок, а сзади гораздо выше и толще. На задней части его лежит струна; когда по ней водят смычком и она колеблется, передняя, более легкая часть кобылки двигается вверх и вниз, и от этого происходит глухой и дребезжащий звук, похожий на трубу».
– Сделайте мне такой инструмент, мейстер Абрагам! – сверкая глазами, воскликнул советник. – Я брошу в угол мою скрипку, не буду дотрагиваться до тифона, но разудивлю весь город, играя на морской трубе!
– Хорошо, я сделаю это, – отвечал мейстер Абрагам, – и тогда, друг мой, пусть дух тети Фюсхен в зеленом тафтяном платье придет вдохновить вас своей духовной силой!
Тайный советник в восхищении обнял мейстера, но Крейслер стал между ними и сказал почти сердито:
– А разве вы не такие же злые шутники, каким прежде был я? Да к тому же и безжалостные люди! Радуйтесь, что у меня на лбу выступил холодный пот при описании этого потрясающего инструмента, и не говорите больше про музыкантшу! Ты, друг мой, хотел, чтобы я рассказал про мою юность, а мейстер Абрагам вырезывал китайские тени, подходящие к разным моментам из того времени; теперь ты, кажется, можешь быть доволен прекрасным изданием набросков моей биографии, украшенным гравюрами на меди. Когда ты читал статью из коховского лексикона, мне пришел на память его лексиконный коллега Гербер, и я вообразил себя трупом, положенным на доске для биографического вскрытия. В предисловии можно было бы сказать так: «Нет ничего удивительного, что внутри этого молодого человека по всем жилам быстро течет музыкальная кровь, так как то же самое было со многими из его кровных родственников, вследствие чего он и состоит с ними в кровном родстве». Я хочу сказать, что большинство моих дядей и теток, которых у меня было немалое количество, как знает мейстер Абрагам и как заметил и ты, занимались музыкой и, кроме того, большею частью играли на инструментах, которые и тогда уже были редки, а теперь почти исчезли, так что я только во сне могу слышать те удивительные концерты, которые слышал приблизительно до десяти или до одиннадцати лет. Может быть, оттого мой музыкальный талант и принял с самого начала то направление, склонной к своеобразной инструментовке, которое упрекают в излишней фантастичности. Если ты, друг мой, можешь слушать без слез хорошую игру на старинном инструменте viola d’amore, то благодари бога за твои крепкие нервы; я же изрядно хныкал, когда рыцарь Эссер доставлял мне это удовольствие, а когда играл на нем один из моих дядей, – высокий представительный человек, к которому необыкновенно шло духовное платье, – я хныкал еще больше. Удивительно приятна была также игра другого родственника на viola di gamba. Ему аккомпанировал на клавесине тот дядя, который меня воспитывал или, вернее, не воспитывал. Он с варварской виртуозностью владел этим инструментом, но аккомпанировал с большими недохватками в такте. Немало удивил бедняга всю семью, когда открылось однажды, что он превесело танцует менуэт à la Pompadour[26] под музыку сарабанды. Я мог бы порассказать вам еще многое о музыкальных увеселениях моего семейства, которые бывали часто единственными в своем роде, но пришлось бы говорить много такого, над чем вы смеялись бы, а выставлять вам на потеху моих достойных родственников противно respectus parentalis (родственному почтению).
– Иоганн, – сказал тайный советник, – при твоем сегодняшнем настроении ты не посетуешь на меня, если я затрону в твоем сердце струну, прикосновение к которой может причинить тебе боль. Ты все говоришь о дядях и тетях и никогда не вспомнишь про отца и про мать!..
– О друг мой, – возразил Крейслер с глубоким волнением, – еще сегодня вспоминал я… Но нет, довольно воспоминаний и снов, довольно об этой минуте, заставившей меня испытать сначала непонятную печаль моего детства, а потом дивное спокойствие, похожее на сладостную тишину леса после грозы. Вы правы, мейстер, я стоял под яблоней и прислушивался к пророческому голосу замирающего грома. А ты, мой друг, ясно представишь себе тупое оцепенение, в котором я находился после потери тети Фюсхен, если я скажу тебе, что случившаяся в это время смерть моей матери не произвела на меня особого впечатления. Я не смею сказать тебе, почему отец совершенно предоставил или должен был предоставить меня брату моей матери, ты прочтешь такие случаи во многих преступных семейных романах или в любой драме из домашней жизни. Если я прожил мое детство и значительную часть юности в тяжелом одиночестве, то это можно приписать именно тому, что у меня не было родителей. Мне кажется, что плохой отец все-таки лучше всякого хорошего воспитателя, – и у меня волосы становятся дыбом, когда родители, в бессердечном непонимании, отдаляют от себя детей и переносят их в ту или другую чуждую обстановку, где бедняжек выкраивают по известному образцу, не обращая внимания на их индивидуальность, ясное понимание которой может быть доступно только родителям. Что же касается воспитания, то никто не должен удивляться тому, что я не благовоспитан: дядя вовсе меня не воспитывал; он предоставил это учителям, которые приходили на дом, так как я не посещал никакой школы и не смел нарушать никакими знакомствами с мальчиками моих лет тишину дома, где жил мой холостяк дядя со своим старым глупым слугой. Я припоминаю только три случая, когда почти до глупости спокойный и равнодушный дядя исполнил краткий наставительный акт, давши мне пощечину; за все мое детство я получил три пощечины. Так как я склонен сегодня к болтовне, то я мог бы изобразить тебе, мой друг, историю этих пощечин, как романтическую страницу, но я расскажу только о второй. Ты, мне кажется, особенно жаден до всего, что касается моего музыкального образования; поэтому тебе небезынтересно будет, вероятно, узнать, как я в первый раз стал сочинять… У дяди была довольно обширная библиотека, из которой я мог брать все, что мне вздумается. Мне попалась под руку «Исповедь» Руссо в немецком переводе. Я жадно прочел книгу, написанную, конечно, не для двенадцатилетнего мальчика. Она могла бы заронить в мою душу семена многих бед, но только один момент из всех ее очень замысловатых приключений произвел на меня настолько сильное впечатление, что я забыл все остальное. Подобно электрическому току подействовал на меня рассказ о том, как маленький Руссо, повинуясь влечению своего музыкального духа, без всяких сведений в гармонии и контрапункте и без всяких вспомогательных средств решил сочинить оперу, как он опустил для этого занавески, бросился на постель, желая вполне предаться вдохновению, и как, подобно чудному сну, возникло его творение. День и ночь думал я об этой минуте, и мне казалось, что нет ничего выше блаженства, испытанного маленьким Руссо. Я чувствовал, что и я могу быть причастен к этому блаженству, что сто́ит мне только твердо решиться, и я попаду в этот рай, так как дух музыки говорил во мне с такой же силой, как и у Руссо. Я решил подражать моему образцу. В один ненастный осенний вечер, когда мой дядя, против обыкновения, вышел из дому, я сейчас же опустил занавески и бросился на дядину кровать, чтобы вдохновиться и сочинить оперу так же, как Руссо. Но как ни прекрасна была моя обстановка и как ни старался я предаться поэтическому вдохновению, оно упорно мне не давалось. Вместо всех чудных мыслей, которые должны были прийти мне в голову, у меня в ушах назойливо звучала старая жалобная песня, плаксивый текст которой начинался словами: «Люблю я одну лишь Исмену, Исмена не любит меня», и, как я ни старался, я не мог от нее отвязаться. «Затем идет торжественный хор жрецов на горных высотах Олимпа!» – восклицал я в душе, но в ушах у меня по-прежнему раздавалось «Люблю я одну лишь Исмену» и пело так неотвязно, что я, наконец, заснул. Меня разбудили громкие голоса, причем в нос мне лез какой-то невыносимый запах, захватывавший мне дыхание. Вся комната полна была густого дыму, и в облаках его стоял дядя. Он стаскивал остатки горящей занавески, закрывавшей платяной шкап, и кричал: «Воды! Воды!» На крик его пришел старый слуга, неся кувшин с водой, и начал лить воду на пол, чтобы затушить огонь. Дым медленно выходил в окно.
«Но где же проказник?» – спрашивал дядя, освещая комнату. Я отлично знал, кого он разумеет, и притаился в постели, как мышь, но дядя подошел и поднял меня на ноги, сердито крича: «Этот негодяй сожжет весь дом!» При дальнейших расспросах я очень спокойно объяснил, что хотел сочинить оперу, лежа в постели, как делал маленький Руссо, и потому не знаю, отчего начался пожар. «Руссо? Сочинял? Оперу? Дурак!» – возгласил дядя, задыхаясь от гнева, и присоединил к этому сильнейшую пощечину, вторую в моей жизни. Я стоял молча, совершенно ошеломленный, и в ту же минуту, в виде отголоска удара, ясно раздалось в моих ушах: «Люблю я одну лишь Исмену» и т. д. С тех пор я почувствовал живейшее отвращение как к этой песне, так и к сочинительству.
– Но отчего же произошел пожар? – спросил тайный советник.
– Я до сих пор не могу понять, – ответил Крейслер, – каким образом загорелась занавеска, а с ней погибли и прекрасный дядин халат, и три или четыре завитых тупея, которые дядя брал из парикмахерской для изучения искусства завивать парики. Но мне всегда казалось, что я получил пощечину не за нечаянный пожар, а за композиторство. Удивительно то, что дядя строго требовал, чтобы я занимался музыкой, хотя мой учитель, обманутый временным отвращением, которое я выказывал к музыке, считал меня лишенным музыкальных способностей. Вообще дяде было совершенно все равно, чему я учился или не учился, но он не раз выражал серьезное неудовольствие по поводу того, что меня трудно приучить к музыке, и потому можно было думать, что он придет в восторг, когда через два года музыкальный дух заговорил во мне с такой силой, что поглотил все остальное; но вышло совсем иначе. Дядя слегка улыбался, замечая, что я довольно искусно играю на нескольких инструментах и даже сочиняю небольшие пьески, к удовольствию мейстера Абрагама и других. Он только слегка улыбался, когда ему меня хвалили, и говорил с лукавым видом: «Да, мой маленький племянник довольно глуп».
– Для меня совершенно непонятно, – заговорил тайный советник, – почему дядя не дал воли твоей склонности и направил тебя к другой карьере. Насколько мне известно, твое капельмейстерство началось очень недавно.
– И недалеко уйдет! – со смехом воскликнул мейстер Абрагам, бросая на стену тень маленького, странно сложенного человечка. – А теперь, – продолжал он, – я должен вступиться за почтенного дядюшку, которого некий нечестивый племянник называл «дядя Эге», так как он подписывался заглавными буквами своего имени Эдуард Геллер. Я должен сказать, что если капельмейстер Иоганн Крейслер сделался посольским советником и испытал много горя, то никто не виноват в этом меньше дяди Эге.
– Ну довольно об этом, мейстер, – попросил Крейслер, – и снимите со стены дядю: он был действительно довольно смешон, но сегодня я не хотел бы смеяться над стариком, который давно уже лежит в могиле.
– Вы сегодня что-то необыкновенно чувствительны, – возразил мейстер, но Крейслер не обратил на это внимания и сказал, обращаясь к тайному советнику:
– Ты заставил меня болтать, а потому уж не сердись, если я, вместо того, чтобы рассказать тебе что-нибудь необыкновенное (как ты, может быть, ожидал), буду угощать тебя только обыденными вещами, тысячу раз повторяющимися в жизни. Несомненно то, что не воспитание и не особое упрямство судьбы, а простое течение вещей было причиной того, что я невольно шел как раз не туда, куда хотел… Заметил ли ты, что в каждой семье есть кто-нибудь, достигающий известной высоты: он играет в своем кругу роль героя; на него робко взирают любящие родственники, его повелительный голос изрекает безапелляционные приговоры. Так было с младшим братом моего дяди, который улетел из музыкального гнезда и был довольно значительной особой в качестве тайного советника посольства в резиденции при особе князя. Его возвышение повергло всю семью в немое удивление, которое никогда не проходило. Имя посольского советника произносилось с глубокой торжественностью, и когда говорилось: «Посольский советник написал» или «тайный советник выразился так или иначе», то все слушали с благоговением. Приученный с раннего детства к тому, чтобы считать дядю в резиденции существом, достигшим высшей цели человеческих стремлений, я, разумеется, находил, что лучшее, что я могу сделать, это идти по его стопам. Портрет знаменитого дяди висел в парадной комнате, и я хотел только одного – быть завитым и одетым, как дядя на портрете. Это желание исполнил мой воспитатель, и я был, вероятно, очень интересен десятилетним мальчиком в непомерно высоко завитом тупее, с волосяной сеткой, в зеленом сюртуке с серебряным шитьем, в шелковых чулках и с маленькой шпагой. Когда я стал постарше, детская прихоть обратилась в нечто более серьезное: меня можно было приохотить к самой сухой науке, если только мне говорили, что это нужно, чтобы сделаться посольским советником. Никогда не думал я, что искусство, волновавшее всегда мою душу, должно стать моим настоящим призванием и единственным назначением моей жизни, так как я привык слышать о музыке, живописи и поэзии как об очень приятных вещах, которые могут служить лишь для забавы и увеселения. Быстрота и легкость, с которой я при содействии важного дяди и с помощью своих знаний начал карьеру (я сам избрал ее), не дали мне возможности оглядеться и избрать более верный для себя путь. Цель была достигнута, отступление невозможно, но тут вдруг пришла минута, когда отмстило за себя искусство, от которого я отрекся. Меня поразила мысль о загубленной жизни, и я увидел в безутешной скорби, что заковал себя в цепи, которые невозможно разбить.
– Да будет благословенна катастрофа, освободившая тебя от этих тенет! – воскликнул тайный советник.
– Не говори этого, – возразил Крейслер, – освобождение пришло слишком поздно. Со мной было то же, что с узником, который, получив наконец свободу, почувствовал, что отвык от мирской суеты и дневного света и не может воспользоваться золотой свободой, вследствие чего вернулся в темницу.
– Это одна из тех мыслей, Иоганн, – заговорил мейстер Абрагам, – которыми вы мучите себя и других. Нечего, нечего! Судьба всегда хорошо вами распоряжалась. Никто, кроме вас, не виноват в том, что вы никогда не могли идти обычным путем и бросались то вправо, то влево от верной дороги. Но, конечно, в детские годы ваша звезда особенно сильно господствовала над вами и…
Отдел второй
Жизненный опыт юноши. Бывал в Аркадии и я
(М. пр.) – Это было бы, однако, довольно глупо, но вместе с тем и замечательно, – так беседовал однажды сам с собою мой хозяин, – если бы серенький господинчик, проживающий у печки, действительно знал те науки, которые навязывает ему профессор!.. Гм… да это могло бы обогатить меня еще больше, чем моя невидимая девушка. Я посадил бы его в клетку, и он стал бы показывать свое искусство свету, который охотно заплатит за это богатую дань. Научно-образованный кот мог бы все-таки больше сказать, чем скороспелый юноша, обученный посредством разных упражнений. А если он к тому же еще и писатель… Надо хорошенько расследовать это дело!
Услышав эти ужасные слова, я вспомнил предостережения моей незабвенной матери Мины и, не показывая хозяину ни малейшим признаком, что я его понял, твердо решил тщательно скрывать мое образование. С этих пор я писал и читал только ночью и при этом с благодарностью убедился в благости провидения, которое дало нашей почтенной породе большое преимущество перед родом двуногих, называющих себя почему-то «царями природы». Могу заверить, что при своих занятиях я не нуждался ни в свечных, ни в масляных фабрикантах, так как фосфорический блеск моих глаз служил мне ярким освещением даже в самые темные ночи. По той же причине, конечно, я избегну упрека, который могут сделать многим писателям старого света; мои произведения наверно уж не будут отзываться ламповым маслом.
Несмотря на мое глубокое убеждение в высоких качествах, которыми наградила меня природа, я должен, однако, признать, что нет ничего совершенного в подлунном мире, и это отражается на многих жизненных отношениях. Я не намерен говорить о тех милых вещах, которые доктора́ называют ненатуральными, несмотря на то, что я сам считаю их вполне натуральными, я хотел только заметить, что эта зависимость очень ясно выражена в нашей психической организации. Не правда ли, что часто полет наш бывает задержан цепями, происхождение и причина коих для нас непонятны?
Но будет и лучше, и справедливее, если я скажу так: все дурное происходит от дурных примеров и от слабости нашей природы; к сожалению, мы склонны следовать дурным примерам. Я уверен также, что человеческий род особенно склонен к тому, чтобы подавать дурные примеры.
Милый юноша кот, читающий эти строки, не случалось ли тебе когда-нибудь в жизни приходить в какое-то непонятное настроение, вызывавшее со стороны твоих товарищей горькие упреки, а может быть – даже и побои? Ты был ленив, заносчив, прожорлив, ни в чем не находил удовольствия, постоянно лез туда, где тебе не следовало быть, всем тяготился, – словом, ты был невыносим. Утешься, друг мой, кот! Этот неприятный период твоей жизни зависел не от тебя, ты только платил дань управляющему нами принципу за то, что и ты следовал дурному примеру людей, которые ввели это переходное состояние. Утешься, о кот: и со мной было то же!
Среди моих ночных занятий вдруг напала на меня какая-то леность, состояние, похожее на пресыщение неудобоваримыми вещами: я беспрестанно свертывался клубком и засыпал на той книге, которую читал, или на той самой рукописи, которую писал. Эта вялость овладевала мной все больше, так что наконец я не мог больше ни читать, ни писать, ни бегать, ни прыгать, ни проводить время с моими друзьями в погребах и на крыше. Вместо этого я чувствовал непреодолимое желание делать все, что было неприятно моему хозяину и моим друзьям, чем должен был им ужасно досаждать. Что касается хозяина, то он ограничивался тем, что гнал меня прочь, так как я беспрестанно выбирал для своего отдыха места, на которые он не желал меня пускать; в конце концов он должен был меня наказать. То и дело вскакивал я на его письменный стол и так долго расхаживал по нему, что попал, наконец, кончиком хвоста в большую чернильницу и оставил прекрасные рисунки на диване и на полу. Это взбесило моего хозяина, который, по-видимому, не понимал такого рода искусства. Я выскочил на двор, но там дело пошло еще хуже. Большой кот почтенной наружности давно уже выражал неудовольствие по поводу моего поведения. Когда же я и в самом деле довольно глупо вздумал утащить у него из-под носа кусок, который он только что собирался съесть, то он надавал мне столько оплеух, что я был совершенно ошеломлен, и из обоих ушей у меня сочилась кровь. Если я не ошибаюсь, этот достойный господин приходился мне дядей, так как черты его лица напоминали Мину, и фамильное сходство было несомненно. Одним словом, я признаю, что вел себя в это время очень плохо, и хозяин часто говорил мне: «Я не знаю, что с тобой, Мур! Мне остается только думать, что ты в переходном возрасте». Хозяин был прав: это было действительно опасное переходное время, переживавшееся мною благодаря дурному примеру людей, которые, как я уже говорил, ввели это скверное состояние, как нечто присущее их натуре. Они называют этот период переходными годами, у нас же может быть речь только о переходных неделях. Я вышел из этого периода благодаря сильному толчку, который мог бы мне стоить ноги или нескольких ребер. Да, удивительно энергично выпрыгнул я из этих переходных недель!
Я должен рассказать, как это случилось. На дворе дома моего хозяина стояла некая машина на четырех колесах, роскошно выложенная внутри подушками. Как узнал я потом, это была английская коляска. Очень естественно, что при тогдашнем моем настроении мне пришла охота с трудом влезть на эту машину и забраться внутрь ее. Я нашел, что находящиеся там подушки приятны и заманчивы, и с этих пор большую часть дня спал или мечтал, лежа на них.
Сильный толчок, за которым последовали треск, топанье и фырканье, разбудил меня в ту минуту, когда передо мною носились дивные образы жареной рыбы, мяса и т. п. вещей. Кто опишет мой ужас, когда я почувствовал, что вся машина двигается вперед с оглушительным шумом, подбрасывая меня на подушках. Наконец страх мой дошел до крайней степени, я сделал отчаянный прыжок и выскочил из машины, слыша за собой насмешливый хохот адских демонов и их грубые голоса, кричащие: «Брысь, брысь!» В безумном страхе бежал я оттуда, за мной летели камни, и вот, наконец, прыгнул я в какое-то мрачное здание и повалился без чувств.
Мало-помалу я услышал, как ходят над моей головой, и заключил по звуку шагов, как это случалось мне делать и раньше, что я нахожусь под лестницей. И это было действительно так.
Когда же я вышел, – о небо! – я увидел незнакомые улицы, по которым шло множество незнакомых людей. Мало этого: везде грохотали экипажи, громко лаяли собаки, и наконец показалась целая толпа людей с оружием, сверкавшим на солнце; прямо около меня кто-то вдруг начал ужасно колотить по большому барабану, и я в невыразимом страхе невольно подскочил фута на три. Теперь увидал я, что попал в свет, тот самый свет, на который я так часто смотрел издали с моей крыши не без некоторого любопытства; теперь я очутился среди него одиноким пришельцем. Я стал гулять около самых домов вдоль улицы и наконец встретил двух юношей моей породы.
Я остановился, попробовал завязать с ними разговор, но они только взглянули на меня сверкающими глазами и, отпрыгнув, побежали дальше. «Легкомысленная молодежь, – подумал я, – ты не знаешь, кто встретился на твоей дороге. Так проходят среди толпы великие умы, непонятые и незамеченные. Это жребий мудрости у смертных!» Рассчитывая на большее участие со стороны людей, я прыгнул к открытому погребу и начал издавать самые приветливые и, как я думал, заманчивые звуки, но все проходили мимо холодно и безучастно, не глядя на меня. Наконец я заметил хорошенького кудрявого белокурого мальчика, который приветливо на меня посмотрел и, щелкнув пальцами, начал звать:
– Кис, кис!
«Прекрасная душа, ты меня понимаешь!» – подумал я и, ласково мурлыча, приблизился к мальчику. Он начал меня гладить, но потом, когда я думал дать полную волю своим нежным чувствам, он так придавил мне хвост, что я громко вскрикнул от боли. По-видимому, это особенно обрадовало негодного плута, он громко захохотал и, не выпуская меня, хотел повторить свой адский маневр. Тут вспыхнула во мне мысль о мщении, и я так глубоко запустил ему когти в руки и в лицо, что он выпустил меня, совершенно исцарапанный. Но в ту же минуту я услышал за собой:
– Тирас! Картуш! Куси, куси!
И за мной с громким лаем бросились две собаки. Я совершенно запыхался от бега, а они неслись по моим следам, и спасения не было. Обезумев от страха, вскочил я в окно нижнего этажа, так что зазвенели стекла и несколько горшков с цветами, стоявших на подоконнике, с треском упали с окна в комнату. Женщина, сидевшая у стола с работой, в испуге вскочила с места, крича:
– Ах ты, скверное животное!
Она схватила палку и хотела меня ударить. Но ее остановили мои гневно сверкающие глаза, выпущенные когти и отчаянные вопли, которые я издавал; подобно тому, как в некой трагедии, поднятая палка повисла в воздухе: она являла собой картину ярости, колеблющуюся между силой и волей. Минуту спустя открылась дверь; пользуясь случаем, я проскользнул между ногами входившего человека и был настолько счастлив, что выбежал из дома на улицу.
Совершенно обессиленный, достиг я, наконец, укромного местечка, где мог немного отдохнуть. Но тут меня начал мучить голод, и я с глубокой грустью подумал о добром мейстере Абрагаме, с которым разлучила меня злая судьба. Как найти его? Уныло смотрел я кругом, не зная, каким способом отыскать обратный путь, и горячие слезы выступили у меня на глазах.
Но вот блеснула надежда! На углу улицы заметил я приветливую молодую девушку, сидевшую у маленького столика, на котором самым заманчивым образом разложены были хлебы и колбаса. Я медленно подошел к ней; она улыбнулась, а я, желая показать свою благовоспитанность и любезность, так высоко изогнул спину, как никогда.
Улыбка ее перешла в громкий смех. «Наконец-то нашел я прекрасную и сострадательную душу! Как это сладко моему израненному сердцу!» Так думал я, стаскивая со стола одну из колбас, но в ту же минуту девушка закричала, и если бы в меня попал брошенный ею толстый кусок дерева, то я бы, вероятно, никогда больше не ел не только той колбасы, которую я стянул в надежде на человеколюбие девушки, но и никакой другой. Я употребил мои последние силы на то, чтобы скрыться от преследований недоброй девушки. Это мне удалось, и я достиг, наконец, места, где мог спокойно съесть колбасу.
После этой скудной трапезы я повеселел, а так как солнце пригрело мою шкуру, то я почувствовал, что земная жизнь прекрасна. Но когда спустилась холодная ночь, и я не нашел мягкого ложа, к которому привык у своего доброго господина, когда я проснулся на другое утро, дрожа от холода и вновь мучимый голодом, то я почувствовал безнадежность, близкую к отчаянию. «Так вот, – громко жаловался я, – вот тот свет, куда ты стремился, сидя на родной крыше! Свет, где ты надеялся найти добродетель, мудрость и утонченность высшего образования!.. О бессердечные варвары! Вся ваша сила в том, чтобы наказывать! Весь разум в насмешках! Все ваши занятия заключаются в том, чтобы преследовать глубокие чувства! Прочь, прочь из этого места лицемерия и призраков! Прими меня под свою сладостную сень, о родимый погреб! О чердак, о печка! О милое уединение! К тебе уныло стремится мое сердце!»
Мысль о моем несчастном безнадежном положении настолько овладела мною, что я зажмурил глаза и горько заплакал. Знакомые звуки коснулись моих ушей:
– Мур, Мур, дорогой друг, откуда ты, что с тобой случилось?
Я открыл глаза, передо мной стоял юный Понто.
Как ни огорчил меня Понто, но его неожиданное появление было мне утешительно. Забыв неприятность, которую он мне сделал, я рассказал ему, что со мной было, со слезами описал ему мое печальное беспомощное состояние и заключил тем, что пожаловался ему на смертельный голод.
Я ожидал возбудить его участие, но вместо того юный Понто разразился громким смехом:
– Ну не дурак ли ты, милый Мур! – сказал он наконец. – Сначала садишься ты в коляску, где тебе вовсе не место, засыпаешь в ней и пугаешься, когда она едет, потом выпрыгиваешь на свет божий и удивляешься, что тебя никто не знает, когда ты ни разу не ходил дальше двери своего дома, – удивляешься, что при твоем глупом поведении тебя везде плохо принимают, и, наконец, не умеешь найти дорогу даже к своему господину. Смотри-ка, друг мой Мур, ты всегда хвастался своими науками и образованием и вечно передо мной важничал, а теперь ты сидишь здесь, покинутый и печальный, и великие качества твоего ума не годятся даже на то, чтобы научить тебя, как утолить свой голод и вернуться к хозяину. И если бы тот, кого ты считаешь гораздо ниже себя, не принял в тебе участия, ты умер бы ужасной смертью, и ни одна живая душа не спросила бы о твоих талантах и знаниях, и ни один из писателей, с которыми ты надеялся подружиться, не сказал бы дружеского Hic jacet (здесь лежит) на том месте, где ты околел бы по своей недогадливости. Видишь, я прошел известную школу и тоже умею иногда привести латинскую цитату. Но ты голоден, бедный кот, пойдем со мной; прежде всего нужно накормить тебя.
Юный Понто весело запрыгал вперед, а я последовал за ним, убитый и уничтоженный его словами, которые казались мне очень справедливыми в моем голодном настроении. Но как же испугался я, когда……………………………………………………..
(М. л.) …для издателя этих страниц было необыкновенно приятно открыть весь замечательный разговор Крейслера с маленьким тайным советником. Таким образом он смог дать читателям хотя две картины из ранних лет удивительного человека, биографию которого он некоторым образом обязан написать. Издатель надеется, что в отношении рисунка и колорита эти картины вышли довольно характерными и значительными. После того, что рассказывал Крейслер о тете Фюсхен и ее лютне, никто не может сомневаться в том, что музыка с ее сладкой тоской и небесными восторгами пустила тысячи корней в сердце мальчика, и никто не будет удивляться, что даже при самом легком ударе из этого сердца сочилась горячая кровь. Особенно интересовали издателя два момента из жизни любимого капельмейстера, – он был на них, как говорится, помешан. Он хотел знать, как попал в его семью мейстер Абрагам, как влиял он на маленького Иоганна, и какая катастрофа выбросила достопочтенного Крейслера из резиденции, превратив его в капельмейстера, коим ему следовало бы быть с самого начала, хотя мы, впрочем, должны доверять вечной власти, которая ставит всякого в надлежащее время на надлежащее место. Многое из этого было выяснено, а что именно – это ты сейчас узнаешь, читатель.
Во-первых, не подлежит сомнению, что в Гонионесмюле, где родился и воспитывался Иоганн Крейслер, жил человек, представлявший всей своей особой и всем своим поведением нечто странное и своеобразное. Вообще городок Гонионесмюль был всегда настоящим царством чудаков, и Крейслер рос, окруженный самими странными фигурами, которые производили на него тем более сильное впечатление, что в детстве он не имел никаких сношений со сверстниками. Странный человек носил одно имя с известным юмористом, так как его звали Абрагам Лисков. Это был органный мастер, который временами очень прилежно занимался своим мастерством, иногда же так заносился в заоблачные сферы, что нельзя было хорошенько понять, чего он хотел.
По словам Крейслера, в семье его всегда говорили о Лискове с большим удивлением. Его считали артистом своего дела, но уверяли, что его странные причуды и шалости всех от него отталкивают. Тот или другой сообщал иногда как об особенно счастливом событии, что господин Лисков был у него, починил и настроил его фортепьяно. Много рассказывали о фантастических причудах Лискова, и это особенно действовало на маленького Иоганна. Никогда не видав этого человека, он совершенно ясно представил себе его, стремился к нему всей душой, и, когда дядя сказал, что господин Лисков, может быть, придет чинить его дрянное фортепиано, он спрашивал после этого каждое утро: «Когда же наконец придет господин Лисков?»
Интерес мальчика к незнакомому человеку перешел в величайшее благоговение, когда раз в соборе, который дядя его посещал очень неаккуратно, он услышал в первый раз могучие звуки органа, и дядя сказал ему, что эту великолепную вещь сделал не кто иной, как Абрагам Лисков. С этой минуты исчез и образ, созданный воображением Иоганна, и на месте его появился другой: высокий, красивый человек с важной осанкой, говорящий ясно и громко, носящий фиолетовый сюртук с широкими золотыми галунами. Такой наряд видел Иоганн на своем крестном отце, коммерции советнике, который внушал ему величайшее почтение своей роскошью.
Однажды, когда дядя стоял с Иоганном у открытого окна, через улицу перешел маленький худощавый человек в светло-зеленом сюртуке, открытые рукава которого странно развевались от ветра. На голове у него была маленькая треугольная шляпа, воинственно надетая на напудренный завитой парик, а на спине болталась длинная сетка. Он шагал так тяжело, что дрожала мостовая, и почти при каждом шаге ударял в землю испанской тростью. Поравнявшись с окном, он пристально взглянул на дядю сверкающими черными глазами и не ответил на его поклон. Маленький Иоганн весь похолодел, и в то же время ему ужасно хотелось засмеяться, только он не смог, потому что у него стеснилось дыхание.
– Это господин Лисков, – сказал дядя.
– Я так и думал, – ответил ему Иоганн и, вероятно, сказал правду.
Хотя Лисков не был высоким и важным господином и не носил фиолетового кафтана с золотыми галунами, как крестный отец Иоганна, коммерции советник, но удивительно то, что Лисков был совершенно такой, каким воображал его мальчик до того дня, как услышал орган.
Чувство Иоганна перешло в невыразимый страх, когда Лисков вдруг остановился, обернулся, прошел всю улицу до окна, отвесил дяде низкий поклон и потом убежал с громким смехом.
– Ну вот, – сказал дядя, – так ли должен вести себя серьезный человек с порядочным образованием, считающийся художником в органном мастерстве и имеющий право носить шпагу? Можно подумать, что он с раннего утра выпил или выскочил из сумасшедшего дома. Но я знаю, теперь он придет и починит фортепиано.
Дядя был прав. Лисков явился на другой же день, но не стал чинить фортепиано, а потребовал, чтобы играл маленький Иоганн. Мальчика посадили на стул, подложив под него книги, а Лисков, став против него, облокотился обеими руками на фортепиано и смотрел прямо в лицо маленькому музыканту; это настолько того смущало, что менуэты и арии, которые он разыгрывал по старым нотам, шли не особенно хорошо. Лисков слушал серьезно, но вдруг мальчик качнулся вперед и свалился под фортепиано, причем органный мастер, одним толчком выбивший у него из-под ног скамейку, разразился громким смехом.





