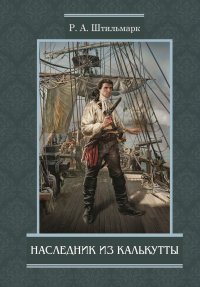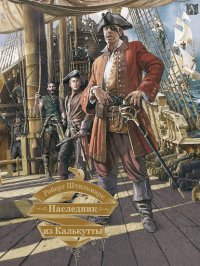Читать онлайн Пассажир последнего рейса бесплатно
- Все книги автора: Роберт Штильмарк
© Издательство «РуДа», 2019
© Р. А. Штильмарк, наследники, 2019
© Ф. А. Ионин, иллюстрации, 2019
© Н. В. Мельгунова, художественное оформление, 2019
Предисловие
Сегодня издательство «РуДа» продолжает публикацию забытых или полузабытых приключенческих книг Р. А. Штильмарка.
Вниманию юных и взрослых читателей предлагается роман «Пассажир последнего рейса», вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в 1974 году и с тех пор не пере-издававшейся. Тому есть свои причины.
Безусловно, со всеми «но» эта книга заслуживает того, чтобы вновь прийти к читателям. И, собственно, потому, что событиям, изображённым в ней и пришедшимся на детство автора, в наши дни исполнилось сто лет, и по их значению в истории нашей Родины.
Роман изображает примечательный эпизод гражданской войны. Тема и сейчас не простая для автора, желающего писать правдиво. А особенно не простая в то время, когда на фоне классического застоя сложилось своеобразное наиграно-лубочное отношение к событиям того периода.
Хотя тогда ещё были живы многие участники, очевидцы той эпохи, она стала уже мифом, не имела того острого характера, как в 20–30-е годы. Трагизм её стал как бы менее жестоким по сравнению с колоссальной трагедией Великой Отечественной войны. Кроме того, сложились определённые стереотипы восприятия, которые навязывались общественному мнению огромным количеством научных, научно-популярных, художественных книг, статей, спектаклей, кинофильмов.
В романе «Пассажир последнего рейса» описан ярославский мятеж 6–21 июля 1918 года. Во главе его стояли руководители контрреволюционного «Союза защиты Родины и Свободы» правый эсер Б. В. Савинков, полковник царской службы А. П. Перхуров. Организации мятежа способствовали меньшевики, их правая часть. Одновременно с Ярославлем были попытки поднять мятеж в Рыбинске (8 июля) и в Муроме (9 июля). Ярославский мятеж явился частью, как выяснилось, не совсем хорошо скоординированных действий общего белогвардейского заговора, целью которого было устроить восстание в двадцати трёх городах и содействовать силам интервентов, высадившихся на севере, скоординировать свои действия с чехословацким корпусом, восставшим в мае 1918 года.
Ярославский мятеж был поднят под лозунгом «Вся власть Учредительному собранию!», но на деле действия мятежников сводились к восстановлению органов царской власти. Приказом военного руководителя восстания полковника А. П. Перхурова были отменены не только все декреты Советской власти, но и распоряжения Временного правительства. Не случайно было и совпадение ярославских событий с левоэсеровским мятежом 6 июля 1918 года в Москве, с провокационным убийством немецкого посла Фон Мирбаха. В общей организации контрреволюция опиралась на поддержку западной, прежде всего, английской и французской дипломатии. Но, не встретив поддержки в массах населения, мятежники «повисли в воздухе». Не удалось соединиться с чехословаками и с провалившимся наступлением интервентов на севере.
Рухнули надежды на организацию русской Вандеи в лесах верхнего Поволжья. 21 июля ярославский мятеж был подавлен частями Красной армии. Отличавшийся патологической беспощадностью к красным полковник А. П. Перхуров (казнено более ста коммунистов, что не идёт ни в какое сравнение с тысячами жертв Красного террора) тогда сумел скрыться из района мятежа вместе с другими его организаторами. Всё же уйти от «длинной руки» советской власти ему не удалось. В 1922 году А. П. Перхуров был арестован и расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного трибунала.
Такова историческая канва, по которой Р. А. Штильмарк вышивает причудливые узоры своего повествования. Писатель находился в непростом положении. Ему надо было написать так, чтобы с одной стороны не солгать перед своей совестью и исторической правдой, а с другой стороны удовлетворить требованиям подозрительной брежневской цензуры, боявшейся уклонов и вправо, и влево, придерживавшейся, увы, не всегда золотой середины. Об этом Р. А. Штильмарк писал в письме от 29 мая 1972 года к своей ивановской знакомой И. Б. Мигачёвой.
«…А вот поймут ли «Пассажира»? Ведь про это либо клеветать, либо молчать положено. Я пытался найти среднее, а вышло ли – не знаю. Сам материал интересен, и мне кажется, что я не грешу против Духа Свята, что, как известно, не прощается смертному. Уж не говорю о трудах, поездках, долгих ночах писания в одиночестве Купавны. В общем, очень хотел бы, чтобы ты успела прочесть Черкасскому, я про это писал, но его отзыв мне особенно важен – он любит эти места, родом оттуда (из Юрьевца), знает и помнит события и принадлежит к тем критикам, мнение коих я считаю для себя обязательным. Судьба её (книги – А. Ф.) висит сейчас на волоске, надо за неё стоять, ибо нет в душе покоя в полезности этой вещи, полезности душевной. Правда, жена писателя Голицына, очень цельный и всепонимающий человек, посоветовала убрать кое-какие авторские места, передать их героям, а в целом сказала: “Дай-то бог, чтобы это дошло до читателя, все поймут всё…” Мы решили: будь как будет – не хлопотать…»
Судьба этого самого «просоветского» из всех произведений Р. А. Штильмарка была более чем непростой. Написанный за десятилетие до публикации, в начале 60-х годов, он был в первом варианте зарублен, несмотря на «оттепель», бывшую тогда. Роман действительно, если приглядеться внимательно, не совсем укладывается в прокрустово ложе допустимого в советской литературе по отношению к гражданской войне историзма. Во-первых, не умалчивая о жестокости мятежников, автор её не смакует, не подчёркивает. Есть даже слабый намёк на то, что это ответ на репрессии красных. Даже «Баржа смерти» не выглядит так жутко, как её рисовали в официозной советской литературе. Причём автор не скрывает бессмысленной жестокости этой акции. Вообще отсутствием акцентировки на жестокостях, с какой бы стороны они ни исходили, «Пассажир последнего рейса» выгодно отличается, например, от романа А. Васильева «В час дня, ваше превосходительство», в центре первой части которого многие страницы посвящены тем же самым событиям в Ярославле летом 1918 года.
Не просто отношение Р. А. Штильмарка к его героям. Безусловно осуждая братоубийственную Гражданскую войну, он показывает, что на «Барже смерти» озверевшие белогвардейцы обрекли на мучительное умирание не только заведомых большевиков. Среди узников баржи ни в чём не повинная послушница Тоня и даже престарелый иеросхимонах, отказавшийся дать благословение участникам междоусобной брани, а также раненый Александр Овчинников, не принявший сторону белых. Автор показывает, как такие жестокости толкают колеблющихся, нейтральных людей в ряды красных. Александр Овчинников просит собравшихся на барже людей принять его в ряды большевиков. Здесь исключительно интересный момент, момент важный не только в обрисовке героя, но для позиции автора. На импровизированном партсобрании Александра принимают в ряды партии. Его политическая позиция, даже классовое происхождение не вызывают особых вопросов. Но вот в отношении к религии встает камень преткновения. Дадим слово автору.
– А в Бога ты веруешь, Овчинников?
– Конечное дело, верую! Что же я, зверь?
– А знаешь, что коммунисту верить в Бога не положено?
– Стороной и про это слыхал, только не может того быть, чтобы Ленин запрещал совесть иметь. Какой же человек без веры, без совести? Никакой цены такой шаромыжник не имеет.
– Вот видишь, Овчинников, какой ты ещё несознательный товарищ? Религия – опиум народа… Бог для порабощения твоего выдуман, и только. Ясно?
– Не, не ясно. Много добрых людей верует. Ведь я как понимаю: человеку понятие нужно иметь, что грех, а что дозволено. А без Бога как понимать грех? Почему не украсть, не убить? Отстанет народ от совести – разбалуется вовсе. А ты – опиум! Чем ты без Него человека в рамках удержишь?
И во фронтовых условиях с этой верой Овчинникова принимают в партию. Ясно, что позднее тот Овчинников, каким он предстаёт спустя более чем сорок лет на завершающих страницах романа, скорее всего неверующий, хотя, быть может, и сохраняет, как говорили многие тогда, веру в душе. Всё же позиция автора ясна, его положительные герои не безбожники, во всяком случае, не «воинствующие безбожники». Вообще об отношении автора к религии в романе можно сказать много интересного.
Процитируем его переписку.
«Ты спрашиваешь, откуда комиссару Шанину известен Иоанн Златоуст и откуда его интерес к религиозной литературе? Да из пермской гимназии, откуда он выбыл из 8-го (последнего) класса и где он Закон Божий не мог сдавать иначе, как на пятёрки (как и Ульянов В. И.). Он 10 лет изучал Отцов Церкви, и уж, конечно, Иоанна Златоуста знал назубок! Ибо 12-томное его издание было в каждой гимназии, а цитируемое им место известно каждому гимназисту из катехизиса. Так что замечание я отвожу… Что же до «славянской» эрудиции Макарки в его 14 лет, то ты просто не знаешь гимназических программ, равно и корпусных (а я и там, и там учился). Была у каждого гимназиста такая довольно хорошо составленная книга, нарядная, но, благодаря своей массовости, не очень дорогая «Откуда есть пошла русская земля и как стала быть».
Это был несколько беллетризованный и всё же вполне научный пересказ истории российской с древних времён, даже дославянских, и подробно там описывалась история славян, возникновение письменности и т. д. Это была превосходная книга, сейчас её почему-то держат в спецфондах. Но это было чтение внешкольное, правда, учителя требовали знания этой книги с первых классов… Так что для 14-летнего это были азбучные и привычные истины, именно такие ассоциации и должны были прийти на ум…»
Можно сказать и то, что автору близки верхневолжские места, где прошло его детство. Да и о кадетском корпусе он пишет по личным впечатлениям (подробней они описаны в романе-хронике «Горсть света»).
Надо отметить, что в чудесных описаниях природы, которые рассыпаны, как бисер, по станицам романа «Пассажир последнего рейса», автор предстаёт как выдающийся писатель, подлинный художник слова, как представитель классической традиции русской литературы.
Хотелось бы сказать ещё несколько слов об этой незаслуженно забытой книге, любимом детище автора, о чём свидетельствует его переписка. Но возможно благодаря энтузиазму издателей, стремящихся донести до современного, в первую очередь молодого читателя лучшие произведения русской и советской литературы, выпавшие из повседневного круга чтения, мы сможем представить новую публикацию этого шедевра.
Пусть же «Пассажир последнего рейса» доставит новым поколениям читателей те же приятные минуты, которые когда-то, почти полвека назад, доставил нам.
Кандидат исторических наук
А. Н. Филиппов
Вступление
1
Старый пассажирский пароход «Лассаль», заканчивая навигацию, шёл вне расписания из Рыбинска вниз. В Городецком затоне начальство должно было решить судьбу парохода: капитальный ремонт или списание.
Октябрьским вечером в Кинешме «Лассаль» стал под погрузку. Метеопрогноз подгонял – ожидались туманы и заморозки. А груз оказался самый невыгодный, лёгкий и громоздкий: корзины с пивом, хлопок в кипах, тюки ваты, ящики с парфюмерией и галантереей. Грузили всей командой, вплоть до судовых стажёров из речного техникума. Даже помощники капитана – «пом», «пом-пом» и «пом-пом-пом», как их прозвали стажёры, – скинули шинели, надели телогрейки и «козы» – ремённые наплечники с упором на уровне поясницы – и вместе со всей командой давай вверх-вниз по трапам, то с ящиком, то с кипой на спине. Ночная погрузка, начатая вяло, пошла вдруг с таким весёлым и злым азартом, что и пассажиры, мёрзнувшие на пристани в ожидании посадки, не смогли остаться сторонними зрителями и тоже взялись помогать.
Руководил погрузкой капитан «Лассаля», рослый волгарь с поседелой бородой. Он держал в руке пачку документов на грузы и неторопливо ходил от трюма к трюму. И каждому грузчику хотелось быстрее и молодцеватее пробежать с поклажей мимо капитана.
Больше всех старался долговязый, болезненного вида гражданин в мятой шляпе и дешёвом заграничном пальто. На первый взгляд от него было трудно ждать сноровки грузчика, но, видимо, бегать с ношей по трапам приходилось ему не впервой.
После полуночи капитан приказал радисту транслировать спортивные марши. Под эту задорную музыку темп работы ещё ускорился. Всей артелью погрузку закончили к утру.
Даже пустую верхнюю палубу сплошь уставили ящиками, корзинами и тюками – прогуливаться здесь сейчас было некому. Из пароходной трубы повалил чёрный угольный дым, капитан взошёл на мостик, дал в машинное команду «Готовсь!» и потянул рукоять гудка. Из медного остывшего зёва сначала долго рвалась шипящая струя пара и брызг, потом протяжный рёв отдался эхом от высокого берега: «Лассаль» извещал пристань Кинешму, что закончил погрузку, произвёл посадку пассажиров и готовится отвалить, по всей вероятности, навсегда!
2
Кинешемская касса продала на «Лассаля» всего одно-единственное верхнее классное место. Купил его тот самый долговязый гражданин в заграничном пальто, что так усердствовал на погрузке. С чемоданчиком в руке пассажир остановился наверху, посреди полутёмного коридора. Потолочная лампа в матовом плафоне еле освещала одинаковые двери кают, красную ковровую дорожку поверх протёртого маслом линолеума и в дальнем конце – зеркальные стёкла салона, запертого на ключ.
Из каюты с надписью «Проводники» выглянула пожилая женщина в синей телогрейке с меховым воротником. За её спиной высились горы одеял и простыней, до самого потолка.
– Мне бы местечко, – робко попросил гражданин. – Каюту бы…
Женщина так удивилась, будто впервые в жизни увидела перед собой всамделишного пассажира.
– Как это каюту? Нешто они там, в Кинешме, с ума посходили, классный билет продали? Весь этаж нетоплен, система спущена… Сами-то вы соображаете, какие сейчас могут быть каюты?
– Да мне бы только пока руки вымыть да примоститься как-нибудь. Просто не верится даже, что опять берега эти вижу.
Пароход выходил на фарватер. Ветром распахнуло дверь на палубу. Снаружи донесло сочную дробь пароходных плиц, шелест волны у бортов. Из-под лестницы, снизу, тянуло смолёными канатами и остывающим паром. Пол в коридоре содрогался от работы машины. Её мерный, спокойный гул то и дело перебивался неровной стукотнёй паровой лебёдки и скрежетом рулевой цепи. Проводница не замечала, что пассажир взволнован этими будничными для неё звуками и запахами. Сверху спустился капитан. Несколько нерастаявших снежинок блестело в его бороде. Проводница пожаловалась на кинешемскую кассу.
– Не беда, Нюра, – сказал капитан. – Пристроим пассажира. Далеко едете, товарищ?
– Билет у меня до Нижнего, то есть до Горького, но я знаю, вы, кажется, только до Городца? Я там пересесть могу, мне ведь не к спеху. Хочу родные места увидеть, Кинешму, Решму, Юрьевец.
– У вас там родственники есть, или?..
– Нет, ни родных, ни знакомых. Жил там в детстве. И вот, знаете, потянуло опять взглянуть на эти места. Видимо, уж перед смертью.
– Рановато вам о деревянном бушлате задумываться. На погрузке не хуже молодых бегали, хотел благодарность по радио объявить. Небось немного старше меня?
– С весны пятьдесят восьмой пошёл.
– Значит, можно сказать, ещё юноша по сравнению со мною? Мне-то шестьдесят пятый! Если в будущую навигацию другого парохода не дадут, то думаю пойти в техникум поработать, молодых поучить. На пенсионный хлеб сам не уйду, покамест насильно не заставят… Что ж, зайдите ко мне в каюту обогреться.
– Что вы, нет, нет, большое спасибо!.. Вы сейчас на вахте?
– Считаю себя нынче на бессменной вахте. Пароход мой с Волгой прощается, да и сам я, возможно, последний раз на мостике. А старшего помощника я спать послал после ночной погрузки…
– В Решме у нас будет стоянка часа на три. Успеете погулять, даже родных навестить. А покамест, если желаете, можете в рубку к нам подняться, оттуда всё как на ладони разглядите.
– Идти мне в Решме давно не к кому. А вот из рубки полюбоваться – за это спасибо от души!
– Надевайте тогда бушлат и шапку; чемоданчик свой и пальто оставьте у проводницы, внизу. Зима – не вата, не греет нашего брата!
Наверху таяла утренняя сизо-сиреневая мгла, разбавленная медленным приливом рассвета. Фабричные огни Кинешмы погасли. Город отдалялся и выглядел очень красивым с широкого речного плёса. Старинные арочные складские здания, соборная колокольня, береговые откосы, бульвар с беседкой, крутые лестницы и съезды к пристаням – всё это, чуть присыпанное лёгкой осенней порошей, повторилось в оловянном зеркале стылой Волги.
– Вот, земляка-волжанина негаданно встретил! – пошутил капитан, представляя пассажира обоим рулевым, лоцману и стажёру. – Хочет гражданин отсюда рекой полюбоваться… А у тебя, Юрка, пароход носом рыскал, пока я внизу был. Ведь ты вёл?
– Я, товарищ капитан, – смутился стажёр. – Ветер здоровый.
– Почему же у Егорыча не рыскает? Ни при какой погоде! Примеряться надо к любому нажиму, и колесом рулевым так подгадывать, чтобы пароход твой не сдувало. Думаешь, Волга широкая стала, так не беда и с курса сойти?
– Действительно, какая стала ширь! – сказал пассажир. – Неузнаваемо всё. Почти сорок пять лет здесь не бывал. Целый век человеческий!
– Это вы, значит, в самую революцию здесь жили? – заинтересовался стажёр.
– Да. Пережил её здесь, но, к несчастью, не сумел верно оценить то, чему был свидетелем. Стал жертвой ошибок, чужих и своих. И вот – жизнь прошла впустую. Это вам нелегко понять, у вас путь ясный.
В рубке замолчали. Стажёру очень хотелось расспросить странного пассажира подробнее, но в присутствии старших он стеснялся.
– Теперь первая стоянка в Решме, – сказал капитан и вложил в переговорную трубку деревянную затычку. – Твёрже веди судно, Юрка, смелее.
3
За поворотом Волги исчез высокий кинешемский элеватор. Впереди, от горизонта до зенита, поднималось облако с белыми краями, похожее на косматый парус ушкуйников, наполненный ветром. Там, где облако сливалось с густо-васильковой ширью Волги, возникло белое пятно на воде. Оно быстро увеличивалось и приобрело очертания трёхъярусного пассажирского теплохода.
– «Добрыня Никитич», – прочитал пассажир. – Былинный герой… А скорость-то, скорость! Кто бы прежде мог мечтать о таких судах на Верхней Волге!
– Какая же это скорость! – рассмеялся стажёр. – Вот погодите, встретим «Ракету» или «Метеор» на подводных крылышках. Те, верно, скоростёнку дают. Купальщикам теперь зевать у нас не приходится.
Левобережные луга и поля усиливали ощущение простора. От глубокой осенней синевы неба чуть отделялась кромка леса на низком левом берегу. «Лассаль» держался правого берега. Жёлтые кусты и почерневшие оголённые берёзки клонились над самой водой, и волны от пароходного колеса, набегавшие на берег, колыхали на воде облетевшую листву, мутились от маленьких оползней. Кое-где река подмыла корни деревьев, и рухнувшие сосны купали в Волге свои густо-зелёные кроны. Видно было, что вода подступила к лесной опушке недавно, затопив полоску береговой гальки. Течение медленно тащило вдоль берега жёлто-зелёную гирлянду из опавших листьев.
Впереди опять появилось встречное судно, буксир с баржами. Капитан протянул пассажиру бинокль.
– Спасибо вам! – пассажиру давалось теперь каждое слово с трудом. От волнения он не смог даже поднести бинокль к глазам. – Вы так добры ко мне… Хочу вас предупредить… Ведь это может вам не понравиться!.. Я в прошлом белый эмигрант. Лишь недавно позволили вернуться на родину. Старуха мать долго хлопотала, и вот, представьте, поспел… на похороны. Конечно, любить Россию я никогда не переставал, но жизнь прошла там, вдалеке от родины.
– Вы что же, в белых войсках служили? – хмурясь, спросил старший рулевой, Иван Егорович.
– Нет, от этого Бог уберёг. Оружие против собратьев не поднимал, чужих жизней не губил.
– А чем занимались там, на том берегу?
– В двух словах не скажешь. И в хоре пел, в церкви на Рю Дарю[1], Дело хоть и доброхотное, но иных певчих регент поддерживал несколько… И на заводах служил, и по ресторанам. Неловок и нерасторопен оказался, быстро из кельнеров выгоняли. Грузы таскать приходилось в Турции и Румынии, при старой власти. Переводчиком-толмачом был в Южной Америке, во время одной войны.
– Какой войны?
– Была такая война в тридцатых годах между Парагваем и Боливией за нефтеносный район. С обеих сторон там и русские эмигранты, белогвардейцы, участвовали. Такая, знаете ли, оперетка была, кровавая и смешная. Понимаете положение наше: одни за батюшку Парагвай против злокозненной Боливии. Другие – за единую неделимую Боливию против супостата её, злодейского Парагвая. Так и стреляли друг в дружку: поручик Иванов в есаула Петрова – за Боливию, а есаул Петров в поручика Иванова – за Парагвай. И смех и грех! А потом ещё писанием увлекался, воспоминания о России печатал и так вообще, рассказики. В особенности во время войны с немцами для подпольного радио и Свободных листков. Во французском Сопротивлении участвовал, в партизанах был. Поваром, правда, но с вашими встречался, с советскими, кто из фашистских лагерей бежал и в партизаны шёл, в Арденнские горы. Партизан этих вся Франция и сейчас помнит.
– А семьёй не обзавелись там?
– Нет, как-то, знаете, не сумел. Холодная у меня старость и бесплодная, что осенняя пора. Оба мы, и этот ваш «Лассаль», и я, российский реэмигрант Макарий Владимирцев, нынче в последнем рейсе.
Капитан «Лассаля» пристально вгляделся в лицо говорящему, многозначительно перемигнулся с рулевым Иваном Егоровичем, хотел было сказать что-то, но, видимо, пока передумал. Встречный буксир подал в следующий миг продолжительный сигнал гудком. Капитан взял у пассажира свой бинокль.
– Старинный буксир! Нынче баржи так не тянут, метода устарелая. Баржа теперь впереди, а буксир её сзади толкает: быстрее так и легче. Смотри-ка, Егорыч, караван-то нескладный какой. Растянул буксирные тросы на полкилометра и дороги требует.
– Похоже, камский. Тоже, видать, старик уже. Думается, либо «Гряда», либо «Батрак».
– Да, наверное, один из них, – согласился капитан. – Кто это на мостик жалует? Никак я смены дождался? Сам старший помощник изволил появиться? Не рановато ли?
– Сам же меня спать прогнал, Васильич!
– Ладно уж, коли пришёл – принимай команду, сбавь-ка ход да посигналь тому – сносит у него баржи ветром, буксиры длинны. А мы с земляком чайком внизу погреемся и о старине потолкуем. Если не ослышался, вас Макарием Владимирцевым зовут?
В капитанской каюте проводница Нюра кончала уборку. Она сходила на кухню с чайником и уже приготовилась было разлить заварку в стаканы, как вдруг чайник в её руках описал дугу, стулья сползли к стене, упала настольная лампа. Послышался скрежет под днищем. Пароход коротко, судорожно затрясло. Машина стала, только шипел спускаемый пар.
Капитан в два прыжка взлетел на мостик. Слева совсем близко шла тяжёлая баржа встречного каравана. Помощник орал в мегафон: «Слева по борту кранцы готовить!» Баржу несло ветром на пароход, застрявший на мели. Судьбу «Лассаля» решали секунды. Всё зависело от скорости каравана.
И «камский» не подвёл. Рванулся вперёд самым полным и утащил свою баржу, чуть-чуть не чиркнув борт застрявшего парохода. Сняться с мели своими силами, с помощью якоря и паровой лебёдки, так и не удалось. По радио капитан сообщил в пароходство, что «Лассаль» при встрече с караваном покинул фарватер и отклонился вправо, чтобы пройти затопленными лугами. Глубина там по лоции была бы достаточной, но пароход наскочил на песчаный холмик, скрытый под водой: река занесла илом и песком остов старой баржи, валявшейся здесь издавна и случайно не убранной со дна при подготовке нового русла Волги. Сев на мель, пароход не дал течи, машина и груз в порядке, требуется только помощь для снятия с мели.
После переговоров по радио капитан позвал в рубку стажёров и разобрал с ними происшествие. Юрка-штурвальный сидел на разборе ни жив ни мёртв: судно-то у него опять рыскнуло, когда он один оставался у штурвала, пока старший рулевой давал на мостике отмашку встречному. Против курса, заданного Егорычем, судно отклонилось под ветром всего чуть-чуть и всё-таки наскочило…
Но капитан ничего не сказал на разборе о Юрке.
– За нынешнее происшествие, – говорил он, хмуря брови и покашливая, – в ответе должны быть трое. С меня, капитана, надлежит спросить, почему, предвидя сложную встречу, я доверился опыту старшего помощника и, сдавши ему вахту, ушёл с мостика. Вахтенный помощник не должен был рисковать при сильном ветре в трудном месте: следовало сработать назад и расходиться на просторе. А лоцман у штурвала должен был помнить, что когда-то здесь баржу занесло, значит, место рискованное. Оставил штурвал растерявшемуся стажёру! Нам едва не раздавило борт, никакие кранцы[2] не помогли бы.
Отпустив стажёров, капитан оставил Юрку-штурвального и с глазу на глаз… вложил ему в память несколько веских слов насчёт пароходного носа, рыскающего по ветру из-за нерасторопности рулевого.
Берег был в нескольких десятках метров. Ветер доносил до парохода берёзовые серёжки и сухие листья. Под недвижным пароходным колесом проплывали сосновые шишки. Далеко впереди виднелись в бинокль остроконечные шатры решемских монастырских церквей. Тем временем в рубку поднялся и судовой ревизор. Капитан указал ему место среди вахтенных.
– Что ж, как говорится, садись, закуривай, спешить покамест некуда. Самое бы время теперь послушать что-нибудь. Может быть, – обратился капитан к пассажиру, – если настроение есть, рассказали бы вы нам, что с вами тут в революцию произошло. А там кто-нибудь, возможно, и дополнил бы ваш рассказ. Народ-то у нас на «Лассале» бывалый…
– Извольте, – с готовностью согласился пассажир. – У меня в чемодане даже несколько старых фотографий найдётся. Если разрешите – принесу.
Пока пассажир ходил за фотографиями, капитан сказал:
– Прошу вас всех, ребята, а особенно тебя, Иван Егорыч, до времени не называйте ни имени моего, ни фамилии. Нам с тобой, Егорыч, этот пассажир должен кое-что знакомое напомнить. Да вот он и воротился! Кладите сюда фотографии, их после рассказа поглядим.
Полуденное солнце вышло из-за облаков и так озарило всё кругом, будто в огромном панорамном кинотеатре серый фильм вдруг сменился цветным. Осенние дали ещё раздвинулись, решемские колокольни стало видно простым глазом…
…Долго звучал в рубке голос пассажира. И пока он вёл свою повесть, слушателям чудилось, будто менялась сама местность за высокими смотровыми стёклами.
Песчаные мели и перекаты перегородили вдруг обезводневшую Волгу. Словно и не проходили здесь трёхъярусные теплоходы-громады. Пузатые купеческие пароходики зашлёпали плицами[3] колёс вверх-вниз по волжскому стрежню мимо белых и красных бакенов с тусклыми керосиновыми фонариками.
Жестоким ветром прошлого смахнуло антенны с деревенских кровель. Лишь маковки церквей и часовен золотели в лиловых зорях над Волгой.
Но двое из тех, что сидели в рубке – капитан и старший штурвальный, – слушали рассказ по-иному, чем оба стажёра! Для Юрки и его сменщика история пассажира была всего лишь страничкой из незнакомой книги о стародавнем! Те же двое слушали быль о том, что пережили сами.
Перед их мысленным взором возникали картины далёкой молодости, почти позабытые в суете и сутолоке будней. Они вставали в памяти так явственно и реально, словно бежала перед ними на невидимом экране кинолента прожитых дней…
Глава первая
Макарка-попович в корпусе и дома
1
В Ярославском кадетском корпусе его звали макакой за имя Макар или поповичем за то, что отец его, Гавриил Антонович Владимирцев, был в российской армии полковым священником. Весной 1917 года тринадцатилетний Макар перешёл в четвёртый класс.
До февральских умопомрачительных событий – отречения царя и создания Временного правительства России – начальство корпуса кое-как справлялось с брожением в классах; после же февраля машина корпусной жизни стала понемногу разлаживаться.
Одноклассники Макара встретили февральскую революцию по-разному. Сыновья потомственных дворян, владельцев костромских и ярославских поместий, сговаривались не допустить снятия царского портрета в актовом зале. Вместе с верноподданными старшими воспитанниками-монархистами группа Макаровых одноклассников-дворян участвовала в устройстве тайных патрулей, избивавших всякого, кто смел не откозырять портрету обожаемого государя, принуждённого бунтовщиками, жидами и студентами к отречению от престола. А когда портрет был всё-таки снят и сам директор корпуса появился на общем собрании в парадной форме с орденами на груди и алой ленточкой в знак верности революционному правительству князя Львова и господина Родзянко, кадеты-монархисты эскортировали выносимый портрет до дверей, а через несколько дней выкрали его из кладовой, чтобы впоследствии вернуть в зал. Недавно появившийся в корпусе политический комиссар из местных эсеров немного пошумел по поводу истории с портретом, но не слишком усердствовал. Виновники похищения обнаружены не были, на том дело и кончилось.
В одном классе с Макаром сидели за партами также дети купцов-мукомолов, текстильных фабрикантов, инженеров, учителей, владельцев пароходных компаний. Многие из этих воспитанников радовались революции, носили красные бантики и пели «Марсельезу». Среди всех этих интернов, то есть живущих в корпусе воспитанников-кадетов, оказался один попович – Макарий Гаврилович Владимирцев, угловатый и застенчивый мальчик. Политических воззрений он покамест не обрёл, учился на казённом коште, редко выходил из училищных стен, потому что мать жила в Кинешме, а летом снимала две комнатки в Решме, у своей двоюродной сестры, попадьи Серафимы Петровны.
Макару было велено звать её тётенькой. Домик, окружённый яблонями и малиной, стоял почти на самом волжском откосе. Мимо крыльца спускалась с обрыва узкая крутая лесенка-стремянка, похожая на пароходную сходню. Под глинистым обрывом, заросшим мать-мачехой и иван-чаем, валялись дырявые рассохшиеся лодки и ржавые якоря всяких размеров. До них старались доплеснуть мелкие речные волны.
Село Решма было богомольное и торговое, известное по всей Верхней Волге благодаря местной летней ярмарке. Бывало, раскидывала она свои ларьки, палатки и карусели под стенами древнего решемского Назарьевского монастыря. Торговали здесь яйцами и маслом, кустарными сукнами местной выделки, деревянными ложками, глиняной посудой, конскими сбруями, а более всего – кожаными и валяными сапогами, будто бы не знавшими износу ни зимой, ни летом. Ещё гордились решемцы завидными покосами в своей округе, знаменитым мёдом монастырских пасек и обильными уловами рыбы, которую ловцы держали живой в деревянных решётчатых садках, прикреплённых якорями к речному дну.
Сельская улица Решмы, постепенно вытягиваясь вдоль Волги, с годами добралась до глубокого овражка, перешагнула его, соединив берега бревенчатым мостом, и рассыпалась уже за овражком на кучки домиков: из них-то и образовалась потом кривая Рыбачья слободка.
Вместе с рыбаками жили здесь волгари-водники. Хозяева слободских домиков или квартир наведывались сюда только по праздникам. Летом они ходили по реке, зимой по-холостяцки квартировали около затонов, где вёлся ремонт пароходов и барж. Иные домики в решемской Рыбачьей слободе были любовно украшены самодельными образцами волжских судов. Хозяева пристраивали их на особые полочки под застрехами[4] кровель, а ребятишки с завистью смотрели на эти игрушки взрослых людей, тая в душе несбыточную надежду заполучить в руки эдакий пароходик, чтобы запустить по речке Решемке.
Макару Владимирцеву запомнился случай в Рыбачьей слободе. Кучка ребятишек глазела на модель самолётского парохода «Князь Василий Шуйский» на доме одного капитана. Шёл мимо деревенский парень по имени Сашка, прочитал тоску в детских взорах, вскочил на крыльцо, достал модельку и дал детворе пустить пароход «Василий Шуйский» по ручью в овражке, от верховьев до устья, водным путём в сто саженей. Потом вытер модельку и полез водрузить её на прежнее место. Тут-то и застигла его жена капитана, учительница Елена Кондратьевна.
Бранить она Сашку не стала, но глянула с упрёком и сказала сухо: «Как раз от тебя, бывшего ученика моего, я бы этого не ожидала». Повернулась и ушла. Макар долго страдал за Сашку – ведь получилось-то у него, можно сказать, в чужом пиру похмелье!
По вёснам, чуть полая вода спадала, забывая на обсыхающих пригорках льдины и брёвна, раздавался под решемским обрывом первый гудок после зимнего безмолвия. Это буксирный пароход из Городца, одолевая вешнее течение, тащил на канате нарядный плавучий дебаркадер – пристань пароходного общества «Самолёт[5]». В тот же день другой буксиришко волок под решемский обрыв ещё одну пристань, поскромнее отделкой, компании «Кавказ и Меркурий». Пониже «Кавказа и Меркурия» ставило на реке свой дебаркадер пароходство «Русь», и уже после паводка появлялась под обрывом и четвёртая пристань, пароходства «Унжак».
Пароходное общество «Самолёт» заключило довольно своеобразный и весьма выгодный для обеих сторон договор с женским решемским Назарьевским монастырём: когда изящные, комфортабельные самолётские пароходы приближались к Решме, на пристанском флагштоке поднимался вымпел, а с монастырской колокольни раздавался звон большого, многопудового колокола. Распахивались тяжёлые монастырские врата, и на верху большой лестницы появлялся священник в облачении, за ними дьякон, мать-казначея и целый монашеский хор, человек до двадцати. Шествие замыкала монашенка-просвирня. Натужно дыша, тащила она огромную корзину просфор[6], выпеченных из крутого теста весьма искусно, со сложным божественным узором на бледной верхней корочке. Они долго не черствели, пассажиры брали их прямо нарасхват.
Нарядная публика с парохода набивалась в часовню, и священник служил молебен о плавающих и путешествующих. Смолистый дух речной пристани, запах копчёной рыбы и мокрого дерева перемешивался тогда с лёгким дымком росного церковного ладана. Тем временем простой народ покупал у крестьян на пристанских мостках топлёное молоко, огурцы и ягоды. Когда деловитый гудок покрывал многоголосицу на пристани, простой народ исчезал в тёмном пароходном чреве, а важная публика поднималась на свою чисто вымытую верхнюю палубу. Отсюда было видно, как торопливо семенит вверх по откосу монастырский причт[7]. Слава о богомольном решемском обычае шла далеко, и сколько благочестивых купчих отдавали свои рубли в кассы пароходного общества «Самолёт»!
Но какой новый, скорбный и жуткий смысл получили эти коммерческие молебны в те страшные годы, когда монаршая рука одним мановением послала российского солдата под германскую шрапнель!
Макарий Владимирцев видел, как отправлял уездный воинский начальник новобранцев в действующую армию. Уезжали они почти с каждым пароходом. Ладные, рослые, не тронутые никакой хворью, как берёзки в решемской роще, шли новобранцы по трапу в пароходное нутро, а с пристани провожал их многоголосый стон. Там оставались матери, жёны, сёстры, малые ребятишки. Кое-кого из провожающих народ еле удерживал от прыжка через пристанские перила! Вот тогда запах ладана и голоса монахинь, дьяконский бас и колокольный звон наверху, последний возглас священника и последний гудок парохода сливались в зловещую отходную, прижизненные проводы к братской могиле!
Лишь немногим решемцам и кинешемцам довелось потом воротиться с полей смерти к семьям. Приходили поодиночке, без молебствий и звона, кто без пальцев, кто с обвязанной головой. Молча входили в крестьянские избы и рабочие каморки. И встречали их в этих жилищах нужда, убожество, голод и стужа…
Летом Макар любил забираться в пустую лодку на берегу, ложиться на сухое, прогретое солнцем дно и прислушиваться к невнятному лепету и шелесту струй, осторожно вползающих на ракушки и галечник. Ветер приносил упоительный речной запах – смолёных снастей, сырости, рыбы. На сердце у Макара становилось легче, таяли в памяти корпусные обиды, и казалось ему, что сверху, из-за сияющих облаков, ласково глядят ему в самые очи добрый Бог-Отец, его Сын – Христос-Спаситель и горестная Мать-Богородица. Если на облачном полотне возникали белые голуби, вспугнутые местными голубятниками, мальчику чудилось воплощение Духа Святого в пронизанном солнцем сияющем куполе. Эти Макаровы божества не имели ничего общего со строгим Царём Небесным, который ежеутренне принимал молитву, хором возносимую к нему корпусными кадетиками. Их молитва, в строгом строю, по голосам и по ранжиру, походила на рапорт небесному начальству. Никаких сердечных излияний небесное начальство, как и земное, в молитве кадетов не допускало!
К сентябрю 1917 года Макарку отвезли назад, в корпус, переименованный в военную гимназию. Переименование не принесло перемен, воспитанники по-прежнему называли корпус корпусом, а самих себя – кадетами. Начальство не поправляло их.
Но провожала Макара в Ярославль в эту осень не мать, а лицо совсем новое, некий щеголеватый офицер. Представляясь корпусному начальству, он отрекомендовался так: «Подпоручик[8] Стельцов, адъютант полковника Зурова». Инспектор корпуса и воспитатель Макаркиного класса с чувством трясли адъютанту руку, затянутую в лайковую перчатку. Пока адъютант, простившись с Макаром, спускался по парадной лестнице мимо училищного знамени, встречные кадеты замирали восхищённо и, отдавая честь, старались привлечь внимание офицера. Он же со снисходительной улыбкой кивал юнцам, и пальцы, обтянутые лайкой, изящно и небрежно взлетали на миг к лакированному козырьку его фуражки.
В ту осень Макар впервые услышал от матери, что богатый помещик, жандармский полковник Зуров, приходится троюродным братом Макарову отцу. И вот неожиданно, впервые за много лет, полковник вдруг вспомнил о троюродном племяннике Макаре и даже послал Стельцова проводить мальчика из Решмы в Ярославль. С той поры сверстники и наставники выказывали по отношению к Макару меньше пренебрежения, ибо стало ясно, что влиятельный полковник как-то заинтересован в судьбе дальнего родственника.
Этот интерес и родственное благоволение Зурова приняли совершенно неожиданную для Макара форму!
2
Дождливым сентябрьским утром 1917 года воспитанника Макария Владимирцева сам инспектор вызвал к… директору! Это было событием чрезвычайным.
Всемогущий восседал у большого письменного стола. Макар посещал кабинет вторично, первый раз он был здесь в день приёма. В этот раз мальчик не увидел на прежнем месте бронзового бюста императора Александра Второго. Среди находящихся в кабинете военных и гражданских лиц Макар узнал и франтоватого зуровского адъютанта. – Воспитанник Владимирцев по вашему приказанию явился! – пролепетал вызванный.
Директор кисловато усмехнулся.
– Воспитаннику Владимирцеву пора бы усвоить, – заговорил он, растягивая слоги, – что являются нам лишь чудотворные иконы, а господа воспитанники имеют честь прибывать по нашему вызову. Повторите ваш доклад!
Макар кое-как справился с докладом, и директор окинул его оценивающим взглядом с головы до ног.
– Итак, молодой человек, приятной, но немногообещающей наружности, вас пригласили для свершения неких юридических актов ради интересов ваших и вашего высокого, так сказать, доверителя.
Чуть успокоившись, Макар повёл глазами в угол и теперь заметил знакомый бюст Александра Второго. Бронзовый Царь-освободитель, задвинутый глубоко за стенку шкафа, был задрапирован оконной шторой и, казалось, тайно подслушивал беседу.
– Главное, – веско говорил директор, – чтобы указанная юридическая операция не отразилась неблагоприятным образом на ваших учебных занятиях, в нынешнее трагическое время будущий офицер русской армии, я хочу, разумеется, сказать – революционной армии, верной союзническому долгу в войне с германским супостатом, должен готовить себя к служению свободе, то есть к поддержанию устоев новой государственной власти. Надеюсь, вам это понятно?
Макар счёл за благо шаркнуть ножкой и поклониться. У директора обозначилось подобие улыбки.
– Уверен, молодой человек, что вы не заставите моего старого друга и вашего благодетеля полковника Зурова раскаяться в доверии к вашим нравственным достоинствам и не посрамите моей рекомендации… Иль э абсолюман стюпид, мсье Стельцофф, не с па?[9] Но это именно то, что требуется в данной ситуации. До свидания, господа!
После этой беседы воспитанник Макарий Гаврилович Владимирцев отправился в юридическую контору подписывать серию документов о своём вступлении в… законное владение приволжским поместьем Солнцево, прежде принадлежавшим полковнику и помещику Георгию Павловичу Зурову.
Это ярославское поместье насчитывало две с половиной тысячи десятин пахотной земли и лесных угодий. Стоимость его с инвентарём, капитальными строениями и большой господской усадьбой определялась ныне в четверть миллиона рублей. Опекуном над несовершеннолетним владельцем назначен был управляющий поместьем Борис Сергеевич Коновальцев, отставной обер-офицер.
Как ни растерян был новоиспечённый помещик Макар, он всё же посмел обратиться к подпоручику Стельцову с вопросом, зачем в этом непонятном деле понадобился ещё и чужой опекун, коли имеются у Макара родные мать и отец.
– А разве мамаша не сказала тебе, что батюшка твой серьёзно ранен? – удивился подпоручик. Юристы и Коновальцев молча при этом потупились…
По окончании процедур, которыми Макарий Владимирцев был формально введён во владение солнцевским поместьем, юному владельцу как-то мимоходом дали подписать ещё один документик, которым помещик Макар Гаврилович Владимирцев и его опекун поручали юридической конторе господина Розеггера в Ярославле продать владение и перевести вырученные средства в Банк дю Женев на имя мсье Цурофф Георгий Пафлович, колонель рюсс… В личное, собственное пользование нового солнцевского владельца предоставлялся по свершению всей операции хутор Константиновский в 15 десятин земли, по луговой речке Шиголости, верстах в десяти от Волги.
Макарий Владимирцев не слишком утруждал свои мыслительные способности по поводу свалившегося на него с неба богатства и не принял во внимание мимолётные реплики юристов насчёт угрозы конфискации недвижимостей, принадлежащих крупным жандармским чинам. В классе гимназии Макар помалкивал насчёт своего четвертьмиллионного богатства, смысла всей операции не понимал и писал матери в Кинешму письма под диктовку Бориса Сергеевича Коновальцева, своего опекуна, причём письма посылались не почтой.
Вот в таких-то, не совсем обычных для тринадцатилетнего кадета занятиях Макарий Владимирцев провёл целый месяц, и в конце этого месяца в жизни Макара произошли два новых события.
24 октября 1917 года инспектор пришёл на занятия четвёртого класса с журналом «Нива» в руках. После команды «Встать!» инспектор не разрешил ученикам сесть, а вызвал вперёд воспитанника Макария Владимирцева и объявил ему весть: благочинный отец Гавриил Владимирцев, раненный в августе при обстреле немецкой артиллерией города Риги, скончался в полевом госпитале. В журнале был напечатан его поясной портрет в пенсне, чёрной рясе и с крестом на груди.
Макар расстался с отцом ещё в 1914 году, с тех пор ни разу его не видел, помнил смутно, но просил Бога сохранить отца невредимым среди опасностей передовой линии и ко всем праздникам получал на своё имя письма, проверенные военной цензурой и содержавшие отцовские наставления и благословения. Макар как-то вдруг понял, что приходить они больше не будут, представил себе осунувшееся лицо матери, а ночью в дортуаре с какой-то страшной остротою почувствовал боль от врезавшегося в тело стального осколка, что мучила отца перед смертным часом.
Поэтому весть о следующем событии, дошедшую до ярославской военной гимназии вечером 26 октября, Макар воспринял приглушённо, потому что касалась она всех, а не одного Макара, и он считал, что начальство разберётся во всём и без него и скажет, что теперь надлежит делать воспитаннику Владимирцеву.
Первую весть об этом событии принёс в корпус почтальон, подавший дневальному телеграмму на имя директора.
Дежурный офицер-воспитатель в досаде отшвырнул телеграмму прочь, потому что буквы и знаки её отпечатались в перевёрнутом виде. Кто-то из воспитанников догадался поднести брошенную телеграмму к зеркалу. Он вслух прочитал отражённые зеркалом строчки о новом перевороте в Петрограде и перестрелке в Москве.
Кто послал телеграмму, что надлежало делать, почему телеграфный шрифт получился перевёрнутым, гадать было некогда. Из штаба округа полетели противоречивые приказы. Кто-то командовал старшеклассникам вооружаться, кто-то визгливо требовал: «Отставить!» Занятия в классах вскоре пошли кое-как, иные воспитанники потихоньку стали разбредаться по домам, началась сумятица и самовольщина.
И в разгар этой сумятицы, когда кому-то были розданы винтовки, а у кого-то винтовки отбирали, снова появился в здании ярославской военной гимназии адъютант полковника Зурова. Но был этот красивый подпоручик Стельцов уже не в офицерском мундире, а в простом сереньком костюме. Без долгих околичностей сгрёб он в охапку солнцевского помещика Макария Владимирцева и тем же вечером с московского вокзала в Ярославле выехали они вдвоём в Кинешму.
Зиму Макар кое-как проучился в новой «Единой советской трудовой школе». Так теперь называлась бывшая кинешемская реальная гимназия. Мать велела вести себя в школе осмотрительно, дружбы ни с кем не заводить, молчать и о корпусе, и особенно о поместье Солнцево. В школьных бумагах Макара было записано, будто он сын убитого на войне ротного писаря. Об этих бумагах позаботился подпоручик Стельцов. Жил он под Ярославлем, ходил, как сам выразился, в «большевистское присутствие». И в доме Владимирцевых на Нижней улице в Кинешме появлялся проездом, очень редко. После каждого его визита Макарова мать становилась всё озабоченнее.
В школе Макару понравилось. Сидел он на одной парте с бледным, рыженьким, боязливым Илюшей Моисеевым. Оказалось, что арифметические задачи, казавшиеся в корпусе абсолютно неодолимыми, решались здесь довольно просто, с тех пор как сосед помог Макару разобраться в некоторых премудростях математики. В корпусе Макар считал безнадёжно потерянным для жизни каждый час, потраченный на уроки. Здесь же бывший кадет постиг, что на занятиях бывает даже интересно. Школьная учительница избавила Макара от такой напасти, как зубрёжка стихов на слова с «ятем»:
- Бѣдный, блѣдный, бѣлый бѣс
- Убѣжал голодный в лѣс,
- Долго по лѣсу он беѣгал,
- Рѣдькой с хрѣном пообѣдал,
- И за этот за обѣд
- Дал обѣт надѣлать бѣд и т. д.
Стихи эти Макар вызубрил, а в лесу даже побаивался встречи со странным бесом, который представлялся ему похожим на главного мучителя в корпусе, дразнилу Горельникова, юркого и прыткого воспитанника, неистощимого в насмешках над поповичем… Стихи-то Макар знал, но применять их при диктовках не умел, писал «обѣд»[10] через «е» и хватал в корпусе колы до самого четвёртого класса.
Удивительную весну 1918 года Макар пережил в Кинешме.
После холодной снежной зимы лёд на Волге был крепким, и Макар каждый день бегал к реке, стараясь угадать по заберегам[11], когда начнётся ледоход.
И вскрывалась река в тот год с треском, крутила и несла огромные льдины, разлилась широко, уносила даже домики с деревенских улиц, подкатывалась к опушкам, заливала поёмные луга и пашни. Деревенские мосты кое-где вели как бы из воды в воду: это ручьи и речки выходили из берегов и затопляли подъезды к мостам.
Был этот разлив Волги сродни всенародному половодью! Все люди, с кем сталкивался Макар, глубоко ощущали тогда родство обеих стихий, природной и человеческой. У всех захватывало дыхание от этой могучей бури, но иные дышали полной грудью и радовались, другие же боязливо отворачивались, старались укрыться от свежего ветра. Он же, этот ветер, нёс и нёс великие перемены.
Землю у помещиков комбеды[12] отобрали в уезде ещё зимой, по снегу. Мать по воскресеньям водила Макара в церковь, всегда полную крестьянским людом из соседних деревень. И Макар слышал, как спорили, как волновались крестьяне перед началом весенней пахоты. А вдруг, дескать, барин возвернётся? Но и эти, сомневающиеся, распахали и засеяли новые делянки до последнего вершка.
На глазах у Макара бывшая гимназия открыла двери «фабричным детям», но закрыла их перед бывшим гимназическим батюшкой с его Законом Божиим. Не стало больше в мире божьего закона! А закон человеческий начали связывать с непривычными, пугающими словами: ревком[13], совдеп[14], милиционер, нарсуд[15]. Ученики перестали получать двойки за упущенный в конце слова твёрдый знак и совсем запутались в числах: дома, у матерей, висел в календарях листок 21 марта, а в школе, на диктовке, писали этот день 3 апреля. Называли это «новым стилем». Даже часовые стрелки передвинули на час вперёд – новая власть берегла электроэнергию.
Макар видел, как рабочие кинешемского затона превратили старый буксир «Царь-Освободитель» в агитпароход. Над колесом густо замазали слово «Царь» и оставили только «Освободитель». Этот пароход привёз в Решму первый агрономический кинофильм. Картину в трюме показывали крестьянам, а учительница Елена Кондратьевна объясняла, потому что три четверти зрителей не успевали читать надписи.
Но не каждому по нутру было всё новое, и не сразу сдавалось старое. Ни в кулацких, ни даже в середняцких домах хозяева не спешили срывать царские портреты. По Волге шли подбитые в стычках с бандами пароходы. В зажиточных городских домах и на хуторах побогаче прятались офицеры, готовя убийства и мятежи. Духовные пастыри благословляли их на противодействие новым порядкам.