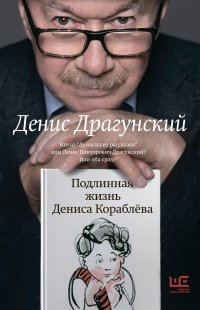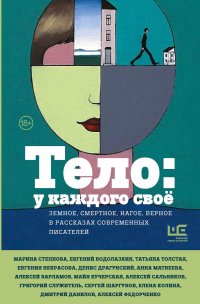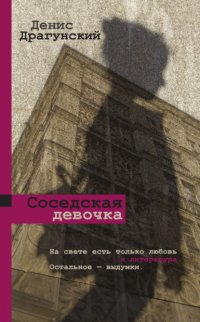
Читать онлайн Соседская девочка (сборник) бесплатно
- Все книги автора: Денис Драгунский
© Драгунский Д.В
© ООО «Издательство АСТ»
* * *
ну как же я тебя оставлю
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ ВО ФРАЙБУРГЕ
Мы познакомились на Фейсбуке лет пять назад, кто к кому постучался, я уже не помню. Не знаю почему, но вышло так, что последние три года мы поздравляли друг друга в мессенджере. Рождество, Новый год, дни рождения. И еще я ее – 21 июля с Днем Бельгии. Она была бельгийка, то есть бельгийская подданная, а так – жила по всей Европе, то тут то там. Где и кем работала, не знаю; думаю, она и сама не знала толком. «Разные проекты». У меня, впрочем, было то же самое. Эти проклятые «проекты», деньги то густо, то пусто; а главное, в сорок два года я так и не мог ответить на простейший вопрос, от которого зависят все остальные моменты жизни: «кто я?»
Мне казалось, что она такая же. Я часто заглядывал к ней в профиль, смотрел ее фото. Там было много всякой ерунды, какие-то люди, звери, фуршеты, компании на пароходике на фоне краснокирпичного городка с флюгерами и старинными шильдами. Она всегда была общим планом, я скачивал эти фотографии и увеличивал ее лицо. У нее были желтые прямые волосы до плеч, ровная челка до бровей, широковатые плечи – наверное, занималась спортом, плаванием скорее всего. И на ее милом, добром и даже красивом лице сквозь хохот с бокалом в руке читался тот же вопрос: «Вот мне тридцать четыре – а кто я?»
Прошлым летом мне случилось по делам одного проекта заехать во Фрайбург. Написал ей. Она ответила, что может туда заскочить, на один день, и будет счастлива со мной увидеться.
Я приехал в два часа пополудни, устроился в гостинице, это был чудесный старый «Парк отель пост», рядом с вокзалом и близко от центра, я был там лет пятнадцать назад, он был все такой же, но, кажется, потерял одну звезду. Бросив чемодан и быстро приняв душ, я раскрыл мессенджер и написал, что я здесь.
Она ответила через секунду, как будто бы она сидела с раскрытым айфоном и ждала моего письма; вечером она рассказала, что так оно и было: сидела в номере, вытянув ноги, положив айфон на колени, и глядела на экран.
Мы встретились в кафе у собора. Мы сразу узнали друг друга, заулыбались, и пожали руки, и даже слегка обнялись. У нее были соломенно-желтые волосы, светлые глаза и смуглая кожа. Папа швед, а мама итальянка. Перекусили, выпили по бокалу. Она была во Фрайбурге первый раз, а я – то ли второй, то ли третий. Сначала мы зашли в собор, потом я повел ее смотреть Бертольда, потом Мартинстор, Швабентор, потом мы обошли улочки вокруг, любуясь знаменитыми фрайбургскими ручейками, Bächle, мощеными каменными канавками вдоль улиц, – а потом вышли к реке Драйзам… Я рассказал ей, что здесь был ресторан Шмитца, даже два, очень классные. Но мы их не нашли. Ужинали в какой-то «Волчьей норе». Мы с ней говорили по-английски. Болтали без умолку. Начало темнеть. Она смеялась. Я тоже смеялся.
Мы шли, держась за руки. Снова вышли к какому-то ручью. У нее глаза сияли. Мы поцеловались. «Вдруг ты женат?» – спросила она. «Я разведен три года назад. А вдруг ты замужем?» – «Нет, – сказала она. – Бойфренда у меня тоже нет». «Пойдем ко мне в гостиницу», – сказал я. «Нет. Мне стыдно, – сказала она. – Давай найдем какую-нибудь дешевую маленькую меблирашку, chambre garnie, чтоб никто не узнал». Я дрожащими пальцами стал тыкать в айфон, ничего не находилось. «Ладно, – сказала она. – Пойдем ко мне». – «А ты где живешь?» – «В “Коломби”». – «Ого!» – сказал я. Это была чуть ли не самая дорогая гостиница Фрайбурга, и в двух шагах от моего «Парк отеля». Она засмеялась: «Иногда можно себе позволить. Тем более что всего один день. Даже меньше. У меня поезд в половине второго утра». – «Домой?» – спросил я. «Нет, в Гамбург и дальше в Орхус», – сказала она, сильно сжимая мою руку.
Пришли. Ах, ребята, ну что я буду рассказывать…
Потом мы лежали, раскинувшись на огромной постели, едва касаясь друг друга кончиками пальцев рук и ног; она шептала, как ей прекрасно, а я говорил, что люблю ее, а она говорила, что тоже, очень. Я говорил, что хочу жениться на ней. Она отвечала, что она хочет за меня замуж. Что наша встреча – это чудо. Это мы оба говорили, целовались и шептали: «чудо, чудо, чудо».
Потом я говорил, что мне надоели «проекты», надоело мотаться по городам и странам, что я хочу свое дело, у меня есть деньги, чтоб купить маленький, но готовый бизнес. Я даже готов пойти на службу, у меня отличное резюме, я могу претендовать на хорошую позицию, но неважно! Главное, мне хочется наконец ответить самому себе на простой вопрос: «кто я?» Надоело болтаться, как роза в океане. Она не поняла шутки, но засмеялась: «Comme une rose dans l’océan!» «Я хочу, чтоб у нас с тобой был дом, – сказал я. – Здесь, в Европе. Или в России. В России не так страшно, поверь! Или в Америке. Или даже на Тайване. Я люблю тебя. Я хочу жить с тобой в своем доме, в нашем доме». – «Ты чудо моей жизни, – сказала она. – Ты первый мужчина, который мне это говорит. Ты правда этого хочешь?» – «Правда!» – «Поцелуй меня еще…»
Потом зазвенел ее айфон. Надо было вставать и идти к поезду.
Я сидел в кресле и смотрел на нее голую, как она быстро и ловко укладывает свой чемодан. Потом она сбегала в душ, стала одеваться. Я тоже сполоснулся и натянул брюки. Вышли, она сделала чек-аут, и мы пошли пешком по Айзенбанштрассе к вокзалу, благо там всего метров пятьсот.
Мы долго целовались у вагона, кусая друг другу губы, мучая языки, бесстыдно обнимаясь и шепча друг другу какие-то клочки фраз: «ты… завтра… вместе… чудо… наш дом… только с тобой… люблю…»
Я вернулся в гостиницу. Зашел в номер, сбросил туфли, зажег свет, потом погасил – луна светила в окно. На столе стоял фаянсовый поднос, на нем – два яблока и маленькая бутылка вина: комплимент от гостиницы. Я сел в кресло, вытянул ноги, отвинтил пробку, налил вино в стакан, сделал два глотка, закусил яблоком.
Потом достал айфон. Захотелось написать ей: «Спокойной ночи, любимая, я уже скучаю». Наверное, она еще не успела заснуть.
Солнце мое, чудо мое, счастье мое.
Открыл Фейсбук, потом Вотсап, потом Вайбер, потом Инстаграм, потом еще что-то.
Она заблокировала меня во всех сетях и мессенджерах.
другой рассказ
НИЧЕГО НЕ БЫЛО, НИКОГО НЕ БЫЛО
– Это совпадение, – сказал писатель Сергеев. – Даже не совпадение, а просто ваши домыслы. Фантазии. Любой человек, когда читает рассказ или повесть, видит больше, чем написано. Из своих воспоминаний или из своих мечтаний, – он даже увлекся, объясняя. – Есть произведения, которые как бы распечатывают воображение читателя, заставляют его домысливать сюжет. И вы знаете, большинство моих текстов именно таковы! – горделиво закончил он.
– При чем тут? Вы написали о моей маме! – сказала молодая женщина.
Она вчера позвонила Сергееву, представилась с именем-отчеством и фамилией и попросила, даже потребовала срочной встречи для очень серьезного разговора. Сергеев был немолод, но согласился. Встретились в кафе недалеко от его дома. Ей было лет тридцать, но она выговаривала ему как маленькому:
– Вы описали всё в мельчайших подробностях. Вывалили на публику все ваши отношения! Это просто подло. Скажите спасибо, что она умерла. Год назад.
– При чем тут спасибо? – возмутился Сергеев, а потом сказал: – Примите мои соболезнования, уважаемая Алиса Павловна… Но все это вам почудилось.
– Не Алиса, а Эльза Павловна. А лучше просто Эльза.
– Простите, Эльза Павловна.
– Просто Эльза, я же сказала!
– Хорошо. У меня, Эльза, не было никаких отношений с вашей мамой. Я не знаком с вашей мамой. Я не знаю, кто она.
– А что же вы тогда описывали? Кто эта женщина? Это она. А кто этот человек, который «я»? «Я пришел», «я сказал», «я обнял» и все такое? Кто? Ну, кто? Вы!
– Эльза! – сказал Сергеев. – Это всё вымышленные персонажи. А этот самый «я» – такой же вымышленный герой-рассказчик. Тут все выдумано.
– Нельзя вот так все выдумать.
– Почему это нельзя? Еще как можно, все писатели так делают.
– Не надо! Все писатели пишут из своей жизни. Вам кажется, что вы выдумали, – а на самом деле вы всё берете из воспоминаний. Я вам точно говорю.
– А вы откуда знаете? Вы что, тоже, извините, писательница?
– Слава богу, нет. Просто знаю, и всё! Не отпирайтесь!
– Я не отпираюсь, – вздохнул Сергеев.
– Вот вы тут пишете про вашу с ней первую встречу. Что якобы это была Вена. Но я-то вижу, что это был Будапешт. Остров! Гостиница на острове, всё, прокол. Дальше. В Москве вы якобы ходили гулять в Сокольники, по набережной, ха-ха! Хотя на самом деле это был парк Горького, потому что набережная есть там! Где набережная в Сокольниках, а? Дальше. Я видела интервью с вами, там вы стоите на фоне окна. Торчат ветки деревьев, то есть четвертый-пятый этаж, шестой в крайнем случае. А написано: «Мы стояли, обнявшись, у окна моей комнаты, во весь окоем были бесконечные панельные дома, московская окраина, вид с пятнадцатого этажа». Какой еще пятнадцатый этаж, как вам не стыдно! И главное: «я звонил ей днем, между девятью и двумя, когда ее дочь-пятиклассница была в школе». А у меня именно в пятом классе была вторая смена, потому что в школе ремонт! Ну и вот это, просто стыдно: «она распустила свои темные волосы, длинные пряди упали на ее смуглые худые плечи». Мама была светленькая, с аккуратной такой стрижкой, очень белокожая. Не толстая, но уж не худая! То есть вы нарочно писали все наоборот, чтоб никто не догадался? Но я все сразу поняла.
Она говорила напористым полушепотом, поставив локти на стол и близко-близко придвинувшись к нему.
Сергеев понял, что лучше со всем соглашаться и поскорее смыться.
– Да, – сказал он, изобразив смущение. – Да, вы правы. Я, в общем-то…
– Вот, – сказала Эльза и откинулась в кресле. – Ну, сознавайтесь!
Сергеев с ходу – профессионал все-таки! – сочинил историю о своем романе с красавицей-блондинкой. Они впервые встретились в Будапеште, в Москве назначили встречу в парке Горького. Потом он ее повел к себе, и они любили друг друга под шелест лип, заслоняющих окна, это было после обеда, пока ее дочь в школе, во второй смене.
– Похоже на правду, – сказала Эльза. – Но не очень.
– Почему? – обиделся Сергеев.
– Потому что вы с ней встретились в Петербурге. Познакомились еще в поезде. Когда ехали туда. У нее был билет на верхнюю полку, а у вас на нижнюю, и вы ей уступили место. Потом случайно встретились на канале Грибоедова, где прогулочные кораблики. А в Москве гуляли в Измайлове. А потом пошли в гостиницу – там стоят такие высокие башни. Корпус Альфа, корпус Бета и так далее. Взяли номер на пятнадцатом этаже. Вот откуда «бесконечные панельные дома во весь окоем», поняли?
– Нет, – сказал Сергеев. – Не понял.
– Я тоже, – вдруг сказала она. – Потому что всё это неправда. Вы всё выдумали. Не было случайного знакомства, внезапной любви, свиданий тоже не было, ни у вас дома, ни в гостинице. Ничего не было!
– Ну, наконец-то! – выдохнул Сергеев. – Я вам уже целый час объясняю, что все это – литература. Художественный, так сказать, вымысел. Слава богу, дошло!
– Выдумка? – спросила Эльза.
– Выдумка, – подтвердил Сергеев.
– Прямо вот от первого до последнего слова?
– Да!
– Тогда зачем вы всё это выдумали про мою маму?
– Да не знал я вашу маму!!! – заорал Сергеев.
– Юпитер, ты сердишься, – сказала Эльза. – Значит, ты неправ.
– Хорошо, хорошо! – сказал уставший Сергеев. – Когда-то давно я был в нее влюблен. Я ее любил, а она играла мною. Моими чувствами. Приманивала и отталкивала. Потом бросила. А потом я решил как бы отомстить. Написал рассказ, что она ко мне бегает от мужа. Нравится?
– Вполне, – сказала Эльза. – Ну и, чтоб поставить точку: как ее звали?
– Лена, – сказал Сергеев, чтоб не ошибиться. – Если я, конечно, не забыл.
– Какая еще Лена? – всплеснула руками Эльза. – У вас что, склероз? Вы же еще не такой старый!
– И зачем это я вас слушаю? – сказал Сергеев, вставая. – Сразу послать бы вас к черту.
– И зачем это вы меня слушаете? – иронично отозвалась Эльза, не трогаясь с места. – Сразу бы послали меня к черту! А вы на вопросы отвечаете, оправдываетесь… Значит, точно что-то было!
Сергеев чуть не заплакал.
– Не расстраивайтесь! – почти сочувственно сказала Эльза. – У вас есть с собой какой-нибудь блокнотик и авторучка? Отлично. Сейчас я вам все расскажу, как это было на самом деле. Готовы?
– Готов, – сказал Сергеев.
– Тогда начали, – сказала Эльза. – Значит, шестнадцатого июня одна тысяча девятьсот девяносто… – Вдруг у нее тенькнуло сообщение в айфоне. Она покосилась на айфон и вскочила, подхватив сумочку и плащ. – Ой, простите, я должна бежать!
– Куда же вы? – крикнул Сергеев ей вслед. – Постойте!
– Отбой! – на ходу крикнула она. – Наплевать и забыть!
Сергеев махнул рукой, засмеялся, посмотрел ей вслед, покрутил пальцем у виска, позвал официанта, расплатился, допил кофе – и вдруг всё вспомнил.
проводи меня до дому
ПЯТЬ СЕКУНД И ДВА ЧАСА
На днях сидел в кафе с одной своей знакомой. Пообедали. Потом попросили чаю. Простого, зеленого, классического. Официант спросил: «Десертики будете?» Я сказал: «Дайте меню», он принес тяжелую кожаную папку, раскрыл на нужной странице, забормотал: «черный лес, эстерхази, тирамису, эклерчики». Я спросил: «Возьмешь пирожное?» Она помолчала, подумала – долго думала, секунд пять, – но потом покачала головой и сказала: «Пожалуй, всё-таки нет».
Я не удержался и спросил:
– Скажи, а вот ты, когда сделала паузу, ты на самом деле думала, брать пирожное или не брать? Или ты уже заранее знала, что не будешь, и только сделала вид, что раздумываешь?
– Нет, – сказала она. – Я честно размышляла. Я хотела сладкого. Но потом решила, что лучше сдержаться.
– Понятно, – сказал я. – Тогда позволь еще вопрос. Интимный. Ладно?
– Валяй, – сказала она и посмотрела на меня поверх очков.
– Нет, не лично интимный, а так, – смутился я. – На интимную тему. Вообще.
– Не томи! – засмеялась она.
– Вот такой вопрос, – сказал я. – Как ты понимаешь, я в молодости не раз и не два, и даже не десять и не сто, после танцев, или выпив в хорошей компании, или читая стихи на скамейке Тверского бульвара, – я говорил, шептал девушке: «Поехали ко мне». А девушка молчала несколько секунд, как будто бы взвешивая все за и против, а потом медленно и отрицательно качала головой.
– Что, так ни одна и не согласилась? – засмеялась моя собеседница. – Бедный!
– Да нет! Я не о том. Когда она соглашалась, то все получалось как-то без слов. Она просто обнимала меня, или шла в прихожую взять пальто, или мы вместе вставали со скамейки и бежали к троллейбусу. А если нет – то перед отказом непременно пауза. Вот и скажи мне: девушка уже заранее знает, что не поедет, и только делает вид, что решает? Чтоб обидно не было, чтоб отказ выглядел обдуманным. Или она на самом деле обдумывает разные «за» и «против»? И вот приходит к выводу, что доводов «против» все-таки больше…
– Смотря сколько секунд, – сказала она. – Ты прав, неприлично сразу завопить «нет». Но если она думает две секунды, это значит, что ты ей совсем не нравишься. В эти две секунды она в уме произносит: «Я – к тебе? Ты охренел, дружочек?» Но если она молчит пять секунд – значит, она действительно думает. Но ты знаешь, о чем она думает, что взвешивает?
– Что?
– Вот что. Ей очень хочется. Но сразу сказать «да» – неприлично. Хорошие девчонки с перва раза не дают, известное дело. Но сказать «нет» – это риск, что второго раза не будет. Вот между этими рисками и идет выбор, между риском показаться легкой давалкой или мрачной целкой. Понял?
– Понял, – сказал я. – А я-то думал, тут мысли о будущих отношениях, что он за человек и всё такое.
– Для этого нужно часа два, – сказала она. – Вот один раз один очень хороший мальчик сказал мне, что я ему очень нравлюсь. Серьезно так сказал, в глаза заглянул, за руку взял. После последней лекции. А у меня как раз родители уехали к бабушке в Свердловск. Я одна дома, в отдельной квартире. Я ему говорю вместо ответа, то есть он говорит: «Ты мне очень нравишься», а я говорю: «Проводи меня до дому». Мы учились на Моховой. Я жила в начале Дмитровского шоссе. Пятница. Конец ноября. Холодно, снег и ветер. Он говорит: «Пошли». Беру его под руку. Идем. Сначала по Горького, потом на Чехова мимо кино «Россия», потом через Садовую на Каляевскую, на Новослободскую… Я уже дома линеечку к карте приложила – бог мой родимый, почти восемь километров! Пешком! Снег в лицо! Уши мерзнут! А он мне все рассказывает, рассказывает, чем он увлекается в научном смысле, а потом про поэзию, я ему говорю: «Почитай чего-нибудь», а он читает, громко, красиво…
– Прохожие, небось, оглядываются?
– Да нет, стихи он уже на Новослободской читал, там народу почти не было. Да. Закончил он читать, я ему говорю: «Стой». И стала ему шарф поправлять. «А то, – говорю, – ты у меня простудишься». «Ты у меня», понимаешь? То есть я уже думаю и чувствую – мой человек. Совсем родной. Он мне плечи легонько так сжал: «Спасибо». Хорошо. Не полез целоваться, а вот так – по-родному. Чудесно. Идем дальше, темнеет, он начал про свою семью рассказывать. Мама-папа, дедушка-бабушка, брат и дядя, где живут, кем работают, даже сколько получают! Дедушка генерал, папа доцент, дядя главный инженер, брат кандидат наук… Собака Вальтер, кошка Муся, дача в Валентиновке, машина «Волга»…
– Запомнила, однако! – сказал я.
– Это старческое, – сказала она. – События молодости со всей яркостью.
– Ладно, – сказал я. – Ну и?
– Ну и вот. Где-то на середине Бутырской улицы я вдруг сообразила, что он про меня ничего не спрашивает. Чем я увлекаюсь, у кого курсовую пишу, какие книжки люблю… Или вот про свою семью рассказывает – точнее, хвалится. А про моих папу-маму не спрашивает. А я-то рассупонилась как дура – родной человек, мой человек… А ему про меня ничего не интересно! Ну и иди к черту! Как-то сразу во мне щелкнуло. Как будто выключилось. Он дальше треплется, а мне противно.
– Ты что! – сказал я. – Он, наверное, подумал, что это будет бестактно. Выяснять про твоих родителей – как будто сватовство.
– Не знаю, – сказала она. – В общем, дошли до моего дома, зашли в подъезд, и я ему говорю: «Спасибо, что проводил, пока». Он прямо сглотнул. «Пока», – говорит. Повернулся и убежал.
– Интересно, – сказал я.
– Да. Пока шли по Горького, по Чехова, по Каляевке – я уже всё размечтала во всех подробностях. Такой хороший, добрый, умный, а на Бутырской вижу – холодный, тупой, самовлюбленный «мальчик из хорошей семьи»…
Я вздохнул.
– А может быть, мне просто очень сильно писать захотелось, – тоже вздохнула она. – Представляешь, входим, квартира маленькая, современная, дверь сортира в прихожую смотрит, я бегу в сортир, и он слышит «дззззз». Ужас, кошмар, позор. Но ничего. Я потом все-таки вышла за него замуж. Но ненадолго.
провожу тебя до дому
ДВА ЧАСА И ПЯТЬ СЕКУНД
На днях сидел в кафе с одним своим знакомым. Он так долго и вдумчиво размышлял, брать суп или нет, что я засмеялся:
– Юлий Цезарь перед Рубиконом.
– Да, да, – кивнул он. – У меня так бывает. Иногда двух часов не хватает, чтоб принять пустячное, в сущности, решение. Пустячное, но очень приятное: например, пойти с девочкой к ней домой, когда она позвала? Или не пойти?
– Ты что, дурак? – удивился я. – Конечно, пойти!
– Ну да, да. Но! Но если ты так прямо бросишься по первому приглашению, то может оказаться, что ты не так понял… Что тебя звали вовсе даже не трахаться, а поговорить о прекрасном и высоком. А если откажешься – другой раз не позовут. В общем, Сцилла Марковна и Харибда Петровна: риск показаться глупым кобелем или скучным импотентом.
– Понял, – сказал я. – Но ты расскажи, что хотел.
– Да! – сказал он. – Так вот. Была когда-то у нас на факультете девочка. Красивая, приятная, давно мне очень нравится, и вот один раз после занятий я подхожу к ней и открытым текстом леплю: «Ты мне очень нравишься». Беру ее за руку, перебираю пальчики, а она мне говорит: «Проводи меня до дому», – причем с таким очень отчетливым выражением лица говорит. Ясно, что у нее дома никого. Кажется, она даже на это как-то этак намекнула. В общем, я всё понял. «Хорошо, – говорю и руку ее не отпускаю. – А где ты живешь?» – «В начале Дмитровского шоссе», – и мне в ответ пальцы перебирает. Ого, думаю!
– Тут надо сажать ее в такси и вперед, – говорю я. – Пока она не передумала.
– Конечно! – говорит он. – А денег нет, как назло. Вернее, есть рубль с мелочью, а вдруг там набьет рубль пятьдесят? Это же стыд-позор! А в метро ехать и потом на автобусе – как-то совсем не романтично. Тесно, потно, шумно. Она как будто все сама поняла и говорит: «Пошли пешком!» Пятница. Конец ноября. Холодно, снег и ветер. Она берет меня под руку. Идем. Сначала по Горького, потом на Чехова мимо кино «Россия», потом через Садовую на Каляевскую, на Новослободскую… Я уже дома линеечку к карте приложил – господи, твоя воля! Почти восемь километров! Пешком! Снег в лицо! Уши мерзнут! А она держит меня за руку и молчит. А я говорю, говорю, говорю, рассказываю, чем увлекаюсь в научном смысле, потом про поэзию. Тут она наконец слово проронила: «Почитай чего-нибудь!» Я читаю, с выражением, громко, на всю улицу, а тут снег прямо в пасть!
– Прохожие, небось, оглядываются?
– Да нет, стихи я уже на Новослободской читал, там народу почти не было. Да. Закончил читать Гумилева, про трамвай, и тут она мне говорит: «Стой». Стала мне шарф поправлять. «А то, – говорит, – ты у меня простудишься». Обрати внимание: «Ты у меня». То есть я у нее, понимаешь? То есть она меня уже вот слегка присвоила. С одной стороны, приятно. Но с другой – как-то настораживает. Поправила мне шарф, стоит, на меня смотрит, лицо ко мне подняла. Хорошая девочка. Но я целоваться не полез. Просто ей плечи легонько так сжал: «Спасибо». Хорошо. Чудесно. Идем дальше, темнеет, она молчит. Ну хоть бы звук издала! Я, чтобы паузу забить, начал про свою семью рассказывать. Мама-папа, дедушка-бабушка, брат и дядя, где живут, кем работают, даже сколько получают! Приврал про дедушку, что он генерал-лейтенант. Хотя он генерал-майор. Ну, папа доцент, дядя главный инженер, брат кандидат наук… Собака Вальтер, кошка Муся, дача в Валентиновке, машина «Волга»…
– Ишь ты! Запомнил, что говорил! – сказал я.
– Да я говорил как есть. Что тут запоминать? – сказал он.
– Ладно, – сказал я. – Ну и?
– Ну и вот. Но где-то на середине Бутырской улицы я вдруг сообразил, что она о себе ничего не рассказывает. Чем увлекается, у кого курсовую пишет, какие книжки любит… Или вот про свою семью ничего не говорит в ответ на мои рассказы.
– Наверное, у нее не было дедушки-генерала и папы-доцента, – сказал я. – Вдруг она стеснялась, что у нее родители совсем простые люди. По сравнению с твоими.
– Это же было еще в СССР! – громко возмутился он. – Я бы на ее месте гордился. Вот, глядите на меня, я девочка из простой рабочей семьи, а студентка филфака! Покосился на нее: нет, брат! Судя по дубленке и сапожкам, далеко не рабочие и даже не инженеры. Ой-ой-ой! Куда там! Но не в этом дело. Хрен бы с ними, с родителями. Просто какая-то скрытная. А я-то уж размяк – какая девочка, и домой позвала, и шарфик поправила, и под руку держит. А о себе ничего не рассказывает. Враги партизанку поймали. Что за манеры? Ну и черт с ней! Как-то сразу у меня все опустилось. Как будто выключилось. Я с разгона дальше что-то болтаю, а на душе уже как-то не так.
– Ты что! – сказал я. – Она, наверное, думала только о том, что вот сейчас будет! Она все это себе воображала, наверное. Поэтому и говорить не могла.
– Не знаю, – сказал он. – В общем, дошли до ее дома, зашли в подъезд, и тут она мне строго так говорит: «Спасибо, что проводил, пока». Ага, думаю. Ждет, чтоб я ее стал уговаривать. Чтоб я ее обнял, стал тискать, целовать прямо тут, перед лифтом, чтоб стонал ей в ухо: «Я тебя люблю, ну пойдем, ну прошу тебя». А потом в квартире начнется: «Ой, не надо! Ой, я девушка! Ой, а ты меня правда по-настоящему любишь?» О господи! Поэтому я так же строго ответил: «Пока». Повернулся и убежал.
– Интересно, – сказал я.
– Да. Пока шли по Горького, по Чехова, по Каляевке – я уже всё себе представлял во всех подробностях. Такая девочка! Красивая, хорошая, ласковая. А на Бутырской вижу – тупенькая упакованная «герла», ничем не интересуется, двух слов связать не может, на филфак ее, видать, по сильному блату пихнули… С такими скучно в койке. Особенно в первый раз.
Я вздохнул.
– А может быть, я просто сильно ссать хотел, – тоже вздохнул он. – Представляешь, входим, квартира, небось, маленькая, я бегу в туалет, и она слышит «дрррр!». У нее весь секс пропадет. И у меня тоже. Позор и стыд, кошмар и ужас. Но ничего. Мы с ней потом все-таки поженились. Но ненадолго.
вы помните, вы всё, конечно, помните
МЕЛОДРАМА
Была суббота. Жена пошла к подруге. Дочь уехала в Питер. Зазвонил мобильник. Незнакомый номер.
Артур Иванович чуть-чуть поколебался, но все-таки ответил.
Звонкий и строгий женский голос:
– Инспектор Маликова. Ваш сын совершил ДТП на чужой машине. Есть пострадавший. Приезжайте, будем разбираться! – и чуть тише и мягче: – Пострадавший требует компенсации. С парнем мы тоже всё оформим как надо.
У Артура Ивановича была только дочь, студентка третьего курса, и она полчаса назад звонила. Сидит с приятелями в грузинском ресторане «Мамалыга», прямо за Казанским собором. А сына никакого не было. Типичная разводка. Ему уже много раз так звонили, да всем так звонили! «Папа, я в милиции», «Папа, меня побили». И конечно, смс: «Мама, срочно кинь на этот номер пятьсот рублей, а мне не звони, я завтра все объясню». Поэтому Артур Иванович в уме засмеялся, а вслух сказал суровым простецким голосом:
– Товарищ инспектор! Действуйте по всей строгости закона. А главное, пропишите ему люлей. Покрепче.
– Что-что? – переспросил женский голос.
– Нет у меня никакого сына! Аферисты! – захохотал Артур Иванович.
– Нет, есть! – вдруг раздался отчаянный голос, как будто этот парень выхватил телефонную трубку из чужих рук, из рук этой злобной тетки, и закричал: – Нет, есть! Я твой сын! Ты просто не знаешь! Ты матери сделал ребенка, то есть меня, и бросил ее! Марину Аникееву помнишь? С вечернего отделения? Помнишь? Нет, ты скажи – помнишь?
Артур Иванович помнил Марину Аникееву.
У него было много любви на факультете, несколько длинных романов, а также несколько кратких, но выразительных, а мелкого одно-двух-трехразового секса – вообще не сосчитать, «это даже в донжуанский список включать стыдно!» – шутил он, обсуждая девчонок с приятелями, такими же ходоками по дискотекам и общагам. Но Марину Аникееву он помнил. Хорошая была девочка, ласковая. Он ее пару раз приводил к себе, а потом к ней приехал, когда ее мамы-папы дома не было. Отличная девочка, в глаза глядела и говорила разные слова, но такая тоска его взяла, когда он зашел к ней в квартиру, в это мещанское жилище с машинными коврами по стенам и люстрами из пластмассового хрусталя, со стенкой, где в серванте недопитая бутылка коньяка, серебряные стопочки, фарфоровая куколка и тут же собрание сочинений Джека Лондона, и вся прочая наивная бедняцкая роскошь, – и он увидел себя в этой обстановке и чуть не застонал, потому что у него дома всё было точно так же. А он мечтал вырваться, сам не зная куда – но отсюда, от ковриков и люстрочек! Поэтому он с трудом сделал всё, что надо было, а потом лежал, закрыв глаза, чтоб не видеть влюбленное личико Марины Аникеевой на фоне серванта и ковра, и отказался остаться ночевать. Соврал, что отец заболел, гипертония, и мать волнуется одна. Марина Аникеева знала, что он врет, потому что три дня назад, когда они у него были, его родители только что уехали отдыхать на две недели. Но ничего не сказала. Он больше ей не звонил, а потом она вообще куда-то делась.
– Ну, допустим, помню, – сказал Артур Иванович. – Как тебя зовут?
– Артур, – сказал парень. – В честь тебя.
– Интересно, – сказал Артур Иванович и поверил ему окончательно.
– Прости, – сказал парень. – Мне просто некуда кидаться. Меня могут посадить. Угон, плюс авария, плюс ушиб я этого деда. Несильно, но синяк здоровый, во все плечо.
– Нет бы отца с Первомаем поздравить, – съехидничал Артур Иванович. – А то прямо так сразу…
– Тебе будет хорошо, если твой сын сядет? И мать твоего сына останется одна?
– Сколько надо? – спросил Артур Иванович.
– Двести тысяч.
– Не маловато? – усомнился Артур Иванович.
– Первый платеж. Чтоб сейчас отпустили. А дальше я сам найду.
– Куда привезти?
– Спасибо! Спасибо! Сейчас…
Он передал трубку этой тетке, инспектор Маликова или как ее там. Она объяснила. Через два часа, то есть в шестнадцать ноль-ноль. Плюс-минус пятнадцать минут. Улица академика Драбкина, восемь. Там такой вроде сквер. Если стать лицом к красному дому с белыми балконами – то крайняя левая скамейка.
У Артура Ивановича дома лежало тысяч шестьдесят. Оделся, поехал в банк, снял с двух карточек. Попросил у кассирши резинку, перетянул не такую уж толстую пачку, засунул в боковой карман. Почему-то вспомнил, что наркобарон Пабло Эскобар на такие резинки тратил две с половиной тысячи долларов в месяц, с ума сойти. Потом подумал, что деньги у него выхватят и стукнут кастетом по башке. Но он встретил эту мысль равнодушно, пожал плечами и стал вспоминать Марину Аникееву. Ее руки, локти, родинки и запах. В каком это году было? Ага… Значит, сыну двадцать четыре. А ей?
Вот и улица академика Драбкина. Интересно, по какой части был этот академик? Атомная бомба или теория чисел? Сквер. Скамейка. Мимо шли люди, и Артур Иванович успокоился насчет кастетом по башке. Главное, никуда не идти. Деньги, рукопожатие, «звони, если что». Поглядеть на него. Спросить бы про Марину. Ну, это как разговор пойдет.
Он посмотрел на часы. Четыре, семь минут пятого. Он почти не опоздал. Никого не было. Какой-то мужик сидел через скамейку от него. Прошло еще десять минут. Еще пять. Артур Иванович заерзал, оглянулся – вдруг стало страшно, что схватят сзади. Мужик, сидевший поодаль, встал и подошел к Артуру Ивановичу. Это был скорее парень, чем мужик, просто очень здоровый и крепкий. Хорошо одет. Красиво пострижен, с узкой ленточкой трехдневной щетины вместо бороды. Приятный одеколон. Классные туфли.
– Артур Иванович?
– Да, я, – он встал.
– Инспектор Маликова просила передать, что у нее срочный выезд. Я вместо нее.
– Нет уж, извините! – встревожился Артур Иванович. – Мы так не договаривались! Откуда я знаю, кто вы?
– Не переживай, – сказал парень. – Это я. Артур меня зовут. Смешное имя, правда? Прости. Я пошутил. Деньги не нужны. Я просто хотел тебя увидеть.
– А как-нибудь попроще нельзя было?! – возмутился Артур Иванович. – Вот чтоб без этих фокусов?! Без пугалок и просилок?!
– Прости, но… Но я хотел тебя проверить. Ты оказался, в общем, хороший человек. Добрый. Мне это очень важно знать. Я старался следить за тобой. Вот, твой телефон раздобыл. Мы с мамой тебя любили все время.
– Да, да, – сказал Артур Иванович. – Я тоже, в сущности… Ладно, ладно. А кто эта инспектор Маликова? В смысле, чей голос?
– Соня, – сказал парень. – Моя девушка. Вот, привезла меня.
Он показал кивком. Неподалеку стоял «мерседес».
– Кто там рядом сидит? – спросил Артур Иванович, вглядевшись.
– Мама.
– Можно на нее посмотреть?
– Нельзя, – сказал парень.
Повернулся, побежал к машине, уселся на заднее сиденье, и машина уехала.
juvenes dum sumus
ОРЛЫ И ВОРОНЫ И КОНСЕРВАТИВНЫЙ РОМАНТИЗМ
Однажды, очень давно, мне было лет двадцать или двадцать один – но не двадцать два, точно! – я сделал предложение одной девушке.
Как раз тогда я почему-то был этаким романтическим консерватором. Я мечтал, что у меня будет жена и трое, а то и пятеро детей. Что у нас будет большой уютный дом. А главное, я мечтал, как мы с моей женой (которая пока существовала только в моих фантазиях) будем жить до ста лет в любви и счастье.
Я увидел эту девушку в гостях, на дне рождения своего приятеля, и мне показалось, что это она и есть, что именно о такой я мечтал всё последнее время. Ей было столько же, сколько и мне, – чуть за двадцать. Студентка истфака. Она была красива ровной и спокойной красотой. У нее был умный и добрый взгляд. Мы потанцевали. Я обнял ее за талию, чуть-чуть прижал к себе и по ее ответному движению понял, что я ей тоже нравлюсь. Мы сели на диван в полуосвещенном углу большой комнаты. Я придвинулся к ней, она положила голову мне на плечо, и еще через полминуты мы легко поцеловались, соприкоснувшись сухими и горячими губами.
– Ты красивая, – шепотом сказал я.
– Ты хороший, – ответила она.
Еще через минуту я сказал:
– Выходи за меня замуж.
– Почему? – спросила она.
Конечно, я ее не знал, она не знала меня, говорить «я тебя люблю» было бы глупо, и я стал тихо, но в подробностях рассказывать ей про нашу будущую долгую и счастливую семейную жизнь.
– Что, вот так прямо до золотой свадьбы? – прошептала она, глядя мне в глаза.
– До бриллиантовой, – сказал я. – Это и есть счастье.
– Интересно, – сказала она, чуточку отодвигаясь. – Вот у меня сестра, ей двадцать восемь, она уже третий раз разводится, потому что нового нашла. А моя тетя вообще замуж не выходила. Не расписывалась, в смысле. Поживет-поживет, выгонит на фиг и тоже нового найдет. Ей сорок пять. Она счастлива. «Я, – говорит, – счастлива как женщина».
– Я тебе не нравлюсь? – сказал я. – Понятно. Ладно. Так бы и сказала, при чем тут твоя сестра и тетя?
– Нравишься, – сказала она. – Я тебя сразу заметила, как ты вошел.
– А при чем тут тетя? – повторил я.
– А при чем тут золотая свадьба? – сказала она. – Моя тетя живет вот так, и счастлива.
– А еще через десять, двадцать лет?! – возмутился я. – Вот ей пока сорок пять, а потом кого найдет? Так и будет одна.
– «Капитанскую дочку» А Эс Пушкина в школе проходил? – вдруг засмеялась она. – Сказка про ворона и орла, помнишь? Почему ворон живет триста лет, а орел – только тридцать? Потому что орел ест живое мясо, а ворон – падаль. «Нет, брат ворон: чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст». Жить надо, понимаешь, жить! – шептала она. – Жить хочу! Ничего не боюсь! Старости, бедности, одиночества – не боюсь вот ни капельки. Всегда можно с моста в реку. А пока – хочу жить, как мне нравится.
У нее даже глаза сверкнули в темноте.
– Ага, – сказал я. – Понял. Извини. Забудь. Пока.
Поднялся с дивана. Она сильно схватила меня за руку, заставила сесть, обняла, обхватила руками шею, поцеловала.
– Ты что! – зашептала она. – Обиделся? Я же не про тебя, я вообще. Ты хороший. Ты мне сразу понравился, я же говорю. С первого взгляда. Я в тебя влюбилась, понял? Хочешь, пойдем куда-нибудь? Прямо сейчас. Куда скажешь, туда и пойдем. Пошли? А хочешь, ко мне, у меня как раз дома никого. Только без любви до гроба, ладно?
– Ладно, – сказал я. – Договорились. Сейчас.
Встал, подошел к столу. Там стояла чья-то недопитая водка. Я выпил, закусил хлебушком и вдруг подумал: допивать водку из чужой стопки со следами помады – это все равно что клевать падаль, как тот ворон? Да нет, фу, глупости! Ерунда, при чем тут…
Вышел в прихожую, взял куртку и ушел.
Мой консервативный романтизм тоже ушел куда-то. Мы с ним разошлись на ближайшем перекрестке. Я к метро, а он пешочком…
Хорошо бы, конечно, завершить это воспоминание так: «Вчера она пригласила меня на сорокалетие своей свадьбы. У нее четверо детей и девять внуков». Но это была бы неправда. Я с тех пор ее ни разу не видел. Но надеюсь, что она счастлива.
таинственным я занят разговором
БЕЗ СЛОВ
Я тогда работал в одной конторе, и там часто показывали документальное или научно-популярное кино в специальном маленьком зале.
Однажды я сижу и смотрю какой-то фильм, про что – не помню. Вдруг слева рядом со мной кто-то садится. Поглядел, вижу – одна наша сотрудница. Мы с ней были неплохо знакомы, болтали в буфете, один раз даже вместе шли до метро и потом ехали до какой-то там пересадки. Чуть моложе меня, замужем. Я тоже, кстати, уже был женат, дочке два года. Смотрю на нее. Красивый профиль в темноте виден. Она на меня косится, кивает мне, а я – ей.
Я сижу, скрестив руки на животе, и как-то так вышло, что правой рукой случайно касаюсь ее руки. А она сидит, заложив большие пальцы рук за широкий пояс юбки – тогда носили такие полудлинные твидовые юбки с лаковыми поясами, латунная пряжка. То есть ее правая рука рядом со мной. Так что я прикасаюсь к ее правой руке. Самыми кончиками пальцев случайно дотрагиваюсь до тыльной стороны ее ладони.
Задерживаю пальцы буквально на долю секунды. Чувствую легкое ответное движение. Не отнимаю пальцы. Она тоже не отодвигает руку. Чуточку прижимаю кончики пальцев к ее руке. Она слегка двигает рукой – чуть-чуть к себе и потом как бы по длинной оси, так что получается, как будто я ее легонько глажу пальцами по ее пальцам с тыльной стороны. Я беру ее за руку, перебираю пальцы. Она тоже. Я совсем осмелел, стал гладить пальцем щелочку между ее указательным и средним. Она вдруг – хоп! И поймала мой палец между своими, и держит. Я легонько пытаюсь освободить его, а она не пускает. А потом – отпустит и схватит, отпустит и схватит. Такая вот игра.
Дальше она меня взяла всей рукой за палец и стала сжимать, а я стал его двигать туда-сюда, то есть началось что-то уже совсем откровенное.
Но вдруг она перестала сжимать мой палец и даже как будто чуть-чуть отстранилась. Я ее беру за указательный и средний, хочу их раздвинуть и попасть в эту ложбинку – она не пускает. Хочу взять ее за все пальцы сразу – опять никак. Несколько раз пытался. Что такое? Вдруг она меня очень нежно берет за руку и ногтем тихонько щелкает по моему обручальному кольцу. Я в ответ поглаживаю ее безымянный палец, нахожу ее обручальное кольцо и тоже по нему постукиваю ногтем.
Она отводит руку, но через десять секунд возвращает ее. Я перебираю ее пальцы и чувствую, что кольца нет. Я глажу ее безымянный палец по всей длине, ощущаю круговую ложбинку от снятого обручального кольца.
Она берет двумя пальцами мое обручальное кольцо и начинает его тихонько вертеть, вправо-влево. Потом вопросительно постукивает по нему ногтем. Потом начинает его потихоньку стаскивать.
Я сжимаю кулак.
Она убирает руку.
* * *
Потом мы, конечно, много раз болтали в буфете. Так просто, ни о чем.
* * *
POSTSCRIPTUM
Некоторые мои читатели были удивлены жестом женщины, которая во время флирта демонстративно сняла обручальное кольцо, намекнув тем самым на… А на что? Ну конечно, не на то, что она готова вот прямо тут же развестись со своим мужем. Намекнув на готовность к «отношениям», как нынче говорят.
Но я – тогда – не удивился. Такие знаки были отчасти приняты и понятны – в цепи эротических намеков. Например, я видел девушку, которая вдруг, загадочно улыбаясь, накрывала платком икону, висевшую на стене. И ее планы сразу становились несколько яснее. Мой приятель рассказывал, что сидел в гостях у одной иностранной девушки. У нее на столике стояла двойная рамка с фотографиями ее папы и мамы. После нескольких бокалов вина она спрятала эти фото в ящик стола, сказав: «Не хочу огорчать своих родителей, они ведь думают, что я хорошая девочка».
Больше того! У меня был знакомый, который в гостях, перед тем как начать пить водку, снимал пиджак с орденом Ленина и относил в прихожую.
дзуйхицу, или «вслед за кисточкой»
ПОДРАЖАНИЕ СЭЙ СЁНАГОН
Что приятно волнует:
Перебирая старые письма, найти в полинявшем конверте счастливый автобусный билет, который знакомая девушка прислала тебе из какого-то южного курортного города, судя по штампу – из Кисловодска.
Видеть, как молодая парочка выбирает в супермаркете пиво. Они счастливо глядят друг на друга, смеясь неизвестно чему. Пиво падает на кафельный пол; бутылка разбивается; хлебный запах; уборщица ворчит, со скрежетом заметая осколки; кассирша требует заплатить – они смеются еще громче.
Раскрыть шестой том «желтого» Стендаля, понять, что ты это помнишь чуть ли не наизусть, – но всё равно читать, как в первый раз: изумляясь.
Отщелкнуть заднюю крышку толстых, давно не работающих серебряных часов и увидеть спрятанный там детский локон.
Вдруг почувствовать, что ливень сию минуту закончится.
Что немного печалит:
В конце августа вдруг почувствовать, что этот месяц у моря пролетел быстрее, чем в прошлом году, а в прошлом году – быстрее, чем в позапрошлом.
Вспоминать, как на даче катался на лодке вверх по маленькой речке, как она становилась все уже и мельче, как весла путались в кувшинках и задевали за каменистое дно.
Умирает знакомый старик. «Сколько ему было?» – «Семьдесят пять». И вдруг ясно понимаешь, что тридцать, двадцать, даже десять лет назад в ответ на такое известие ты говорил: «Да, жаль, но семьдесят пять – что же! Он прожил долгую жизнь!» – а вот теперь думаешь: «Ой-ой-ой…»
Раскрыть заставленный дареными бутылками буфет, долго разглядывать этикетки, да так и не налить себе стопочку.
Смотреть на красивую молодую парикмахершу, которая стрижет тебя уже одиннадцатый год, и, когда она наклоняется близко-близко, подровнять усы, – видеть новые морщинки у ее глаз и губ.
явка с повинной
V.S.O.P.
– Константин Павлович? – вдруг обратилась Марина к охраннику. Дело было в супермаркете; он взял у нее пустую тележку, чтоб поставить на место.
– А? – откликнулся он, искоса на нее взглянул и тоже узнал.
Побледнел, отвернулся и побежал прочь, в другой конец торгового зала, таща за собой тележку. Марина бросилась за ним.
– Константин Павлович! – крикнула она, почти догнав его.
Протянула руку. Он загородился тележкой:
– Уйди. Уйди. Уйди от меня.
Маринин муж догнал ее.
– В чем дело? – строго спросил он.
– Миша, прости, нам с Константином Павловичем надо поговорить…
– Полиция! – вдруг закричал охранник. – Помогите! Ненормальная! Психованная! Пристает! – и убежал в дверь с надписью «служебный вход».
Марина дернулась бежать за ним.
– Марина! – муж схватил ее за руку. – Что происходит?
– Прости, – сказала она. – Ничего. Потом скажу.
Дома они долго молча ужинали. Потом она разговаривала с дочерями по скайпу – они были со своими классами на каникулах, старшая в Италии, а младшая в Германии. Муж тем временем сидел в гостиной напротив выключенного телеэкрана. Что-то читал на планшете.
– Что ж ты у меня ничего не спрашиваешь? – сказала она, войдя в комнату.
– Из уважения к твоей частной жизни и личному пространству, – осклабился Миша.
– Я все равно расскажу.
– Как хочешь, – Миша был явно обижен. – Я не настаиваю.
– Это я настаиваю! – сказала она, садясь на диван рядом с ним. – Давай прямо сразу резко. Я погубила этого человека. Сломала ему жизнь, прости за пафос. Но это так и есть. Двадцать один год назад.
Миша помолчал, помотал головой, посчитал в уме и спросил:
– В пятнадцать лет? – потом усмехнулся и добавил: – Типа рассказ Бунина «Легкое дыхание»? Правда, там ее какой-то мужик застрелил в конце.
– Типа гораздо хуже, – сказала Марина. – Я жива, как видишь. А он охранник в магазине. Отсидел. А был главный инженер в московском филиале английской фирмы. Это мой отчим. Женился на маме, когда мне было тринадцать. Я в него через пару лет влюбилась. Пыталась соблазнить. Он меня послал подальше. Он же порядочный человек. А я сказала маме, что он меня изнасиловал. Мама как раз была в командировке. Работала на выборах Ельцина. А мы с ним дома, одни, целую неделю. Я мимо него хожу по-всякому, он никак. Мне жутко обидно, я же красивая. Правда я красивая? Нет, ты скажи?
– Правда, – сказал Миша. – А ты его до сих пор любишь? Только честно. Я не обижусь. Я знаю, так бывает. Ничего.
– Что ты, что ты, – торопливо сказала Марина. – Честно, нет. Я люблю тебя, Дашу и Алису и память о покойной маме. Мне хватает. Так вот, значит. А в предпоследний день я к нему в комнату пришла, с бутылкой коньяка «Мартель», и спросила, что такое означают эти буквы на этикетке: V.S.O.P.
– Я знал, но забыл, – сказал Миша. – Типа возраст, как у нас звездочки.
– Да, – сказала Марина. – А я тогда честно не знала. А он засмеялся и говорит: «Виноградный сок особого приготовления». Я ему: «Раз сок, давайте выпьем?» Он мне: «Нет, это же коньяк, ты что». Ну, я стала к нему прислоняться. А он так строго на меня посмотрел и сказал: «Прекрати немедленно. Ты ненормальная? Психованная? Еще раз рыпнешься – маме скажу. Иди отсюда». Ну я и пошла, на дискотеку. Морду кошечкой накрасила, и вперед. В сто двенадцатую школу. Как раз были майские праздники. Ну и там прямо на верхней лестнице, у дверцы на чердак, дала Мишке Зайцеву.
– Кому? – муж ее Миша вскочил с места. – Кому-кому?
– Мишке Зайцеву из десятого «Б» сто двенадцатой школы, – захохотала она. – Где тебе помнить! У тебя таких было по три в день! Тем более что у меня была морда кошечкой накрашена. Потом уже поймала тебя в «Трансгазе».
– Погоди, – Миша никак не мог поверить. – Правда, что ли?
– Ну, чем тебе поклясться? Здоровьем Даши и Алисы? Памятью мамы?
– Не надо! – сказал суеверный Миша. – Верю, верю, верю. А почему молчала?
– Да так. Зачем болтать. Ты хоть рад, что ты мой первый мужчина? Чего молчишь? Хочешь спросить, кто был второй, третий и так далее? Да никто! Ни-кто! Потому что меня тошнит от всего этого.
– А зачем тогда я?
– А ты – моя судьба. Первый мужчина, я же говорю… Ну, прости. Прости. Я тебя люблю, правда. Вот, – она замолчала, глядя в окно.
– А дальше? – спросил Миша.
– Ага! – засмеялась она. – Интересно стало? То-то же! Ладно. А дальше все как по нотам. По статьям в газетах и журналах. Пришла домой, сунула в машинку свои трусы, и простынку, и пододеяльник. Специально, чтоб следователю сказать, что я со страху все застирала. А утром Константин Павлович на работу ушел, а через час мама из командировки. Я к ней со слезами: он меня изнасиловал! Его прямо с работы в СИЗО повезли. У мамы были связи, она же в штабе Ельцина. Закатали на десять лет, кажется. Меня на суде не было, чтоб не травмировать мою хрупкую детскую психику. Но следователю я рассказала про коньяк. Что он меня спаивал. И говорил, что это «виноградный сок особого приготовления, видишь, девочка, написано – V.S.O.P». Убедительно, правда?
– Правда, – сказал Миша. – Ну и что теперь?
– Он все потерял. Мама с ним развелась, понятно. Так одна и доживала, ты знаешь.
– Почему одна? – возразил Миша. – Мы ее любили! У нее были внучки!
– Да, да, – отмахнулась Марина. – Я, честно, думала, что он вообще пропал. Или что его блатные убили. На зоне педофилов не любят. А он вот как. Ужасно. Все потерял. И все из-за меня. Из-за тупой и злобной мести – а за что? Ни за что. Горе какое. Миша! Ты меня любишь?
– Да, – сказал Миша и обнял ее. – Да, люблю тебя, люблю, ты ни в чем не виновата, ты была глупая, маленькая, глупый подросток, забудь!
– Надо что-то для него сделать. Иначе я просто сдохну. Я не могу вернуть ему двадцать один год. Но что-то надо.
– Хочешь, твоей мамы квартиру на него перепишем? Вот эту, двушку на улице Волгина?
– Хочу.
– А не жалко? Мы ж ее для Дашки держали.
– И еще пенсию пятьдесят тысяч в месяц, – сказала Марина.
– А это еще зачем?
– А затем, – Марина выпрямилась, – что иначе я пойду в прокуратуру и расскажу, как было дело. Типа явка с повинной.
– Срок давности, – криво улыбнулся Миша.
– Тогда в Фейсбуке расскажу. Попрошу расшарить. Представляешь, в каком говнище мы все будем, включая детей?
Константина Павловича уговорили переехать в двушку на улице Волгина. Миша принес ему конверт с пятьюдесятью тысячами и обещал, что так будет каждый месяц.
Когда Миша ушел, Константин Павлович спустился в магазин напротив, купил две бутылки коньяка «Мартель» V.S.O.P., выпил их и умер от инсульта.
Осенью Марина с Мишей поехали во Францию.
Марина убежала от него, несколько лет маялась, пока получила гражданство, потом перешла в католичество и постриглась в монахини ордена Святой Клары и теперь живет в строгом затворе под духовным руководством известной аббатисы Юлианы, которая изредка пишет ей письма.
Но это я пошутил, конечно!
Осенью Марина с Мишей продали всю свою недвижимость и купили в Риге хорошую квартиру вместе с видом на жительство.
У них всё более или менее неплохо. Можно даже сказать – относительно хорошо.
и идут по той дороге люди
ОТЛОМОВ И ВРЕТИХИН
– Ваша честь! – сказал адвокат судье. – Мой доверитель требует компенсации морального вреда. Он испытывает тяжелые нравственные страдания. Эти страдания выражаются не только в душевных переживаниях, таких как обида, возмущение, горе, – но и в бессоннице, которая влечет за собой головную боль, удушье, головокружение, жжение в области сердца и тошноту.
– Понял, – сказал судья. – Ответчик, что вы имеете сказать по существу поданного против вас иска?
Ответчик поднял глаза на адвоката истца, потом на самого истца, который мрачно сидел рядом.
– Вот! – сказал истец. – Опять смотрит! И молчит!
– Вот! – сказал адвокат истца. – Моему доверителю это приносит тяжелые моральные страдания! Моральный вред, проще говоря.
– Позвольте, ваша честь! – воскликнул адвокат ответчика. – Но мой доверитель ничего не делает! Он и тогда ничего не делал!
Месяц назад активист Вретихин стоял в одиночном пикете, а спецназовцу Отломову приказали его разогнать. Он подошел и сказал: «Гражданин, сверните плакат». Пикетчик взглянул на спецназовца, потом сложил вчетверо свой плакат размером в лист писчей бумаги, сунул его в карман. «Пройдемте в автозак», – сказал Отломов. Вретихин опять поглядел на Отломова и без лишних слов повиновался. В автозаке он сидел смирно и время от времени взглядывал на Отломова. Приехали. «На выход!» – скомандовал Отломов. Вретихин, сопровождаемый Отломовым, вылез из фургона и проследовал в отделение полиции.
– Он молчал и на меня смотрел! – сказал истец. – С немым, блин, укором! Как будто мученик какой. Я, конечно, извиняюсь перед верующими! Как будто я виноват. А я выполняю приказ. И при этом не превышаю. Я его пальцем не тронул.
– Вот! – сказал адвокат истца.
– Нет, это я говорю «вот!» – сказал адвокат ответчика. – То есть ответчик не оказывал сопротивления, так? Подчинялся законным распоряжениям представителя власти, так? В чем проблема?
– Если бы оказывал и не подчинялся, тогда было б уголовное дело! – сказал адвокат истца. – А у нас гражданский иск. В гражданском процессе. Своим нарочито покорным молчанием и укоризненными взглядами ответчик вызвал у моего доверителя чувства вины, обиды, возмущения, горя, а также бессонницу, головную боль, жжение в области сердца, головокружение и тошноту.
Судья решил, что Вретихин должен выплатить Отломову сто тысяч рублей.
Через месяц Вретихин снова встал в одиночный пикет. Отломов снова его разогнал.
На этот раз пикетчик смотрел на спецназовца дерзко и агрессивно.
В третий раз – холодно и презрительно.
В четвертый – ехидно и насмешливо.
Всё это вызывало у Отломова тяжелые нравственные страдания, сопровождаемые бессонницей, покраснением и нервным зудом кожных покровов, головной болью, а также чувствами обиды, возмущения и горя. И всякий раз судья присуждал ему крупную денежную компенсацию морального вреда.
На пятый раз Вретихин на него вовсе не смотрел.
– Ваша честь! – сказал адвокат Отломова. – Получается, что мой доверитель, находящийся при исполнении, вовсе как бы не существует для ответчика? Он для него пустое место? Это, не побоюсь такого слова, дегуманизация! Мой доверитель переживает тяжелые чувства одиночества, беспомощности, ненужности, неполноценности, а также бессонницу и головную боль! Это уже пахнет разжиганием вражды и ненависти!
Судья подумал-подумал, переквалифицировал дело и дал Вретихину реальный срок. Но отказал Отломову в компенсации морального вреда. «Уж что-нибудь одно», – сказал он, закрывая заседание.
Отломов попытался поймать взгляд Вретихина, но тот отвернулся к конвойным.
Тогда на следующий день Отломов уволился, а через месяц сам вышел и встал с плакатиком. Чисто по приколу. Его стали разгонять. Он нанес двум разгоняющим телесные повреждения средней тяжести. Ему дали хороший срок.
Он мечтал встретить на зоне Вретихина и поговорить с ним, но не случилось, не совпало. Велика Россия, и много в ней желтой крапивы и сухого плетня.
достовернее ли стала история с тех пор, как?
ПЛАН «Б»
В октябре 1975 года в одной из московских школ перед восьмиклассниками выступал ветеран войны, пожилой, но очень бодрый отставной старший лейтенант, пенсионер, бывший инспектор пожарной охраны Григорий Павлович Рыбак. Весной вся страна отметила тридцатилетие Победы, и визит ветерана в школу был делом обычным, но вместе с тем приятным.
Григорию Павловичу было без году шестьдесят, он был родом из Белоруссии, участвовал в партизанском движении, потом воевал в пехоте, после войны прослужил еще пять лет в Восточной Пруссии, ныне Калининградская область, поступил в пожарное училище, а потом, женившись на командированной ревизорше, переехал в Москву. Он все это рассказал школьникам, прохаживаясь перед классной доской, на которой в честь такого случая был кнопками приколот плакат «С днем Победы!».
Это был крепкий старик с маленькими веселыми голубыми глазами. Пиджак с неширокой орденской планкой и медалью к столетию Ленина. Зачесанные назад редеющие волосы. Когда он улыбался, во рту посверкивали два золотых зуба – по краям.
Он рассказывал:
– Послали нас двоих, с напарником, значит, по деревням за пропитанием. Мяса раздобыть для ребят. Голодно было. Зима. Всё подъели. Ну, корову пригнать или овцу забить, притащить. Опасно было. Могли вполне попасться фрицам или полицаям. Командир наш, товарищ Дубовой, дал нам план «Б». Поняли, ребята? По плану «А» – достать мясца, и к своим. А по плану «Б» – если поймают – сдаться в плен, войти в доверие к фрицам, пойти в полицаи, установить связь с отрядом и вообще с подпольем и продолжать диверсии… Шли долго. Снег, мороз. В общем, нас обложили. Пытались отстреляться. Поймали. Ведут. Привели. Я-то помню про план «Б» и напарнику напоминаю шепотком. А он всё орет «смерть немецким оккупантам». Его, понятно, бьют. У меня прямо сердце кровью! А что делать? Посадили нас в закут. Я ему сто раз объясняю про план «Б», а он все свое хрипит. Интеллигент паршивый, извиняюсь, конечно. Я интеллигенцию очень уважаю, у меня супруга окончила московский финансовый, но этот какой-то полный дурак попался. Я ему говорю: «Что родине нужнее? Твой труп в петле? Или десять трупов немцев? Хочешь помереть с толком? Запишись в полицаи, дадут тебе автомат, зайди в столовку или в штаб и дай очередь по фрицам! Вот тогда и ори “смерть фашистам!” Тогда от твоего трупа будет родине польза!» Не понимает. Вроде образованный, а тупой. И еще очень чахлый. Простуженный. Ну вот, – Григорий Павлович вздохнул, – такое, значит, дело… Потом я получил оружие и обмундирование. И, значит, мог свободно передвигаться по району. Приметил одну учительницу, поговорил душевно, все понял, она сначала не поверила, но я предъявил ей пароль от товарища Дубового. Хорошая была девушка. Погибла, когда готовила взрыв дома культуры. Она меня связала с мельником Тарасом. Он был, – Григорий Павлович поднял палец, – он был законспирированный секретарь подпольного райкома партии! Потом немцы его расстреляли. Мы наладили связь с отрядом…
Григорий Павлович рассказал несколько партизанских историй. Как отравили столовую немецкого полка, как пустили под откос эшелон, как он лично отвлекал полицаев от того леса, где базировался отряд товарища Дубового. Отважный был человек и огромной души. Героя получил посмертно.
– Ну а потом, когда фронт приблизился, я прорвался к своим. А на прощанье взорвал ихний штаб. Воевал в пехоте, штурмовал Кёнигсберг. Был списан по ранению, так что до Берлина, ребята, не дошел, – он развел руками и улыбнулся. – Но остался служить в Восточной Пруссии.
– Можно вопрос?
– Какой разговор! Нужно!
– А вот вы в ликвидациях принимали участие?
Вопрос задал румяный белобрысый мальчик, толстощекий и курносый. Рядом с ним сидел очкастый, курчавый, с грустными глазами – казалось, что такой вопрос должен был задать именно он, но вот поди ж ты.
– Насчет ликвидаций, – сказал Григорий Павлович Рыбак. – Я помню две ликвидации. Фашисты и их приспешники уничтожали мирных советских граждан еврейской и других национальностей. Я личного участия не принимал. Вообще близко не подходил. Первый раз я заболел, отравился, валялся в избе с температурой сорок, а второй раз сидел на гауптвахте за потерю личного оружия. Которое, кстати говоря, передал той самой учительнице. Подпольщице. Татьяне Мирошняк.
– Ясно, понял, – сказал румяный мальчик и поглядел на Григория Павловича светлыми глазами особиста. – А вот если бы вы тогда не болели? Если бы вас фашисты привели на ликвидацию, дали бы автомат и скомандовали «огонь»? Что тогда?
– Алексеев! – крикнула учительница. – Как бестактно! Хватит!
– Ничего, Надежда Семеновна, – сказал Григорий Павлович. – Ничего. Молодежь, она такая. Хочет правду знать…
Он подошел к румяному мальчику, обнял его, расшебуршил его светлые волосы, заглянул в глаза.
– Что тогда? – прошептал он. – Тогда очередью по фашистам, и последнюю пулю себе в лоб. Вот что тогда.
Он снова подошел к учительскому столу.
– Еще вопросы?
– А как звали вашего напарника? – спросил грустный мальчик в очках. – Которого сразу расстреляли?
– Не расстреляли, а повесили, – вздохнул Григорий Павлович. – Как звали, не помню. Фамилия Сотников.
в петле
И ВСЕ-ТАКИ – КАКОЕ «ТАКОЕ» БЫЛО ВРЕМЯ?
Я снова про слова «не нам их судить». Потому что, оказывается, «время было такое».
Вообще-то трудные и жестокие времена случаются чаще, чем легкие, нежные и беззаботные. Но бывают времена совсем уж тяжелые.
Например, нацистская оккупация. На оккупированной немцами территории СССР в течение двух – трех лет жило примерно 70 миллионов человек. Население крупной европейской страны, страшное дело! И конечно, нельзя осуждать всех этих людей за то, что не стали партизанами и подпольщиками или не бросались с перочинным ножом на немецкий патруль.
Около 20 миллионов людей так или иначе «работали на немцев» – или прямо на немцев, или под надзором оккупационных властей. И опять же нельзя осуждать их всех за то, что они стояли у станков или подметали улицы, играли в театре, лечили больных или учили детей. Хотя бы потому, что в противном случае они бы умерли с голоду либо были бы расстреляны за саботаж.
Но! Но были люди – около 2 миллионов (то ли чуть меньше, то ли чуть больше), – которые служили немцу преданно, истово и даже «с превышением». Охранники в лагерях смерти, каратели, доносчики, осведомители, подручные в гестапо и в айнзацкомандах и те, кто воевал на стороне врага.
Их-то с полным правом и называют предателями. И ни у кого не повернется язык сказать со всепонимающим вздохом: «Время такое было…»
Вернемся к нашим литературным материям.
Разумеется, нельзя осуждать обыкновенных, рядовых советских писателей, которые были в той или иной степени приспособленцами. Да, надо восхищаться теми, кто протестовал, кто писал «в стол», кто не отступился от своего творческого лица и хлебнул за это полной мерой – тюрьмой, смертью, отлучением от читателей, унизительной безработицей. Ими надо восхищаться – но рядовых приспособленцев от литературы презирать не надо.
Возможно, они чувствовали, что нету в них того драгоценного дара, ради которого стоит рисковать жизнью. Возможно, они были слабы духом. Но, так или иначе, они тихо сочиняли свои мало кому нужные романы и повести и жили весьма скромной жизнью.
Речь не о них.
Речь о литературных генералах, о погромщиках и доносчиках, о тех, кто «прорабатывал», кто начинал или подхватывал кампании идеологических чисток, кто предавал своих литературных, а то и фронтовых товарищей на глазах у всех, на открытом партсобрании, кто толкался в очереди подписать очередную политическую кляузу. Кто, наконец, рекомендовал «органам» проверить такого-то автора на предмет измены родине в форме шпионажа.
Говоря о таких людях – а их немало было в советской литературной верхушке 1930–1950-х, – мне трудно согласиться, что «время такое было, и не нам их судить, мы не знаем, в каких они были обстоятельствах». Увы, знаем. Трудно предположить, что в случае Фадеева, Софронова, Грибачёва и прочих речь шла о нагане, уставленном в затылок, о перспективе ареста, о жене и детях, взятых в заложники, о старике-отце, которого грозят выкинуть из больницы, или хотя бы о безденежье, о скитаниях по углам…
Нет, разумеется!
Но эти люди действительно боялись. Что вместо «ЗИМа» или «Победы» будут ездить на «москвиче» или трамвае. Что вместо черной икры каждый день они будут есть красную только по праздникам.
Вот, собственно, и весь страх. Весь, так сказать, мотив гадства.
Вот такое было интересное время…
проще и обиднее
ДОСТОЕВСКИЙ И ЗОЩЕНКО
Михаил Зощенко, говоря, что «жизнь устроена проще, обидней и не для интеллигентов», на самом деле вовсе не хихикает над интеллигентами, а пишет о вещах по-настоящему трагических, определивших человеческий рисунок ХХ века.
В ХХ веке на европейскую историческую арену вышел совершенно другой тип человека, чем тот, кого мы ранее считали Человеком («с большой буквы», «звучащим гордо» и т. п.). Он, этот тип, впрочем, всегда был, но он именно что не выходил на арену. Человек, не отягощенный моралью и особенно – моральным самосознанием.
Герой Достоевского, убив старуху, мог только упасть на свою койку и рыдать. Прошло всего-то 70 лет, два поколения, и такой же недоучившийся студент, запытав до смерти десяток «врагов народа» или ликвидировав сотню, а то и тысячу «расово неполноценных», приходил домой и улыбался, радуясь, что на жене новое красивое платье, что дочь получила пятерку в школе. Играло радио, чай был горяч и сладок. Жизнь шла!
Зощенко первым обнаружил этот новый массовый тип. Человека, который может на улице схватить выпавшую из окна недоваренную курицу и убежать; отказаться от невесты потому, что в приданое не дали комод; убить за ершик от примуса, – и всё это с милой душой, не считая, что происходит нечто странное или страшное.
Он первым описал общество, где ложь, предательство, воровство, даже убийство – выпали из рамок морали. Где этих рамок вообще нет, а когда о них говорит какой-то там «интеллигент» – то его не понимают. Общество, где все согласны с насилием, потому что иначе они не знают, не понимают, не могут.
Зощенко – увы нам всем! – проницательнее Достоевского. Или лучше так: Зощенко – это Достоевский сегодня.
Потому что «бесы» Достоевского – это мерзкие, жестокие, но мыслящие и чувствующие люди. Делая мерзости, они понимают, что делают мерзости. Убивая, понимают, что совершают грех перед Богом и людьми. Почти что романтические персонажи. Дети Байрона.
А герои Зощенко – это массовые и банальные насильники ХХ века. Это «бесенята», для которых и вопросов-то таких не стоит. Пытать? Убивать? Травить газом? Закапывать живьем? Включая детей, женщин и стариков? Это мы пожалуйста! Работа-зарплата, и всего делов.
Вина «бесов» грандиозна. Прежде всего в том, что они вытащили «бесенят» из социального нуля в центр жизни, дали им маленькую, но власть. А потом – коли охрана «бесов» вся состоит сплошь из «бесенят» – были вынуждены им подчиниться. Состарились и легли в могилу старые, утонченно-мерзкие «бесы» – и «бесенята» стали вообще самыми главными.
Читайте Зощенко, друзья!
очерки по истории толерантности
ПРИГВОЖДАЯ ЖЕРТВУ
У русской культуры ХХ века есть одно поистине изумительное свойство.
Оно резко отличает ее от классической русской культуры XIX века, о которой мы говорим с восторженным придыханием и гордостью. Пушкин! Гоголь! Достоевский! Толстой! Некрасов, Тургенев, Чехов и целый сонм писателей чуть поменьше масштабом: Григорович, Лесков, Короленко, Эртель, писатели-народники (извините, что в одну кучу), а также Потапенко, Андреев, Куприн и даже Бунин и Блок.
Мы сегодня считаем себя законными наследниками «золотого века русской культуры». Меж тем это совсем не так.
Что же это за отличительное современное свойство?
Чрезвычайная терпимость к злу, вот что. И отсюда – сочувствие палачу и презрение к его жертве.
Меж тем как вся русская классическая литература исполнена жалости к «маленькому человеку». К жертве обстоятельств или разбойников, нищеты или болезни, полиции или охранки. Бедная Лиза, Самсон Вырин, Акакий Акакиевич, Антон Горемыка, Герасим со своей Муму, Макар Девушкин, Неточка Незванова, Соня Мармеладова, Катюша Маслова, гробовщик Яков Бронза вместе со скрипачом Ротшильдом, андреевские семь повешенных, купринские проститутки и безымянная «под насыпью, во рву некошеном».
И вся атмосфера общества была пропитана этим. Каторжников в народе называли «несчастными». Адвокатов буквально носили на руках. «Войдем в зал суда с мыслью, что мы тоже виноваты», – призывал Достоевский. Мы, которые судим и казним.
Соблазнитель, обманщик, мироед, палач, жандарм и неправедный судья пользовались, мягко говоря, куда меньшим сочувствием авторов и читающей публики. Губернатора, который приказал стрелять в рабочих (рассказ Леонида Андреева), жалела безвестная гимназистка, но почему? Потому что губернатор уже сам себя приговорил к смерти за этот приказ и нарочно ходил без охраны, и в итоге его взорвали эсеры. «Гимназистка плакала». Но вряд ли бы она смогла плакать о взорванном губернаторе, если бы до этого она, и ее мама, и ее бабушка не плакали о Бедной Лизе, Самсоне Вырине, Антоне Горемыке и далее по списку.
В ХХ веке всё вдруг изменилось.
Я не знаю почему. У меня есть предположения и рассуждения, но нет полной уверенности. Поэтому не надо о причинах.
Факты, однако, налицо.
Сейчас жертва (особенно слабая, безымянная и давняя) вызывает брезгливое раздражение.
Палач – «он выполнял приказ», «время такое было», и вообще «не нам их судить». То есть им – судить, приговаривать и казнить. А нам – ни-ни.
(В скобках полезный совет: когда вам кто-то с постной миной говорит: «не судите» – это значит, что вас уже осудили, в полном противоречии с евангельской заповедью, на которую этот ханжа ссылается.)
Стоило кому-то написать в социальных сетях, что рядом с красивым надгробным памятником главпалача НКВД Блохина – который лично, сам, своей рукой расстрелял более 10 000 человек, – что рядом не худо бы поставить табличку с указанием на этот исторический факт, – тут же раздается ханжеский голос: «Воевать с мертвыми – фу, это недостойно, это низко!»
Ему убивать по 20 человек в день было высоко. А указать на это – низко.
Интересные дела.
А вот жертвам достается по полной. Крестьяне прятали хлеб, рабочие бастовали, доценты саботировали, поляки шпионили, татары предавали. Если бы к власти пришли Троцкий (Бухарин, Каменев, Зиновьев, Рыков и т. д.) – то было бы еще хуже. Маршалы и генералы все как один лезли в бонапарты. За колоски сажали по делу («Значит, вы считаете, что воровать, красть – можно?! Интересно!»). А бухгалтера Иванова и его жену – и еще полмиллиона таких же бухгалтеров и их жен – для общей острастки, которая в видах грядущей войны была просто необходима.
И самое главное – ведь не всех же загнали в лагеря, а тем более расстреляли? Не всех. Значит, кого не арестовали и не расстреляли – те были нормальные, ни в чем не виноватые люди. А вот кого таки да расстреляли – наверное, было за что?
А взять евреев? Скорее всего, они сами виноваты, что их с таким упоением и тщанием убивали в конце тридцатых – начале сороковых. Наверное, восстановили против себя мирное малограмотное население восточноевропейских городов и деревень. А погромщики – ну сказано же, малограмотные люди, трудно живущие, им естественно хотелось поживиться еврейским скарбом…
В общем, «не нам их судить».
А жертвы сами нарвались.
Да что там история, репрессии, войны, «окончательное решение».
Ближе к жизни!
Ах, сколько раз, видя, как пятеро бьют одного, я пытался вмешаться, позвать здоровых мужиков на помощь. А здоровые мужики рассудительно отвечали:
– А почем мы знаем, что у них там? Может, он им денег задолжал и не отдает? Может, он чью-то девушку обидел? И вообще, может, он первый начал?
Конечно, у всего этого есть свои объективные причины, которые коренятся… и т. д., и т. п., и много-много рассуждений и объяснений.
Но гадость не перестает быть гадостью из-за того, что у нее есть причины.
Россия, Хуанита и семантика
ТРИ ЗАМЕТКИ О ПАТРИОТИЗМЕ
1.
Я люблю Россию, свою родину. Почему?
В старом латинском учебнике было: amamus patriam non quia magna, sed quia sua est (мы любим родину не потому, что она великая, а потому, что она своя). Я люблю всё: русский язык, литературу, русскую историю, леса и просторы, четыре времени года, реки и облака – и людей, конечно, моих соотечественников, – не всех, а тех, кого я люблю, разумеется.
Хотя во всем перечисленном (кроме языка и пейзажа!) я люблю далеко не всё. Не люблю, когда случается промозглая слякоть в декабре и пыльная сухость в безлиственном апреле. Комаров не люблю и жуков-короедов.
В русской истории мне тоже не всё нравится. Я люблю Ольгу и, представьте себе, Владимира, несмотря на все их жестокости. А вот Андрея Боголюбского, который уничтожил дружину как совещательный орган при князе, – нет, не люблю. Не люблю Александра Невского и Ивана Калиту, потому что они были приспешниками ханов, средневековыми квислингами. Зато мне нравится Дмитрий Донской. Терпеть не могу полоумного Ивана Грозного, но в восторге от Петра, Екатерины и победы над Наполеоном. Хотя знаю, сколько жизней унесло строительство блистательного Санкт-Петербурга, и мне очень жалко этих людей.
Вообще, у меня странный характер: размышляя о прошлом, я ставлю себя не на место царя или фельдмаршала, а на место крепостного мужика или солдата. Должно быть, оттого, что я не из дворян, а «из простых». Поэтому я иногда думаю: а на хрена было это великолепие городить? Лучше бы русских мужиков сберегли.
Но тем не менее я с восторгом (патриотическим, да!) смотрю на колоннады Зимнего. Но помню о погибших мужиках с состраданием (тоже патриотическим, смею думать).
Ах, эти противоречия!
Я обожаю высокую классику русской литературы, но недолюбливаю Гоголя за некрофильскую холодность, Толстого – за гордыню, Достоевского – за ксенофобию, Бунина – за чрезмерную отточенность стиля. Чистое совершенство лишь Пушкин – но он слишком далек, недосягаем, как алмазный блеск Плеяд. Вроде бы безупречен Тургенев – но, увы, как писатель он слабее вышеуказанных чуть-чуть порочных гениев.
Да, сплошные противоречия.
Я ненавижу Сталина – но мне нравятся рассказы, где он метким ироничным словом ставит на место своих прихвостней. То есть Сталин для меня распадается на две части: мерзавец, мой почти что современник (убивший моих родных) и как бы античный кесарь, вроде Августа или Тиберия.
Я преклоняюсь перед подвигом нашего народа в величайшей войне (у меня воевали мама и папа, один дядя погиб, другой был ранен), но я хочу знать все подробности о войне. Все-все-все-все… сто тысяч раз – все. Это абсолютно патриотическое желание – чтоб были рассекречены все документы 70-летней давности, чтоб боевой путь каждого батальона, взвода, каждого солдата был известен и запечатлен.
Любовь соткана из противоречий.
Так же, как и объект любви, как моя родина.
Любить с закрытыми глазами может только маньяк или кретин. Взгляд любящего видит всё. Нас учили в школе, что Ленин говорил: «Электрон так же неисчерпаем, как и атом». Любой атом родины содержит в себе и хорошее, и дурное. Пристально глядишь на дурное – и в нем распознаёшь хорошее, а в нем – опять дурную частицу, и вот так без конца.
У каждого человека – своя конфигурация любви к родине. Нельзя, да и не надо заставлять: люби вот так, вот это, а вот этак не люби, а вот то – ненавидь. Ничего не получится.
Главное – не путать отечество с его превосходительством.
Хотя, с другой стороны, есть люди, для которых его превосходительство главнее отечества, главнее русского языка, родных просторов и песен, что пела мама… Ну и Бог им в помощь.
У нас свобода. Каждый любит родину как умеет.
2.
За последние пятьдесят лет идея патриотизма претерпела существенные изменения. Это связано прежде всего с массовой миграцией рабочей силы. Судите сами.
Патриотизм – во всяком разе, в его официальном понимании – это любовь не столько к родине, сколько к государству. То есть к начальству, которое приписалось к народу, пейзажу и достижениям культуры.
Потому что для любви к родине – то есть к родным просторам и родной культуре – никакое государство не нужно. Гоголь и Тургенев прекрасно создавали шедевры вдали от родных берегов. Кто более русской литературе ценен – беглецы Бунин, Набоков, Шмелев, Газданов, Зайцев, Осоргин, Алданов – или всё Правление вместе с Секретариатом Союза писателей СССР и РСФСР? Вопрос риторический.
Даже в условиях потери государственной самостоятельности родимый пейзаж, родная литература и любимый народ никуда не деваются. Никуда не девается и возможность любить всех троих. Хоть в оккупации, хоть в эмиграции.
Остается любовь к государству. Вот она-то и лопнула.
Что такое государство? Как учили классики – аппарат принуждения. Но – зачем принуждать? Давить и бить, надзирать и наказывать? Топтать сапогом человеческое лицо, как писал Оруэлл? Что они, садисты, испытывающие оргазм от чужого унижения и боли? Нет, конечно. Принуждение – всего лишь средство. Цель – перераспределение ресурсов (налогов) в пользу начальства.
Государство – это не мистический «аппарат». Это реальные чиновники, которые в силу исторических обстоятельств получили возможность распоряжаться людьми (иногда вдобавок и собственностью). Цель государства – личное физическое благосостояние чиновников, правителей. И все, и фунт дыма. Как только возникла реальная угроза жизни, благороднейший и храбрейший прусский аристократ кайзер Вильгельм не встретил своих врагов со шпагой, а тайком бежал, переодевшись в мещанское платье…
Говорят: государство заботится о народе. Ну да, разумеется. Поскольку оно стрижет и режет свое стадо, оно заботится о его прокорме и приплоде, а как же? Любой здравомыслящий пастух, даже если он очень любит шашлык, все равно не перережет всех овец за один пикник. Он их кормит, поит, пасет, строит им теплые кошары: ясно, с какой целью.
Еще сравнительно недавно передвижение людей из страны в страну было весьма затруднено. Это было или запрещено, или очень дорого, или страшно долго и тяжело, или работы на новом месте не было, или всё это вместе. Люди были очень прочно, интимно связаны с государством.
Но вот в начале второй половины ХХ века все изменилось. Потоки трудовых мигрантов льются по всему миру. Людям не обязательно стараться переустроить жизнь у себя на родине – и уж тем более не обязательно демонстрировать лояльность или чувствовать любовь к своему начальству-государству.
Вспоминаю учебник для латиноамериканских иммигрантов.
В своей стране у Хуаниты не было ни работы, ни дома. Она была несчастна. Хуанита приехала в США. Теперь у нее есть работа и дом. Хуанита счастлива.
Хуаните не нужно думать о генерале Фуэнтесе, который рулит военной хунтой у нее в стране. Не нужно кричать «Ура, Фуэнтес!». Кричать «Долой Фуэнтеса!» тоже ни к чему. Нужно всего лишь уехать туда, где есть работа и дом.
«Дом» в смысле «жилье». Не надо мистики.
Вот такие примерно дела с патриотизмом.
3.
Английский язык я учу с шести лет. Сначала с мамой. Но учиться дома – никакой дисциплины и порядка, поэтому дальше были учителя, к которым я ходил с тетрадками и учебниками, – сначала Скульте, потом Экерсли, потом Бонк – в общем, худо ли, хорошо ли, но язык я освоил. Тем более что я любил читать не только английскую прозу, но и стихи, в том числе довольно старинные, а там, сами понимаете, много всяких тонкостей.
Моя подруга детства Оля Трифонова говорила: «Противный какой-то язык этот английский. Учишь его, учишь, и всё никак до конца не выучишь!» Я не разделял ее печали. Мне моих знаний хватало.
В середине девяностых я поехал на год в Америку. Перед этим пару месяцев ходил на курсы американского разговорного, брал уроки у «носителя языка» и прочел довольно толстый роман, не ленясь лезть в словарь за каждым непонятным или даже не до конца понятным словом. Да, я хорошо подготовился – и в смысле беглости, и в смысле блеснуть эдаким редким словцом. Мои американские коллеги хвалили меня за богатый словарный запас.
Но вот что интересно: через три месяца я почувствовал, что знаю английский язык гораздо хуже, чем раньше, чем в первую неделю пребывания в Вашингтоне, округ Колумбия. Именно почувствовал – потому что перестал понимать своих коллег. Мне казалось, что они нарочно с каждым днем говорят всё непонятнее, всё жаргоннее, повторяют нелепые фразы, которые их почему-то смешат.
Как это могло получиться? Да очень просто. Первые недели и даже месяцы они говорили со мной как с иностранцем. Чуть помедленнее, чуть отчетливее, без поговорок и цитат из любимых фильмов. А потом они привыкли (вернее, им показалось), что я владею английским так же, как они. Вот они и раскрепостились, а я снова ощутил полнейшую языковую беспомощность.
Оля-то Трифонова была права! Учишь-учишь, и всё никак не выучишь.
Хотя это касается не только английского, но и русского. Любого иностранца, слависта-переслависта, можно порубать в капусту фразами про Василия Иваныча, Штирлица и суслика, которого мы не видим, а он есть. Не говоря уже о более утонченных знаках культурного контекста. От «в Москву, в Москву!» до «Доедай свою норму».
Да, но о чем я, собственно?
А я, собственно, вот о чем. Смогу ли я убедительно рассказать о том, почему я живу в России и не собираюсь уезжать. Хотя советуют, убеждают, аргументируют.
Тут надо сделать два уточнения.
Первое. Разумеется, жизнь поворачивается по-всякому, и никто не может заречься, что никогда не вольется в тоскливую вереницу беженцев. Если в мой дом попадет бомба, если над городом будет висеть дым пожарищ, или если мне будет грозить смерть, или… – ну, дальше уж выдумывайте сами, – то, естественно, мое желание жить на родине отступит на задний план и подчинится стремлению выжить. Просто жить, имея кусок хлеба и крышу над головой.
Второе уточнение. Все, что будет сказано далее, относится ко мне лично. Я бы сказал – «относится к моей профессии», – но я вижу немало достойных собратьев по цеху, которые приняли другое решение. Итак, все это – только обо мне, о литераторе, авторе нескольких сборников рассказов и повестей.
Для меня моя страна – это не история, не держава и даже не культура. Когда-то давно я написал: «Хочешь сохранять русскую культуру? Нет ничего проще: заберись на диван и читай русские книги. Сам читай и детям рассказывай, и не важно, где это будет, в Новочеркасске или в Нью-Йорке». Я и сейчас так считаю.
Но для меня важнее всего не книжки, а живая ткань русского языка и русской истории, которая разлита повсюду в России – и истончается и рвется за ее пределами. Вот почему я никуда отсюда не хочу.
Все просто, проще некуда, на пальцах объяснимо: любые сто шагов по Москве (где я живу; но, конечно, и по любому другому русскому городу тоже) – это погружение в бездонные водовороты значений и смыслов.
Я иду по Москве. Я различаю архитектуру, знаю, как стили цепляются к эпохам, – не вообще, а вот здесь, в моем городе. Я знаю названия улиц, и я знаю, что они означают. До десяти лет я жил в Романовом переулке, который тогда был улицей Грановского, а до того – Шереметевским. Я знаю, кто такой был Никита Романов, дядя первого царя из одноименной династии, фрондер и западник; знаю, кто такие были Шереметевы, помню летописный анекдот, как возмутился один князь, когда его поставили под начало Шереметева: «Я – Барятинский. А выдь на улицу и крикни: эй, Шереметев! Пол-Москвы сбежится». Помню я и кто такой был Тимофей Николаевич Грановский, и что он сделал для русской мысли, и что он был прототипом трагикомического Степана Трофимовича Верховенского из «Бесов»; и новый (хотя довольно смешной) памятник Достоевскому тут же, рядом – на углу Воздвиженки, которая при Советах была проспектом Калинина, а еще раньше – улицей Коминтерна (вы знаете, что такое Коминтерн?). Вереницы, карусели ассоциаций. С другой стороны моего бывшего родного переулка – Большая Никитская, она была улицей Герцена, а Герцен – это «Колокол», «Голоса из России», где тайком печатался молодой Победоносцев; это задолбленное в школе «декабристы разбудили Герцена», это поразительная книга «Былое и Думы», одна из самых страшных историй жизни и любви; и это детская книжка о Герцене, которую написала Лидия Либединская, ее дом, в котором я бывал, ее (давно умерший) муж, РАППовский писатель (вы знаете, что такое РАПП?), прототип писателя Оловянского из фельетона Ильфа и Петрова «Головой упираясь в солнце» – советского писателя, поспешно объявленного классиком, включенного в школьную программу и так же торопливо отовсюду изгнанного…
Никаких хоть отдаленно похожих вихрей смыслов и значений я не могу ощутить ни в Америке, ни в Европе – даже в обожаемом Риме, хоть я по образованию филолог-классик и книгу Стендаля «Прогулки по Риму» читал и перечитывал много раз.
А на эти бесконечные слоистые круговороты исторических, литературных, культурных, политических ассоциаций накладываются карусели моей собственной, ничем не замечательной, но очень дорогой для меня жизненной истории. Вот здесь я жил, ходил в школу, в этой подворотне курил, в эти дома заходил в гости к друзьям и подругам. Целовался, ждал, был счастлив и обласкан, был покинут и тосковал, и утешался, и страдал снова, и нет этому конца…
И вот это – та самая почва родины, без которой никуда и никак. Лично мне, я имею в виду. Без этого я ничего не смогу написать. Наверное, не смогу. Я, правда, не пробовал, но, честно говоря, пробовать не хочу – опасно.
О да, конечно, были писатели, жившие вдали от родных краев, – подолгу, с возвратом, а то и покинув родину навсегда. Тот же Герцен. Гоголь, смотревший на Русь «из своего прекрасного далека». Бунин, Набоков и другие русские эмигранты: Иванов (целых два, Вячеслав и Георгий), Алданов, Берберова, Осоргин, Шмелев, Газданов… А также Генри Миллер, Джемс Джойс, Сэмюэл Беккет, Милан Кундера и, наверное, многие другие. Великие, просто хорошие, и обыкновенные тоже.
Ничего не могу сказать о писателях Европы. Возможно, дело в том, что Европа была – несмотря на все войны и религиозные дрязги, – в общем-то, единой задолго до всякого Евросоюза. Карл Великий, Священная Римская империя, Австрийская империя, бесконечная династическая перекройка границ. Ганзейский союз, крохотные княжества, университеты, где учились странствующие школяры, переезжающие из города в город. Ничего похожего на русско-советскую смысловую и знаковую отъединенность.
Отъединенность – это, наверное, плохо. Да, конечно, это просто ужасно. Но я чувствую, что не смогу ее преодолеть. Кто сумел – честь ему и хвала.
Однако она, эта отъединенность и особость русской семантики, просвечивает в филигранной музейности, антикварности, отстраненности, какой-то мемуарности наших писателей-эмигрантов. Значения и смыслы можно унести в своей памяти. В кипе тетрадок с записями. Поселиться на уединенной вилле. Общаться с такими же, как ты. Писать о том, что минуло. «Чистый понедельник» Бунина написан в 1944 году – но как будто тридцать пять лет назад тому назад. Как будто в 1910 году, когда первая русская революция уже отгремела, а первой мировой войной еще не пахло. Великолепно – и странно донельзя. Тот случай, когда текст остается текстом – не выламывается из страницы в жизнь. Так, как выламывается бунинская «Деревня» (1909). В «Жизни Арсеньева» (1929) – при всей ее несколько настырной мемуарности – дышит надежда, что всё еще вернется, возродится, переменится. Но «Чистый понедельник» – это уже чистый антиквариат. Не новодел, упаси господь! Драгоценная антикварная вещица, чудом уцелевшая в переездах и передрягах, – и вот ее поставили на стол и любуются. А теперь снова спрячьте ее – не поцарапать бы…
– Ах! – скажут мне. – При чем тут Бунин? Его хоть на остров Бали пересели, он все равно останется великим русским писателем и будет описывать Орел и Пензу так, как никому и не снилось.
Да ни при чем тут великий Бунин, и великий Набоков тоже! Не говоря уже о великом Джойсе. Я только о себе. Мне каждый день, каждый час нужны водовороты значений и смыслов, которые утягивают меня в бесконечную семантическую глубину России – на каждом перекрестке, в каждом вагоне метро, при взгляде на каждую вывеску, на каждый дурацкий рекламный листок, который сует тебе в руки грустный африканец в ушанке и синем пуховике.
Каждый не только делает свой выбор, но и знает его причину. Моя – вот такая.
* * *
Но вдобавок – о «рябиновом кусте».
Еще раз перечитал – вернее, перевспомнил – знаменитые стихи Марины Цветаевой «Тоска по родине! Давно разоблаченная морока» (о том, что тоска по родине сильнее всех доводов разума) – и вдруг мне показалось вот что.
Ностальгия – это не тоска по родине как таковой, и уж конечно, не тоска по прежней жизни во всей полноте ее реальных проявлений (типа «а вот в Российской империи / в СССР было лучше!»), а тоска по себе тогдашнему и тамошнему. По своей молодости, по своей прошедшей любви, по своему улетевшему счастью.
Цветаевская приписка к «Лебединому стану»: «Если когда-нибудь – хоть черезъ сто лѣтъ – будетъ печататься, прошу печатать по старой орѳографiи».
То есть: хочу снова быть гимназисткой, пансионеркой, папиной дочкой, юным дарованием, невестой, молодой женой.
Ах… Вывод: не надо путать патриотизм с желанием «чтоб всё было, как было». Ностальгия (особенно по прошлому) – это не про политику.
Ностальгия – это к психоаналитику.
праздник, который всегда не такой
КЛАССОВОЕ САМОСОЗНАНИЕ
Хочется изжить пошлый псевдоинтеллигентский стыд за свою профессию и социальное происхождение. Да, я писатель и сын писателя и никому ничего не задолжал.
Ни «государству», ни, страшно сказать, «народу».
Мне часто приходится читать в социальных сетях вот такие слова: «При Советах книжку с хрен его знает какими стихами или дурацкой прозой выпустил, стал членом Союза писателей, и можешь больше не беспокоиться!»
Это, мягко говоря, плод незрелых размышлений плохо информированного человека. Давайте по порядку. Желающих стать писателями в СССР было не меньше, чем сейчас. Сотни тысяч самодеятельных авторов посылали стихи и прозу в журналы, в литературные консультации, ходили в литкружки и т. п. В Союзе писателей в расцвет застоя числилось: в 1976 г. – 7942 чел.; в 1981 г. – 8773 чел. Ясно, что отбор был весьма и весьма строгий, хотя сильно осложненный идеологически и, как и везде и всюду, соображениями кумовства, что ровно так же бывает и на заводе, и в колхозе. Поэтому о «хрен знает каких стихах и дурацкой прозе» можно говорить ровно с тем же основанием, как о «хрен знает каких диссертациях» или «дурацких автомобилях». Конечно, можно сказать, что в СССР вообще всё было дурацкое или хрен знает какое, но тогда незачем выделять писателей и вообще интеллигентов отдельной строкой.
Далее. Среди членов Союза писателей примерно около половины (но не более двух третей) занимались писательством и более ничем, жили на гонорары. Другая часть – это были люди, имевшие постоянную зарплату чаще всего как журналисты или редакторы; были также врачи, военные, ученые и т. д.
Самое главное: писатели зарабатывали себе деньги сами. Никогда никакому писателю не платили «просто так», за то, что он – член Союза писателей и написал «какую-то хрень». Книга, пьеса, сценарий, текст песен – это создавало высокую стоимость, из которой на гонорар автору шло совсем немного. Такие вещи, как оплата больничных, пансионаты (т. н. дома творчества) и всё прочее, – это было не из госбюджета, а из средств Литературного фонда, которые составлялись из отчислений из писательских гонораров. И если неимущему писателю давали бесплатную путевку или денежную ссуду – это была, так сказать, внутрикорпоративная солидарность (проще говоря, популярный писатель поддерживал неудачливого собрата).
Немаловажно, что средний доход писателя (члена Союза писателей) был никак не выше средней зарплаты по стране. Была сотня-другая богатых писателей, было около тысячи хорошо обеспеченных авторов – но были и тысячи писателей, живших бедно. А были и жившие просто голодно, для которых радостью была болезнь и возможность получить в Литфонде по больничному; я знавал таких. Была поговорка: «Если бы писатель не болел – он бы умер».
И самое главное. Вернемся к цифрам. Члены Союза писателей – это 8773 человека, которые зарабатывают себе на жизнь продажей своих текстов. Если и были нераспроданные «идейно нужные» книги, то их было не так уж много. В любом случае писатели – это крошечная доля от общего количества занятых. Меж тем значительное количество промышленных рабочих (именно их, а не врачей, учителей или крестьян) – сотни тысяч! – получали чистое бюджетное финансирование в виде компенсации за бессмысленную перегонку металла в стружку, о чем с возмущением писала советская же пресса.
Советские рабочие не виноваты в ужасающей неэффективности советской индустрии. Но пора расстаться с советским мифом о том, что «народ кормит (или кормил) писателей».
* * *
В 1976 году я первый раз в жизни поехал на съемки фильма по своему сценарию в другой город. Мне было 25 лет. Было лето. На сердце у меня был праздник. Судите сами: я, автор сценария, еду на съемки! Меня ждет номер в гостинице, меня ждут режиссер, оператор, директор картины, актеры и актрисы! Мне будут показывать отснятый материал! Потом мы поедем на натурные съемки! Потом непременно выпивка в тесном кругу киношников! В общем, сами понимаете.
Однако реальность оказалась проще, прозаичней, будничней. Жаркий город, утлый гостиничный номер, буфет с черствыми бутербродами. Старенький трясучий «газик», на котором ехали за город на съемки. Пустырь около старой железнодорожной ветки. Несколько дублей, потом солнце ушло, и стали сворачиваться. На следующий день – угрюмые коридоры киностудии, а отснятые материалы – какие-то клочки и куски; мне не очень понравилось, но я не мог точно сформулировать свои претензии. Насчет выпивки в тесном кругу с разговорами о судьбах искусства – ни у кого не было времени на богемную жизнь. У кого-то ночной монтаж, у кого-то переозвучка, у кого-то ребенок только что родился. Да и где посидеть? В ресторане дорого и «мест нет», в гостинице «нахождение в номере посторонних лиц после 23 часов запрещено», а живут актеры и режиссеры скромно, в небольших квартирах с семьями, – у кого есть комната, чтоб усадить 10 человек, и выпивать, и курить, и трепаться до утра? Ни у кого.
Так что этот самый «приезд автора на съемки фильма» оказался просто рабочим эпизодом, не более того.
* * *
Это я вот к чему.
Я уже не один раз писал, что подавляющее большинство членов Союза писателей жило весьма скромно, что льгот и привилегий не было. Но это почему-то людям не нравится. Почему?
Наверное, для некоторых людей жизнь «настоящего писателя» – это праздник. Большая квартира, комфортабельная дача, новая машина, клуб литераторов с рестораном, дом творчества, элитарное общение и, главное, много-много денег и славы. Чтоб щедро давать чаевые, и девушки чтоб узнавали на улице. Поскольку в наши времена такого не бывает, эта фантазия окрасилась в ностальгические тона, перенеслась в давние советские времена. «Вот совписы жили, вот это да!»
Поэтому мои уговоры, что 80 % советских писателей жили как обыкновенные советские служащие, да еще без регулярной зарплаты, – вот эти мои уговоры некоторые люди воспринимают как оскорбление мечты. Своей мечты о веселой, богатой, легкой, изящной, элитарной «писательской жизни».
мужчина в самом расцвете всего
МУЖЧИНЫ-1976
В 1976 году главный мужчина Советского Союза перенес тяжелый инсульт с эпизодом клинической смерти. Из бодрого, веселого и сильного мужика, выпивохи, охотника и донжуана (в его аппарате у девушек была униформа: белая блузка с просвечивающим сквозь нее черным бюстгальтером), из хозяина страны, которой он довольно лихо управлял, перейдя от сталинских безумств и хрущевских фантазий ко всеобщему омещаниванию, от культа вождя к культу садового участка, квартирки и малолитражки, – итак, из мощного лидера он превратился в шамкающего, туго соображающего старика, в котором вдруг проснулась детская страсть к висюлькам и погремушкам. По количеству орденов и медалей он вышел на первое место в мировой истории, обойдя Геринга. Пошли анекдоты – беззлобные и оттого особенно грустные. «Это что за картина? – Это Врубель, дорогой Леонид Ильич! – Понятно. Хорошая картина, и недорогая! А это что за бревно с бровями? – Леонид Ильич, это зеркало! – Да, да. “Зеркало”. Тарковский…» К сожалению, эти анекдоты были правдивы: в посмертно обнаруженных заметках Брежнев честно писал: «Приходил Громыко. Что-то ему надо. Долго объяснял. Я ничего не понял».
В Дипломатической академии МИД СССР, где я тогда преподавал, в 1976-м вдруг разрешили носить водолазки. До этого – только белая (ну, в крайнем случае кремовая или светло-голубая) сорочка и галстук. Мы были счастливы – спасение от галстука и от ежедневного надевания «свежевымытой сорочки». Водолазку, особенно серую или бежевую, особенно зимой, поверх тонкой нижней фуфайки – то есть, по существу, не водолазку, а легкий свитер – можно носить два, а то и три дня. Если, конечно, ежедневно принимаешь душ, трёшь подмышки «шариком» и прыскаешься «Рижанином» – кстати, любимый одеколон главного советского мужчины.
Ну вот, любезный читатель, сейчас ты начнешь хмыкать и хихикать. Конечно, ты прав. До смешного узкий круг преподавателей Дипломатической академии, а также выпускников филфака МГУ, да еще жителей Москвы, – неужели это и есть советский мужчина? Конечно, нет. Советский мужчина-1976 – это еще и житель села, аула, кишлака и даже стойбища. Это колхозник, рабочий, офицер, заключенный, академик, артист цирка. Сравнительно молодой человек, ветеран войны или вообще старик, который отчетливо помнит, как при царе было. Поэтому, любезный читатель, ты не прав. Усреднять, выводить какого-то обобщенного «мужчину-1976» – гиблое дело.
Так что я вспоминаю мужчин своего возраста. Послевоенных бэби-бумеров, то есть родившихся в конце 1940-х – начале 1950-х. К тому же городских. К тому же с высшим образованием. Служащих, врачей, инженерно-технических работников. Я родился ровнехонько посередине, в декабре 1950-го, так что в 1976 году мне было двадцать пять. Мужчина в самом расцвете всего. Окончил вуз. Устроился на работу. Женился (уже не в первый раз, кстати). И даже дочь у меня успела родиться, причем от текущего брака! Поэтому, кстати, мужчины моего возраста с жалостливым удивлением глядят на нынешних брачных переростков, именующих себя бойфрендами. Очевидно, у них не хватает решимости оказаться за закрытыми дверями наедине с женщиной, холодильником и зарплатой.
Мужчина-1976 женился легко и отважно. Разводился тоже без ужаса и страданий. Среди моих друзей были чемпионы этого дела – пять, шесть и даже семь браков за десять-пятнадцать лет. Они не были ни донжуанами, ни аферистами. Чистые любящие души. Влюбился – женился. Влюбился, изменил жене с новой любовью – и вот пожалуйста, развод и новый брак. Через пару лет мы случайно узнали, что в СССР чудовищно много разводов. Случайно – вот как. Вышел на экраны фильм «Странная женщина», а в «Комсомолке» вышла на него рецензия, где мимоходом было сказано, что у нас в стране каждый третий брак распадается. Наутро это сенсационное сообщение, прямой наводкой бьющее по мифу о моральном облике советского человека, растиражировала зарубежная пресса – а уж из зарубежной прессы об этом узнали мы, преподаватели и слушатели Дипломатической академии. Нельзя сказать, что мы удивились (я, например, к тому времени пребывал уже в третьем браке), но цифра все равно произвела впечатление.
Потому что мужчина-1976 (наверное, как и все остальные советские люди) склонен был считать себя лично исключением из всех правил. И в радости, и в горести он знал, что «народ живет совсем иначе». Намазывая на хлеб масло и кладя сверху кусок дефицитной буженины, опрокидывая стопку коньяку и набивая рот вышеозначенной закуской, мужчина-1976 жалостно вскряхтывал, вспоминая о большинстве. О тех, кто вынужден глотать дешевую сивуху и заедать бычками в томатном соусе. А разводясь с женой, переселяясь из блочной двушки обратно к маме или в комнату в коммуналке, он был уверен, что большинство живет нормальной уютной семейной жизнью. Тут не было ни жалости к несчастным, ни зависти к счастливым – было чисто советское воззрение на самого себя как на случайную единичку, на время выпавшую из строя позитивной закономерности.
Цифра разводов впечатлила – но никто не побежал укреплять семью. Мужчина-1976 был весьма свободен в смысле нравов (женщина-1976, разумеется, тоже – потому что на каждого гуляку приходится своя гулёна). Секс был доступен и дешев – по причине слабой монетизированности советской экономики, а главное – по причине товарного дефицита. Подготовка к свиданию не стоила женщине буквально ничего или почти ничего, поэтому в общественном сознании не было ничего похожего на баланс расходов, появившийся в первые годы экономической реформы (я ради тебя ходила в салон красоты и купила новое белье, а ты уж, будь любезен, отвези меня в ресторан на машине). Конечно, отдельные мужчины-1976 не скупились на кафе-мороженое, букетики, шоколадки и даже вино «Мукузани». Честь им и хвала! Но это им не помогало. Среди женщин считалось особой лихостью не поддаться на материальный шантаж. «Чем мотивировала?» – был такой знаменитый анекдот тех лет: богатый молодой человек с Юга рассказывает своему отцу, как он познакомился с девушкой-москвичкой, дарил букеты, угощал ужином в ресторане и, наконец, взяв бутылку шампанского и плитку шоколада, повел ее в номер гостиницы «Москва», смотревший на Манежную площадь, – а она сказала «нет!». «Чем мотивировала?» – спрашивает растерянный старик. Чем? А ничем! А потому что нечего тут вообще!
К сожалению, я не автомобилист, не болельщик, не рыбак и не меломан. Поэтому я не смогу долго и подробно рассказывать об этих важнейших аспектах мужской жизни в указанные годы. Однако отмечу, что мужчина-1976 был помешан на машинах, на автомобилях. Годом раньше появилась вожделенная «шестерочка», ВАЗ-2106, – самый шикарный автомобиль нашего нищего автопрома. Разумеется, не считая «членовозов», то есть лимузинов, которые были предназначены для министров и членов Политбюро. Они были похожи на танки во фраках и совершенно выпадали из круга желаний, поскольку были недоступны по определению. Больше того, если кто-то из мужчин-1976 вдруг пробивался в этот заоблачный круг, то, скорее всего, не считал свой «членовоз» машиной. Это было «специальное транспортное средство» на государственном балансе. Можно было спросить министра: «У вас машина есть?» – и получить честный ответ: «У зятя “шестерочка”, да. А у меня нет». Под словом «машина» имелся в виду собственный автомобиль.
Машина была очень дорога мужчине. Во-первых, она действительно стоила несусветных денег – несоразмерных зарплате и другим доходам (впрочем, в те годы у 90 % мужчин-горожан не было никакого «другого дохода»). Во-вторых, даже если у мужчины были деньги, машину надо было достать – по блату, по ветеранской очереди престарелой тетки или по разнарядке по месту работы. В-третьих, машина – это был престиж и шик, для неженатого мужчины – универсальный инструмент ухаживания. Сидя за рулем, потянуться вправо, распахнуть перед девушкой дверцу своей вишневой «шестерочки» и ловко перебросить назад лежащий рядом атташе-кейс (еще один символ успешного мужчины-1976). Машина, как говорил мне один мой старший друг и учитель жизни, «чисто по-гегелевски диалектически снимает все остальные попытки и ухищрения, не говоря уж о вине и конфетах». Именно потому, что машина для девушки выше вина и конфет, это не материальный шантаж, а символ жизненного успеха.
Как и дубленка. В раннем детстве мама привезла мне из-за границы детскую дубленочку, и меня во дворе задразнили «колхозником» – ах, как я мечтал о драповом пальто на вате с куцым цигейковым воротником! Но в 1970-е дубленка стала знаком богатства, моды, силы. Одна девушка рассказывала о своей подруге: «Она себе бобра ищет!» Я помнил басню Михалкова «Лисица и Бобер» и примерно понял, о чем речь, но все же спросил свою собеседницу: «А бобер – это кто?» «Ну, такой весь из себя могучий мэн, – сказала она. – На “жигулях”, в дубленке» (уже в 1990-е годы это звучало смешно: мужчина в дубленке и на “жигулях” – безнадежный провинциал).
И еще о машине. В-четвертых, для человека семейного машина – это способ убежать от семьи на все воскресенье. Звоню сослуживцу или приятелю, его жена отвечает: «Он к машине пошел», «он во дворе с машиной занимается», «он в гараж поехал, машину чинить». Машина – желанный остров приватности. Мой крохотный дом, моя жестяная крепость на колесах. Наверное, именно здесь – главное объяснение мужского автомобильного помешательства.
Мужчина упрямо смотрел спорт по телевизору – любой, от футбола и хоккея до фигурного катания и шахмат, ездил на рыбалку и ходил в баню с товарищами – тоже, мне кажется, чтобы на время отвязаться от семьи.
Утром мужчина непременно читал газету. Подписка – это скорее для дедушки, для пенсионера. Пенсионер спускается к почтовому ящику, а взрослый работающий мужчина становится в маленькую быструю очередь к киоску около станции метро. «Правду», «Московскую и Звездочку», «Известия», «Комсомолку», «Советский Спорт». В вагоне метро и в троллейбусе все мужчины читали газеты.
Газеты странным образом соответствовали прическам. «Правду» читали зачесы с залысинами, «Звездочку» – короткие стрижки и проборы, а вот «Известия» и «Комсомолку» – длинные волосы и бакенбарды, что было признаком легкой фронды и жажды перемен. Но вот борода – это был явный сигнал инакомыслия. Чаще всего шла в сочетании с «Литературкой», а то и с журналом «Новый мир».
Мужчина-1976 любил красиво одеться – в приталенный пиджак и чуть коротковатые брюки, которые пришли на смену клешам. Он любил ходить в гости и высиживать многочасовые застолья, с анекдотами и телевизором, в котором был то хоккей, то «Песня-1976». Театр и кино он тоже любил, особенно иностранные фильмы на Московском фестивале, а особо утонченный мужчина ходил в «Иллюзион», где показывали старую киноклассику. Он читал самиздатские книги, просиживал ночи на диссидентских кухнях, спорил о современном искусстве, о Солженицыне и Сахарове, о народе, церкви, социализме с человеческим лицом и без оного. Этот мужчина любил свободу, стремился к ней, но не знал о своей любви, о своем стремлении. Недовольство политическим и экономическим порядком сочеталось в нем с верой – отчаянной, тоскливой верой – в незыблемость этого порядка.
Мой старший брат Леня Корнилов, журналист «Известий», как раз в середине 1970-х был в командировке в Казахстане. Нужно было сделать материал про старого мудрого казаха. Нашли такого: чабан, ударник, орденоносец, аксакал. Он долго рассказывал про овец и ягнят, про летнюю жару и зимние ветры. Однако надо было, чтобы чабан сказал что-то политически зрелое.
Леня решил без экивоков:
– Ну а теперь, под конец, скажите что-нибудь про советскую власть.
– Советский власть? – переспросил чабан.
– Ну да. Что вы – вот лично вы – думаете о советской власти?
Чабан задумался. Он долго думал, глядя в небо, а потом печально сказал:
– Советский власть хороший. Но какой-то очень длинный…
Смешно, собственно, не это. Смешно то, что мы смеялись над аксакалом. Думали, что он под старость рассудок потерял. Что ему снятся какие-то эмиры и басмачи. Нам-то советская власть казалось вечной. Хотя ей оставалось всего пятнадцать лет. Кстати говоря, этот старый казах – тоже мужчина-1976.
16+? 18+? 21+?
СПИЧКИ ЕСТЬ, МАХОРКУ КУПИМ!
«И вот он стоит, запыхавшийся и не очень смелый, с только что зажженной папиросой в зубах, перед знакомой дверью. Он был у Лены однажды по делам стенгазеты».
(Юрий Трифонов, «Студенты»)
Итак.
Молодой человек, еще недавно – демобилизованный фронтовик, а ныне студент-филолог Вадим Белов, пришел в гости к своей однокурснице Леночке Медовской. Она красавица. Кроме того, она дочка какого-то ответственного товарища.
Леночка ему нравится.
Вадим слегка робеет.
Поэтому, перед тем как позвонить в дверь, он закуривает.
И входит в квартиру и разговаривает с миловидной и еще не старой Леночкиной мамой, держа папиросу в руке, – а то и в зубах, как пишет Трифонов.
Очевидно, в 1947 году это было в порядке вещей.
Папироса (сигара, трубка) была, помимо прочего, атрибутом элегантности.
Это нашло отражение в массе фильмов, песен, в прозе и стихах, в живописи и фотографии: курящий человек изображается сочувственно. Курящие писатели и поэты, ученые и политики часто позировали с сигаретой или папиросой. А если человек курил трубку – то обязательно выставлял ее на всеобщее обозрение.
Курение – это отдых, размышление, дружеская беседа.
Да и вообще!
Советский народ построил Днепрогэс и победил фашистов – держа в зубах папиросу, свертывая самокрутку, раскуривая трубку, попыхивая импортной сигареткой.
Русский народ, начиная с Петра Великого, тоже курил в свое удовольствие. И ничего, создал великую державу и великую культуру.
Частью этой культуры, несомненно, является курение. Точно так же, как частью культуры является потребление спиртных напитков, и это приходится признать, при всем нашем неприятии пьянства и алкоголизма.
Я сам не курю. Теперь не курю. Курил с 12 до 52 лет. Мне очень нравилось курить. Бросил, потому что почувствовал – больше не услаждает. Очевидно, я искурил свой воз табака. Но это было мое собственное решение. А вселенская борьба с курением кажется мне бессмысленной. Это мода, поветрие.
Я верю, что курить на самом деле вредно. Хотя в XIX веке считалось, что курение полезно. Это доказывалось научно – с помощью «той», давней науки, разумеется. В конце XX века научно доказали, что оно вредно. С помощью «этой», современной науки. А вдруг в середине XXI века научно докажут что-нибудь еще? С помощью науки, которой пока еще нет. Например, что сигарный дым или беспримесный табак из экологически чистых глиняных трубок на что-то там благотворно влияет, стимулирует и активизирует. Будущее покажет.
детские вопросы
О ЗАПРЕТЕ ПРОПАГАНДЫ САМИ ЗНАЕТЕ ЧЕГО
Некоторые мамы и папы, сторонники запретов, говорят так:
– Если меня мой сын на улице спросит: «Почему эти дяденьки целуются?» – что я ему отвечу? Как объясню?
Вообще-то ответов куча. Например: «Друзья давно не виделись»; «Выпили»; «Да так вот им в голову взбрело»; «Сама не знаю» и т. п.
Тем более что речь идет об уличной сценке. Ребенка можно просто отвлечь.
А вот русская литература в школе – это значительно сложнее.
Повесть Льва Толстого «Детство» проходят в четвертом классе.
И вот, представьте себе, десятилетний сын говорит маме:
– А оказывается, мальчики влюбляются в мальчиков!
– Ты что-то путаешь, – отвечает мама. – Мальчики влюбляются только в девочек! И то не раньше седьмого класса!
– Что ты, мама! – говорит сын, раскрывая книгу. – Это ты все путаешь! Вот, послушай, что написал великий русский писатель Лев Толстой в повести «Детство». Мы ее сейчас проходим. Вот, смотри!
И начинает читать:
«Второй Ивин – Сережа – был смуглый, курчавый мальчик, со вздернутым твердым носиком, очень свежими красными губами, которые редко совершенно закрывали немного выдавшийся верхний ряд белых зубов, темно-голубыми прекрасными глазами и необыкновенно бойким выражением лица. Его оригинальная красота поразила меня с первого взгляда. Я почувствовал к нему непреодолимое влечение. Видеть его было достаточно для моего счастия; и одно время все силы души моей были сосредоточены в этом желании: когда мне случалось провести дня три или четыре, не видав его, я начинал скучать, и мне становилось грустно до слез. Все мечты мои, во сне и наяву, были о нем: ложась спать, я желал, чтобы он мне приснился; закрывая глаза, я видел его перед собою и лелеял этот призрак, как лучшее наслаждение».
– Ну… – говорит мама. – Это просто детская дружба.
– Нет, мама! – смеется сын. – Там написано, что это именно любовь. Смотри: «потому, что это есть непременный признак любви, я чувствовал к нему столько же страху, сколько и любви». И еще, мама: «Между нами никогда не было сказано ни слова о любви; но он чувствовал свою власть надо мною… Я не только не смел поцеловать его, чего мне иногда очень хотелось, взять его за руку, сказать, как я рад его видеть». То есть он хотел с ним целоваться и держать его за руку!
– Ну и очень плохо! – сказала мама.
– Почему же? – удивился сын. – Ведь это Лев Толстой о себе пишет. Николенька Иртеньев – это маленький Лёва Толстой, так в учебнике написано. А потом он вырос и стал великим писателем!
Что тут должна сказать мама?
Не знаю. Честно – не знаю. Понятия не имею. Ума не приложу.
Но запрещать «Детство» Льва Толстого или ставить на нем «18+» – тоже не надо, наверное.
еще раз к вопросу о сексе в СССР
ТРАНССЕКСУАЛЫ И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ
В СССР были транссексуалы. А вот проблемы транссексуалов – не было. Она, эта проблема, решалась быстро и споро, по мере возникновения, в каждом конкретном случае.
Вот таким примерно манером (я говорю о 1970-х годах).
Когда человек (мужчина или женщина) чувствовал неодолимое желание сменить пол, он, некоторое время помыкавшись, – поскольку вывесок «здесь меняют пол» в СССР не было, – этот человек так или иначе попадал к специалисту-сексопатологу.
Сексопатолог давал заключение: «Данный гражданин (гражданка) действительно, по объективным медицинским показаниям, нуждается в смене пола».
Довольно часто дело ограничивалось сменой паспортного пола. Тоня Сергеева становилась, как правило, Антоном Сергеевым, а Яша Задунайский – Яной, тоже Задунайской (хотя иногда они брали себе совсем новые имена и другие фамилии). То есть им выдавали новый паспорт.
Довольно часто транссексуалы – бывшие женщины, ставшие «паспортными мужчинами», то есть Сони, ставшие Сережами, – находили свое семейное счастье с женщинами (скорее всего, у жён этих «паспортных мужчин» были лесбийские склонности). Я слышал от врачей о таких случаях. Что характерно, жёны не всегда так уж строго хранили тайну, что их Миша – на самом деле Маша. В этих семьях иногда были дети – от прежнего брака жены. И общество – даже в маленьких городках – относилось к этому с похвальным безразличием.
Но бывало, что речь шла о хирургическом вмешательстве. В обоих случаях – когда из Яши делали Яну, а из Тони – Антона – протезирование осуществлялось с помощью кусочка сигмовидной кишки. Новоиспеченного мужчину снабжали такой легендой: «В армии служил, был взрыв, все в клочья, едва не умер от потери крови, спасибо врачам, из кусочков кое-как сшили…»
По просьбе обратившегося и по заключению эксперта-сексолога (подписи профессоров, круглая печать) человека направляли на операцию.
Бесплатную, кстати говоря!
Заключение эксперта почти всегда было положительным. Исходя из некоей, что ли, презумпции разумности: ведь отрезать или пришить пипиську, да еще сменить паспорт, – это не делается назло соседке! Значит, человеку на самом деле нужно. Одну из первых в мире операций по перемене пола сделал советский хирург Виктор Константинович Калнберзс в 1970 году.
Почему так было в кошмарном коммунистическом СССР?
Потому что в коммунистическом СССР, при всей его кошмарности, была одна недурная черта: высокая ценность науки, разумности, рациональности.
Люди понимали, что неодолимое стремление индивида сменить пол – это некая объективная психобиологическая реальность. А не «разврат» и не «влияние растленного Запада». И уж конечно, не «козни сатаны».
этнография и антропология
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БОГАТЫХ
Мой старинный друг Гасан Гусейнов рассказал очень поучительную историю.
Не могу удержаться, пересказываю.
Ранним темным утром он бежит к электричке.
По шоссе – такая, что ли, дорога очень местного значения – едут редкие машины в направлении магистрали, ведущей в Москву. Вот показывается какой-то автомобиль.
Он голосует. Ну, чем черт не шутит – вдруг подвезут.
Автомобиль приближается, очень черный и шикарный.
Он думает: «Ну, такой, конечно, не остановится».
И вдруг – какое чудо! – автомобиль тормозит. Останавливается очень аккуратно прямо передней дверцей рядом с ним. Опускается окно. Перегнувшись, к окну тянется молодая красивая женщина.
Ого! Как это приятно и неожиданно…
Молодая и красивая говорит буквально следующее:
– Мужик, ты совсем охренел? Перед такой машиной руку поднимать?
Закрывает окно и дает газу.
Вот и всё.
Но какая приятная, вежливая женщина!
Другая могла бы нарочно в лужу заехать и окатить с ног до головы. Или слегка пугнуть, вильнув рулем. Или просто – надменно промчаться мимо, не удостоив взглядом.
А она не пожалела времени, остановилась и объяснила человеку, что к чему, кто он и кто она.
Поступок социально ответственный и даже гуманный.
Потому что, если не объяснить человеку, на каком он свете, то он по неведению может попасть в ужасный переплет. Не все же такие добрые, как эта дама!
Вот, рассказывают, один человек таким же манером поднял руку перед каким-то шикарным авто, а хозяин остановился, не поленился выйти, взял того человека за шиворот и стал тыкать носом в бока своего автомобиля. Не сильно, не до крови (чтоб не запачкать и не помять), но чувствительно. Тычет и повторяет:
– Ты где здесь шашечки увидел? Где тут шашечки, я тебя спрашиваю?
Так что, повторяю, эта дама в шикарном черном автомобиле поступила очень правильно. Социально ответственно.
как жили люди в старину
НОВОЕ (ТО ЕСТЬ СТАРОЕ) О ПОДЛОСТИ
«Однажды Адамович написал хвалебный очерк о каком-то довольно бездарном поэте. Мережковского это поразило, и он стал допытываться, почему Адамович это сделал. Тот долго отговаривался, мол, не так уж плох этот поэт, мол, что-то в нем есть и т. д.
Но Мережковский не отставал, и тогда Адамович, вздохнув, признался:
– Ну, из подлости, Дмитрий Сергеевич. Этот человек мне как-то очень помог, вот я и написал…
– Ах, из подлости, – обрадовался Мережковский, – ну, тогда всё понятно. Так бы и сказали. Из подлости-то чего только не сделаешь! А я-то уж думал, что вы и вправду так считаете».[1]
И вправду забавно. Выходит, извинительнее лицемерить, чем всерьез считать бездарного поэта хорошим.
Но всего интереснее другое.
В те баснословные года подлостью считалось нарушение профессиональной этики, которая должна быть выше личных обязательств.
Подлость – написать хвалебную рецензию на бездарную книгу человека, который спас тебя от голода в тяжелые годы эмиграции или оккупации.
Значит, по тогдашним меркам подлость – натянуть оценку студенту, потому что его отец лечит твоего ребенка.
Подлость – устроить парня на престижную работу не потому, что у него такая высокая квалификация, а потому что его мама, твоя школьная подруга, в одиночку из последних сил сына тянула, ну, пусть она вздохнет наконец…
И так далее.
Но позвольте! Человек ведь меня от голодной смерти спас в оккупацию! А я не могу пустячным делом отплатить за спасение жизни – положительную рецензию написать! Бред какой. Что же мне делать-то?
А вот что. Сказать: «Если тебе негде жить – живи у меня. Если тебе нужны деньги – пожалуйста. Если тебя преследуют истцы – я найду и оплачу тебе адвоката. Если за тобой гонится охранка – мы с друзьями спрячем тебя и переправим за границу. Но называть твою неудачную книгу шедевром я не буду…»
Как странно, правда?
И вообще: легко давать советы с колокольни столетней давности.
перспектива
ФЕЙСБУЧНЫЙ РОМАН
Жила-была одна девушка, и у нее в профиле было написано: «Без пары».
Поэтому один молодой человек предложил ей пойти в кафе.
Они долго сидели и разговаривали, а потом он заглянул в свой айфон, залез в ее профиль и увидел: «Встречается». То есть она ему подала знак! Он обрадовался и напросился к ней в гости, вот прямо сейчас.
А потом, уже у нее, он вышел покурить на балкон с айфоном, снова поглядел ее профиль и увидел: «В свободных отношениях».
Ему не понравилась такая лихость и бравада. Поэтому он выбросил сигарету, оделся и ушел. А на остановке снова залез в ее профиль. Там было сказано: «Всё сложно».
Слова, конечно, горькие. Но не убивающие надежду.
ревность
БОСС, КУКОЛКА И PERSONAL ASSISTANT
У одного богатого бизнесмена была капризная и жадная жена. Жадная до престижа, удовольствий, дорогих штучек, ездившая на модных спортивных машинах, любившая путешествовать по экзотическим курортам и одеваться у лучших кутюрье. Красавица, разумеется. И моложе его на шестнадцать лет. Выпускница Род-Айлендской школы дизайна, ни дня не работавшая по специальности.
А еще у него была помощница, personal assistant. Скромная, тихая, тоже вполне себе ничего в смысле лица и фигуры и ровесница его жены. Знала экономику, право, иностранные языки. Она приходила в офис за полчаса до начала работы и уходила самой последней. Иногда он ночью подвозил ее на своей машине – она жила недалеко.
Она была влюблена в своего босса, но мысли ее были злыми. Она мечтала, что он тяжело заболеет и вдобавок разорится. Ну, не дотла, конечно, а так, потеряет примерно три четверти своего капитала. Или даже четыре пятых. Тогда жена-красавица-бездельница его бросит, а она станет его верной подругой.
Однажды, в тяжелый жаркий июль, к ним пришли аудиторы, а потом был назначен конкурсный управляющий, который и продал остатки какому-то индийскому банку. После завершения сделки у хозяина случился инсульт, прямо в кабинете. Прямо в ее присутствии. Прямо у нее на руках, да! Он сполз с кресла на пол, склонил голову ей на руки, обнял ее колени и что-то забормотал. Что-то вроде «Спаси меня, любимая». Она крикнула в ответ: «Любимый, только не умирай! Мы будем вместе!»
Но вдруг подумала: «Какая страшная несправедливость! Значит, эта куколка получала все радости жизни, когда он был здоров и богат, а когда он стал беден и болен – это все свалится на меня? Каков сукин сын! Нет уж!»
Поэтому она вызвала скорую помощь и охрану и ушла домой, вся кипя от гнева и злорадства, сладостно представляя себе, как эта куколка, то есть жена, возьмет его в опеку, перепишет на себя остатки его имущества, а потом сдаст его в интернат и тем самым, сама того не ведая, отомстит ему за нее, за годы ее верной, безответной и робкой любви.
Однако эта куколка оказалась прекрасной, самоотверженной женой. Сумела вытащить его буквально с того света. Продала свои бриллианты, свои «Феррари» и «Бугатти», и даже наследственный домик в Кларансе. Врачи, массажисты, тибетские лекари, логопеды – в общем, года через три он был уже вполне себе ничего. Правда, о бизнесе речи не было, ну да в том ли дело.
– Главное, живой, может общаться и даже читать потихоньку, – радостно говорила она той самой помощнице.
Она, конечно, не знала, что помощница когда-то была в него влюблена. А помощница со временем простила и босса, и куколку за свои злые мечты и иногда заходила к ним с коробочкой конфет. Она работала на новом месте и очень хорошо зарабатывала, и босс у нее теперь была женщина моложе нее, и она уже ни о чем таком не фантазировала.
Ну, или ей так казалось.
сценарий художественного фильма
ЛЮБОВЬ
Мужчина и женщина жили в квартире на пятом этаже. Они оба работали, каждый в своей конторе, и у них, конечно, были имена. Но друг для друга они были просто Мужчина и Женщина. На службе он, если приходилось упоминать ее в разговоре, называл ее «моя женщина». Ну, вроде того, что «вчера мы с моей женщиной ходили в кино» или «моя женщина отлично готовит». Она на своей работе говорила точно так же: «мы с моим мужчиной в воскресенье затеяли уборку» или «мой мужчина много читает, в основном, правда, переводные детективы».
У них была двухкомнатная квартира с просторной кухней. В спальне стояли две кровати, и спали они поврозь. Редко-редко, когда случалась быстрая холодная осень, а отопление еще не включали, он забирался к ней в постель и клал сверху еще одно – свое то есть – одеяло, и они засыпали в обнимку, согрев друг друга.
Но и всё. Между ними ничего не было. С самого начала их совместной жизни.
Но в остальном они жили совершенно как муж и жена. Во всем друг другу помогали и, главное, ни капельки друг друга не стыдились. Например, у мужчины побаливала поясница, и поэтому женщина стригла ему ногти на ногах. А он помогал ей сводить прыщи на попе, мазал их йодом и приклеивал лечебные пластыри. Не говоря уже о том, что они мыли друг друга в ванной, терли спины. А когда надо – бывало, и клизмы друг дружке ставили. Ромашковые, профилактические.
Сначала, когда они были еще совсем молодые, у них по краям души шевелилось какое-то мутное и тяжелое чувство, похожее на смесь усталости от взбегания на лестницу, когда сердце колотится, и желания съесть что-то сладкое после безвкусной овсянки с некрепким чаем, когда под ложечкой сосет. У него это чувство возникало по вечерам, когда он, лежа в постели, видел, как она снимает халат и надевает ночную рубашку. А у нее – по утрам, когда она просыпалась от яркого солнца и видела, как бугрится и топырится его тонкое шерстяное одеяло. Но она говорила сама себе: «Это ведь и не нужно». «Ведь и не нужно всего этого», – говорил он сам себе.
Не нужно – значит, не нужно.
Прошло довольно много лет – то ли десять, то ли пятнадцать, и мужчина время от времени стал опаздывать домой, а на все вопросы женщины отвечал очень гладко и убедительно, как будто заранее подготовился. «Вот ведь странное дело, просто даже парадокс, – думала женщина. – Если бы он стал запинаться и мекать, говорить что-то несуразное, вроде “сначала задержал начальник, а потом встретил старого приятеля, да ты его не знаешь, зашли выпить кружку пива”, – я бы поверила, а тут всё как-то слишком подробно, с названием ресторана и указанием фамилий сослуживцев-собутыльников, плюс номера отделов, в которых они работают, а я ему не верю ни капельки».
Однажды он совсем сильно опоздал. Она вышла на балкон развесить белье. Поставила тазик на табуретку, поглядела вниз и увидела его. Он шел вдвоем с какой-то девушкой. Они остановились у подъезда и стали целоваться. Она шагнула в сторону, чтоб лучше видеть, – там росли клены и застилали эту чудную сцену, – шагнула и толкнула табурет; тазик с бельем громко упал с табурета на бетонный балконный пол, и эти двое подняли головы. Они увидели ее, засмеялись и снова стали целоваться. Пятый этаж, всё прекрасно видно, никакой путаницы. Ей показалось, что она видит, как в бинокль, все подробности страстного и искусного поцелуя.