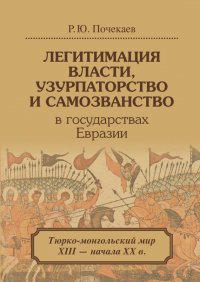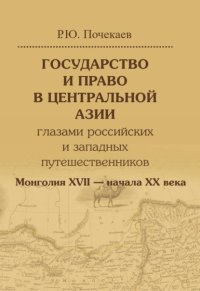Читать онлайн «Чингизово право». Правовое наследие Монгольской империи в тюрко-татарских ханствах и государствах Центральной Азии (Средние века и Новое время) бесплатно
- Все книги автора: Роман Почекаев
© Татарское книжное издательство, 2016
© Почекаев Р. Ю, 2016
Введение
Наследие Чингис-хана и его потомков уже в течение веков привлекает интерес исследователей, и со временем количество исследований по этой тематике лишь возрастает. Не последнее место среди них занимают и работы, затрагивающие правовые аспекты истории Монгольской империи, а порой – и непосредственно посвящённые им.
Первые исследования чингизидского права появились уже в начале XVIII в., когда французский историк Ж. Пети де ла Круа впервые привёл и прокомментировал в своём исследовании о Чингис-хане фрагменты Великой Ясы (1710 г.). В дальнейшем работа по исследованию права чингизидских государств велась по двум направлениям: 1) опубликование и изучение источников чингизидского права; 2) исследование отдельных политико-правовых аспектов на основе юридических и иных источников.
В рамках первого направления следует упомянуть работы исследователей XIX – ХХ вв., занимавшихся тюрко-монгольским и постимперским законодательством. В первую очередь это работы о Ясе Чингис-хана (В. А. Рязановский, Г. В. Вернадский, Д. Айалон, Д. Морган, Д. Эгль, Н. Ням-Осор, Ц. Минжин и др.). Публикацией и изучением ханских ярлыков также занимались многие учёные из разных стран (Й. Хаммер-Пургшталь, В. В. Григорьев, И. Н. Березин, В. В. Радлов, М. Д. Приселков, А. Н. Самойлович, А. П. Григорьев, М. А. Усманов, Д. Тумуртогоо, Б. Баярсайхан и др.). Значительное внимание уделялось публикации и изучению сводов тюркского и монгольского права (К. Ф. Голстунский, Ф. И. Леонтович, Ф. В. Кливз, Н. Усеров, С. Жалан-Ажав, Ш. Нацагдорж, А. Мостэр, Г. Серруйс, С. Д. Дылыков, Х. Перлээ, А. Д. Насилов, К. Загастер, Ц. П. Ванчикова, Б. Баярсайхан, Р. Ю. Почекаев).
Кроме того, открыты, исследованы и переведены на русский и европейские языки сочинения по истории тюрко-монгольских государств, содержащие информацию о правовых воззрениях в чингизидском обществе, законодательной политике монархов Поволжья, Крыма, Ирана, Средней Азии и особенностях правоприменения. К ним можно отнести работы Джувейни, Рашид ад-Дина, Вассафа, Хафиз-и Абру, Мирхонда и Хондемира, Ибн Рузбихана, Хафиз-и Таныша Бухари, Э. Челеби, Муниса и Агахи и др. «Взгляд со стороны» отражают сведения современных им иностранцев, побывавших в тюркских и монгольских государствах ников – китайцев: Чжао Хуна, Пэн Да-я и Сюй Тина, европейцев: Иоанна де Плано Карпини, Бенедикта Поляка, Вильгельма де Рубрука, Марко Поло, И. Барбаро и А. Контарини, А. Дженкинсона, Д. Лукки и Э. д’Асколли, Ф. Беневени, И. Г. Андреева, Д. Н. Логофета и мн. др. Большое значение для реконструкции правовых актов и освещения правоприменения имеют актовые материалы – послания и иные официальные документы тюрко-монгольских правителей: на сегодняшний день опубликованы документы по связям России и ряда других государств с Казанским, Сибирским, Крымским ханствами, Ногайской Ордой, монгольскими государствами и др.
Второе направление представлено обзорными работами по истории тюркского и монгольского права (Я. И. Гурлянд, Ц. Жамцарано, В. А. Рязановский, Г. К. Гинс, С. М. Арсал, Ц. П. Ванчикова и др.). Также немало работ посвящено проблемам легитимации власти в связи с происхождением от Чингис-хана (Т. И. Султанов, В. В. Трепавлов, Т. Д. Скрынникова, А. фон Кюгельген, Т. К. Бесембиев, Б. М. Бабаджанов, О. А. Соловёва и др.). Большое внимание (особенно в советский период) уделялось регулированию с помощью ханского права отношений в административной, налоговой, земельной сферах (А. А. Семёнов, Е. А. Давидович, О. Д. Чехович, А. Егани и др.). Особое место занимали труды, в которых специально исследовалась роль государственной религии (ислама или буддизма) и духовенства в политико-правовой жизни того или иного чингизидского или постчингизидского государства (Б. Ахмедов, Б. Казаков, А. Болдырев, Ш. Бира, А. Алексеев, Д. Арапов и др.). Наконец, ряд учёных обращались и к исследованию отдельных аспектов права в чингизидских государствах или отдельных историчеких этапов их правового развития (Б. Берч, Д. Хойшерт-Лааге, М. Хагихара, Б. Далижабу и др.).
Впрочем, собственно фундаментальные историко-правовые исследования по вопросам тюрко-монгольского права довольно немногочисленны – среди них можно назвать, в частности, монографию С. Л. Фукса и ряд исследований С. З. Зиманова о государственности и праве казахов, работу Ю. Ф. Лунева по государству и праву среднеазиатских ханств XVI–XIX вв., исследование Б. Баярсайхана по истории государства и права Монголии, две книги Р. Ю. Почекаева о праве Золотой Орды.
В результате на сегодняшний день опубликованы, переведены на современный монгольский, русский и западноевропейские языки значительное число ханских ярлыков Монгольской империи, Золотой Орды, империи Юань, Крымского, Казанского, Сибирского, Бухарского, Хивинского, Кокандского ханств, своды законов Казахского и монгольских ханств (собственно Монголии, внутренней Монголии, Джунгарского и Калмыцкого ханств), доступно большое число нарративных источников, данных археологии, нумизматики и других специальных дисциплин, также содержащих сведения о «чингизовом праве»[1].
Казалось бы, стоит ли посвящать этой теме ещё одну книгу? Думается, да, поскольку на сегодняшний день, при всём обилии работ, касающихся права чингизидских и постчингизидских государств, нет какой-либо обобщающей работы, в которой именно с историко-правовой точки зрения характеризовались бы источники «чингизова права», прослеживалась бы эволюция его отдельных институтов, освещалась бы судьба правового наследия Монгольской империи в более поздних тюрко-монгольских государствах.
В рамках данного исследования предпринимается попытка систематизации и одновременно пересмотра ряда утвердившихся в науке мнений (в частности – о Великой Ясе как о некоей кодификации, составленной в эпоху Чингис-хана, о ханских высказываниях-биликах – как о части писанного законодательства и пр.). Впервые предпринимается попытка комплексного представления чингизидского права как регулятора различных сфер правоотношений – как в публичной, так и в частной сферах. Автор стремится показать, что право, созданное Чингис-ханом и его преемниками, правителями Монгольской империи и государств, образовавшихся после её распада, являлось общим, не может считаться исключительным достоянием какого-либо одного государства или этноса – напротив, целью создания «чингизова права» было объединение различных народов в рамках единой системы политико-правовых отношений. Таким образом, оно преследовало цель не возвеличивания какого-либо одного народа, а именно интеграцию многочисленных народов (и даже рас), входивших в государства Чингис-хана и его потомков.
В силу этого оно постоянно адаптировалось к изменяющимся социально-политическим, экономическим, культурным, религиозным и международным ситуациям, что и позволило этой правовой системе в той или иной степени просуществовать вплоть до нач. ХХ в. Поэтому данное право являлось общим наследием и тюркских, и монгольских, и ряда других народов и государств, в частности, как будет показано в данной работе, элементы «чингизова права» действовали и в Иране, и в государствах Кавказа, хотя их правители не только не претендовали на чингизидское наследие, но порой прямо противопоставляли себя ему.
Ещё одной категорией, в отношении которой нет чёткого представления, что, соответственно, также даёт почву для разного рода спекуляций, является «чигизизм».
Ввёл его в широкий научный оборот известный советский казахстанский востоковед В. П. Юдин, анализируя особенности политогенеза средневековых тюрко-монгольских государств, в частности – Золотой Орды. В рамках своей концепции он определяет «чингизизм» как «новый комплекс мировоззренческих и идеологических представлений», а в более узком смысле – как обозначение «новой веры»[2]. Предложенный им термин представляется весьма удачным для характеристики особенностей политического развития этих народов, однако позволим себе не согласиться с определением его как религии: анализ последующего политогенеза тюрко-монгольских народов Евразии показывает, что «чингизизм» был политико-правовой, но никак не религиозной концепцией.
Прежде всего, нельзя согласиться с утверждением В. П. Юдина, что Чингис-хан признавался божеством в государствах его потомков[3]. Вопрос о поклонении духу Чингис-хана неоднократно рассматривался исследователями, пришедшими к обоснованному выводу, что он воспринимался не как божество, а именно как великий предок, основатель династии и великого государства. Соответственно, последующие поколения тюрко-монгольских ханов использовали в качестве базового фактора легитимности своей власти родовую харизму, первым обладателем которой считался именно Чингис-хан. Одни исследователи для обозначения этого явления используют термин «покровительство небесного пламени»[4], другие – собственно «харизма»[5]. Подобный фактор легитимации был распространён в большинстве стран Европы и Азии, где наследственные правители признавались «божьими помазанниками», но ни в коей мере не божествами. Думается, аналогичная ситуация складывалась и в отношении рода Чингизидов и его основателя.
Следует также вспомнить, что официальной религией в государстве Чингис-хана и его первых преемников являлся тенгризм – вера в единого Бога, воплощением которого считалось Вечное Синее Небо (Тенгри). Об этой вере как официальной государственной религии Монгольской империи сообщают и европейские дипломаты, побывавшие у монголов в середине XIII в.[6] Можно ли в таком случае отождествить чингизизм и тенгризм? Анализ религиозной ситуации в чингизидских государствах XIII–XIV вв. не позволяет это сделать. Установленная «сверху» официальная религия так и не прижилась ни в империи Чингис-хана, ни в государствах, сменивших её – в отличие от политических основ, созданных тем же Чингис-ханом. Так, во времена Чингис-хана и его ближайших преемников монголы, формально признав тенгризм, продолжали исповедовать свои прежние шаманистские культы, что нашло отражение, в частности, в их погребальных обрядах[7]. В империи Юань тенгризм сосуществовал с буддизмом, которому покровительствовали и многие императоры-Чингизиды, придерживавшиеся политической системы, созданной их родоначальником[8]. Аналогичную картину мы наблюдаем и в Золотой Орде, где тенгризм постепенно был вытеснен исламом уже в 1-й пол. XIV в., однако имперские принципы организации власти сохранялись вплоть до конца XV в.
Соответственно, не вполне корректным представляется мнение о том, что принятие какой-либо мировой религии (в частности, ислама) в качестве государственной означало отказ потомков Чингис-хана «от чингизидской идентичности»[9]. На самом деле ислам и чингизизм – категории, на наш взгляд, из разных плоскостей социально-политической сферы, а потому не могут трактоваться как взаимоисключающие. Более того, следуя пониманию «чингизизма» в трактовке В. П. Юдина, современные казахские авторы говорят о своеобразии «казахского ислама», который включал в себя элементы и «чингизизма»[10]!
Поэтому в данном случае следует согласиться с мнением В. П. Юдина о том, что «чингизизм… легко образовывал симбиоз с любой идеологической системой, подчинявшейся ему, или инкорпорировался в её состав в приемлемых для него формах и масштабах»[11]. Примеры тому мы наблюдаем и в «имперскую» эпоху тюрко-монгольских государств (XIII–XV вв.), и позднее. Так, например, ногайские правители XVI в. именовали Ивана Грозного, завоевавшего к этому времени Казанское и Астраханское ханства, Чингизидом и утверждали, что он, московский царь, так же как и они, поступает в соответствии с идеологическим наследием Джучидской державы, которое они называли «адат-и чингизийе». Подобная идеологическая конструкция позволяла ногайским правителям обосновать своё сотрудничество с христианским Московским царством, а не с единоверцами – Османской империей и Крымским ханством, которые, по мнению ногайцев, не разделяли эту «чингизидскую» идеологию[12].
Анализ политико-правового развития тюрко-монгольских государств XIII–XV вв. позволяет свести концепцию «чингизизма» к трём основным положениям: 1) сохранение верховной власти за потомками Чингис-хана; 2) действие Великой Ясы – правопорядка, созданного Чингис-ханом; 3) религиозная толерантность. Опора на эти постулаты обусловила сохранение имперских политико-правовых структур в отдельных государствах Чингизидов, в т. ч. и после распада Монгольской империи во 2-й пол. XIII в. Именно таковыми являлись Золотая Орда, империя Юань в Китае, Чагатайский улус в Средней Азии. Их имперская природа сохранялась, пока действовали все три вышеперечисленные принципа «чингизизма», потому что как только происходило нарушение одного из них, соответствующее государство Чингизидов трансформировалось и приобретало совершенно иную природу. Именно этот процесс и начался на рубеже XIV–XV вв.
Так, например, в результате распада Золотой Орды после междоусобных войн и похода Тамерлана во 2-й пол. XIV в. ряд её регионов принял на вооружение мусульманские традиции управления, другие же вернулись к государственно-правовой системе, базировавшейся на обычном праве тюрко-монгольских племён, существовавшем ещё до империи Чингис-хана. В результате золотоордынская империя распалась на ряд государств, политический строй которых строился не на принципах «чингизизма», поэтому одни из них превратились в типичные монархии мусульманского Востока (Казанское, Астраханское, Крымское ханства), другие же, опираясь на степное обычное право, вообще могут рассматриваться даже не как государства, а как вождества, хотя и довольно сложные с точки зрения политогенеза (Сибирское и Казахское ханства, Ногайская Орда). Попытки восстановления имперских государств в результате воссоединения оседлых мусульманских регионов и кочевых, в которых преобладал шаманизм, в отсутствие единой политико-правовой идеологии изначально были обречены на провал.
С утратой имперского характера государственности оказалась невостребованной и Великая Яса Чингис-хана: это законодательство попросту перестало быть актуальным в государствах, которые уже не объединяли представителей различных народов, культур, конфессий и пр.[13] Характерно, что Великая Яса применялась ещё в XVI в. в государствах, претендовавших на статус «чингизидской» империи – в частности, в Бухарском ханстве, стремившемся объединить под своей властью ряд прежних чингизидских улусов (Мавераннахр, Хорезм, Казахстан и пр.).
Дольше всего действовал принцип сохранения верховной власти за потомками Чингис-хана[14], который продолжал применяться вплоть до XIX в., когда уже и речи не шло о государственных образованиях имперского типа. Можно отметить, что уже с рубежа XV–XVI вв. Чингизиды, ранее являвшиеся «наднациональной» правящей элитой, стали постепенно ассоциировать себя с теми народами, которые они возглавляли в качестве монархов. В результате появились Чингизиды крымские, казанские, астраханские, сибирские, казахские, узбекские и пр. Принцип сохранения трона за потомками Чингис-хана сам по себе уже не может характеризоваться как проявление чингизизма и поэтому весьма обоснованно определяется В. В. Трепавловым как «инерция»[15].
Таким образом, следует рассматривать «чингизизм» как политико-правовую концепцию (идеологию) тюрко-монгольского мира, с применением которой связан целый период в политогенезе народов Евразии в XIII–XV вв. – период существования чингизидских государств имперского типа.
Исходя из вышесказанного, основной целью настоящего исследования является формирование представления о чингизидском праве как особой правовой системе, действовавшей в тюркских и монгольских государствах Евразии, его соотношении с другими правовыми системами тюрко-монгольских государств, влиянии на государственное и правовое развитие различных государств Евразии, прослеживание его эволюции, взаимодействия с другими правовыми системами, адаптации к изменяющимся обстоятельствам в разных странах.
Глава I
Источники «Чингизова права»
Правовая система Монгольской империи была сложна и разнообразна и включала в себя источники различного происхождения, юридической силы и сферы регулирования. Безусловно, относить их все к «чингизову праву», т. е. имперскому законодательству, было бы совершенно некорректно – ведь имелись среди них и правовые обычаи, возникшие ещё у древних тюрков, и религиозное право и т. д. Соответственно, необходимо выявить именно те источники, которые формировали систему «чингизова права», причём не только правовые принципы и нормы, но и идеологию «чингизизма». Именно этим вопросам и посвящена настоящая глава.
§ 1. Чингис-хан как создатель права
Многие выдающиеся правители имели репутацию законодателей, что отразилось и в названиях юридических памятников: Законы Хаммурапи, Дигесты Юстиниана, Кодекс Наполеона. Казалось бы, в этом ряду стоит и Чингис-хан, которому приписывается создание Великой Ясы, традиционно считающейся сводом законов Монгольской империи. Однако на самом деле роль Чингис-хана как законодателя более уникальна, что мы и попытаемся показать ниже.
Дело в том, что Чингис-хан в тюрко-монгольском мире считался не просто автором Ясы, а создателем всего тюрко-монгольского права! Так, всего два десятилетия спустя после смерти Чингис-хана францисканец Бенедикт Поляк, посетивший Монгольскую империю в 1245–1247 гг. в составе посольства Папы Римского под руководством Иоанна де Плано Карпини, со слов своих монгольских информаторов писал, что «Чингис-кан был создателем их [религиозного права]», и что «у них есть некие традиции, [созданные] Чингис-каном, которые они соблюдают»[16]. Таким образом, основателю Монгольской империи приписывалось также и введение запретов-табу (запрет дотрагиваться ножом до костра, садиться на плеть, проливать молоко и др.), являвшихся на самом деле старинными обычаями тюрко-монгольских народов Евразии[17].
Уже в XV в. Чингис-хан стал считаться и создателем «торе» – довольно сложной политико-правовой категории, представлявшей собой совокупность древних тюрко-монгольских принципов организации государства, органов власти и взаимоотношений между монархом и подданными, возникших ещё в древнетюркском обществе[18]. Так, известный персоязычный тимуридский историк Шихаб ад-Дин Абдаллах б. Лутфаллах ал-Хавафи, более известный как Хафиз Абру (ум. 1430) в своём сочинении «Дополнение к собранию сочинений Рашида» (или «Продолжение «Сборника летописей”») пишет: «Причиною вражды эмиров к Узбеку было то, что Узбек постоянно требовал от них обращения в правоверие и ислам и побуждал их к этому. Эмиры же отвечали ему на это: «Ты ожидай от нас покорности и повиновения, а какое тебе дело до нашей веры и нашего исповедания и каким образом мы покинем закон (тура) и устав (ясык) Чингиз-хана и перейдём в веру арабов?»[19]. Среднеазиатский завоеватель Бабур, основатель империи Великих Моголов в Индии, также пишет в своих «Записках»: «Мои предки и родственники всегда тщательно соблюдали законы Чингиза. В собраниях, при дворе, во время празднеств, сидя и вставая – никогда они не шли наперекор установлениям Чингиза» (в оригинале – «торе-и-Чингиз». – Р. П.)[20]. А в XVI в. тюркские народы, исповедовавшие ислам, приписывали Чингис-хану и создание адатов – правовых обычаев, действовавших одновременно с шариатом. Например, в эпоху Ивана Грозного ногайские правители выстраивали отношения с Московским царством на основе «adet-i cengiziyye», т. е. «адатов Чингис-хана»[21].
Чем объясняется такой феномен? Думаем, его можно связать с формированием особой идеологии, которую исследователи называют «чингизизмом». По мнению В. П. Юдина, предложившего данный термин, это была «новая религия» Монгольской империи, «философия высшего порядка»[22]. Однако такое понимание чингизизма является не совсем корректным. Культ Чингис-хана, несомненно, существовал: вышеупомянутый Бенедикт Поляк отмечает, что монголы «когда-то сделали идол Чингис-кана, который они устанавливают перед юртой всякого [правящего] канна и приносят ему дары»[23]; другие иностранные современники и хронисты также упоминают «золотую статую Чингис-хана». Однако поклонение изображению Чингис-хана являлось «семейным культом» потомков Чингис-хана, возникшим в рамках культа почитания предков, распространённого среди народов Центральной и Восточной Азии – тюрков, монголов, китайцев и др.[24] Общегосударственным почитание Чингис-хана в Монголии стало лишь в 1990-е гг. как символ независимости и единства нации[25]. Таким образом, чингизизм являлся специфической политико-правовой идеологией – именно в силу того, что Чингис-хан признавался создателем монгольской государственности (до сих пор эпоха Чингис-хана считается «золотым веком» монгольского народа, пиком его политического развития) и, соответственно, реформатором монгольской государственности и права. Этот образ впоследствии был перенесён и на тюркские и монгольские государства, в которых правили потомки Чингис-хана – от Крыма (где Чингизиды сохраняли власть до последней четв. XVIII в.) до Казахстана (где потомки Чингис-хана оставались у власти до середины XIX в.) и собственно Монголии (в которой прямые потомки Чингис-хана правили до начала 1920-х гг.).
Однако Чингизиды не ограничились просто созданием своему родоначальнику образа создателя Великой Ясы и даже творца всего тюрко-монгольского права. Это было бы слишком просто и нерационально, потомки основателя Монгольской империи отличались удивительной рациональностью и исключительным прагматизмом. Поэтому они стали «использовать» образ Чингис-хана – законодателя для создания разного рода правовых фикций и даже откровенных фальсификаций, преследуя собственные политические цели.
Прежде всего с лёгкой руки Чингизидов и их советников из числа представителей оседлых культур (и, соответственно, носителей традиции писаного права и кодифицированного законодательства) совокупность отдельных указов и распоряжений Чингис-хана уже к сер. XIII в. превратилась в «Великую книгу Ясы»[26] – свод законов, которого, как мы покажем ниже, никогда на самом деле не существовало.
Затем потомки Чингис-хана стали приписывать ему правовые установления, которых он никогда не создавал. Но поскольку именно Чингизиды считались главными знатоками законодательства Чингис-хана, никто не имел возможности уличить их в фальсификациях. Ссылки же на Чингис-хана придавали таким установлениям высшую юридическую силу. Ссылки на волю предка – в принципе, обычная практика в традиционных правовых культурах, когда эта самая воля как бы «озвучивалась» потомками с целью закрепления собственных правовых предписаний авторитетом родоначальника[27]. Однако такое явление характерно для обычно-правовых систем, тогда как в государствах Чингизидов к воле Чингис-хана апеллировали и в рамках закрепившихся в них систем права с развитой традицией писанного права – в частности, китайского и мусульманского.
Так, Угедэй, сын Чингис-хана и его преемник на троне Монгольской империи, в 1235 г. «захотел собрать ещё раз всех сыновей, родственников и эмиров и заставить их вновь выслушать ясу и постановления»[28]. Несомненно, если бы цель курултая (съезда монгольской знати) была именно в этом, его созыв был бы бессмысленным, поскольку именно перечисленные категории и являлись, как уже отмечено выше, знатоками законодательства Чингис-хана. По-видимому, Угедэй намеревался ознакомить имперскую элиту с собственными правовыми новациями, приписав их своему отцу, чтобы обеспечить большую действенность новых правовых норм.
В последней трети XIII в. монгольскому хану Хубилаю (основателю империи Юань в Китае) противостоял Хайду – внук Угедэя, претендовавший на трон великого хана. Он утверждал, что в «Великой книге Ясы» содержится распоряжение Чингис-хана о том, что только потомки Угедэя имеют право занимать ханский трон, соответственно, Хубилай (сын Тулуя, брата Угедэя) является узурпатором[29]. Подобное утверждение являлось двойной фальсификацией: во-первых, как мы покажем ниже, не существовало никакой «Великой книги Ясы», во-вторых, Чингис-хан не мог сделать такого распоряжения, поскольку монгольские ханы традиционно избирались на курултае из числа всех его потомков, так что власть по наследству не передавалась[30]. Однако для приверженцев Хайду апеллирование к мнимой воле Чингис-хана уже было достаточным основанием доверять своему предводителю, что позволило ему в течение 30 лет противостоять Хубилаю и его потомкам.
Не оставались в долгу и противники Хайду. Например, персидские ильханы – потомки Хулагу (брат Хубилая), утверждали, что именно их род достоин занимать ханский трон, поскольку они лучше других Чингизидов соблюдали Ясу Чингис-хана[31]. Поскольку никто в Монгольской империи не мог знать всех указов и распоряжений её основателя (ведь многие из его указов даже не были зафиксированы в письменной форме), никто, соответственно, не мог уличить Хулагуидов во лжи или подтвердить правдивость их заявления.
Ещё одним ярким примером является судебное решение Мухаммада Шайбани-хана – потомка Чингис-хана в тринадцатом поколении, основавшего в начале XVI в. Бухарское ханство. Хан разбирал спор о наследовании между вторым сыном наследодателя и внуком от старшего, рано умершего сына. Поскольку сам хан позиционировал себя как ревностного приверженца ислама, то суд осуществлялся в соответствии с нормами шариата, а «согласное мнение улемов сходится на том, что внук при наличии сына наследства не получает, будь это внук от живого сына или сына, умершего при жизни отца, который является дедом этого внука». Однако сам Мухаммад Шайбани-хан склонялся в пользу внука-наследника, но, не находя в мусульманском праве нормы в пользу своей позиции, заявил, что в «ясе Чингизхановой сказано, что внук, отец которого умер при жизни деда, в наследовании приравнивается к родному сыну» и «[велел] поступать по установлению Чингиз-хана»[32]. Между тем все дошедшие до нас акты волеизъявления Чингис-хана касались исключительно публично-правовой сферы, и в частные правоотношения ни он, ни последующие ханы-законодатели принципиально не вмешивались, предоставляя их регулирование местному, обычному или религиозному праву[33]. Соответственно, никакого «установления Чингиз-хана» о наследовании имущества внуком или сыном наследодателя быть не могло. Тем не менее авторитет Чингис-хана-законодателя (в сочетании с авторитетом и властностью самого Шайбани-хана) не позволили судьям и самим тяжущимся усомниться в решении хана. Более того, некоторое время спустя придворные правоведы и богословы Мухаммада Шайбани-хана сумели обнаружить мнение какого-то малоизвестного улема (мусульманского правоведа), которое в некоторой степени было сходно с нормой, приписанной бухарским ханом своему предку[34].
Поэтому неслучайно система источников права, созданная в Монгольской империи и тюрко-монгольских государствах – её преемниках (законы, указы и распоряжения, позднесредневековые кодификации) иногда именуется исследователями «чингизовым правом»[35]. Принимая во внимание образ Чингис-хана как законодателя, создателя тюрко-монгольского права, созданный его потомками, приписанное ему авторство даже тех правовых норм, к которым он не имел отношения, такое название выглядит не столь уж некорректным.
§ 2. «Закон», «обычай», «традиция» в Монгольской империи после Чингис-хана
Одним из важнейших и ценнейших источников сведений о монгольском имперском праве, несомненно, является «Книга о тартарах» Иоанна де Плано Карпини, поскольку в ней представлен взгляд европейского современника, который к тому же побывал в Монгольской империи в эпоху преобразований. Ценность свидетельства папского посла Иоанна тем выше, что «Сокровенное сказание» написано около 1240 г., а труд Джувейни создавался уже в 1250-е гг. «Книга о тартарах», таким образом, представляет свидетельство современника событий 1240-х гг. – весьма важного периода в истории монгольской государственности и права. В настоящем исследовании мы намерены на основе его сведений показать, как происходил процесс формирования нового имперского законодательства, впоследствии в течение нескольких веков действовавшего в различных государствах Чингизидов.
Распространённое мнение о том, что правовые отношения в Монгольской империи регулировались исключительно Великой Ясой вряд ли можно счесть обоснованным: монголы создали гораздо более сложную и многоуровневую систему источников права. Так, Т. Д. Скрынникова, в частности, называет среди источников права не только ясы («засак»), но также «билик» – изречения Чингис-хана, в большей степени носящие морально-этический, а не правовой характер; «зарлик» (ярлыки) – приказы и распоряжения ханов; «йосун» – древнее обычное право и «торё» – сакральное право монголов, унаследованное от древних тюрков[36].
Говоря о нормах права монголов, брат Иоанн использует разные понятия: «закон», «установление», «обычай», «указ», «традиция». Только И. де Рахевилц, вслед за П. Джексоном, высказал предположение, что они могли обозначать разные источники права, но не стал развивать эту тему[37]. Между тем при анализе «Книги» Иоанна де Плано Карпини следует учитывать два момента. Во-первых, францисканец-дипломат был одним из образованнейших людей своего времени и вряд ли произвольно употреблял понятия: «закон», «обычай», «указ» и пр., которые со времён Римской империи четко дифференцировались. Во-вторых, «Книга» была написана отнюдь не по личным наблюдениям её автора, а представляет собой отчёт, составленный на основе информации, полученной от компетентных лиц – приближённых монгольских правителей (сначала – Бату, затем – Гуюка)[38]. Таким образом, можно не сомневаться, что брат Иоанн весьма чётко и скрупулёзно обозначал те или иные нормы права как обычай или установленный сверху закон.
Законы и установления
Брат Иоанн сообщает: «Оттуда же он (Чингис-хан. – Р. П.) вернулся в свою страну и там создал множество законов и установлений, которые тартары безупречно соблюдают»[39]. Далее францисканец говорит о содержании двух из них: смертная казнь за попытку захвата ханского трона без избрания на курултае и покорение всех остальных народов мира. Отметим, что, говоря о законах и установлениях, брат Иоанн использовал термины leges et statuta. Lex означало закон, постановление, statuta – уставы и установления. Словом leх в средневековой Европе нередко обозначали вообще совокупность писаных актов, исходящих от верховной власти.
Под leges францисканец, несомненно, подразумевал Великую Ясу, т. е. совокупность правил и установлений Чингис-хана, и подтверждение этому мы находим в других источниках. Так, постановление о казни за узурпацию трона отражено в сообщении персидского историка 2-й пол. XIII в. Джувейни. Он сообщает, что великий хан Гуюк после своего воцарения повелел судить Тэмугэ-отчигина – брата Чингис-хана, незадолго до этого пытавшегося захватить власть. «Когда они закончили своё дело, группа эмиров предала его смерти в соответствии с Ясой»[40].
Что касается установления о покорении мира, то ни один источник не даёт оснований отнести его к Ясе: и современники, и авторы боле позднего времени говорят о том, что это повеление Чингис-хана отражалось преимущественно в посланиях великих ханов, которые они направляли в качестве указов государям, считая последних ниже себя. Венгерский доминиканец Юлиан приводит текст послания великого хана Угедэя венгерскому королю Бэле IV (1237 г.): «Я Хан, посол царя небесного, которому он дал власть над землёй…»[41]. Наследник Угедэя Гуюк в письме папе римскому Иннокентию IV (1246 г.) сообщает: «Силою Бога все земли, начиная от тех, где восходит солнце, и кончая теми, где заходит, пожалованы нам»[42]. В «Сокровенном сказании» слова о власти над миром вложены в уста самого Чингис-хана, который заявляет: «…я, будучи умножаем, пред лицом Вечной Небесной Силы, будучи умножаем в силах небесами и землёй, направил на путь истины всеязычное государство и ввёл народы под единые бразды свои…» Эти слова охарактеризованы как jarlig, т. е. повеление Чингис-хана[43]. Следовательно, де Плано Карпини сумел увидеть разницу между сводом законов Ясой и отдельными указами – ярлыками великих ханов, применив к первому из них термин lex, а ко вторым – statuta.
Т. Д. Скрынникова, опираясь на сведения «Сокровенного сказания», делает вывод о тождестве понятий «засак» и «зарлик», считая их синонимами, обозначавшими совокупность норм «гражданского» права[44]. В подтверждение своей точки зрения она приводит ряд фрагментов «Сокровенного сказания», в которых понятия «засак» и «зарлик» фигурируют в одинаковом значении – распорядок, указ, приказ. Это дало ей основание высказать предположение, что «засак» и «зарлик» обозначали одну и ту же категорию норм права, только первый термин имел происхождение тунгусо-манчжурское, а второй – тюркское[45]. По нашему мнению, выводы Т. Д. Скрынниковой справедливы лишь применительно к первому этапу развития Монгольской империи – пока Чингис-хан объединял Монголию под своей властью. Действительно, любое распоряжение, исходившее от быстро усиливавшегося правителя, имело для его подданных силу закона, так что принципиальной разницы между Ясой и ярлыком ни для хана, ни для исполнителей его воли поначалу не существовало. Тем более в это время любые распоряжения Чингис-хана были устными, и разницу между Ясой и ярлыком было обнаружить непросто[46].
Но францисканец сообщает, что Чингис-хан принял «законы и установления», вернувшись в свою страну из походов против жителей страны «шумящего солнца», людей с пёсьими головами, людей с одной половиной туловища и т. п. – т. е. тех походов, сообщения о которых, как установлено исследователями, относятся к фантастическому «Роману о Чингис-хане»[47]. Следовательно, их хронология также является легендарной, и установить дату возвращения Чингис-хана из похода и принятия им законов представляется довольно сложным. Однако в нашем распоряжении есть информация других источников. Персидский историк Рашид ад-Дин, автор «Сборника летописей» нач. XIV в., даёт сходное сообщение под годом курицы, 622 г. по х. (1225 г.): «То лето он пробыл дома и соизволил издать мудрые повеления [йасакха-и барик]»[48].
Таким образом, сообщение папского посла относится к периоду, когда Монгольская империя достигла более высокого уровня развития, форма указов была уже позаимствована монголами из империи Цзинь ещё при Чингис-хане, что подтверждает, в частности, посол Южной Сун Чжао Хун: «Чингис также издаёт указы и распоряжения и другие документы. Всему этому научили их мятежные чиновники цзиньских разбойников»[49]. К этому времени стало проводиться принципиальное различие между ясами и ярлыками. Ясы стали означать именно законы Чингис-хана, составленные для регулирования отношений с подданными его обширной многонациональной империи и с иностранными государями, которые запрещалось изменять или отменять. Ярлыки же представляли собой указы по вопросам, не регулировавшимся ясами, но требовавшими вмешательства монарха, т. е. своего рода «текущее законодательство». Именно к этому периоду и относится анализируемое сообщение брата Иоанна, в котором понятие «законы и установления» следует трактовать как «ясы и ярлыки». Восточные источники подтверждают тот факт, что францисканец произвёл эту дифференциацию не по собственному усмотрению: Рашид ад-Дин сообщает, что «В этом году, [году] барана, он [Угедэй] захотел собрать ещё раз всех сыновей, родственников и эмиров и заставить их вновь выслушать ясу и постановления»[50].
Закон или обычай
Один раздел «Книги о тартарах» непосредственно посвящён правовым нормам средневековых монголов: «У них есть также закон или обычай убивать мужчину и женщину, которых явно застают за прелюбодеянием; сходным образом и девушку, – если она будет предаваться разврату с кем-нибудь, убивают [и] мужчину, и женщину. Если кого-нибудь застают в земле, [находящейся] в их владении, за грабежом или воровством, его убивают без всякого сострадания. Также, если кто-нибудь раскрывает их замыслы, особенно когда они намереваются идти на войну, ему наносят по спине сто ударов, [таких] сильных, какие [только] может наносить один [крепкий] крестьянин большой палкой. Также, когда какие-нибудь [лица] из младших [по чину] совершают какую-нибудь провинность, то старшие их не щадят, а подвергают тяжёлому бичеванию. Также нет никакого различия между сыновьями от наложницы и от жены, но отец их даёт каждому то, что хочет. А если отец принадлежит княжескому роду, то сын от наложницы является князем так же, как [им] является сын от законной жены…»[51].
Рассмотренные нами выше leges et statuta при всех своих различиях всё же составляли единую группу норм, исходящую от верховной власти и олицетворявшую имперскую систему права. Понятия же «закон» (lex) и «обычай» (consuetudo) в теории права противопоставляются друг другу, и их объединение у брата Иоанна нуждается в исследовании.
Понятиям legem и consuetudinem, употребляемым францисканцем, мы находим вполне эквивалентные понятия в монгольском средневековом праве. Это, соответственно, Яса, установленная Чингис-ханом, и древнее обычное право кочевников – «йосун». Обычаи складывались задолго до образования у тюрков или монголов централизованного государства и продолжали применяться внутри отдельных родов и племён даже тогда, когда активно начинали действовать официальные законодательные акты.
Примечательно, что упомянутые францисканцем нормы мы встречаем и в праве более поздних тюркских и монгольских народов. Так, например, ответственность за прелюбодеяние, грабёж, воровство предусматривают монгольские «18 степных законов» XVI–XVII вв.[52] и законы казахского хана Тауке, принятые в конце XVII в.[53] Отметим, что в этих степных «кодексах» за основу брались отнюдь не законы Чингис-хана, а именно древнее обычное право. О равенстве сыновей от законных жён с сыновьями не только от наложниц, но и с приёмными, можно найти ещё в домонгольских источниках – праве древних уйгуров[54].
Но оказывается, что в других источниках эти же обычные нормы причисляются к законам и установлениям Чингис-хана! Так, французский хронист Ж. де Жуанвиль, получивший сведения о монгольском праве от послов великого хана, прибывших к королю Людовику IX, пишет: «Его установления должны были держать народы в мире так, чтобы никто не отнимал чужого добра и не бил других людей, если не хочет лишиться руки; и чтобы никто не вступал в связь с чужой женой или дочерью, если не хочет лишиться руки или жизни. Много прочих добрых заповедей он им дал, дабы жили они в мире»[55]. Армянский историк конца XIII в. Григорий Акнерци также сообщает о законах Чингис-хана: «Вот эти божественные законы, которые он им предписал и которые они на своём языке называют «ясак»: во-первых, любить друг друга; во-вторых, не прелюбодействовать; не красть; не лжесвидетельствовать; не быть предателями…»[56].
Брат Иоанн, как видим, колеблется, не зная, отнести ли эти нормы к новым имперским законам или древним обычаям. По нашему мнению, это свидетельствует о законодательной реформе в Монгольской империи, в результате которой ряд норм обычного права был включён в имперское законодательство, но память о них, как о древних обычаях, была ещё жива. Уже несколько лет спустя эти нормы стали позиционироваться как законодательство Чингис-хана (что отражено в сообщении Жуанвиля), а к концу XIII в. их однозначно ассоциировали с законодательной политикой основателя Монгольской империи, что подтверждается армянским историком.
Тут следует обратить внимание на то, что Великая Яса отнюдь не являлась кодексом законов, обязательных для исполнения всеми жителями обширной и многонациональной Монгольской империи. Это был, как мы покажем ниже, некий свод базовых принципов, призванный обеспечивать правящей монгольской элите эффективное управление покорёнными народами и не допустить её смешивания с другими народами. Подобная роль Великой Ясы позволяет понять, почему она объединяла в себе столь разные виды правовых норм, и почему после распада Монгольской империи правители выделившихся из неё кочевых государств перестали ссылаться на законодательство Чингис-хана.
Древние обычаи, включённые в Ясу, были предназначены, как завещал Чингис-хан, для сохранения монголами их политической, культурной и бытовой самобытности. Их несоблюдение приводило к очень быстрой ассимиляции немногочисленной монгольской правящей верхушки местным населением, как это произошло, например, в Иране при последних ильханах или в Средней Азии при Тимуридах. И наоборот: после изгнания из Китая великие ханы вернулись в Монголию, где им не было необходимости отграничивать себя от своих подданных – таких же монголов. Поэтому предписания Ясы оказались у монголов позднего Средневековья невостребованными, и всё их дальнейшее законодательство базировалось уже на традиционных обычаях, а не на имперском законодательстве Чингис-хана и его преемников[57]. Аналогичным образом казахи опирались на древние обычаи, поскольку вели преимущественно кочевой образ жизни и не имели в подчинении многочисленных оседлых народов, среди которых было необходимо выделяться, соблюдая Ясу.
Зато в государствах, где малочисленная монгольская элита сохраняла власть над многочисленным оседлым населением (Улус Джучи или Чагатаев Улус) законодательство Чингис-хана продолжало действовать, по меньшей мере, до XVI в. включительно. Так, персидские источники XV в. сообщают о применении Ясы в Золотой Орде: «Узбек постоянно требовал от них обращения в правоверие и ислам и побуждал их к этому. Эмиры же отвечали ему на это: «Ты ожидай от нас покорности и повиновения, а какое тебе дело до нашей веры и нашего исповедания и каким образом мы покинем закон (тура) и устав (ясык) Чингиз-хана и перейдём в веру арабов?»; «Так как Идигу установил тонкие обычаи (тура) и великие законы (ясак) и люди из привольности попали в стеснение, то Шадибек тайно хотел уничтожить его»[58]. Фазлаллах ибн Рузбихан, приближённый Мухаммада Шейбани-хана, сообщает о применении в Бухарском ханстве норм Ясы и установлений Чингис-хана по вопросам наследования ещё в начале XVI в.[59]
Означает ли вышесказанное, что нормы монгольского имперского права и, в первую очередь, Великой Ясы вообще не распространялись на население покорённых стран? Вовсе нет, и это весьма ярко подтверждает фрагмент из «Книги» Иоанна де Плано Карпини, содержащий упоминание и краткую характеристику ещё одного источника монгольского средневекового права.
Традиция
«Хотя у них не было закона о вершении правосудия, а также наказания за грехи, тем не менее у них есть некие традиции [хорошо известные поступки?], которые они определяют как грехи, и которые зафиксировали они сами или их предки», – сообщает Иоанн де Плано Карпини[60]. При этом францисканец употребляет термин traditiones, который для обозначения источника права официально в правовой науке не использовался.
К «традициям» он относит запрет дотрагиваться ножом до костра, садиться на плеть, проливать молоко и др. То есть речь идёт о неких табуированных действиях из сакральной сферы. Нарушение их могло привести к небесной каре, тогда как соблюдение гарантировало сохранение спокойствия и согласия между людьми и Небом. Эта сфера регулировалась у средневековых монголов особой группой норм права, известной под названием «торе» и представлявшей собой «сакральное» право тюркских и монгольских племён[61]. Иоанн де Плано Карпини отмечает, что эти традиции, возможно, перешли к современным ему монголам от их предков, и это также указывает на древний характер рассматриваемых норм.
Влияние торе сохранилось у кочевых народов и столетия спустя. В Казахском ханстве, правители которого считали себя преемниками Улуса Джучи, ещё в XVIII–XIX вв. к именам султанов прибавляли приставку «тюря» (тюре), что символизировало их принадлежность к избранной Небом династии и право на верховную власть: например, Джантюре-хан, Сиддик-тюря[62].
Однако, как и в случае с некоторыми древними кочевыми обычаями, в некоторых источниках есть сведения, позволяющие отнести подобные запреты к нормам Великой Ясы. Так, например, Джувейни приводит эпизод из жизни великого хана Угедэя: возвращаясь с охоты великий хан и его брат Чагатай увидели, как мусульманин совершает омовение; и Чагатай тут же усмотрел в этом нарушение Ясы[63]. Рашид ад-Дин, повторяя этот эпизод, уточняет: «Обычай и порядок у монголов таковы, что весной и летом никто не сидит днём в воде, не моет рук в реке, не черпает воду золотой и серебряной посудой и не расстилает в степи вымытой одежды, т. к., по их мнению, именно это бывает причиной сильного грома и молнии, а они [этого] очень боятся»[64]. Арабские авторы ал-Омари и ал-Макризи также относят запрет мыться и стирать одежду к законам, установленным Чингис-ханом[65]. Таким образом, речь определённо идёт о некоем сакральном запрете. Но каким же образом он попал в состав Ясы?
Ответ следует искать опять же в стремлении Чингис-хана и его преемников упорядочить власть правящей верхушки монголов над иноземными народами и чётко регламентировать отношения властной элиты со своими подданными различных национальностей. Нарушение подобных запретов в присутствии представителей монгольской элиты, видимо, рассматривалось как преднамеренное оскорбление монголов, желание призвать на них небесную кару. Поэтому эти нормы также могли быть включены Чингис-ханом в Великую Ясу как один из аспектов взаимодействия представителей монгольской власти с покорёнными народами. Вероятно, именно этим можно объяснить столь загадочную на первый взгляд фразу Ц. де Бридиа, записавшего отчёт спутника брата Иоанна Бенедикта Поляка: «Согласно некоторым преданиям, Чингис-кан был создателем их [религиозного права]» и далее: «Кроме того, у них есть некие традиции, [созданные] Чингис-каном, которые они соблюдают»[66]. Видимо, речь идёт как раз о включении основателем Монгольской империи норм «сакрального права» в состав имперского законодательства.
Надо отдать должное монгольским правителям: они всячески старались предупреждать нарушение норм торе (а впоследствии и Ясы) со стороны своих подданных разных национальностей и посланцев иностранных правителей. Тот же Иоанн де Плано Карпини сообщает, что когда он со своими спутниками прибыл в ставку Бату, правителя Улуса Джучи, «управляющий Бату по имени Элдегай» предварительно разъяснил им, как себя вести, чтобы не оскорбить монголов[67]. Аналогичное сообщение можно встретить у Марко Поло, много лет проведшего при дворе великого хана Хубилая: ко всем иностранцам, не знакомым с «дворцовыми обычаями», приставлены несколько «баронов», которые предостерегают их от нарушения запретов[68]. Это позволяет сделать вывод, что соблюдение запретов распространялось на иноземцев или чужеземных подданных самих монгольских правителей только в тех случаях, когда они непосредственно взаимодействовали с правящей элитой или находились в тех же местах, где и монголы.
В повседневной жизни представители каждого народа имели право жить по своим собственным законам и обычаям. Это отразилось в ещё одном рассказе о великом хане Угедэе, приведённом Джувейни, а впоследствии – Рашид ад-Дином. Один мусульманин, купив барана, зарезал животное дома по мусульманскому обычаю, хотя подобный способ умерщвления животных был запрещён Ясой. Некий кипчак выследил его и привёл на суд к Угедэю, обвинив в нарушении монгольского законодательства. Решение Угедэя было следующим: т. к. мусульманин находился в своём доме, он имел право поступать по своему усмотрению, а кипчак нарушил закон, за это он был казнён, поскольку вломился в его жилище[69].
Этот рассказ весьма ценен, поскольку отражает реализм законодательной политики Чингизидов. Можно было бы предположить, что Чингис-хан, устанавливая имперский порядок среди своих многочисленных разноязычных подданных, будет стремиться к установлению единых для всех правил поведения. Однако он не был бы гениальным правителем и администратором, если бы попытался унифицировать образ жизни всех народов, племён, родов, которые являлись его подданными. Установив основные правила, регулирующие отношения между государством и населением империи, между представителями разных областей и народностей в её рамках, он оставил без изменений нормы частного права, регулирующие брачные и семейные отношения, права наследования, сферу частной торговли и пр. Н. Н. Крадин отмечает, что для решения частных конфликтов внутри отдельных общностей не требовалось вмешательство специальных государственных органов: подобные споры решались в соответствии с порядками, сложившимися внутри них[70].
Итак, какие же выводы позволяет сделать нам анализ сообщений Иоанна де Плано Карпини? Прежде всего, он подтверждает представление о сложности и разнообразии системы монгольского средневекового права, до сих пор складывавшееся только на основании тюркских и монгольских источников. Во-вторых, его сведения дают основание предположить, что в описываемый им период времени монгольское законодательство находилось в стадии реформирования, и многие нормы древнего, обычного и даже «сакрального» права постепенно трансформировались в общемонгольское законодательство в виде Великой Ясы.
И, возможно, не совсем корректным будет включение всех правовых норм монголов, о которых говорит Иоанн в Великую Ясу, как склонны делать, в частности, Пети де ла Круа, Г. В. Вернадский, Н. Ням-Осор и ряд других исследователей. Францисканец чётко идентифицировал различные виды источников монгольского средневекового права, и хотя впоследствии некоторые из них составляли часть Великой Ясы, далеко не все их следует отождествлять с законодательством Чингис-хана.
§ 3. Торе – древнетюркское право, «присвоенное» Чингизидами
Среди источников права, применявшихся в тюрко-монгольских государствах, торе является, по-видимому, наиболее загадочным и сложным для понимания современными специалистами. Немногочисленность источников, сохранивших упоминания о нём, породили самые различные гипотезы и интерпретации этого правового института среди исследователей, порой – взаимоисключающие.
Первыми исследователями торе, по всей видимости, следует счесть специалистов, занимавшихся древнетюркской руникой, поскольку именно в рунических надписях, относящихся к древнетюркской эпохе, впервые встречается этот термин, соответственно, именно они постарались первыми определить значение этого термина, его соотношение с другими социально-политическими институтами древнетюркского общества. Соответственно, о торе упоминают уже такие авторы, как: В. В. Радлов, П. М. Мелиоранский, С. Е. Малов, А. Н. Бернштам, А. Н. Кононов, Э. Наджип и др. К отдельным вопросам, связанным с действием торе в тюркских народах и государствах, обращались также В. В. Бартольд, С. Г. Агаджанов, С. Г. Кляшторный, Ш. Классон[71]. Анализом использования термина «торе» в более поздние времена – в эпоху Чингис-хана, Монгольской империи и пост-имперских тюрко-монгольских государств занимались В. В. Трепавлов[72], Т. Д. Скрынникова[73], К. Хамфри и А. Хурэлбатор[74], Р. Ю. Почекаев[75]. Своеобразная систематизация представлений о значении термина «торе» была проведена составителями словарей тюрко-монгольской лексики[76].
Изначально, в тюркскую эпоху, торе представляло собой систему правовых установлений тюркских каганов, непосредственно связанных с отправлением ими функций правителя[77]. При этом важно отметить, что хотя оно и было результатом правотворческой деятельности конкретных правителей, тюрки не «персонализировали» торе, не соотносили его с личностями каганов, поскольку считалось, что те лишь формулировали волю Неба[78]. В монгольском же обществе дочингисовой эпохи торе превращается в некую генеральную совокупность правовых принципов, которые, как считается, были установлены самим Небом (а не правителями по воле Неба) и не могли быть ни изменены, ни нарушены даже самими ханами без риска вызвать гнев верховного божества[79]. Это позволяет говорить о том, что представление о торе в монгольском обществе формировалось в период т. н. «божественного понимания права»[80], что предполагает и сакральный (недесакрализованный) характер самого торе[81].
По мнению исследователей, в содержательном отношении в имперскую и постимперскую эпоху торе представляло собой совокупность основополагающих принципов государственного устройства – системы разделения улуса на крылья, порядок занятия военных и административных должностей (в т. ч. соправительство), завоевание иностранных государств, распределение доходов и трофеев[82]. Эти принципы, в соответствии с современным учением о праве, могут считаться своего рода «предпосылаемыми» – в отличие от устанавливаемых государственной властью норм и правил поведения[83]. К последним в монгольском обществе относились ханские указы (ярлыки) и иные правила, в совокупности образовавшие т. н. Великую Ясу Чингис-хана[84].
Однако в рамках настоящего исследования нас интересует не столько вопрос понимания природы торе, сколько процесс его превращения из относительно самостоятельной системы правовых норм или даже правопорядка, установленного Небом в элемент ханского права, т. е. правовой системы тюрко-монгольских государств чингизидской эпохи. Анализ источников позволяет нам пролить свет на эту эволюцию – формализацию закрепления торе в рамках ханского права.
Однако прежде всего попытаемся ответить на вопрос, зачем Чингис-хану и его преемникам понадобилось инкорпорировать древнее тюркское право, постепенно вытесняемое нормами собственно ханского законодательства, в элемент имперской правовой системы? Думается, смысл этих действий заключался в стремлении представителей «золотого рода» обеспечить себе дополнительный фактор легитимации в глазах подданных как монгольского, так и тюркского происхождения (учитывая тюркское происхождение торе), монополизировать право на верховную власть в глазах многонационального населения империи. Как можно увидеть, Чингизиды в течение своего правления старались всячески увеличивать число таких факторов, обосновывая право на власть с помощью самых различных норм. Так, в более поздние времена, когда происхождение от Чингис-хана и поддержка Неба в силу различных политических причин перестали считаться основными факторами легитимации, потомки великих ханов стали апеллировать к нормам как обычного права, так и права религиозного, включая соответствующие положения в собственное законодательство[85]. На раннем же этапе монгольской имперской государственности аналогичная политика проводилась, по нашему мнению, и в отношении торе.
Инициировав этот процесс, Чингис-хан прежде всего постарался закрепить за собой и своим родом право на толкование норм торе, ранее принадлежавшее родоплеменным предводителям-бэки. В «Сокровенном сказании» можно увидеть, как со временем право толкования торе постепенно переходит от родоплеменных вождей именно к Чингис-хану: сначала он назначает бэки своего сторонника Усуна, а затем (вероятно, после его смерти) закрепляет это право толкования «сакрального права» исключительно за собой[86]. Аналогичным образом после Чингис-хана толкованием права занимаются и его прямые потомки – обладатели ханского титула. Первым из них является Угедэй (1229–1241), который, в частности, говорит: «Признаю вину свою в том, что по неразумной мести погубил человека, который… опережал всех в ревностном исполнении Правды-Торе»[87]. В более поздние времена торе также толковалось ханами-Чингизидами. Так, в ярлыке золотоордынского хана Улуг-Мухаммада (1419–1421, 1424–1437), датируемом 1420 г., фигурирует выражение tцrдsi erdi как некое право, на основании которого занимал должность отец получателя ханского ярлыка[88].
Подобная трактовка свидетельствует о правильности предположения В. В. Трепавлова насчёт того, что порядок занятия административных должностей в тюрко-монгольских обществах мог регламентироваться нормами торе[89]. К числу наиболее поздних примеров толкования торе Чингизидом можно отнести, в частности, упоминание торе как издревле существовавшего порядка в словах кашгарского хана Султан-Саида (1514–1533), сказанных при пленении мятежного киргизского предводителя Мухаммада: «Хоть тебя по туре следовало бы казнить, однако из великодушия я дарю тебе жизнь»[90]. Предположительно здесь речь может идти о норме торе, предписывающей сохранять верность своему правителю-сюзерену и недопустимость враждебных действий против него[91].
Полагаем, что, пользуясь неопределённостью, которой ко времени Чингис-хана стали характеризоваться некогда вполне конкретные нормы древнетюркского права-торе, представители «Золотого рода» получили возможность выдавать за нормы, якобы установленные Небом, любые нормативные положения или принципы, которые отвечали их интересам на том или ином этапе политического развития чингизидской государственности. Закономерным итогом этого процесса стало «присвоение» заслуг в создании торе Чингис-хану и его потомкам[92].
Соответственно, и древнетюркское право торе стало со временем ассоциироваться с законотворческой деятельностью основателя Монгольской империи. Этот процесс был довольно длительным, и поначалу торе в имперском праве продолжало считаться одним из самостоятельных источников – как разновидность обычного права. Именно в таком значении оно употребляется в значительном числе официальных документов XIII–XIV вв. уйгурских князей – тюркских вассалов монгольских великих ханов[93]. Думается, что в это время приписывание создания торе Чингис-хану было не актуально, поскольку в этот период основным законодательством Монгольской империи являлись ясы (законы и установления) Чингис-хана, в совокупности составлявшие Великую Ясу, которая, по нашему мнению, представляла собой систему правовых норм и принципов, обеспечивавших поддержание правопорядка в Монгольской империи и государствах имперского типа – её преемниках, являясь, таким образом, в какой-то мере аналогом торе. Разница между ними заключалась в том, что принципы торе считались установленными самим Небом, тогда как принципы Ясы имели «земное» происхождение, будучи установленными Чингис-ханом и его преемниками.
Однако к концу XIV – началу XV в. в связи с кризисом имперской государственности в чингизидских государствах роль Великой Ясы уменшилась, и с этого времени наравне с ней начинает активно упоминаться торе, причём именно как результат законодательной деятельности Чингис-хана. Так, в «Продолжении сборника летописей», составленного, по мнению исследователей, персидским учёным 1-й трети XV в. Хафиз-и Абру[94], упоминаются «(тура) и устав (ясык) Чингиз-хана»[95]. Г. Дорфер в своём словаре также отмечает употребление понятия «torah-djenkhizkhaniah», в частности, у арабского автора начала XV в. Ибн Арабшаха – современника Амира Тимура[96]. В. В. Бартольд также отмечает, что «Тимура и чагатаев обвиняли даже в том, что для них тура Чингиз-хана стояла выше шариата; на этом основании сирийскими богословскими авторитетами была издана фетва, по которой Тимур и его подданные не признавались мусульманами»[97]. Захир ад-Дин Бабур, тимуридский падишах Индии, в 1-й трети XVI в. упоминает об установлениях Чингис-хана – Tыreh-e-Chengiz или Yвsa Chengiz[98]. Крымский историк XVIII в. Мухаммад-Риза в сочинении «Семь планет в известиях о царях татарских» (ок. 1737) упоминает о применении «чингизской тцрэ» в Крымском ханстве последней трети XVII в.[99] По мере дальнейшего кризиса и окончательного распада чингизидских государств имперского типа Великая Яса как законодательство, созданное именно для регулирования отношений между субъектами имперского значения, постепенно вообще вышла из употребления, что возвысило роль и значение торе – хотя бы и в чисто формальном отношении.
Как можно увидеть из ряда цитированных выше фрагментов (в частности, в сообщениях Хафиз-и Абру, Муин ад-Дина Натанзи и Бабура), торе и Яса позиционировались как правовые категории приблизительно одного уровня и, представляемые как результат правотворчества Чингис-хана и его потомков, в какой-то степени уравновешивали и взаимно дополняли друг друга в различных сферах правоотношений. Это должно было вернуть пошатнувшиеся авторитет и легитимность потомков Чингис-хана в глазах своих тюркских подданных. Именно это стремление Чингизидов и нашло отражение в источниках.
В дальнейшем Чингизиды в ещё большей степени закрепили торе в системе собственного ханского права, «включив» в число его создателей, помимо самого Чингис-хана, также и ряд других правителей. Так, например, в сочинении Муин ад-Дина Натанзи «Мунтахаб ат-таварих», известном также как «Аноним Искандера», встречаются по меньшей мере два упоминания торе («тура») в значении «обычаи» или «уложение», не связанные с именем Чингис-хана. В разделе о деяниях чагатайского правителя Тука (Бука) – Тимура (1272–1282/1291) Натанзи пишет: «Пятнадцать лет Бука-Тимур выполнял то, что было правилом царствования и, возвратив ещё раз к жизни утраченное уложение (в прим. «тура». – Р. П.) Бату определил на [своё] место, как и было [прежде], дела гражданские и государственные»[100]. В разделе же о правлении золотоордынского хана Шадибека (1399/1400–1407) содержится следующее сообщение: «Так как Идигу установил тонкие обычаи (тура) и великие законы (ясак) и люди из привольности попали в стеснение, то Шадибек тайно хотел уничтожить его»[101]. Таким образом, торе, ранее ассоциировавшееся исключительно с самим основателем Монгольской империи, впоследствии стало «коллективной собственностью» членов его рода.[102] Именно это право, существовавшее ещё с доимперского периода, отныне стало ассоциироваться с Чингизидами, их правовой и государственной политикой.
Не случайно крымский хан Мурад-Гирей, намереваясь укрепить свою власть и сделать её более независимой от мусульманских государственных и правовых институтов, решил сформировать суд, который действовал бы именно на основе торе. Это свидетельствовало, с одной стороны, о попытке усилить роль чингизидского (ханского) права в Крымском ханстве, с другой – об отсутствии у Мурад-Гирея имперских амбиций – в ущерб своему сюзерену – турецкому султану. Именно поэтому крымский хан не попытался восстановить в Крыму имперского правопорядка – Ясы Чингис-хана, а предпочёл именно торе, которое даже турецкие правоведы признавали и соотносили с собственным законодательством – «кануном»[103].
Закономерным итогом стало полное ассоциирование в тюркских государствах самого термина «торе» с потомками Чингис-хана – как по мужской, так и по женской линии. Казахские султаны XVIII–XIX вв., бухарские ханы и члены ханских семейств, а также их преемники – эмиры из династии Мангытов (1785–1920), представители династии Минг (правящей династии Коканда), белогорские и черногорские ходжи, претендовавшие на ханскую власть в Кашгарии в конце XVII–XIX вв. – все они добавляли к своему имени и титулу приставку «торе», свидетельствующую об их принадлежности к «Золотому роду» и, следовательно, праве на верховную власть. Таким образом, если в XIII–XIV вв. торе, его создание и действие ассоциировались преимущественно с самим Чингис-ханом, а позднее – с наиболее значительными правителями чингизидских государств, то в позднесредневековый период оно стало неотъемлемым атрибутом всего рода Чингизидов[104].
До сих пор речь шла о тюркских государствах – преемниках Монгольской империи. Обратившись же к собственно монгольским государствам, мы обнаруживаем несколько иную ситуацию в отношении торе. Эта правовая категория продолжает употребляться и в постимперскую эпоху, правда, в значительной степени трансформировавшись в политическую: термин «торе» используется достаточно часто, однако чаще означает не «право», «законы», а «правление», «государство», «правительство»[105]. При этом ассоциирование торе с Чингис-ханом и Чингизидами в собственно монгольской правовой идеологии и летописной традиции оказывается минимальным.
Тем не менее отдельные примеры такого ассоциирования встречаются. В ряде ритуальных текстов упоминается «небеснорожденный Чингис-хан, получивший tцrь народов мира», а также о том, что он получил «tцrь» отдельных правителей – в частности, кераитского Ван-хана и найманского Даян-хана. Хубилай, внук Чингис-хана и монгольский хан (1260–1294), также упоминается как «держатель» торе в силу обладания ханской властью и родовой харизмой[106]. Надо полагать, в имперскую эпоху, и, вероятно, на раннем этапе постимперского периода (конец XIV в.) и в Монголии предпринимались попытки «присвоения» торе Чингис-хану и Чингизидам. Однако в позднесредневековых монгольских текстах прямая связь между обладанием торе и происхождением Чингис-хана или других ханов, его потомков, не наблюдается: фактически каждый монарх в силу своего положения и своих функций также устанавливал или приобретал торе[107].
В сочинениях XVI–XVII вв. эта тенденция проявляется весьма отчётливо: торе подаётся как абстрактная правовая категория, в отличие от тюркской (тюрко-монгольской) правовой и летописной традиции, напрямую не ассоциируемая с конкретными личностями правителей как его создателей. Например, в «Белой истории» – важнейшем источнике по политической и правовой идеологии позднесредневековых монголов, термин «торе» (в значении «правление») упоминается как совокупность ряда правовых принципов – приверженность религии, «правление истины», деятельность хагана и чиновников[108]. Несомненно, подобное видение торе в большей мере соответствовало его исходному пониманию в монгольской (доимперской) правовой традиции. В таком же абстрактном, без привязки к конкретным правителям, смысле категория торе использовалась в монгольской политико-правовой традиции вплоть до эпохи Монгольской автономии включительно[109].
Почему же в монгольской традиции торе не было столь тесно связано с личностью Чингис-хана и представителей его рода, как это было в тюркской традиции? Анализ источников не даёт прямого ответа на этот вопрос, поэтому остаётся лишь делать предположения. Думаем, что причина заключалась в особенностях политической ситуации в Монголии, которая весьма существенно отличалась от ситуации в тюркских государствах Чингизидов.
Тюркские государства (Крымское, Бухарское, Хивинское, Казахское) в течение длительного времени сохраняли независимость, и в них на протяжении веков престол занимали потомки Чингис-хана, которые ради укрепления власти последовательно закрепляли свою роль в создании и применении торе. В Монголии же уже на рубеже XIV–XV вв. начинается глубокий династический кризис. Авторитет Чингизидов существенно понизился после падения империи Юань и в результате междоусобиц, приведших почти к полному физическому исчезновению монгольской ветви династии. Соответственно, начинается ожесточённая борьба за трон между членами «золотого рода» и представителями нечингизидских династий – сначала потомками братьев Чингис-хана, а затем и предводителями могущественного племени ойратов, некоторые из которых также принимали ханские титулы. Естественно, в таких условиях Чингизиды не имели возможности объявить себя «монополистами» в обладании торе: их противники просто-напросто не дали бы им сделать это.
Кроме того, в конце XVI в. монголы принимают буддизм в качестве официальной государственной религии, что приводит к формированию новой политико-правовой идеологии. В её рамках термин «торе» начинает соотноситься уже с «двумя правлениями», т. е. с властью не только светской (ханы), но и духовной (буддийские церковные иерархи)[110]. Естественно, признание за Чингизидами права на единоличное обладание (и, тем более, создание) торе было вовсе не в интересах буддийской церкви, быстро набиравшей влияние в Монголии. Более того, буддийская церковь присвоила себе права присваивать ханские титулы не только на основании происхождения (от Чингис-хана), но и в знак признания заслуг перед «жёлтой верой»: так, ханами стали правители Джунгарии (чорос), Тибета (хошоуты), Калмыкии (торгоуты). Соответственно, в монгольской историографии конца XVI–XVIII вв., представители которой придерживались преимущественно тибетской (фактически – буддийской) историографической традиции даже при описании монгольской государственности и права до принятия буддизма, авторы не пытались соотносить торе с Чингис-ханом и его родом, поскольку такая концепция могла бы подорвать степень легитимности приобретения ханской власти в новых условиях – как нечингизидами, так и Чингизидами.
В связи с этим закономерно возникает вопрос: почему же в тюркских государствах Чингизидов, принявших ислам, мусульманское право не вытеснило традицию торе и мусульманские историки представляли его в связи с деятельностью Чингис-хана и его потомков? Отвечая на него, следует иметь в виду особенности развития мусульманской государственности и права в тюркском мире на протяжении всего Средневековья и Нового времени: в отличие от стран арабского (и персидского) мира, где мусульманская государственность и право доминировали над любой деятельностью правителей, тюркские монархи в значительной степени сохраняли за собой правотворческие функции, нередко реализуя их в ущерб исламу. Причём такая тенденция характерна не только для тюрко-монгольских (чингизидских) государств, но и, например, для государства Ак-Коюнлу в Иране, империи Великих Моголов в Индии, Османской Турции, где на протяжении веков шариатское право сосуществовало с законодательством монархов (в турецкой традиции – канун)[111].
Наконец в XVII в. Монголия (сначала южная, а затем и северная – Халха) попадает под власть маньчжуров – китайской империи Цин. Несомненно, в этих обстоятельствах связывать категории правления исключительно с прерогативами потомков Чингис-хана было бы не просто политически неблагоразумно, но и рискованно, поскольку такие попытки могли вызвать гнев сюзеренов – китайских богдыханов.
Надо полагать, что все эти условия и предопределили особенности понимания торе в Монголии как более абстрактной, деперсонализированной политико-правовой категории, что существенно отличалось от его понимания в тюркском мире, где оно напрямую соотносилось с личностями Чингис-хана и его потомков – представителей «золотого рода».
§ 4. Яса Чингис-хана – правовая кодификация или «закон и порядок»?
Право Монгольской империи представляет собой малоизученный аспект истории этого государства из-за отсутствия правовых памятников, которые позволили бы создать более-менее целостное представление об имперской правовой системе. Тем не менее уже не одно столетие исследователи предпринимают попытки изучения права Монгольской империи, причём одним из наиболее часто привлекающих внимание предметов является Великая Яса Чингис-хана.
Не секрет, что текст Великой Ясы (ни целиком, ни частично) до наших дней не дошёл, имеются только многочисленные упоминания о ней в записках иностранных современников и исторических сочинениях XIII–XV вв.: арабских (ал-Умари, Ибн Халдун, ал-Макризи), персидских (Джувейни, Рашид ад-Дин, Вассаф, Хафиз Аюру, Мирхонд), армянских (Вардан Великий, Григор Акнерци), ближневосточных (Григорий Абу-л-Фарадж), византийских (Георгий Пахимер), западноевропейских (Иоанн де Плано Карпини, Бенедикт Поляки, Вильгельм де Рубрук, Жан де Жуанвиль). Отдельные упоминания встречаются также и в официальных актах тюрко-монгольских государств – своде законов империи Юань и русских переводах ярлыков ханов Золотой Орды. Естественно, все эти источники содержат только отдельные упоминания о Великой Ясе и некоторых правовых положениях, которые, как полагают сами авторы, включались в неё.
Тем не менее с начала XVIII в. учёные пытались изучать Великую Ясу как некую глобальную кодификацию, реконструировать её структуру и отдельные правовые положения. В 1710 г. французский востоковед Ф. Пети де ла Круа в своей работе о Чингис-хане впервые предпринял попытку зафиксировать некоторые правила, которые, по его мнению, входили в Великую Ясу[112]. Начиная с этого времени, многими исследователями на основе вышеупомянутых исторических источников началось изучение Великой Ясы. Среди них можно выделить, в частности, труды И. Н. Березина[113], В. А. Рязановского[114], Б. Я. Владимирцова[115], А. Н. Поляка[116], Г. В. Вернадского[117], Е. И. Кычанова[118], Т. Д. Скрынниковой[119], И. де Рахевилца[120], Д. Эгль[121], С. Церенбалтава и Ц. Минжин[122] и т. д.
Интересно отметить, что чем меньше информации о Великой Ясе привлекается авторами, тем более оригинальные версии они выдвигают. Например, Э. Хара-Даван в 1920-е гг. предположил, что Великая Яса включала в себя также и билики Чингис-хана[123]. Г. В. Вернадский в 1930-е гг. выделил в составе Ясы главы, содержащие, по его мнению, нормы международного, государственного, административного, уголовного, частного права, а также «вспомогательное законодательство»[124]. Современный монгольский исследователь Б. Сумьябаатар полагает, что в состав Ясы также входили военные установления, которые упомянуты в послании хана Хубилая корейскому вану, являвшемуся его вассалом[125]. А. Г. Юрченко отнёс к особому «разделу» Великой Ясы бытовые ритуалы и некоторые запреты (табу), распространённые у средневековых монголов[126]. Наконец монгольский автор Н. Ням-Осор «восстановил» структуру Великой Ясы как глобальной кодификации, которая, по его версии, состояла из 2 частей, 15 глав и 118 статей![127]
Можно выделить два основных взгляда учёных на Великую Ясу. Некоторые из них рассматривают её как кодификацию древнего обычного права тюркских и монгольских племён (Е. И. Кычанов, Т. Д. Скрынникова, И. де Рахевилц), их оппоненты полагают, что это было принципиально новое имперское законодательство (Г. В. Вернадский, Л. Н Гумилёв[128] и др.). Тем не менее представители обеих концепций согласны в том, что Великая Яса представляла собой кодифицированный правовой акт.
Только два учёных уже во 2-й пол. ХХ в. позволили себе усомниться в подобном понимании Великой Ясы. В 1970-е гг. Д. Айалон обратил внимание на вторичный характер большинства сведений о Ясе, дошедших до нашего времени и обнаружил, что единственным первичным источником является «История завоевателя мира» Ата-Малика Джувейни (который писал о «Великой книге Ясы», экземпляры последней хранились в казне наиболее влиятельных Чингизидов)[129]. Он также первым обратил внимание на многозначность термина «яса», который мог означать не только «закон», «право», но и «власть, «правление», «порядок» и т. д.[130] Тем не менее Д. Айалон в целом продолжал придерживаться традиционной парадигмы, рассматривая Ясу как правовой акт или в крайнем случае как сборник отдельных правовых актов[131].
Более радикальное предположение относительно Великой Ясы высказал в 1980-е гг. Д. Морган: он обнаружил, что анализ упоминаний Ясы в монгольских и персидских источниках XIII–XIV вв. не даёт оснований рассматривать её как свод законов в принципе, поэтому следует говорить всего лишь об отдельных правовых установлениях, которые даже не были объединены в какое бы то ни было подобие кодификации[132]. По мнению Д. Моргана, упоминаемую иностранными современниками «Великую книгу Ясы» следует отождествлять с другим правовым памятником – «Синей росписью» («Кок дефтер бичик»), своеобразным реестром, начало ведения которого датируется в «Сокровенном сказании» 1206 г. (который традиционно рассматривается учёными и как год появления Великой Ясы)[133].
Версия Д. Моргана вызвала бурную дискуссию среди учёных, в рамках которой они, впрочем, использовали одни и те же источники, всего лишь интерпретируя их по-разному. Так, И. де Рахевилц обвинил Д. Моргана в незнании китайских источников, в которых Яса упоминается как свод законов[134]. Последний в свою очередь ответил, что информация из китайских источников не даёт никаких оснований считать Ясу именно кодификацией[135]. И нам следует с ним согласиться, поскольку, например, в китайской династийной истории «Юань ши» Великая Яса (по-китайски «да жаса») также именуется «Да фа-лин» (т. е. «великие законы и распоряжения»)[136]. Таким образом, в китайских источниках нет упоминаний о Ясе не только как о кодификации в нашем традиционном понимании, но и как о сборнике отдельных нормативных актов.
В развитие аргументов Д. Айалона и особенно Д. Моргана мы намерены на основе историко-правового подхода проанализировать использование термина «яса» в исторических источниках различных государств – от Монголии и Китая до Бухарского ханства и Мамлюкского Египта – и в различные эпохи (от XIII до XVIII в.), учитывая особенности законотворческой деятельности Чингис-хана и его преемников, в т. ч. и в отношении источников, которые исследователи не относят к Ясе.
На наш взгляд, мнение Д. Моргана о том, что Великая Яса не являлась кодифицированным правовым актом, не противоречит упоминаниям правил Ясы (или отдельных «яс») в различных источниках. Например, три ссылки на Ясу в китайском своде законов «Юань-чао дян-чжан» эпохи империи Юань (ок. 1320 г.) содержат следующие положения: смертная казнь за убийство члена ханского рода; запрет гонцам требовать на почтовых станциях лошадей и провизию в большем количестве, чем это предусмотрено законом; смертная казнь за колдовство[137]. Все эти положения мы можем найти и в других источниках, в т. ч. в записках современников и официальных актах (ханских ярлыках). Так, например, в ярлыке Менгу-Тимура 1269 г. русской православной церкви упоминается, что лица, пытающиеся взимать налоги или сборы с русского духовенства, будут наказаны «по велицей язе»[138]: эта норма берёт начало из ярлыка Чингис-хана, выданного в 1223 г.[139], и также упоминается Джувейни как одна из «яс» Чингис-хана.
Ряд упоминаний Ясы в персидских источниках также дают основания считать, что этот общий термин мог обозначать отдельные правовые нормы и принципы. Например, согласно Джувейни, в 1246 г. Тэмугэ-отчигин, брат Чингис-хана, был «предан казни в соответствии с ясой»[140]. Папский посол к монгольскому хану Иоанн де Плано Карпини сообщает, что в соответствии с «законами и постановлениями» Чингис-хана каждый претендент на трон должен быть убит, если он попробует захватить власть, не будучи избранным на курултае[141]. Как известно, именно в этом преступлении обвинялся Тэмугэ.
Д. Айалон решил исследовать весьма интересный вопрос: влияние Ясы на правовое развитие других государств, в частности – Мамлюкского султаната в Египте. А. Поляк и сам Д. Айалон считают, что мамлюки заимствовали многие принципы Ясы, трансформировав их в собственное законодательство «сияса», которое (в отличие от Ясы) не противоречило нормам шариата[142]