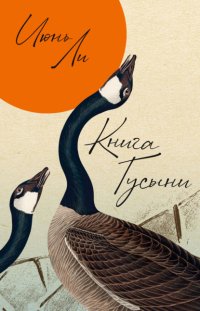Читать онлайн Добрее одиночества бесплатно
- Все книги автора: Июнь Ли
© Yiyun Li, 2014. All rights reserved
© Л. Мотылев, перевод на русский язык, 2018
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018
Издательство CORPUS ®
***
В основе романа тайна, раскрыть которую до конца, быть может, так и не удастся. Действие происходит то в Америке, то в Китае, то перед нами день сегодняшний, то мы возвращаемся на четверть века назад. Это истрия трех людей, жизнь которых переменилась потому, что один из них, вероятно, совершил убийство. По словам одного из героев, «Даже самое невинное существо, если загнать его в угол, способно на бессердечный выпад».
***
Мощный роман о грузе памяти, о тяжести утраты и о том, как прошлое тысячью способов может терзать душу.
The Washington Post
Замечательная книга. Июнь Ли, безусловно, крупный писатель.
Салман Рушди
У Ли уникальный дар рассказывать историю. Читая ее роман, понимаешь, что на нескольких сотнях страниц действительно можно отобразить целую жизнь.
The Boston Globe
***
Дапэну, Винсенту и Джеймсу
Нельзя быть и перестать быть, мой милый Кристоф.
Ромен Роллан «Жан-Кристоф»
1
Боян думал, что горе должно делать людей менее суетными. Зал ожидания при крематории, однако, не отличался от прочих мест: такое же рьяное желание опередить, как на базаре или на фондовой бирже, и такое же подозрение, что тебя нечестно обошли. Мужчина, которому зачем-то понадобились несколько экземпляров бланка, оттеснил его плечом, чтобы их взять. Ты ведь одно тело сжигаешь, усмехнулся себе под нос Боян, и мужчина свирепо посмотрел на него, как будто личная утрата давала ему особые права.
Женщина в черном, вбежав, стала оглядывать пол в поисках белой хризантемы, которую уронила раньше. Служащий, старый человек, смотрел, как она прикалывает ее обратно к воротнику, а потом улыбнулся Бояну.
– И чего они все так торопятся, – заметил он, отвечая Бояну, который посочувствовал его нелегкой жизни. – День за днем, день за днем. Забывают: кто летит за всяким сладким плодом жизни, тот и к смерти летит.
Не исключено, подумал Боян, что служащий, с которым никто не хочет повстречаться и который, если не удалось избежать встречи, становится частью тягостного воспоминания, черпает в этих словах утешение; может быть, и удовольствие получает от мысли, что те, кто обошелся с ним невежливо, вернутся в более холодном виде. Боян испытал к нему прилив симпатии.
Когда старый служащий допил чай, он прошелся с Бояном по документам на кремацию Шаоай: свидетельство о смерти, причина – легочная недостаточность вследствие острой пневмонии; пожелтевшая карточка регистрации по месту жительства с официальным штампом об аннулировании; ее общегражданский паспорт. Служащий проверял документы, включая паспорт Бояна, неторопливо, тщательно, ставя карандашом под цифрами и датами, которые вписал Боян, крохотные точечки. Бояну подумалось: заметил ли он, что Шаоай была на шесть лет старше?
– Родственница? – спросил служащий, подняв глаза.
– Мы дружили, – ответил Боян, воображая разочарование старика из-за того, что Боян, оказывается, не овдовел в свои тридцать семь. Он добавил, что Шаоай болела двадцать один год.
– Хорошо, что все кончается рано или поздно.
У Бояна не было иного выбора, как согласиться с неутешающими словами старика. Боян был рад, что уговорил Тетю, мать Шаоай, не ездить в крематорий. Он не сумел бы оградить ее ни от жалости чужих людей, ни от их недоброжелательности, и ее горе смущало бы его.
Служащий сказал Бояну, чтобы он вернулся через два часа, и он вышел в Вечнозеленый Сад. Шаоай презрительно фыркнула бы при виде кипарисов и сосен – символов вечной юности у стен крематория. Она высмеяла бы и скорбь матери, и задумчивую печаль Бояна, и даже свой бесславный конец. Кто-кто, а она могла бы прожить жизнь на полную катушку. Она терпеть не могла все робкое, скучное, заурядное, она была беспощадно остра; какое лезвие затуплено, подумал в очередной раз Боян. Распад, тянувшийся так долго, превратил трагедию в тягомотину; когда смерть наносит удар, лучше, чтобы она покончила с первой попытки.
На вершине холма под охраной старых деревьев стояли изысканные мавзолеи. Несколько крикливых птиц – вороны, сороки – копошились так близко, что Боян мог попасть в какую-нибудь сосновой шишкой, но без зрителей это мальчишеское достижение пропало бы зря. Будь здесь Коко, она бы показала, что ее повеселил его бросок, и изобразила бы интерес, когда он раскрыл бы шишку и дал бы ей рассмотреть семечки, хотя на самом деле ее мало занимают такие вещи. Коко исполнился всего двадцать один, но она уже была нелюбопытна, как будто прожила долгую жизнь; слишком жадная для своего возраста или слишком ограниченная, она интересовалась только ощутимым, материальным, комфортабельным.
В конце дорожки под крышей беседки был установлен бронзовый мужской бюст. Боян постучал по столбам. Довольно крепкие, хотя дерево не лучшего качества, краска потускнела и местами лупилась; согласно надписи на табличке, беседке было меньше двух лет. Букет пластиковых лилий выглядел скорее мертвым, чем искусственным. Время с тех пор, как экономика рванула вверх, казалось, шло в Китае с нереальной скоростью, новое быстро делалось старым, старое погружалось в забвение. Когда-нибудь и он сможет – если пожелает – оплатить свое превращение в каменный или металлический бюст, купить себе малое бессмертие людям на смех. Если чуточку повезет, то Коко или другая, кто придет ей на смену, может быть, уронит слезинку-другую перед его могилой, горюя если не о мире без него, то о своей зря растраченной молодости.
Какая-то женщина, поднимаясь на холм, увидела Бояна и повернула назад так резко, что он едва успел взглянуть на ее лицо, обрамленное черно-белым узорчатым платком. Рассмотрев сзади ее черное пальто и дизайнерскую сумочку на руке, он подумал, что она, может быть, вдова богатого человека или, лучше, бывшая любовница. На секунду пришла мысль нагнать ее и обменяться парой слов. Если они понравятся друг другу, можно остановиться где-нибудь на обратном пути в город и выбрать чистый загородный ресторанчик ради меню с сельским оттенком: ямс, запеченный в высокой металлической бочке, курица, тушенная с так называемыми «органически выращенными на месте» грибами, глоток-другой крепкого ямсового напитка, который развяжет обоим языки и поспособствует тому, что обедом дело не ограничится. В городе они могут, если будет настроение, встретиться потом еще раз – а могут и не встретиться.
В назначенное время Боян вернулся к стойке. Служащий сказал ему, что придется еще немного подождать: одна семья настояла на том, чтобы все проверить во избежание загрязнения. «Загрязнения чем – чужим пеплом?» – спросил Боян, и старик, улыбнувшись, сказал, что если есть место на земле, где прихоти людей исполняются, то оно здесь. Щекотливое дело, заметил Боян, а затем поинтересовался, не приходила ли одинокая женщина кремировать кого-нибудь.
– Женщина? – переспросил служащий.
Боян подумал было описать женщину старику, но решил, что с человеком, у которого внушающее доверие лицо и мягкое чувство юмора, надо поосмотрительнее. Он сменил тему и порассуждал о новых городских правилах, касающихся недвижимости. Позднее, когда служащий спросил, не хочет ли он взглянуть на останки Шаоай, еще не измельченные до пепла (одни семьи, объяснил служащий, требуют измельчения, а другие просят отдать им кости, чтобы попрощаться как следует), Боян отклонил предложение.
Мысль, что все пришло к такому концу, давала облегчение столь же блеклое и неубедительное, как солнце, которое освещало приборный щиток Бояна на обратном пути в город. На электронные адреса Можань и Жуюй он уже послал сообщения о смерти. Можань, он знал, живет в Америке, а где Жуюй, ему не было известно точно; скорее всего тоже там, но не исключено, что в Канаде, или в Австралии, или где-нибудь в Европе. Он сомневался, что они поддерживают между собой связь; на его имейлы они ни разу не ответили даже простым подтверждением. Первого числа каждого месяца он писал им по отдельности, информируя – напоминая, – что Шаоай жива. Он никогда не сообщал о чрезвычайных ситуациях – однажды была легочная недостаточность, несколько раз сердечная; ограничивая объем информации, он избавлял себя от ожидания ответа. Шаоай всякий раз выкарабкивалась, цепляясь за мир, который в ней не нуждался и где ей не было места, и краткие послания, которые он отправлял, давали ему ощущение постоянства. Верность прошлому – основа некой жизни внутри жизни, которой не кладет конец ни стечение обстоятельств, ни твоя собственная воля. Его упорство сохраняло эту альтернативу нетронутой. Их молчание, он верил, подтверждало это по-своему: молчание, которое хранится так подчеркнуто, может значить лишь то, что они верны прошлому, как он.
Когда врач констатировал смерть Шаоай, Боян почувствовал не приступ горя и не облегчение, а злость – злость на то, что он обманулся, что ему отказано во встрече, на которую, он считал, он имеет право: они – он, Можань и Жуюй – были в этой его фантазии старыми людьми, даже древними, мужчиной и двумя женщинами, почти прожившими земную жизнь и сошедшимися напоследок у озера своей юности. Можань и Жуюй, возможно, сочли бы этот приезд домой естественной, если не триумфальной, эпитафией. Но он бы привез на празднество Шаоай, чье присутствие превратило бы их десятилетия накопления – замужество, дети, карьера, богатство – в смехотворную коллекцию барахольщика. Лучшая жизнь – жизнь непрожитая, и Шаоай одна из всех была бы вправе олицетворять эту истину.
Их глупость, однако, была и его глупостью, и он нуждался в них, помимо прочего, для того, чтобы посмеяться над нелепостью своей собственной жизни: смеяться в одиночку еще более невыносимо, чем горевать одному. Может быть, они не увидели в электронной почте сообщение о смерти – ведь, в конце концов, сейчас только середина месяца. Интуиция подсказывала Бояну, что имеющиеся у него электронные адреса Можань и Жуюй – не те, которыми они пользуются каждый день, он и сам завел для сообщений им отдельный адрес. То, что Шаоай умерла, когда он меньше всего ждал, и что ни Можань, ни Жуюй не подтвердили получение его письма, делало ее смерть нереальной, словно он репетировал один нечто такое, для чего требовались и две другие – нет, все три; Шаоай тоже должна была провожать себя в последний путь.
На шоссе его обогнал серебристый «порше», и он подумал, не женщина ли это, которую он видел на кладбище. Мобильный телефон завибрировал, но он не стал отцеплять его от пояса. Все встречи, назначенные на сегодня, он отменил, и звонила, скорее всего, Коко. Как правило, он не сообщал ей, где будет находиться, так что ей приходилось ему звонить и быть готовой к переменам в последнюю минуту. Держать ее в подвешенном состоянии было приятно тем, что давало ощущение контроля. Папик – это позаимствованное за границей словцо она, вероятно, употребляла, говоря о нем с подругами у него за спиной, но когда он однажды, полупьяный, спросил Коко, так ли она о нем думает, она засмеялась и ответила, что нет, он слишком молодой для этого. Старшенький братик – так она, подмигнув ему, сказала о нем потом подруге по телефону, и позднее он поблагодарил ее за великодушие.
Место для парковки у жилого комплекса, построенного задолго до того, как машины стали частью жизни его обитателей, он нашел не с первого и не со второго захода. Мужчина, протиравший ветровое стекло своего автомобильчика – судя по виду, китайского производства, – бросил на Бояна, когда он выходил из машины, недружелюбный взгляд. Как этот человек, подумал Боян, жестко сцепившись с незнакомцем глазами, поступит с его BMW, когда он отойдет? Поцарапает – или хотя бы заедет ногой по колесу или бамперу? Такие предположения о других людях, ясное дело, отражали его собственное неблагородство, но человек не должен позволять своему воображению плестись в хвосте у окружающего мира. Боян гордился своим презрением и к другим, и к себе. Этот мир, как и многие живущие в нем, неизменно обходится с тобой лучше, если ты не слишком разбрасываешься своей добротой.
Не успел он отпереть квартиру своим дубликатом ключа, как Тетя открыла дверь изнутри. Она, должно быть, плакала, веки красные и распухшие, но была хлопотлива, чуть ли не оживлена, заварила Бояну чай, хотя он сказал, что не надо, подвинула к нему блюдце с фисташками, справилась о здоровье родителей.
Боян был бы рад никогда не знать эту квартиру с одной спальней, уже имевшую запущенный вид, когда Тетя и Дядя только въехали туда с Шаоай, и мало изменившуюся за двадцать лет. Мебель старая, шестидесятых и семидесятых: дешевые деревянные столы и стулья, кровати с давным-давно потускневшими железными каркасами. Единственным дополнением стали подержанные металлические ходунки, купленные по дешевке в больнице, где Тетя работала медсестрой, пока не ушла. Боян помог Дяде отпилить колеса, подогнать ходунки по высоте и прикрепить к стене. Три раза в день Шаоай подводили к ним и побуждали стоять самостоятельно, чтобы мышцы не атрофировались.
Старые простыни, обернутые вокруг подлокотников, за годы обветшали, небесно-голубая краска сильно облупилась, открывая взгляду грязный металл. Больше не придется, подумал Боян, соблазнять Шаоай конфетой, чтобы не упрямилась и постояла, – но будет ли ему лучше в этом новом мире без нее? Как река, обтекающая препятствие, время шло мимо этой квартиры и ее обитателей, чьи жизни и смерти были окаменелостями, принадлежащими к оставленному позади прошлому. Родители Бояна четырежды за минувшее десятилетие покупали жилье, все просторней и все лучше; сейчас они жили в двухэтажном таунхаусе, куда без устали приглашали друзей, чтобы те оценили мраморную ванну, хрустальную итальянскую люстру и сверкающее немецкое оборудование. Боян все четыре раза надзирал за ремонтом, три квартиры родители сдавали, и он вел все связанные с этим дела. У него самого было в Пекине три квартиры; первую, купленную к женитьбе, он, делая жест великодушия и укоризны, оставил бывшей жене, когда человек, с которым она изменяла Бояну, решил, вопреки обещанию, не разводиться ради нее со своей женой.
Рядом с фотографией Дяди, который умер пять лет назад от рака печени, теперь висел черно-белый увеличенный снимок Шаоай в черной рамке. Перед фотографиями стояла тарелка со свежими фруктами: четвертушки апельсинов, ломтики дыни, яблоки и груши – все нетронутое, все восковое и нереальное на вид. Тетя робко показала на это Бояну, словно давая понять, что горюет в самую меру – не так сильно, чтобы быть обузой, и не так слабо, чтобы можно было заподозрить пренебрежение.
– Все прошло как надо? – спросила она, истощив заготовленные к его возвращению темы.
Боян с тяжелым чувством представил себе, как Тетя поминутно смотрела на часы и задавалась вопросом, что сейчас происходит с телом дочери. Он пожалел, что не настоял, чтобы Тетя поехала с ним в крематорий, но тут же прогнал эту мысль.
– Да, все прошло хорошо, – ответил он. – Гладко.
– Не знаю, что бы я делала без тебя, – сказала Тетя.
Боян вынул из белой шелковой сумки урну и поставил рядом с фруктами. Он старался не смотреть пристально на снимок Шаоай, который, вероятно, был сделан в ее университетские годы. За двадцать лет она расплылась, сделалась вдвое крупнее, от чистой линии подбородка ничего не осталось. Быть наполненной всей этой мягкой плотью – и сгинуть в печи… Боян содрогнулся. Отсутствующее тело занимало сейчас больше пространства, чем занимало в прошлом живое. Он резко подошел к ходункам на стене и оценил возможность их отсоединить.
– Давай оставим их тут, хорошо? – сказала Тетя. – Может быть, мне самой когда-нибудь пригодятся.
Не желая позволить Тете направить разговор к будущему, Боян кивнул и сообщил, что ему скоро надо будет идти: встреча с деловым партнером.
Конечно, сказала Тетя; нет, она не будет его задерживать.
– Я послал имейлы Жуюй и Можань, – промолвил он у двери. Произнести эти имена было слабостью с его стороны, но он боялся, что если не разгрузит себя, то его ждет еще один вечер неумеренного питья во вред здоровью, когда он нарочно будет петь не в лад в караоке-баре и слишком громко отпускать похабные шутки.
Тетя не отреагировала, как будто не расслышала, поэтому он повторил, что поделился новостью с Можань и Жуюй. Тетя кивнула и сказала, что он верно поступил, хотя он знал, что она говорит неправду.
– Я так и подумал, что вы одобрите, – сказал Боян.
Воспользоваться тем, что старой женщине было не до возражений, значило поступить жестоко, но он хотел поговорить с кем-то о Можань и Жуюй, услышать их имена, произнесенные голосом другого человека.
– Можань хорошая девушка, – сказала Тетя, протягивая руку, чтобы похлопать его по плечу. – Мне всегда было жалко, что ты на ней не женился.
Даже самое невинное существо, если загнать его в угол, способно на бессердечный выпад. Боян был поражен: до чего легко оказалось Тете причинить ему сильнейшую боль! Не в ее обыкновении было затрагивать его брак. Общая тема у них была одна: Шаоай. Он сообщил в свое время Тете о разводе, но ему не надо было ей напоминать, как приходилось напоминать родителям, что он не хочет с ней его обсуждать. Назвать теперь Можань как предпочтительную пару для него и намеренно уклониться от того, чтобы произнести другое имя… Боян только покачал головой, преодолевая побуждение дать сдачи.
– Не будем сейчас про женитьбу, – сказал он. – Мне надо бежать.
– Столько времени прошло, и ни словечка от Можань, – упорствовала Тетя.
Боян проигнорировал эти слова и пообещал зайти ближе к концу недели. Когда он раньше спросил Тетю про захоронение останков Шаоай, она ответила, что пока не готова. Он заподозрил – возможно, несправедливо, – что Тетя потому держится за урну с прахом, что теперь только она и связывает его с этой квартирой. Они с Тетей не были родственниками.
Вернувшись в свою машину, Боян увидел звонки от матери и от Коко. Он позвонил матери и, поговорив, сообщил Коко эсэмэской, что будет занят до конца дня. Коко и мать были сейчас главными соперницами, претендующими на его внимание. Знакомить их он не считал нужным: одна была для этого в его жизни слишком недолговечным явлением, другая слишком долговечным.
После квартиры Тети родительское жилье давало отраду. Отделанный внутри словно для рекламного журнала, этот дом безукоризненно исполнял роль полупрозрачной завесы, за которой уродства мира отступали, таяли. Тут Боян как нигде понимал, сколь важно вкладываться в пустяки: красивые предметы, подобно дорогим напиткам и необременительным знакомствам, – хорошее средство, чтобы поменьше думать и ничего не чувствовать по поводам, не относящимся к твоему ближайшему окружению.
Накануне, объяснила мать, они с отцом приглашали друзей к ужину. Осталось много еды, и она подумала, что Боян мог бы приехать утилизировать остатки. Он не знал, сказал он со смехом, что он их компостный ящик. Его родители сделались разборчивы в том, что едят сами, они огромное значение придавали всему, что вводят в свой организм, постоянно думали, полезно это или вредно. Заказав для друзей больше еды, чем нужно, они, Боян был уверен, сами мало к чему притронулись.
За столом, когда он приехал, говорили о близнецах его сестры, родившихся в Америке, о ценах на недвижимость в Пекине и в приморском городе, где его родители подумывали купить квартиру в кондоминиуме на самом берегу, и о неумелости их новой домработницы. Только когда мать убрала со стола, она, как бы случайно вспомнив, спросила Бояна, знает ли он о смерти Шаоай. Отец к тому времени ушел к себе в кабинет.
О том, что он не порвал связь с родителями Шаоай, что оказывает помощь этой семье, одолеваемой болезнями и смертями, Боян не считал нужным сообщить родителям. Если они и подозревали, что некая связь существует, то предпочитали не знать. Ключ к успеху, считали его родители, в способности жить селективно, с выбором, забывать то, о чем лучше не помнить, избавляться от маловажных и лишних знакомств, отрешаться от ненужных эмоций. Известность и материальное благополучие вторичны, хоть и не должны удивлять, производны, если ты способен проявить безличную мудрость в очерчивании границ своего бытия. Примером, подкреплявшим для них это убеждение, была сестра Бояна, видный физик в Америке.
– Да, слышал, – ответил Боян.
У Тети не было причин скрывать смерть от бывших соседей, и его не удивило, что кто-то из них – а может быть, и не один – позвонил его родителям. Тот редкий случай, когда о смерти, возможно, сообщали не без удовольствия, едва скрывая желание наказать под личиной вежливости.
Мать вернулась из кухни с двумя чашками чая и поставила одну перед ним. Его раздосадовало, что она вывела разговор из комфортабельного круга обычных для них тем. Он всегда послушно приезжал по ее зову; лучший способ соблюдать дистанцию, считал он, – это удовлетворять все ее нужды.
– Ну и что ты думаешь? – спросила мать.
– О чем?
– Обо всем, – сказала она. – О том, что пошло прахом.
– Что пошло прахом?
– Жизнь Шаоай, конечно, – сказала мать, поправляя одиночную каллу в хрустальной вазе на обеденном столе. – Но даже если вынести ее за скобки, были затронуты и другие жизни.
Чьи, захотел спросить ее Боян, другие жизни она способна удостоить внимания? Химическое вещество, найденное в крови Шаоай, было взято из лаборатории его матери; была ли это попытка убийства, или неудавшееся самоубийство, или странная случайность – так и не установили. В его семье об этом деле не говорили, но Боян знал, что мать до сих пор не смягчилась, до сих пор зла.
– Ты хочешь сказать – твоя карьера пошла прахом? – спросил Боян.
После инцидента университет принял в отношении его матери дисциплинарные меры за неправильное хранение химикатов. Могло бы сойти за неприятный, но не столь важный случай, мало влияющий на ее в целом блестящую академическую карьеру, но она принялась оспаривать обвинение: все лаборатории на факультете жили по устаревшим правилам, химикаты были доступны всем аспирантам. Большое несчастье, признала она, что пострадал человек; она была готова понести наказание за то, что трое подростков находились в лаборатории без присмотра, – ее ошибка касалась людей, а не химикатов.
– Если ты желаешь взглянуть на мою карьеру, то она, конечно, пошла прахом без всякой на то причины.
– Но для тебя же все хорошо обернулось, – возразил Боян. – К лучшему – ты должна это признать.
Его мать ушла из университета и стала работать в фармацевтической компании, которую позднее купила американская компания. Благодаря своему безупречному английскому, выученному в католической школе, и нескольким патентам на свое имя она стала зарабатывать втрое больше, чем получала бы на должности профессора.
– Но разве я сказала, что имею в виду себя? – спросила она. – Твое предположение, что у меня только моя персона на уме, – всего лишь гипотеза, а не доказанный факт.
– Не вижу больше никого, достойного твоей заботы.
– А ты сам?
– Что ты имеешь в виду?
Очень слабо с моей стороны, подумал Боян: вопрос, ответ на который известен заранее.
– У тебя нет ощущения, что твоя жизнь была затронута отравлением Шаоай?
Какой ответ она хотела услышать?
– С такими вещами смиряешься, привыкаешь, – сказал он. Секунду поразмыслив, добавил: – Нет, не думаю, что этот случай затронул меня сколько-нибудь существенно.
– Кто хотел ей смерти?
– Что, прости?
– Ты расслышал меня верно. Кто хотел убить ее тогда? Она не была похожа на самоубийцу, хотя, безусловно, одна из твоих девочек, не помню, которая, на это намекала.
Прокручивая в голове сценарии смерти Шаоай, Боян никогда не включал в них мать – но разве родителям отведено место в фантазиях сына или дочери? Тем не менее она уделяла этому делу внимание, и то, что он недооценивал ее осведомленность, раздосадовало его.
– Я уверена, – сказала она, – что ты понимаешь: если ты откровенно признаешься мне сейчас, что сам ее отравил, я ничего не скажу и не сделаю. Я спрашиваю исключительно из любопытства.
Они подчинялись одному и тому же кодексу – кодексу сосуществования двух чужих друг другу людей, близости – если эту форму взаимоотношений можно так назвать, – окультуренной вышколенным безразличием. Ему скорее нравилось, что с матерью сложилось именно так, и он знал, что в некоем смысле никогда не был ее ребенком; она, со своей стороны, не позволит себе, когда совсем состарится, стать его подопечной.
– Я не отравлял ее, – сказал он. – Сожалею.
– Почему сожалеешь?
– Ты была бы гораздо счастливее, если бы получила ответ. И я тоже был бы счастливее, если бы мог точно тебе сказать, кто это сделал.
– Тогда остаются только две возможности. Можань или Жуюй. Что ты думаешь?
Он задавал себе этот вопрос год за годом. Он посмотрел на мать с улыбкой, стараясь, чтобы лицо ничего не выдало.
– А ты что думаешь?
– Я не знала ни ту, ни другую.
– У тебя не было причины их знать, – сказал Боян. – И кого бы то ни было, если на то пошло.
Его мать, он знал, была не из тех, кто реагирует на сарказм.
– С Жуюй я фактически не была знакома, – сказала она. – Можань я, конечно, видела, но плохо ее помню. Не блестящего ума, если я не ошибаюсь.
– Сомневаюсь, что может найтись ум, достаточно блестящий для тебя.
– Ум твоей сестры, – возразила мать Бояна. – Но не уводи меня в сторону. Ты хорошо знал обеих, у тебя должны быть соображения.
– У меня их нет, – сказал Боян.
Мать посмотрела на него, мысленно располагая по-новому, представилось ему, его и других людей, как делала это с химическими молекулами. Ему вспомнилось, как он возил родителей в Америку отпраздновать сороковую годовщину их свадьбы. В аэропорту Сан-Франциско они увидели выставку деревянных охотничьих приманочных уток. Несмотря на двенадцатичасовой перелет, мать внимательно рассмотрела каждый экспонат. Она была захвачена разнообразием цветов и форм, она читала плакаты 1920-х годов, рекламирующие двадцатицентовых уток, и, зная, какая в какие годы была инфляция, высчитывала, сколько эти утки стоили бы сегодня. Всегдашняя любознательность, подумал Боян, безличная любознательность.
– Ты их когда-нибудь спрашивал? – поинтересовалась она сейчас.
– Не пытались ли они убить человека? – уточнил Боян. – Нет.
– Почему нет?
– По-моему, ты переоцениваешь возможности сына.
– Разве ты не хочешь знать? Почему не спросить?
– Когда? Тогда или сейчас?
– Что мешает спросить сейчас? Возможно, они теперь, когда Шаоай умерла, будут с тобой откровенны.
Начнем с того, подумал Боян, что ни Можань, ни Жуюй не отвечали на имейлы.
– Если даже ты не переоцениваешь моих возможностей, ты, безусловно, переоцениваешь желание людей откровенничать, – сказал он. – Но тебе не кажется, что это мог быть несчастный случай? Слишком скучная версия для тебя?
Мать опустила глаза в свою чашку с чаем.
– Если я положу в чайник слишком много чайного листа, это можно назвать ошибкой. Но никто случайно не добавляет яд человеку в чашку. Или ты хочешь сказать, что жертвой должна была стать Можань или Жуюй, а бедная Шаоай просто выпила не тот чай? Невольно думаешь, что это мог быть ты!
– Мог случайно выпить яд?
– Нет. Я вот что спрашиваю: считаешь ли ты возможным, что кто-то пытался убить тебя?
В одиночной калле с ее безукоризненным изгибом – мать любила этот цветок больше всех – было что-то нереальное и угрожающее. Мать легонько подула на чай, не глядя на Бояна, хотя это, он знал, тоже было частью исследовательского процесса. Она искажает прошлое произвольно, потакая своей прихоти, или обнаруживает свое подлинное сомнение – или же граница между первым и вторым так зыбка, что одно не может без другого? Насколько он знал, он жил в зоне ее селективной неосведомленности, но, может быть, это только иллюзия? Не стоит считать, что способен вынести окончательное суждение о собственной матери.
Он признался, что такая мысль никогда его не посещала.
– Но ты знаешь, ведь этот вариант не исключен, – сказала она.
– С какой стати кому-то могло прийти в голову убить меня?
– С какой стати человеку приходит в голову убить человека? – сказала она, и Бояну мгновенно стало ясно, что он был слишком неосторожен в этом разговоре. – Если некая особа крадет яд из лаборатории, то, значит, она намеревается причинить вред кому-то другому или себе самой. По мне, вред был причинен уже в тот момент, когда вещество было украдено. Зачем – я тебя не спрашиваю. Зачем человек совершает тот или иной поступок – это выше моего понимания и меня не интересует. Все, что я хотела бы знать, это кто пытался убить кого, но, к сожалению, у тебя ответа нет. И печально, что ты, судя по всему, не разделяешь мое любопытство.
2
Первого августа 1989 года, когда поезд въезжал под сводчатую крышу пекинского вокзала, Жуюй, приспосабливая взгляд после яркого дневного света к серым вокзальным сумеркам, еще не знала, что готовиться к отправлению в путь надо начинать задолго до прибытия на место. Ей, пятнадцатилетней, еще многое предстояло узнать. Искать ответы на свои вопросы значит познавать мир. Простодушные в детстве, интимные, когда становишься старше, и, если человек в зрелом возрасте настаивает на определенности, отклоняемые, когда ответить невозможно, эти вопросы творят контекст бытия. Жуюй, однако, уже был дан ответ, исключавший все вопросы.
Пассажиры двинулись кто в начало, кто в конец вагона. Жуюй, оставшись сидеть, смотрела в грязное окно. На перроне люди отталкивали друг друга локтями или – еще эффективнее – сумками и чемоданами. Кто-то – Жуюй не знала кто и не любопытствовала – должен был ждать ее на этом перроне. Она вынула из школьной наплечной сумки пару заколок и заколола ими волосы. Так ее описали ее тети-бабушки в письме будущим хозяевам, написанном за неделю до поездки: белая блузка, черная юбка, две голубые заколки-бабочки, коричневый плетеный сундук, 120-кнопочный аккордеон в черном кожаном футляре, школьная сумка и фляга с водой.
Две последние пассажирки, родственницы по браку, предложили ей помощь. Жуюй поблагодарила, но сказала, что справится сама. Во время девятичасовой поездки эти две женщины изучали Жуюй с нескрываемым любопытством; то, что она выпила лишь несколько глоточков воды, что ни разу не отлучилась в туалет, что ни разу не выпустила из рук школьную сумку, – все это не ускользнуло от их внимания. Они предложили Жуюй персик и пачку крекеров, позднее бутылку апельсинового сока, купленную на станции через окно; от всего этого Жуюй вежливо отказалась. Они согласились между собой, что она воспитанная девочка, но все равно чувствовали себя обиженными. Жуюй, некрупная по телосложению, казалась этим двум женщинам и другим пассажирам слишком юной, чтобы путешествовать в одиночку; когда ее пытались расспрашивать, она отвечала сдержанно и мало что сообщила о том, к кому едет и зачем.
Когда проход опустел, Жуюй сняла аккордеон с багажной полки. Школьная сумка из прочного полотна, которая была у нее с первого класса, давно уже выцвела, превратилась из травянисто-зеленой в бледно-желтую, почти белую. Внутрь тети вшили маленький матерчатый мешочек, в него они положили двадцать новеньких купюр по десять юаней – большую сумму для девочки ее лет. Очень аккуратно Жуюй выдвинула из-под сиденья сундук – самый маленький в наборе из трех плетеных ивовых сундуков, купленном, сказали ей тети, в 1947 году в лучшем универсальном магазине Шанхая; они очень просили обращаться с ним бережно.
Шаоай узнала Жуюй сразу же, едва она с трудом выволоклась на перрон. Кто, кроме этих двух старых дам, додумался бы засунуть девочку в такую допотопную одежду и, сверх того, заставить ее нести старомодную, детскую школьную сумку и флягу с водой? «Ты моложе выглядишь, чем я думала», – сказала Шаоай, подойдя к Жуюй, хотя это была неправда. На черно-белой фотографии, приложенной к письму тетями-бабушками Жуюй, она, несмотря на шерстяное платье со свободной юбкой, которое было ей велико, выглядела обыкновенной школьницей, ее глаза бесхитростно глядели в камеру – глаза ребенка, еще не знающего своего места в мире и не озабоченного из-за этого места. А сейчас лицо, которое увидела Шаоай, было покрыто льдистой, твердой не по годам оболочкой неуязвимости. Шаоай почувствовала легкую досаду, как будто поезд привез не ту пассажирку.
– Сестра Шаоай[1]? – спросила Жуюй, узнав девушку по семейной фотографии, присланной ее тетям: короткая стрижка, угловатое лицо, тонкие губы, придающие лицу нетерпеливую раздражительность.
Шаоай достала из кармана шорт фото Жуюй.
– Чтобы не боялась, что тебя встретил не тот человек, – сказала Шаоай и засунула снимок обратно в карман.
Жуюй узнала фото, сделанное два месяца назад, когда ей исполнилось пятнадцать. Каждый год в день рождения – хотя она, не спрашивая вслух, задавалась иногда вопросом, настоящий это день рождения или только приблизительный, – тети водили ее к фотографу. Черно-белые карточки хранились в альбоме, каждая вставлялась в четыре серебристых приклеенных уголка на отдельной странице, под ней писался год. За эти годы фотограф, который начинал, когда она была маленькая, учеником, но теперь уже не был молодым человеком, ни разу не попросил Жуюй изменить позу, так что на всех снимках она сидела прямо, сложив руки на коленях. Шаоай наверняка получила второй экземпляр: тети Жуюй не из тех, кто будет портить безупречный альбом, оставляя четыре пустых уголка. Тем не менее мысль, что кто-то чужой владеет чем-то связанным с ней, обеспокоила Жуюй. Она почувствовала, что ладони вспотели, и, заведя руки за спину, вытерла их о черную хлопчатобумажную юбку.
– Тебе бы полегче что-нибудь носить летом, – сказала Шаоай, глядя на длинную юбку Жуюй.
В неодобрительном взгляде Шаоай Жуюй увидела ту же бесцеремонность, что в поведении двух женщин в поезде. Итак, эта старшая девушка не отличается от всех: сразу считает себя вправе давать Жуюй советы о том, как ей жить. Что отделяло Жуюй от них – они не догадывались, – это избранность. То, что она знала, не могло быть им открыто; она видела их так, как они не могли видеть ни ее, ни себя, видела насквозь.
Шаоай было двадцать два; Дядя и Тетя, у которых она была единственным ребенком, неким сложным образом – тети-бабушки не объяснили точно – состояли с ними в родстве. «Честные люди» – так тети-бабушки охарактеризовали семью, согласившуюся взять Жуюй на год – или, если пойдет хорошо, на три года, пока Жуюй не окончит школу и не поступит в высшее учебное заведение. В Пекине имелись и две другие семьи, тоже не совсем чужие, которые тети рассматривали, но в обеих были мальчики возраста Жуюй или чуть постарше. В итоге выбор пал на Шаоай и ее родителей.
– Дам тебе минутку перевести дух, хорошо? – проговорила Шаоай и, не успела Жуюй ответить, подхватила сундук и аккордеон. Жуюй предложила, что сама возьмет что-нибудь, но Шаоай только дернула подбородком в сторону выхода и сказала, что у нее есть помощники, они ждут.
Жуюй не была подготовлена к городскому шуму и зною за пределами вокзала. Предвечернее солнце было белым диском за пеленой смога, мужчина суровым голосом перечислял в громкоговоритель имена и приметы разыскиваемых за подрывную деятельность и антиправительственные выступления этим летом. Транзитные пассажиры заполонили тенистые места под рекламными щитами, менее удачливые лежали, накрывшись газетами. Пять женщин с рекламой на кусках картона ринулись к Шаоай и наперебой, надрывая голоса, стали предлагать ночлег и транспортные услуги. Шаоай, умело используя сундук и аккордеон, таранила толпу, а Жуюй, которая на секунду замешкалась, окружили другие зазывалы. Женщина средних лет в платье без рукавов схватила Жуюй за локоть и потащила в сторону от конкуренток. Жуюй попыталась высвободить руку и объяснить, что она приехала к родственникам, но ее слабые протесты заглушались густым туманом шума. В провинциальном городе, где она росла, редко кто, незнакомый или знакомый, подходил к ней так близко. Когда она была меньше, от натиска окружающего мира ее защищали прямая осанка и суровые лица теть; позднее, когда они уже не всюду ее сопровождали, люди все равно не беспокоили ее ни на улице, ни на рынке: в том, как держалась она сама, в ее неулыбчивости узнавали суровость теть и переносили на нее свое уважение к ним.
Шаоай, вернувшись, мигом избавила Жуюй от зазывал. А где мой аккордеон, спросила Жуюй, увидев, что у Шаоай пустые руки. Шаоай, которой послышался упрек, остановилась. У моих помощников, разумеется, сказала она; ты что думала, я способна бросить твой драгоценный багаж только для того, чтобы тебя спасти? Могла бы и сама унести ноги.
Жуюй до тех пор ни разу не попадала в положение, когда надо уносить ноги; ее тети – а в последние годы и она сама, она это знала, – обладали способностью расчищать себе дорогу среди людей. Грудным ребенком она была оставлена на пороге дома, где жили две незамужние сестры-католички, и ее вырастили эти женщины, не связанные с ней родством. Как две пророчицы, тети выложили перед ней карту с траекторией ее жизни: из их маленькой квартирки в провинциальном городе в Пекин, а оттуда за границу, где она обретет в Церкви свой подлинный и единственный дом. Вне квартирки с одной спальней, где она жила с ними, соседи, учителя и одноклассники проявляли ненужное, бессмысленное любопытство по поводу ее жизни, как будто каша, которую она ела на завтрак, и ее варежки на тесемке, пропущенной через рукава, давали ключ к некой загадке, которая превосходила их разумение. Жуюй научилась отвечать на их вопросы холодно, но корректно. Их невежество она, тем не менее, презирала: им предстояло прожить жизнь в пыли, ей – в чистоте и совершенстве.
Помощники Шаоай, ждавшие в тени здания, были подростки – мальчик и девочка. Шаоай познакомила Жуюй с ними: Боян, крупный, крепкий, загорелый, с белозубой улыбкой, привязывал футляр с аккордеоном к багажнику своего велосипеда; худощавая длинноногая Можань уже сидела на своем велосипеде верхом, приладив сзади ивовый сундук. Они соседи, сказала Шаоай, оба на год старше Жуюй, но в школе будут учиться с ней в одном классе. Когда она упомянула про школу, Боян и Можань взглянули на футляр с аккордеоном, так что, судя по всему, они знали подоплеку. У Жуюй не было пекинской прописки; когда Дядя и Тетя получили первое письмо с предложением на ее счет, они ответили, что были бы рады от всей души помочь с ее образованием, но в большинстве старших школ не примут ученицу без прописки. Жуюй, написали им тогда ее тети-бабушки, прекрасно играет на аккордеоне, и они прислали копию свидетельства о восьми классах музыкального образования. Как Дядя и Тетя уговорили школу (ее в свое время окончила Шаоай) принять Жуюй ввиду ее музыкальных способностей, Жуюй не знала; тети, получив письмо, где было сказано, что девочка должна привезти с собой в Пекин аккордеон и оригинал свидетельства, не выразили удивления.
Вечером, лежа в кровати, которую ей надо было делить с Шаоай, Жуюй думала о том, что ей предстоит жить в мире, где присутствие ее теть не ощущается и не внушает уважения, и впервые почувствовала, что становится той, кого в ней видели люди: сиротой. Пекин, так или иначе, заставил ее почувствовать себя маленькой, но еще хуже было людское безразличие к тому, что она маленькая. Когда вошли в автобус, чтобы ехать от вокзала к ее новому дому, мужчина в рубашке с короткими рукавами встал близко от Жуюй и, едва автобус тронулся, начал к ней прижиматься. Она стала отодвигаться, но его вес преследовал ее, а другие пассажиры не обращали внимания: когда Жуюй, надеясь на помощь, посмотрела на двух сидевших перед ней женщин, они – чужие друг другу, судя по тому, что не разговаривали между собой и не обменивались улыбками, – обе отвернулись и принялись смотреть в окно на магазины. Ее затруднение продлилось бы дольше, если бы не Шаоай: купив билеты у кондуктора, она протиснулась к Жуюй и, словно ища рукой спинку сиденья, чтобы держаться, всунула руку между ней и мужчиной. Не было произнесено ни слова, но, может быть, Шаоай толкнула мужчину локтем, или сурово на него посмотрела, или само ее присутствие заставило мужчину податься назад. Всю дорогу затем Шаоай стояла с ней рядом – стальная преграда между Жуюй и остальным миром. Обе молчали, и, когда пришло время выходить, Шаоай похлопала Жуюй по плечу, жестом велела следовать за ней и стала проталкиваться к двери. Тот мужчина, Жуюй заметила, не спускал глаз с ее лица, пока она двигалась к выходу. Хотя между ними было немало пассажиров, Жуюй почувствовала, что ее лицо горит.
На тротуаре Шаоай спросила Жуюй, не слабоумная ли она – почему себя не защищает? Жуюй редко приходилось видеть рассерженного человека вблизи: у обеих ее теть характер был спокойный, и эмоциональную возбудимость любого сорта они считали препятствием для личного совершенствования. Она вздохнула и отвела глаза в сторону, чтобы не раздражать Шаоай.
На долю секунды Шаоай пожалела о своей вспышке: в конце концов, Жуюй еще девочка, провинциалка, сирота, которую воспитывали две старые чудачки. Шаоай охотно смягчилась бы и даже извинилась бы, если бы Жуюй поняла, откуда проистекает ее злость, но гостья ни единым жестом не показала, что хочет умиротворить Шаоай или защититься. В ее молчании Шаоай почуяла презрительное желание высвободиться.
– Неужели твои тети не научили тебя ничему полезному? – спросила Шаоай, еще более сердитая сейчас – и на неотзывчивость Жуюй, и на свою вспыльчивость.
Ничто так не отделяло Жуюй от мира, как его недоброжелательство к ее тетям-бабушкам. Парировать людскую критику в их адрес значило больше, чем оправдывать то, как они ее воспитали: защищать их значило защищать Бога, избравшего ее, чтобы ее оставили на их пороге.
– Тети научили меня большему, чем ты можешь себе представить, – сказала Жуюй. – Если тебе не нравится, что я приехала у вас жить, – пускай не нравится, я понимаю. Я не для того здесь, чтобы тебе понравиться, и не твое дело одобрять или не одобрять моих теть.
Шаоай посмотрела на Жуюй долгим взглядом, а потом пожала плечами, показывая, что не настроена спорить с ней дальше. Когда приблизились к дому Шаоай, эпизод был оставлен в прошлом – так, по крайней мере, казалось.
Пожалуйста – Жуюй сложила ладони на груди – пожалуйста, дай мне увидеть, что большой город ничто по сравнению с тобой. Бамбуковый матрас уже не давал прохлады, но она воздерживалась от того, чтобы передвинуться, и оставалась на том краю кровати, который ей указала Шаоай. Единственное маленькое прямоугольное окно, расположенное высоко, пропускало мало вечернего воздуха, и под сеткой от комаров Жуюй чувствовала, что пижама липнет к телу. В общей комнате, приглушенно звуча, мерцал телевизор, хотя Жуюй сомневалась, что Дядя и Тетя его смотрят. Некоторое время они разговаривали шепотом, и Жуюй подумала, что, может быть, они говорят о ней или о ее тетях-бабушках. Пожалуйста, вновь сказала она мысленно, пожалуйста, дай мне мудрость уживаться с чужими, пока я не оставлю их позади.
Тети не научили Жуюй молиться. Ее воспитание не было строго религиозным, хотя тети сделали, что могли, чтобы дать ей образование, которое считали необходимым для ее будущего вхождения в Церковь. Сами они не посещали никаких служб с 1957 года, когда Коммунистическая партия реформировала Церковь, превратив ее в Китайскую патриотическую католическую ассоциацию; они не сохранили никаких осязаемых свидетельств своей прежней духовной жизни. И все же с очень юного возраста Жуюй понимала, что не отсутствие родителей отделяет ее от других детей, а присутствие Бога в ее жизни, которое делает родителей, братьев, сестер, друзей, подруг и даже теть излишними. Она начала разговаривать с ним еще до того, как пошла в начальную школу. «Отче наш…» – слышала она от теть с раннего детства, и разговором с ним Жуюй заканчивала каждый день, беседуя с Богом, как ребенок может беседовать с вымышленным другом или с собой, обращаясь к абстрактному и в то же время надежному, внушающему покой существу. Но он не был ни другом, ни частью ее самой; он принадлежал ей в такой же мере, в какой принадлежал ее тетям. Из тех, с кем она познакомилась сегодня в Пекине, никому, она знала, секрет его присутствия не был открыт, как ей: ни Дяде и Тете, которые сказали ей, что она теперь в их семье, и попросили говорить о всех своих нуждах не стесняясь; ни соседям – их было пять семей, они все, когда она появилась, вышли во двор, заговорили с ней так, словно знали ее всю жизнь, мужчина подшутил над ее аккордеоном, сказав, что он слишком большой для ее узеньких плеч, женщина не одобрила ее одежду, мол, сыпь пойдет от здешней влажной жары; ни мальчику Бояну и девочке Можань, они оба в присутствии старших вели себя тихо, но по взглядам, которыми они обменивались, Жуюй видела, что им есть что сказать друг другу; ни Шаоай, которая, по-королевски досадуя на суматоху, поднятую соседями из-за прибытия новой девочки, ушла из двора до того, как они отздоровались с Жуюй.
Пожалуйста, сделай так, чтобы время с этими чужими прошло быстро и я поскорее встретилась с тобой. Она готова была окончить разговор, как обычно, извинением – всегда она просит слишком о многом, не предлагая ничего взамен, – и тут входная дверь открылась и громко захлопнулась; металлический колокольчик, который, она заметила, висел сверху на двери, зазвенел и тут же умолк, прихваченный чьей-то рукой. Тетя сказала что-то, и Шаоай – это она, должно быть, сейчас пришла – произнесла в ответ что-то резкое, но слов Жуюй не разобрала, потому что обе говорили вполголоса. Она посмотрела через комариную сетку на занавеску, отделявшую общую комнату от спальни – белый цветочный узор на синей хлопчатобумажной ткани, – и на световую полосу под занавеской.
Дом, построенный сто с лишним лет назад, предназначался для традиционной семейной жизни: посередине дома общая комната, проемы между ней и спальнями открытые, без дверей. Самая маленькая спальня – крохотная каморка справа от входной двери – была целым миром, миром Дедушки – Дядиного отца, уже пять лет прикованного к постели после нескольких инсультов. Вечером после приезда Жуюй, показывая ей дом, Тетя ненадолго приподняла занавеску, и девочка увидела старика, лежащего под тонким серым одеялом; жизнь в его исхудалом лице оставалась только в тусклых глазах, которые повернулись к Жуюй. Он издал какие-то невнятные звуки, и Тетя громко, но незло ответила, что все в порядке, беспокоиться ему не о чем. Жаль, сказала она Жуюй, что они не могут предложить ей отдельную спальню, а потом показала на занавеску, за которой лежал Дедушка, и тихо добавила: «Хотя кто знает. Эта комната может освободиться в любой день».
Спальня, которую Жуюй предстояло делить с Шаоай, была самая большая в доме и до ее приезда принадлежала Дяде с Тетей. Тетя извинилась, что мало что успела поменять, только поставила в углу новый письменный стол. В другой спальне – в бывшей спальне Шаоай – стол не помещался, а без него, сказала Тетя, никак нельзя: Жуюй нужен свой тихий уголок для занятий. Жуюй пробормотала что-то среднее между извинением и благодарностью; впрочем, Тетя, смахивая пыль с абажура настольной лампы – тоже новой, купила на распродаже вместе со столом, сказала она, – похоже, не расслышала. Жуюй невольно спросила себя, думали ли ее тети-бабушки, как их план на ее счет изменит жизнь других людей; если они что-то знали, то ей не сказали, и ее смутило, что такая маленькая персона может причинить столько неудобства. За ужином Шаоай фыркнула, когда Тетя напомнила ей показать Жуюй, как приладить комариную сетку; даже ребенок это может, сказала она, на что Тетя умиротворяющим тоном ответила, что хотела только, чтобы Жуюй поскорее освоилась на новом месте. Малоразговорчивый Дядя с печальной улыбкой подошел к столу в сильно поношенной нижней рубашке, но Тетя, взглянув на него, нахмурилась, и он поспешил в спальню и вернулся в приличной рубашке, аккуратно застегнутой. По ожидающим лицам Дяди и Тети Жуюй поняла, что ужин ради нее приготовлен особый, а позже вечером, неся воду для умывания из деревянной кадки рядом с кухней, она услышала, как Дядя успокаивает Тетю – мол, девочка, наверно, просто устала с дороги, – а Тетя отвечает, что поскорей бы к Жуюй вернулся аппетит, нехорошо в ее возрасте клевать по чуть-чуть, как птичка.
На занавеске спальни возникла человеческая тень: кто-то подошел к ней снаружи. Узнав профиль Шаоай, Жуюй закрыла глаза. Тетя что-то прошептала, но Шаоай вошла в спальню, не ответив. Она остановилась в полутьме и зажгла свет – голую лампочку, низко свисающую с потолка. Жуюй зажмурилась крепче; ей слышно было, как Шаоай ходит, что-то берет, кладет. Чуть погодя заработал электровентилятор, больше ничего вечернюю тишину не нарушало. Воздушный поток мигом поднял комариную сетку, и с подчеркнутым вздохом Шаоай заткнула ее нижний край под матрас.
– Тебе надо быть хоть ненамного умней, чем комары, – сказала она.
Жуюй не знала, извиняться ей или нет, и решила не открывать глаз.
– Не кутайся в одеяло, – сказала Шаоай. – Жарко.
Выдержав паузу, Жуюй ответила, что ей хорошо, и Шаоай не стала развивать тему. Она погасила свет и переоделась в темноте. Когда она забралась в кровать со своей стороны и поправила комариную сетку, Жуюй пожалела, что не легла заранее спиной к середине кровати. Теперь было поздно, поэтому она старалась лежать неподвижно и дышать тихо. Пожалуйста, сказала она мысленно, чувствуя, что Шаоай о ней думает, пожалуйста, окутай меня своей любовью, замаскируй, чтобы они меня не ощущали.
Позже, когда Шаоай заснула, Жуюй открыла глаза, посмотрела на комариную сетку наверху, серую и бесформенную, и прислушалась к шуму вентилятора. С тех пор как она сошла с поезда, миновало несколько часов, но тело все еще чувствовало движение, как будто сохранило в себе живую память о поездке. Много было всего в ее новой жизни, к чему надо было привыкнуть: общая уборная в конце дорожки, которую показала ей Можань; водопроводный кран посреди прямоугольного двора, у которого, Жуюй видела, собрались после захода солнца Боян и еще несколько молодых людей из двора, плескали холодной водой себе на голые торсы и по очереди подставляли под струю головы, чтобы освежиться; кровать, которую нужно делить с кем-то еще; трапезы под беспокойными взглядами Тети. Впервые за день Жуюй затосковала по кровати за старой муслиновой ширмой в передней однокомнатной квартиры своих теть-бабушек.
3
Послание Селии на автоответчике Жуюй звучало панически, как будто Селия попала в торнадо, но Жуюй была мало удивлена такой экстренностью. Вечером Селия должна была принимать свою обычную женскую компанию – пришла ее очередь. Эти ежемесячные посиделки начались как книжный клуб, но чем больше книг оставалось недочитанными и необсужденными, тем чаще вводилось другое: дегустация вин, дегустация чаев, сеанс вопросов и ответов с главой местного агентства по недвижимости, когда рынок пошел вниз, воскресный мастер-класс по изготовлению домашнего мыла и свечей. Селия, одна из трех основательниц книжного клуба, неофициально окрестила его Букингемским дамским обществом, но использовала это название только в разговорах с Жуюй, считая, что оно может быть обидным для тех, кто не в клубе, и для кое-кого из тех, кто в нем. Не все участницы книжного клуба жили на Букингем-роуд. Иные из них обитали на улицах с менее звучными названиями: Кент-роуд, Бристоль-лейн, Чаринг-Кросс-лейн, Норфолк-уэй. Дома на всех этих улицах были, конечно, вполне пристойные, и тамошние дети ходили в одну школу с ее детьми, но Селия, живя на Букингем, невольно испытывала удовольствие из-за тонкой разницы, выделяющей ее улицу.
Жуюй задалась вопросом, что могло случиться: флорист перепутал цветовую тему? Или кейтерер – новый, которого Селия решила попробовать по рекомендации подруги, – не оправдал ее ожиданий? Как бы то ни было, Жуюй нужна была ей срочно – пожалуйста, просила ее Селия по голосовой почте, приди пораньше, мне очень надо, ну просто очень, – не для того, конечно, чтобы исправить что-то, а просто для того, чтобы отдать должное ее персональному торнадо. Судьба не щадила Селию никогда, жизнь не скупилась для нее на разочарования и неприятности, которые она должна была испытывать ради всех, чтобы мир мог и дальше быть благополучным местом, свободным от подлинных бедствий. К мученичеству Селии знакомые большей частью относились не слишком почтительно, считая его проявлением драматической сосредоточенности на своей персоне, но Жуюй, одна из очень немногих, кто принимал жертвенность Селии всерьез, видела источник ее страданий: Селия, хоть и ушла потом из Церкви, выросла в католической семье.
Эдвин и мальчики будут ужинать вне дома, а потом на матч «Уорриорз»[2], сказала Селия, когда Жуюй явилась к Мурлендам. Утром, сказала Селия, в окно влетел дрозд, стал биться о стекло, и включился сигнал тревоги, слава богу, окно не разбилось, и садовник Луис был рядом, выпустил бедную птицу. Доставка опоздала на семнадцать минут, так что не было ли мудро с ее, Селии, стороны сдвинуть время на полчаса в более раннюю сторону? Подробно передавая свой разговор с кейтерером, Селия вдруг остановилась.
– Джуди, – сказала она. – Джуди.
– Да, – отозвалась Жуюй. – Я слушаю.
Селия пересекла кухню и села с Жуюй в уголке для завтраков. Стол и скамьи были сделаны из древесины старой кенсингтонской конюшни, куда бабушка Селии, любила она рассказывать гостям, приходила брать уроки верховой езды.
– У тебя рассеянный вид, – сказала Селия, подвигая к Жуюй стакан воды.
Женщине, которую Селия знала как Джуди, следовало быть внимательной, неотвлекающейся слушательницей. Жуюй поблагодарила Селию за воду и сказала, что нет, ничто ее особенно не заботит. Селии и кружку ее подруг, многие из которых должны были скоро тут появиться, Жуюй могла, смотря по необходимости, быть полезна в разных качествах: репетитор по мандаринскому китайскому, человек, которому можно поручить дом и питомцев на время отъезда, срочный бэбиситтер, продавщица с неполным рабочим днем в кондитерском бутике «La Dolce Vita[3]», помощница во время вечеринок. Но Селии она была предана как никому другому, ибо именно она нашла для Жуюй все эти возможности, в том числе работу в бутике – в семейном бизнесе на протяжении трех поколений, которым владела сейчас школьная подруга Селии.
Селия не часто замечала что-либо помимо того, что заботило ее непосредственно; тем не менее иногда, пребывая в расстроенных чувствах, она оказывалась восприимчива к чужим настроениям. В такие минуты она дотошно требовала объяснений, как будто острая потребность знать подоплеку чужих страданий давала путь к избавлению от своих. Жуюй не знала, как она сейчас выглядит со стороны, и пожалела, что не воспользовалась косметикой, прежде чем войти в дом.
– Ты какая-то сама не своя сегодня, – сказала Селия. – Не говори мне, что у тебя был трудный день. У меня день и без того поганый.
– Вот тебе мой день: утром сидела в магазине; потом заехала в химчистку; покормила кошек Карен; прошлась пешком, – отозвалась Жуюй. – Теперь объясни мне, откуда у меня мог взяться трудный день.
Селия вздохнула и сказала, что, конечно, Жуюй права.
– Ты не представляешь, как я тебе завидую.
Жуюй слышала это от нее нередко, и порой она почти верила, что Селия говорит искренне.
– На автоответчике твой голос звучал трагически, – сказала Жуюй. – Что случилось?
Случилось, ответила Селия, форменное безобразие. Она вышла и вернулась с двумя белыми футболками. Днем она участвовала во встрече, посвященной сбору средств на крупный художественный фестиваль в Сан-Франциско, и в комитете был писатель, автор подростковых детективов-бестселлеров.
– Казалось бы, это не так много – попросить автора подписать пару футболок для своих поклонников, – сказала Селия. – Казалось бы, ни один приличный человек не способен опуститься до такого.
Она с отвращением кинула футболки Жуюй на колени, и та разложила их на столе. Черным маркером, большими печатными буквами на них было написано: «Джейку, будущему сироте» и «Лукасу, будущему сироте»; далее на каждой – неразборчивая подпись.
Возможно, писатель просто решил пошутить, хулигански подмигнуть ребятам за спиной у их мамы; или это было больше чем шутка, желание открыть им непреложную истину, которую от родителей ребенку не узнать.
– Недопустимо, – сказала Жуюй и сложила футболки.
– Ну и что мне теперь делать? Я обещала мальчикам получить его подпись. Как я им объясню, что человек, которым они восхищаются, – козел? Просто мудак. – Селия глотнула вина, словно желала смыть неприятный вкус. – Слава богу, Эдвин забрал их прямо из школы, так что можно отложить на потом.
Бедная наивная Селия, верящая, как большинство людей, в пресловутое потом. Надежно отодвинутое, потом сулит возможности: перемены, решения проблем, награды, счастье – все слишком далекое, чтобы быть вполне реальным, но достаточно реальное, чтобы давать облегчение, выход из клаустрофобного кокона под названием сейчас. Если бы только Селия не была так слаба, если бы в ней по отношению к себе хватало доброты и жесткости одновременно, чтобы перестать говорить о потом, об этом бессердечном уничтожителе сейчас…
– И что же, – спросила Жуюй, – ты им думаешь сказать потом?
– Что я забыла?.. – неуверенно ответила Селия. – Что еще я могу сказать? Пусть лучше дети на тебя сердятся, пусть лучше муж будет в тебе разочарован, чем разбить чье-то сердце. Я тебе честно скажу, Джуди, очень умно с твоей стороны не иметь детей. И еще умнее не желать снова выйти замуж. Оставайся так, как ты есть. Иногда я думаю, как проста и красива твоя жизнь, – и говорю себе, что именно так должна обращаться с собой женщина.
Будь Селия другим человеком, Жуюй, возможно, нашла бы ее слова неприятными, даже недобрыми, но к Селии, верной себе, неизменно чуждой сомнений в справедливости своих слов, Жуюй испытывала пусть не дружеское чувство, но нечто настолько близкое к нему, насколько она готова была для себя допустить. Она расправила футболки, изучила почерк и спросила Селию, нет ли у нее двух других белых футболок. А что? – спросила Селия, и Жуюй ответила, что они могли бы решить проблему своими силами. Ты шутишь, конечно, сказала Селия, но Жуюй возразила: нет, нисколько. Позаимствовать имя автора, чтобы порадовать двух подростков, – что в этом ужасного?
Селия неуверенно принесла две другие футболки, и Жуюй спросила ее, с какой надписью она была бы не прочь отправлять сыновей в школу.
– Ты уверена, что мы поступаем правильно? Не хочу, чтобы мои мальчики считали меня лгуньей.
Писатель, хотела Жуюй напомнить Селии, как раз-таки не солгал.
– Единственная лгунья тут я, – сказала она. – Смотри в сторону.
– Что если другие в школе поймут, что подписи не настоящие? Это законно вообще?
– Бывают преступления и похуже, – сказала Жуюй.
Прежде чем Селия могла бы воспротивиться, она начала выводить, старательно подражая почерку писателя, послания надежды и любви дорогому Джейку и дорогому Лукасу. Поставив на каждой футболке подпись и дату, Жуюй сложила их и пообещала, что сама избавится от уличающих неудачных экземпляров, чтобы Селии не пришлось совершать недолжных действий.
Послышался шум приближающейся машины; дверца другой машины открылась и захлопнулась. Начали съезжаться гостьи, и Селию наполнила нервозность публичности, энергия аффектации, сцены. Жуюй движением руки показала: иди встречать, забудь про меня. Она сунула нежеланные футболки к себе в сумку, пошла в спальни подростков и положила те, что надписала, им на подушки.
Темой вечера был недавний бестселлер – книга, написанная женщиной, которая назвала себя «китайской матерью-тигрицей». Как всегда, встреча началась с разговоров про детей, мужей, семейный отдых, про концерты и выступления в предстоящие выходные. Жуюй то входила в гостиную, то выходила, подливала вина, передавала еду, будучи чем-то средним между подругой семьи и платной работницей. Приветливая с гостьями, многие из которых тем или иным образом пользовались ее услугами, в их разговоры Жуюй, однако, не вступала, ограничиваясь то поощряющей улыбкой, то вежливым восклицанием. Зная, как женщины ее воспринимали, Жуюй играла эту роль без труда: образованная иммигрантка без перспективной трудовой специальности, одинокая, но уже не столь молодая; съемщица жилья; вполне надежная наемная помощница, умеющая и с собаками, и с детьми обращаться по-доброму, но твердо и никогда не заигрывающая с мужьями; женщина, которую, на ее счастье, Селия взяла под крыло; зануда.
Когда начали обсуждать книгу, Жуюй ушла на кухню. Обычно во время таких встреч она не отлучалась так основательно: ей нравилось сидеть на периферии, нравилось слушать голоса женщин, не вникая в смысл, смотреть на их шали мягких расцветок, на ожерелья работы местного мастера, которому они оказывали покровительство на групповой основе, на их туфли, элегантные, или дерзко-яркие, или беззастенчиво уродливые. Быть там, где она есть, быть тем, что она есть, устраивало ее. Надо относиться к себе намного серьезнее, чтобы быть кем-то определенным – занять полностью внешнее положение или же претендовать на право быть другом, возлюбленным, значимым лицом. Интимность и отчуждение – и то и другое требовало таких усилий, каких Жуюй не хотела совершать.
Селия остановилась у входа в кухню.
– Не хочешь побыть с нами? – спросила она.
Жуюй покачала головой, и Селия, помахав ей, двинулась дальше в туалет. Если бы Селия принялась настаивать, Жуюй сказала бы, что такие темы, как материнство, выбор школ для детей и «мать-тигрица» (которая даже не была китаянкой, только назвалась ею ради пиара), мало ее интересуют.
Жуюй рассматривала цветы на столе – букет из маргариток, ирисов и осенних листьев в половинке тыквы; вокруг были художественно расположены несколько плодов хурмы. Она отодвинула один плод чуть подальше и задалась вопросом, заметит ли кто-нибудь измененную композицию, менее уравновешенную теперь. Жизнь Селии, насыщенная и текучая, полная всевозможных обязательств и кризисов, была тем не менее демонстрацией вдумчиво спланированной безупречности: высокие арочные окна ее дома смотрели на залив Сан-Франциско, приглашая в гостиную постоянно меняющийся свет – золотое калифорнийское солнце летними днями, серый дождевой свет зимой, утренний и вечерний туман круглый год; три плакучие березы перед домом – березы, сказала ей Селия, не объяснив почему, надо сажать по три, – оживляли фасад белизной своей коры, внося вдобавок асимметрию в дизайн передней лужайки, которая иначе смотрелась бы скучновато; сверкающая суперсовременность кухни смягчалась безукоризненным подбором натюрмортов – плоды, цветы, глиняные сосуды, свечи в подсвечниках, подходящие по цвету к времени года или празднику; многие уголки дома были декорированными каждый на свой лад подмостками, где полученные в наследство или купленные в той или иной поездке предметы давали одинокие демонстрационные спектакли. Селия и ее семья, вечно на бегу – футбольные тренировки, музыкальные уроки, гончарное дело, йога, мероприятия по сбору средств, школьные аукционы, поездки на лыжные курорты, в пешие походы, к океану, за границу с погружением в разнообразные культуры и кухни, – во многом оставляли дом нетронутым, и Жуюй, возможно, получала большее, чем кто-либо, удовольствие от дома как от красивого объекта: он то и дело мимолетно радует тебя, но ты не желаешь им овладеть, и тебе не будет больно с ним расстаться.
Женские голоса, долетавшие из гостиной, поминутно меняли окраску, в них звучало то негодование, то сомнение, то беспокойство, то паника. За прошедшие годы Жуюй благодаря этим встречам и работе на некоторых из женщин познакомилась с каждой достаточно, чтобы жалеть их, когда они собирались компанией. Ни одна из них не была неинтересной, но вместе они своей предсказуемостью словно бы отрицали индивидуальность друг друга. Ни разу ни одна из них не пришла растрепанной, ни разу ни одна не отважилась признаться другим, что одинока, или тоскует, или ей душно за безупречным фасадом хорошей жизни. Искать себе подобных их, должно быть, заставляла отгороженность, но в гостиной Селии, сидя с остальными, каждая из женщин казалась всего лишь более храбро отгороженной.
Жуюй познакомилась с Селией семь лет назад, когда Селия искала замену няне с проживанием, которая возвращалась в Гватемалу, накопив достаточно денег, чтобы построить два дома: один для родителей, один для себя и дочери. Конечно, Ана Луиса своим отъездом разбивала ей сердце, сказала Селия Жуюй по телефону, когда та откликнулась на объявление Селии на местном родительском сайте; но разве можно за нее не порадоваться? Жуюй резко отличалась от других претенденток: у нее не было опыта работы с детьми, и жила она довольно далеко. Но няня, владеющая мандаринским, лучше, чем испаноязычная, объяснила Селия Эдвину свое решение позвонить Жуюй.
Когда Селия пригласила ее к себе на собеседование, Жуюй сказала, что у нее нет машины и там, где она живет, нет общественного транспорта, поэтому не могла бы Селия, если она заинтересовалась, сама приехать провести собеседование? Позднее, когда Жуюй заняла в жизни Селии прочное место, Селия любила рассказывать подругам, каким чудом наивности была Жуюй: кто, кроме Селии, потратил бы полтора часа езды на машине ради встречи с потенциальной няней?
Но почему Селия согласилась? Жуюй порой хотелось задать ей этот вопрос, хотя ответ не был важен – значение имело то, что Селия не пожалела-таки времени на знакомство с ней, а если бы не Селия – Жуюй никогда в этом не сомневалась, – нашлась бы другая, готовая сделать то же самое.
Очутившись в коттедже Жуюй, который в рекламе недвижимости назвали бы «жемчужиной»: собственный сад, вид на каньон, – Селия не сумела скрыть удивления и смятения. Она при всем желании не сможет позволить себе Жуюй, сказала она: все, что у нее есть, – это комната для прислуги на первом этаже.
Но это вполне подойдет, ответила Жуюй, и объяснила, что ее работодатель женится через несколько месяцев и она хотела бы уехать до свадьбы, потому что ей нет причин оставаться его экономкой. Селию, Жуюй видела, привела в замешательство связь между коттеджем и трехэтажным жилым зданием в колониальном стиле на том же участке, которое Селия наверняка увидела, проезжая, – как и характер отношений между Жуюй и Эриком, которого она назвала всего лишь своим работодателем.
Странноватая, сказала потом Селия, описывая китаянку Эдвину; даже чудна́я, но в то же время приятная, чистоплотная, прекрасно говорит по-английски и заслуживает какой-никакой помощи. Жуюй не распространялась о том, какими в точности были ее отношения с работодателем, но Селия верно догадалась, что в круг ее обязанностей входил и секс. О других обстоятельствах своей жизни Жуюй во время той первой встречи с Селией рассказала вполне откровенно: первый раз она вышла замуж в девятнадцать – вышла за китайца, которого приняли в американскую магистратуру; она сделала это, чтобы уехать из Китая. Второй брак – с американцем – был ради грин-карты; она в конце концов получила бы ее и через первого мужа, но не хотела оставаться с ним те пять-шесть лет, что были для этого нужны. Она получила диплом бакалавра по бухгалтерскому делу в одном из университетов штата и то работала, то нет, но никакой карьеры не сделала и довольна этим, потому что не питает большой любви ни к цифрам, ни к деньгам. Последние три года была экономкой у своего работодателя и теперь хочет переменить положение – нет, не в смысле опять выйти замуж, ответила Жуюй, когда Селия из любопытства спросила, думает ли она найти нового мужа; она хочет, сказала Жуюй, всего лишь найти заработок.
Позвонив неделю спустя снова, Селия не предложила Жуюй место няни, но сказала, что нашла для нее обставленный коттедж, доступный на три летних месяца. Согласилась ли бы Жуюй в нем поселиться – плату за все три месяца просят сразу – и работать на нее с неполной занятостью? Она с радостью поможет Жуюй устроиться, найдет ей другой коттедж, где можно будет жить с осени, и порекомендует ее еще нескольким семьям, чтобы они пользовались ее услугами время от времени. Без колебаний Жуюй согласилась.
Открылась дверь гаража; что-то нескромное слышалось в этом звуке, он напоминал Жуюй урчание в животе. Даже после стольких лет в Америке ее зачаровывало интимное соглашение, которое этот звук подтверждал: дверь открывается и потом закрывается, но ни отправление, ни прибытие сквозь нее не означает ничего травмирующе постоянного. Сидя у Селии на кухне и слыша, как возвращается ее муж, Жуюй на секунду позволила себе вообразить возможность чего-то такого для себя, в своей жизни. Нетрудная, в общем-то, задача, два предложения она получила и приняла – но сама в итоге уходила. Если бы осталась в одном или другом браке, неизбежно сделалась бы неотличима от этих женщин в гостиной; мысль ее позабавила. «Твоя проблема, – сказал ей Эрик, когда с Селией все было окончательно решено и она сообщила ему о переезде, – в том, что ты ничего не желаешь сильно. Хотя я думаю, тебе благодаря этому все всегда будет удаваться».
Эрик был умнее ее бывших мужей и не предлагал слишком многого; при этом он потакал ей, предоставляя столько простора, сколько ей нужно было, и ясно давая понять, что она не должна ни в каком смысле чувствовать себя привязанной к нему. Порой она спрашивала себя, не следует ли ей по этой причине отнестись к нему лучше. Но что значит отнестись к мужчине лучше? Стать более зависимой от него, более требовательной к нему? Так или иначе, сейчас думать об этом не было смысла. Несколько лет назад Эрик попал в местные новости, выдвинувшись в законодательное собрание штата и влипнув в нехорошую историю со сбором средств. К вопросу о желающих чего-либо сильно.
Селия, которая тоже, вероятно, прислушивалась, покинула круг дискутирующих и попросила Жуюй показать ее сыновьям футболки – тон ее голоса был чуточку повышенным, нервным, аффектированным, и Жуюй знала из-за чего: из-за необходимости солгать своим детям. Именно в такие минуты Жуюй испытывала нежность к Селии, которая, несмотря на постоянную потребность во внимании и склонность мелочно соревноваться с подругами и соседками, была, в конечном счете, женщиной с хорошим, мягким сердцем.
Немного позже, когда подростки уже были в постели, в кухню вошел Эдвин. В гостиной женщины все еще спорили о том, как лучше всего воспитывать детей, чтобы они выросли конкурентоспособными на мировом рынке. Жаркое сегодня обсуждение, заметил он и, коснувшись ножки винного бокала, передумал. Налил себе воды.
Безусловно, Селия верно выбрала книгу, сказала Жуюй и подошла к раковине до того, как Эдвин сел за стол.
– Начну наводить порядок, – сказала она. – У Селии был непростой день.
Эдвин предложил помочь, но предложил, Жуюй чувствовала, довольно вяло. Вероятно, все, чего он хотел, – это чтобы женщины, обсуждающие будущее американского образования, освободили его дом. Нет, сказала она, помощи не требуется. Эдвин поддерживал беседу, говоря о незначительных вещах: о сегодняшней победе «Уорриорз», о новом фильме, на который Селия предложила сходить в выходные, о планах Мурлендов на День благодарения, о диковинной статейке в газете про человека, изображавшего из себя врача и предписавшего своей единственной пациентке, пожилой женщине, есть арбузы в горячей ванне. Жуюй подумала, что Эдвин, может быть, ведет с ней разговор из милости; ей хотелось сказать ему, что она бы не возражала, если бы он сейчас и в любое время обращался с ней как с предметом мебели или бытовым приспособлением в своем хорошо оборудованном доме.
Эдвин работал в компании, которая специализировалась на электронных книгах и на обучающих игрушках для маленьких детей. Хотя Жуюй не знала в точности, чем он занимается – вроде бы разработкой персонажей, привлекательных для малышей, – ей приходило в голову, что Эдвину, высокому тихому человеку родом из сельской части Миннесоты, лучше подошло бы амплуа сопереживающего семейного врача или блестящего, но неуклюжего математика. Проводить рабочие дни за размышлениями о говорящих гусеницах и поющих медведях – это, казалось, принижало такого человека, как Эдвин, хотя, возможно, это был неплохой выбор, точно так же, как неплохим выбором для него была Селия.
– Как ваши дела – все хорошо? – спросил Эдвин, когда запас тем истощился.
– А как у меня может быть нехорошо? – отозвалась Жуюй.
В ее жизни очень мало было того, чем стоило поинтересоваться; такие универсальные сюжеты, как дети, служба и семейный отдых, были к ней неприменимы.
Эдвин размышлял, сидя над стаканом с водой.
– Для вас, должно быть, это обсуждение странно звучит, – сказал он, кивая в сторону гостиной.
– Странно? Нет, почему, – возразила Жуюй. – Мир нуждается в женщинах, полных энтузиазма. Жаль, что я не из их числа.
– А вам бы хотелось быть из их числа?
– Ты либо такая, либо нет, – сказала Жуюй. – Желание ничего не меняет.
– Они нагоняют на вас скуку?
Если бы ее спросили, считает ли она Эдвина, Селию или кого-либо из ее подруг занудой, она была бы не готова дать такую характеристику, но не готова потому, что никогда по-настоящему не задумывалась, что представляет собой Эдвин, или Селия, или кто бы то ни было. У Эдвина, никогда не отличавшегося сверхвыразительностью мимики, сейчас лицо было особенно неопределенным. Жуюй редко позволяла общению с ним выходить за рамки поверхностной вежливости, поскольку было в нем что-то такое, что не просматривалось насквозь. Он говорил не настолько много, чтобы выставлять себя дураком, но то, что он говорил, рождало в голове вопрос, почему он не говорит больше. Не будь он ничьим мужем, она присмотрелась бы пристальнее, но любое покушение на права Селии было бы бессмысленным осложнением.
После долгой паузы, которую Селия, конечно, заполнила бы много чем, а Эдвин имел терпение прождать, Жуюй сказала:
– Только скучный человек находит других людей скучными.
– А вы, получается, находите их интересными.
– На многих из них я работаю, – сказала Жуюй. – А с Селией мы дружим.
– Конечно, – подтвердил Эдвин. – Я про это забыл.
Про что он забыл – про то, что женщины в гостиной давали Жуюй больше половины ее дохода, или что не кто иной, как его жена, была ангелом, сотворившим для нее это чудо? Жуюй загрузила тарелки в посудомойку. Ей хотелось, чтобы Эдвин перестал чувствовать себя обязанным составлять ей компанию, пока она играет в его доме роль полухостес. У себя в коттедже она готовила на плитке, ела, стоя у разделочного стола, и на посудосушилке, которую оставила предыдущая жилица, большую часть времени было пусто и сухо. В кухне Селии Жуюй нравилось аккуратно расставлять тарелки, чашки и бокалы – они, в отличие от людей, не искали случая треснуть, разбить себе жизнь. Она продолжала трудиться молча, и чуть погодя Эдвин спросил, не обидел ли он ее.
– Нет, – вздохнула она.
– Может быть, у вас есть ощущение, что мы вас не ценим, принимаем как само собой разумеющееся?
– Кто? Вы и Селия?
– Все, кто здесь есть, – ответил Эдвин.
– Людей сплошь и рядом принимают как само собой разумеющееся, – сказала Жуюй. Каждая из женщин в гостиной могла бы предъявить длинный список жалоб на то, что ее не ценят. – Я не единственный случай, когда не хватает особого внимания.
– Но мы жалуемся.
Жуюй повернулась и посмотрела на Эдвина.
– Так вперед, жалуйтесь, – сказала она. – Но не ждите этого от меня.
Эдвин покраснел. Не надо раскрывать душу, когда об этом не просят, сказала бы она, не будь Эдвин ничьим мужем, но вместо этого извинилась за резкость.
– Не обращайте внимания на мои слова, – попросила она его. – Селия сказала, что я сегодня не похожа на себя.
– Что-нибудь случилось?
– Узнала о смерти одной знакомой, – ответила Жуюй с ощущением собственного зловредства: Селии она бы этого не сообщила, пусть даже Селия была бы в десять раз настойчивей.
Эдвин сказал, что сочувствует всей душой. Жуюй знала, что он бы не прочь ее расспросить; Селия гналась бы за каждой подробностью, но Эдвин выглядел неуверенным, словно его пугало собственное любопытство.
– Ничего такого, – сказала Жуюй. – Люди смертны.
– Можем мы что-нибудь сделать?
– Никто ничего не может сделать. Ее уже нет на свете, – сказала Жуюй.
– В смысле – сделать что-нибудь для вас?
Поверхностная доброта проявлялась сплошь и рядом, безвредная, пусть и бессмысленная, так что же мешает, подумала Жуюй, воздать Эдвину должное за то, что он воспитанный человек, автоматически откликающийся на новость о смерти, которая никак его не касается? Она была знакома с умершей совсем недолго, сказала она, постаравшись замаскировать раздражение зевком.
– И все же… – колебался Эдвин, глядя на свою воду.
– Что – все же?
– У вас печальный вид.
Жуюй почувствовала прилив незнакомого гнева. Какое право имеет Эдвин лезть в нее в поисках горя, которое ему хочется обнаружить?
– Я не имею права на такие переживания, – сказала Жуюй. – Видите, я самая настоящая зануда. Даже когда кто-то умирает, я не могу претендовать на трагедию.
Резко сменив тему, она спросила, довольны ли остались мальчики подписанными футболками. Эдвин, казалось, был разочарован; он пожал плечами и ответил, что для Селии это значит больше, чем для них.
– Мамы есть мамы, известное дело, – сказал он. – Кстати говоря, вас не мать-тигрица вырастила?
– Нет.
– Что в таком случае вы думаете обо всей этой шумихе?
Если бы она могла, к чему подталкивала ситуация, сказать что-нибудь остроумное… но закатывать глаза и говорить остроумные вещи – это было ей так же чуждо, как презрение Джейка в восемь лет к семье приятеля, где едят не такую лососину, какую надо, или беспокойство Селии из-за рождественских гирлянд, чтобы они не выглядели ни слишком кричаще, ни слишком скромно. Свобода действовать и свобода судить, подрывающие одна другую, в сумме дают обильный источник тревоги и мало что сверх того. Не потому ли, подумалось Жуюй, американцы с такой охотой умаляют себя – смеясь друг над другом или, тактичнее, над собой, – хотя нет прямой опасности, перед которой лучше не выставляться? Но опасность в форме бедности, летящих пуль, беззаконных государств и недобросовестных друзей если не дарит дорогу к счастью, то по крайней мере проясняет твои страдания.
Жуюй бросила на Эдвина жесткий взгляд.
– Эта тема не кажется мне достойной обсуждения, – сказала она.
4
В разгар пекинского лета, когда влажный зной лишь изредка умеряется грозами, возникало ощущение, что такая же жизнь, как сегодня, будет и завтра, и послезавтра, и всегда. Казалось, арбузные корки на обочинах будут гнить, и гнить, и привлекать тучи мух; в переулках мутные лужи от переполненных стоков уменьшались в ясную погоду, но не успевали высохнуть совсем до очередной восполняющей грозы; дедушки и бабушки, сидящие около бамбуковых колясок в тени дворцовых стен, обмахивали внуков огромными веерами из осоки, и если закрыть глаза, а потом открыть, можно было почти поверить, что веера, и младенцы, и морщинистые старики – те же, что на редком фотоснимке столетней давности из путевого альбома заезжего миссионера, которого в итоге казнят в соседней провинции за распространение скверны.
Жизнь, уже старая, не старела. Именно этот Пекин с его тягучей, томной атмосферой Можань любила больше всего, хотя ее беспокоило, что он мало значит для Жуюй, которая, похоже, косо смотрела и на город, и на энтузиазм Можань. Попытавшись увидеть Пекин словно впервые, увидеть глазами новоприбывшей, Можань испытала минутную панику: может быть, и нет ничего поэтического в этих звуках и запахах, в нечистоте и скученности большого города? Когда мы помещаем того или то, что любим, перед чьим-то недоверчивым взором, мы чувствуем себя приниженными наряду с предметом любви. Будь Можань более опытна, владей она навыками самозащиты, она без труда замаскировала бы свою любовь показным цинизмом или хотя бы равнодушием. Бесхитростная в юном возрасте, она могла только загонять себя в угол надеждой, перераставшей в отчаяние.
– Конечно, это всё ненастоящие моря, – извиняющимся тоном сказала Можань, прислонив велосипед к иве и сев рядом с Жуюй на скамейку.
Они были на берегу искусственного водоема под названием Западное море, и Можань показала рукой, где находятся другие моря, к которым они с Бояном водили Жуюй накануне, как водят всех туристов: Заднее, Переднее и Северное. На прошедшей неделе они знакомили Жуюй с городом, с его храмами и дворцами, как если бы она была их родственница из других мест.
– Почему тогда их называют морями? – спросила Жуюй.
Ее не интересовал ответ, но она знала, что каждый вопрос дает ей некоторую власть над тем, кого она спрашивает. Ей нравилось видеть готовность собеседника ответить, порой, что совсем глупо, радостную готовность; людям невдомек, что, давая ответ, они выставляют себя на суд.
– Может быть, потому, что Пекин не на берегу океана? – неуверенно предположила Можань.
Жуюй кивнула, достаточно покладисто настроенная сейчас, чтобы не указывать Можань, что в ее словах мало смысла. За считаные дни Жуюй поняла, что Можань не зря получила место в ее новой жизни, что от такого человека ей будет польза, но это не мешало ей хотеть, чтобы Можань держалась на расстоянии или не существовала вовсе.
– Ты была когда-нибудь на море? – спросила Можань.
– Нет.
– Я тоже нет, – сказала Можань. – Хотелось бы когда-нибудь посмотреть на океан. Боян и его семья ездят каждое лето.
Это так похоже на Можань, подумала Жуюй: сообщать сведения, когда никто об этом не просит. Это герань, она у всех тут растет на подоконниках, отгоняет насекомых, объяснила ей Можань наутро после ее приезда, когда увидела, что Жуюй смотрит на цветы. Двум магнолиям посреди двора пятьдесят лет, не меньше, их посадили как супружескую пару – на счастье. Поздним летом все должны беречься ос, потому что на виноградных лозах, которые вырастил в конце двора учитель Пан, очень сочные гроздья. У гранатового дерева около забора, которое сейчас роняло изобильные, огненного цвета лепестки, плоды несъедобные, зато дерево в соседнем дворе, хоть цветет и не так красиво, приносит самые сладкие гранаты на свете. Она рассказала про каждую семью. Учитель Пан и его жена учительница Ли оба преподают в начальной школе, и они решили между собой, что будут работать в разных школах и даже в разных районах, потому что скучно было бы постоянно находиться вдвоем среди одних и тех же людей; только младший из их троих детей еще учится в школе, старшие работают на фабриках, но все трое живут дома. Старый Шу, вдовец, у которого все дети обзавелись семьями, живет с матерью, ей следующим летом будет сто лет. Арбуз Вэнь, шумный и веселый водитель автобуса, получил свое прозвище из-за круглого живота; у них с женой, такой же шумной и толстой трамвайной кондукторши, пара близнецов, они в школу еще не ходят. Иногда мама их не различает и называет каждого из двух Арбузиком. Родители Можань работают в Министерстве шахт, папа – научный работник, мама – служащая.
Только глупые люди, по мнению теть-бабушек Жуюй, делятся без разбора теми малыми знаниями, какими владеют; случалось, в эту категорию попадали даже учителя. Жуюй неизменно находила мир предсказуемым, поскольку он был полон людей, подтверждавших словом и делом убежденность ее теть в малости всякого смертного ума.
Жуюй смотрела, как Можань соорудила из нескольких ивовых листьев парусное суденышко и пустила по воде. Глупое занятие, раздался у Жуюй в ушах голос ее теть-бабушек.
– А почему ты не ездишь на море с Бояном? – спросила она.
Можань засмеялась.
– Я же не из его семьи.
Жуюй посмотрела на Можань таким взглядом, словно ждала, чтобы та подкрепила свою шаткую логику чем-то более разумным, и Можань поняла, что под семьей Жуюй, вероятно, имеет в виду не то, что она. До ее приезда Можань и Боян говорили про нее между собой, но ни он, ни она не представляли себе, как это – быть сиротой. Давно, когда учитель Пан и учительница Ли купили первый в их дворе черно-белый телевизор, соседи собирались у них дома смотреть передачи. Однажды показывали фильм про голод в провинции Хэнань, в котором девочка, потерявшая обоих родителей, вышла на перекресток и всунула в волосы длинную травинку, давая этим знать, что она продается. Можань было тогда шесть лет, столько же, сколько девочке в фильме, и горделивое спокойствие сироты на экране произвело на нее такое впечатление, что она заплакала. Какое доброе сердце у ребенка, сказали взрослые, не понимая, что Можань заплакала не от жалости, а от стыда: она бы никогда не смогла быть такой же красивой и сильной, как эта сирота.
Перед приездом Жуюй Можань часто задумывалась об этом фильме. Знает ли Жуюй хоть что-нибудь о своих родителях? Похожа ли она на ту девочку, что ждала на перекрестке, чтобы ее купили, встречая презрительной улыбкой сиротскую судьбу? То, что рассказывала Тетя о тетях-бабушках Жуюй и о том, как она росла, звучало расплывчато, и Можань трудно было представить себе жизнь Жуюй. Боян, однако, не придавал всему этому большого значения – еще бы, Можань заранее знала, что он не будет.
– Я хочу сказать… – пустилась Можань сейчас в объяснения. – Это в его семье традиция – ездить летом на море.
– А твоя семья почему не ездит?
Был бы Боян здесь, подумала Можань, он высмеял бы и своих родителей, и себя за то, что они такая семья, которая ездит на отдых. Из всех семей, какие знала Можань, ни одна на отдых не ездила – люди снимались с места только по особым случаям вроде свадьбы или похорон. Сама идея переместиться куда-то на неделю или две выглядела претенциозной, достоянием праздных иностранцев из заграничных фильмов.
– Каждая семья живет по-своему, – сказала Можань.
Как бы то ни было, она невольно жалела, что ни разу не побывала нигде, кроме Пекина и его окрестностей. Более того, выросшая в старом городе, она по пальцам одной руки могла пересчитать свои вылазки во внешние районы: один раз весной со школой к Великой стене на поезде, да еще несколько велосипедных поездок с Бояном – два-три часа до какого-нибудь храма или ручья, там небольшой пикник, и обратно.
– А вы с тетями ездите отдыхать? – спросила Можань и тут же почувствовала холод во взгляде Жуюй. – О, прости, я слишком любопытная.
Жуюй извиняюще кивнула, но ничего не сказала. Она никогда не сомневалась в своем праве задавать вопросы другим, но позволить кому-то задать вопрос ей значило наделить этого человека статусом, которого он не заслуживает: Жуюй знала, что держит ответ только перед тетями и, поверх них, перед Богом.
Впервые сейчас они проводили время вдвоем, и уже Можань наделала ошибок, оттолкнула от себя Жуюй. Вновь Можань пожалела, что с ними нет Бояна, – он направил бы разговор в другую сторону. Но было воскресенье, а воскресенья Боян проводил у родителей, они оба были профессора и жили в хорошей квартире в западной части города недалеко от университета, где преподавали. Их дочь, сестра Бояна, была старше его на десять лет. Ее с детства признали вундеркиндом, и, проучившись в старшей школе и колледже в общей сложности всего три года, она получила стипендию и уехала в Америку учиться у нобелевского лауреата; а сейчас, когда ей было без нескольких месяцев двадцать шесть, ей уже дали пожизненную должность профессора физики. «Калифорнийский университет, Беркли», – возвестили родители Бояна обитателям двора, когда заглянули туда, что делали редко, ради того, чтобы сообщить новость. Можань каждый звук, произнесенный ими в тот день, причинял боль: она знала, что в их глазах ее родители и все их соседи – люди со слабыми умственными способностями и ничтожными амбициями. Даже Бояна, самого умного из знакомых Можань ребят, они считали не бог весть кем по сравнению с сестрой. У Можань иногда мелькала мысль, что родители, может быть, не хотели его вообще: с самого рождения его растила бабушка по отцу, давняя жительница их двора; с сестрой до ее отъезда в Америку у него не было возможности познакомиться как следует, и с родителями, у которых он бывал по воскресеньям, он тоже не был близок. Он обедал у них, ужинал и иногда делал что-то по дому, что требовало юношеской силы.
Четверо мальчиков до десяти, голые выше пояса, прошли мимо Жуюй и Можань и плюхнулись в воду, у двоих помладше скользкие тела были продеты в автомобильные камеры.
– Ты умеешь плавать? – спросила Можань, довольная поводом заговорить о другом.
– Нет.
– Может быть, я тебя научу. Это лучшее место для зимнего купания. Нам с Бояном пока тут не разрешают после осеннего равноденствия, но через несколько лет мы точно будем, а к тому времени и ты подучишься плавать. Когда мы повзрослеем – в восемнадцать или в двадцать, – мы все сможем приходить на плавательный праздник в день зимнего солнцестояния.
Низко над водой носились острохвостые стрижи; в ивах выводили трели цикады. На дороге, тянувшейся вдоль берега, показался торговец на трехколесном грузовом велосипеде, он выпевал сорта пива, которое лежало у него в кузове на колотом льду, и то и дело останавливался, когда по аллейке подбегал ребенок с деньгами в поднятом кулачке, посланный старшими за бутылкой или двумя. Была вершина лета, вечерело, но жара не спадала, однако Можань говорила о зиме и последующих зимах так же непринужденно, как о сегодняшнем ужине по возвращении домой. Еще страннее была уверенность Можань – такую же уверенность Жуюй приметила и у Бояна, – с какой она включала ее в свое будущее. То, что Жуюй была здесь – жила в доме Тети, собиралась пойти в старшую школу, которой Боян и Можань страшно гордились, – стало возможным благодаря ее тетям-бабушкам, которые перед ее отъездом объяснили ей, что на самом деле это перемещение – часть Божьего плана на ее счет, как было его частью поручение ее их заботам. То, что она сейчас здесь, у водоема… Разумеется, Можань приписывает это себе, ведь это она привезла сюда Жуюй на багажнике велосипеда, это она решила, что они отправятся не в кино и не в ближайший магазин за фруктовым льдом, а на их с Бояном любимое место, к морю, которое всего-навсего пруд.
С досадой, смешанной с любопытством, Жуюй повернулась к Можань и вгляделась в нее, а Можань между тем протянула руку, показывая на карликовый храм на вершине холма, за который начинало садиться солнце. Раньше здесь было десять храмов, сказала она, и три «моря» называли Десятихрамовыми морями, но теперь они с Бояном обнаружили только три храма.
– Этот посвящен богине воды, – сказала Можань и, не услышав никакого отклика Жуюй, повернулась и встретила ее недоуменный взгляд. – Прости, тебе, наверно, надоела моя болтовня.
Жуюй покачала головой.
– Мама иногда беспокоится, что я болтливая, говорит, меня никакой приличный человек из-за этого замуж не возьмет, – сказала Можань и засмеялась.
Жуюй еще раньше заметила, что Можань чаще смеется, чем улыбается; это придавало ее лицу откровенно глупый вид, что казалось более подходящим для роли старшей сестры или пожилой тетушки.
– Почему у тебя нет братьев и сестер? – спросила Жуюй.
Их поколение было последним перед тем, как началась политика «одна семья – один ребенок», и у многих одноклассников Можань, как, вероятно, и у многих бывших соучеников Жуюй, имелись братья или сестры. Возможно, Жуюй спросила только потому, что не часто встречалась с единственным ребенком в семье. Можань смиренно призналась, что не знает почему, а потом добавила, что ее случай не такой уж необычный: сестра Шаоай тоже единственная у своих родителей.
– А ты хочешь брата или сестру?
Должно быть, это сирота заговорила в Жуюй, должно быть, она задала эти вопросы; Жуюй редко говорила так много – во дворе она почти все время молчала.
– Мы все друг другу близкие, – сказала Можань. – Увидишь, мы во дворе как родные. Например, мы с Бояном росли как брат и сестра.
– Но у него есть своя сестра.
Она старше, объяснила Можань. Она почти из другого поколения.
– Почему он не живет с родителями? – спросила Жуюй.
– Не знаю, – сказала Можань. – Думаю, потому, что у них очень много работы.
– Но ведь его сестра жила с ними, пока не уехала в Америку?
– Она – другое дело, – ответила Можань, чувствуя себя не в своей тарелке, боясь, что сказала про Бояна и его семью то, чего не надо говорить.
Она уже чувствовала, что предает его каким-то непонятным ей образом. Он предпочитал не говорить о своих родителях, а его бабушка чаще говорила о дядях и тетях Бояна, которые жили в других городах, чем о его отце – ее старшем сыне. К Можань иногда закрадывалась мысль, нет ли в прошлом этой семьи чего-нибудь нехорошего, но она никогда ни о чем таком не спрашивала: ища удовлетворения своему любопытству, она сделала бы себя менее достойной дружбы Бояна.
– Почему? Он что, им не родной сын?
– Нет, биологически он, конечно, их сын, – сказала Можань, беспокоясь, что простым высказыванием подобных истин компрометирует лучшего друга.
– Почему «конечно»?
Захваченная врасплох сначала бесчувственным спокойствием Жуюй, а затем своей собственной глупостью, Можань погрузилась в глубокую оторопь. Расти во дворе было все равно что расти в большой семье, и ничто не делало ее счастливее, чем любить всех, не сдерживая себя. Разумеется, она слыхала истории про другие дворы, где неуживчивые соседи портили друг другу жизнь: выдергивали цветы, сыпали соль в чужие кастрюли в общей кухне, крали замороженных кур, оставленных зимой на ночь за окном, пугали чужих малышей неприятными лицами и звуками, когда родители отворачивались. Эти истории ставили Можань в тупик: она не понимала, какие выгоды может принести подобное мелкое зловредство. В последнем классе средней школы некоторые девочки сделались жестокими, начали опутывать других девочек – красивых, или чувствительных, или одиноких – сетями скверных слухов. Если у кого-то возникали такие намерения в отношении нее – а они наверняка порой возникали, при том что у Можань был Боян, самая крепкая дружба, сколько они себя помнили, – ей не приходило в голову считать свое положение уязвимым. Да, люди и в семьях могли плохо обращаться друг с другом; вечерние газеты давали тому много подтверждений, рассказывая о домашних конфликтах и отвратительных преступлениях. И все же в представлении Можань мир в целом был хорош, и она верила, что он и для Жуюй теперь, когда она с ними подружилась, будет хорош. Тем не менее легкость, с какой Жуюй, говоря о происхождении Бояна, допустила возможность обмана и отказа от собственного ребенка, обескуражила Можань: ей показалось, что она, не подготовленная, провалила важное испытание и не смогла завоевать уважение Жуюй.
– Я тебя обидела? – спросила Жуюй.
Может быть, это естественно для таких, как Жуюй, – сомневаться во всем? Можань разом устыдилась своего недружелюбного молчания.
– Нет, что ты. Просто ты задаешь вопросы не так, как я привыкла.
– А как другие люди задают вопросы?
Хорошо хоть разговор случился не во дворе. Кто угодно, если бы услышал, подумал бы – пусть даже только про себя, – что Жуюй недоразвита для своего возраста. Можань понимала, что люди с готовностью протянули бы ниточку от происхождения Жуюй к ее бесцеремонности. По-матерински терпеливо Можань объяснила Жуюй, что не принято задавать вопросы, от которых собеседнику неуютно; вообще-то даже, продолжила она, не начинают разговоров с вопроса, ждут, когда человек сам заговорит о себе.
– А если человек ничего о себе сам не расскажет? – спросила Жуюй.
– Когда дружишь с человеком, он что-нибудь тебе обязательно расскажет. И когда ты с друзьями, можешь и сама им про себя рассказать, – сказала Можань.
Ей хотелось, чтобы Жуюй поняла: ни она, ни Боян не будет выдавливать из Жуюй сведений о ее прошлом. По правде говоря, Можань верила – даже еще до приезда Жуюй, – что каким бы ни было ее прошлое, пожив среди них, она избавится от части своего сиротства.
Жуюй смотрела, как по воде движется жук, его тонкие конечности оставляли едва видимые следы. Ненадолго она заинтересовалась насекомым, но, когда отвела глаза, тут же о нем забыла.
– Почему сестра Шаоай всегда сердитая? – спросила она. – Ей не нравится, что я здесь, ведь так? Совсем не нравится.
У Можань на лице проступила му́ка.
– Нет, нет. Она просто сейчас расстроена.
Жуюй опять посмотрела на воду, но жука уже не было. Она не знала, как называется насекомое; в сущности, она никогда особенно не засматривалась ни на жуков, ни на птиц, ни на деревья. Ее тети жили строго в четырех стенах, из квартиры выходили только по необходимости; их жилище, содержавшееся в девственной чистоте, не отдавало дани ни праздникам – какими бы то ни было украшениями, ни временам года – растениями на подоконниках; плотные шторы, всегда задернутые, держали погоду на расстоянии.
То, что Жуюй не стала расспрашивать дальше, огорчило Можань. Она жалела, что не может объяснить Жуюй, в каком положении находится Шаоай: в начале лета она участвовала в демократических протестах[4] и теперь ждала решения своей судьбы, которое станет известно в начале учебного года. Она не была в числе вожаков протеста, но университет, тем не менее, должен принять дисциплинарные меры; что это будет – обычное или строгое «политическое предупреждение», приостановка учебы или, хуже, исключение, – не знал никто. Родители Можань, тревожась за Шаоай, говорили, что она напрасно пренебрегает собственным будущим; они больше помалкивали, но Можань знала, что они, как и другие соседи, хотели, чтобы Шаоай отреклась от декларации, которую прикрепила к университетской доске объявлений на следующий день после бойни и где назвала правительство фашистской сворой. Родители предупредили Можань, чтобы она не говорила на эти темы с посторонними.
Можань инстинктивно обернулась, но, кроме нескольких пешеходов поодаль на тротуаре, никого не увидела – никаких подозрительных личностей, готовых подслушивать.
– Я знаю, что сестра Шаоай иногда ведет себя неприветливо, – сказала она. – Но поверь мне, она хорошая.
Люди то и дело просят поверить им, подумала Жуюй, им, кажется, и в голову не приходит, что сама просьба доказывает: верить этому человеку не стоит. Тети-бабушки никогда не просили ее им поверить, и однажды, плохо знакомая с этим понятием, она попалась на удочку: в первом классе одна девочка раз за разом упрашивала Жуюй сводить ее к себе домой; тети, объясняла ей Жуюй, не любят гостей, но девочка умоляла ей поверить и обещала, что ни единой душе ничего не расскажет. В конце концов Жуюй сдалась, однако на следующий же день после визита всем и каждому в классе, похоже, что-нибудь да было известно про то, как она живет, и даже две учительницы что-то спросили ее про книги ее теть. Но испытать на себе предательство кого-то недостойного было не так унизительно, как нарушить покой теть. Они выждали несколько дней и словно бы мимоходом заметили, что им не очень понравилась подруга, которую Жуюй привела домой. После этого Жуюй ни разу не позволила себе подружиться с кем бы то ни было.
– Как ты можешь быть уверена, что сестра Шаоай хорошая? – спросила Жуюй.
Можань посмотрела на мальчиков, плескавшихся в водоеме. Ее мучило, что она не может заставить Жуюй увидеть настоящую Шаоай: когда им с Бояном было примерно столько же лет, сколько этим мальчикам, именно Шаоай привела их на этот пруд, толкнула их туда, где поглубже, чтобы заработали руками, посмеялась, когда они глотнули воды, но все время была на расстоянии вытянутой руки. Если даже Шаоай и нельзя было назвать заботливой, все равно и Можань, и Боян знали, что она надежный друг.
– Слышала пословицу: «Лошадь проверяется долгой дорогой, а людское сердце – временем»? – спросила Можань. – Я думаю, постепенно ты узнаешь сестру Шаоай лучше.
Жуюй улыбнулась. Чего ради, говорила натянутая улыбка, я захочу узнать Шаоай лучше? Можань густо покраснела: молчаливое пренебрежение не к ней самой, а к той, кого она уважала, кем восхищалась, сделало ее еще менее уверенной в себе перед лицом Жуюй, чем когда-либо.
– Когда мы поедем обратно? – спросила Жуюй, показывая на садящееся солнце.
Можань была недовольна собой. Она видела, что Жуюй ей не верит. С какой стати она бы стала? – думала Можань, крутя педали на аллее, до того привыкшая уже к тяжести Жуюй на багажнике, что на какое-то время позабыла о своей привычке болтать с ней по пути. Можань не любила недоговоренностей; для нее жизнь была чередой идеальных, завершенных моментов, неизменно постижимых, порой с мелкими трудностями, но всегда с большей долей радости. Ей не нравилось оказываться в смутном положении, которого она не может объяснить другому; но надо было соблюдать верность Шаоай, чью беду Можань было велено хранить в секрете. А если бы она перестала крутить педали и попыталась все-таки растолковать, почему Шаоай злится, – поняла бы Жуюй или нет?
5
Ранним утром в субботу, когда у Можань зазвонил телефон, она побоялась взять трубку и дождалась щелчка автоответчика. Сообщения не оставили, и минуту спустя телефон зазвонил снова. Еще не было и шести – слишком рано для чего бы то ни было, кроме беды. Можань взяла трубку, услышала голоса обоих родителей и какое-то время, пока мать говорила о пустяках, не могла сосредоточиться.
– А ты, – сказал отец, когда мать, похоже, истощила запас мелких тем. – Ты сама как?
– Хорошо.
– Голос у тебя хриплый, – сказала мать. – Не простудилась?
– Просто сухое горло, – ответила Можань. – Я спала.
– Послушай, – сказал отец, и Можань ощутила приступ паники: обычно он предпочитал слушать тому, чтобы его слушали. – Прости, что так рано позвонили. Но мы только что узнали, что десять дней назад умерла Шаоай.
Можань попросила родителей секунду подождать и закрыла дверь спальни. Она жила одна в арендуемом доме и привыкла – дом, она была уверена, привык тоже – к тому, что ее жизнь полна повседневных звуков, но не людских разговоров. В гостиной за дверью, которую она закрыла, было сравнительно свободное, незагроможденное пространство, где, помимо нескольких предметов безликой мебели из IKEA, компанию ей, когда она туда заходила, составляла маленькая коллекция предметов: одинокая серебряная ваза, которую она часто забывала снабжать цветами; металлический книгодержатель в виде сгорбленного старика в цилиндре и крылатке, опершегося на трость; стопка толстой, коричневого оттенка бумаги ручной выделки, слишком красивой, чтобы на ней писать; и репродукция Модильяни – портрет некой госпожи Зборовской, чьи глаза под тяжелыми сонными веками, темные, лишенные зрачков, казались почти слепыми. Ни один из этих предметов не появился в жизни Можань с каким-либо особым смыслом; она приобрела их там и сям в поездках и позволила себе привязаться к ним, потому что это были единственные памятки о местах, которые ей не принадлежали, которых она никогда больше не увидит. Сейчас она, тихо закрыв дверь, защитила эти любимые вещи от вторжения, каким стал ранний звонок. Потом она не будет думать о них как о свидетелях, отягощенных смертью, явившейся из давнего прошлого.
– Мы решили сразу дать тебе знать, – сказал ее отец.
Эту смерть нельзя назвать неожиданной, хотела она сказать родителям; облегчение для всех, хотела она их заверить, но это были бы банальности, которыми ее родители и их былые соседи наверняка уже обменялись. Родители позвонили ей, чтобы услышать другое, но Можань могла предложить им только молчание.
– Мы подумали о визите соболезнования, – сказала ее мать. – Но что мы можем сказать маме Шаоай? Что бы ты ей сказала?
Можань передернуло. В отличие от отца, с которым у нее редко случались противостояния, мать была способна превратить простое изложение фактов в вопрос, требовавший ответа.
– Я думаю, всем будет лучше, если вы не пойдете, – сказала Можань, аккуратно выбирая слова, чтобы не открыть путь к новым вопросам.
– Но это значит поступить бессердечно. Вообрази себе ее положение.
Матери Можань и так было тяжело из-за дочери-беглянки; прибавить сюда боль другой матери из-за утраты дочери, которая двадцать один год была хуже, чем полумертвая?
– Не давай воли воображению, – сказала Можань.
– Но как можно перестать об этом думать? Конечно, по мне не так ударило, как по маме Шаоай, но представь себе на минуту, что ты не имела бы ко всему этому отношения. Жила бы и жила себе в Пекине, и хотя бы наша семья осталась бы вместе. Я знаю, ты думаешь, это эгоизм с моей стороны, но ты ведь понимаешь мою мысль?
– Нет, я не думаю, что это эгоизм с твоей стороны.
– Надеюсь, ты понимаешь, что матери приходится быть эгоистичной.
Вполне ожидаемо за потрескиванием телефонной линии угадывались материнские слезы и угрюмая сдержанность отца. Они были, она знала, в разных комнатах, держали две трубки, потому что им было легче, если, говоря с ней, они не смотрели друг другу в глаза.
– По-моему, не стоит нам сейчас это обсуждать, – сказала Можань. – Ты расстроена.
– А как мне не расстраиваться? Мама Шаоай по крайней мере знает, кто убил ее дочь, а мы как не знали, так и не знаем, что́ нашу дочь от нас увело.
– Никто не знает, что случилось с Шаоай, – сказала Можань.
– Но ведь это Жуюй. Наверняка она. Только она и могла. Я неправа?
Ее родители, должно быть, нередко рассуждали об этом между собой, но Можань ни разу не спрашивали. Зачем спрашивать сейчас, когда молчание, уже установившееся, следует сохранять нетронутым? Даже смерть не повод тревожить прошлое.
– Никто не знает, что случилось, – повторила Можань.
– Но ты знала. И прикрыла ее – ведь прикрыла?
Отец кашлянул.
– Ты понимаешь, Можань, мама не потому спрашивает, что мы хотим тебя обвинить, – сказал он. – Никто не может ничего вернуть и изменить, но нам с твоей мамой, ты должна видеть, – нам трудно, потому что мы не понимаем смысла.
Когда, подумала Можань, человек начинает понимать смысл чего-либо? Желание ясности, желание не жить слепо – они не так уж далеки от желания обманывать: надо уподобиться суши-повару, резать, подравнивать, пока жизнь – или память о жизни – не превратится в презентабельные кусочки.
– Предлагаю сменить тему, – промолвила она. – Я тут думала о Скандинавии летом – как вы к этому относитесь? Говорят, там красиво в июне.
– Мы устали от туризма, – сказала ее мать. – Мы старые уже. Шаоай умерла, когда-нибудь и мы умрем. Не пора ли тебе приехать домой повидаться?
Не желая давать родителям даже малейшей надежды, Можань сказала, что не готова сейчас это обсуждать. Пообещала позвонить через неделю, зная, что к тому времени отец убедит мать действовать умнее и не давить на нее. Можань закончила разговор до того, как родители могли воспротивиться. Они любили ее сильнее, чем она их; по этой причине в любом споре ей была обеспечена победа.
Можань, которая была у родителей единственным ребенком, ни разу за все шестнадцать лет после отъезда в Америку не побывала в Пекине. Первые шесть лет, когда она делала все необходимое для защиты диссертации по химии, она не виделась с родителями вообще, ссылаясь на трудности с визой и дороговизну билетов. За это время у нее случилось замужество, началось и кончилось, оно огорчило и повергло в смущение ее родителей, но то, что они с ее супружеской жизнью ни единожды не пересеклись, похоже, сделало эту жизнь в их глазах не вполне реальной; по крайней мере, Можань на это надеялась. Она подозревала, что до сего дня они никому в Пекине не сказали про ее неудачный брак, и им было легче от того, что не пришлось встретиться с Йозефом, который был на год старше ее матери.
После развода Можань уехала из города на Среднем Западе, где жила с Йозефом, и, когда начало получаться по деньгам, стала оплачивать поездки родителей и сама к ним присоединяться: автобусный тур по Центральной и Западной Европе, во время которого она добросовестно их сопровождала, фотографировала их на фоне величественных арок и древних развалин, заботясь о том, чтобы ее самой ни на одном снимке не было; две недели на Кейп-Коде, где они на пляже и в кафе-мороженых являли собой странное семейство: она была слишком взрослая для дочери, отдыхающей с родителями, а они, мало к чему способные примагнититься в незнакомом городе, скрашивали дни разговорами с людьми их возраста, толкавшими прогулочные коляски или строившими вместе с внуками замки из песка. Там и в других местах родителей Можань тянуло к дедушкам и бабушкам, их английского было как раз достаточно, чтобы выразить восхищение чужим счастливым продолжением рода.
Можань успокаивала мысль, что за то, чего она лишила родителей, они получили компенсацию: Таиланд, Гавайи, Лас-Вегас, Сидней, Мальдивы – заграничные места, наполнившие их фотоальбомы природными и рукотворными красотами. За годы они смирились с тем, что никогда не будут приглашены взглянуть на повседневную жизнь Можань в Америке, но они не оставили надежду, что когда-нибудь она приедет в Пекин хотя бы ненадолго. Можань, однако, неизменно была глуха к упоминаниям о родном городе. Места не умирают и не исчезают, но их можно стирать, как стираешь из памяти любовника после неудачного романа. В случае Можань это решительных мер не требовало: надо было только жить связно, последовательно, быть ровно тем, кем являешься, день ото дня – этого достаточно, чтобы место, подобно человеку, оставалось на периферии сознания.
После звонка она долго медлила, прежде чем открыть электронное письмо Бояна. Оно было коротким: причина смерти и дата кремации – шесть дней назад. В скудости деталей было что-то обвиняющее – хотя какое она имела право надеяться на большее, ведь сама никогда не отступала от молчания с его холодом. Раз в год Можань посылала на счет Бояна две тысячи долларов, ее вклад в уход за Шаоай, но на его ежемесячные письма никогда не отвечала. О главных фактах его жизни – об успешной бизнес-карьере в разных направлениях, последним из которых было девелоперское, о неудачном браке – она узнала от родителей, но отсутствие ее реакции на какую бы то ни было новость о нем, должно быть, привело их к заключению, что все это ей неинтересно. Позвонив сказать, что Шаоай умерла, они о нем не упомянули.
Телефон позвонил снова. Можань поколебалась и взяла трубку.
– Еще только одно, – сказала мать. – Я знаю, что тебе трудней, чем нам. Мы с твоим отцом по крайней мере держимся друг за друга. Ты не хочешь, чтобы мы вмешивались в твою жизнь, я это понимаю, но, может быть, ты согласишься, что пора подумать о новом браке? Нет, пойми меня правильно. Я не давлю на тебя. Я только хочу сказать – ты, конечно, считаешь это заезженной фразой, – может быть, тебе уже перестать жить в прошлом? Конечно, мы уважаем любое твое решение, но нам было бы веселее, если бы ты нашла кого-нибудь нового в своей жизни.
Странно, что родители, вопреки всем признакам, решили, что она живет в прошлом, но Можань спорить не стала и пообещала подумать. Интересно, какое прошлое – и каких людей, связанных с этим прошлым, – они сочли препятствием к ее счастью: ее жизнь в Пекине или ее жизнь с Йозефом? Ее проблема – им бы следовало уже это знать – была не в том, что она жила в прошлом, а в том, чтобы не позволять прошлому жить дальше. Любой момент, ускользавший из настоящего, становился мертвым моментом; и раз за разом от ее навязчивой потребности очищаться от прошлого страдали ничего не подозревающие люди.
Жизнь Можань была одинокой и благополучной настолько, насколько она находила это для себя возможным. Она работала в фармацевтической компании в Массачусетсе, где одна занимала маленькую лабораторию; в ее ведении находился прибор, измерявший для контроля качества вязкость различных оздоровляющих и гигиенических средств. При том что у нее был изрядный исследовательский опыт химика, эта работа мало чего от нее требовала, помимо способности терпеть скуку. Однако она давала ей необходимое: стабильный доход и причину находиться в Америке. Чего еще она могла требовать? У нее не было детей, и ее тревога, когда она читала о климатических изменениях и канцерогенах в пище и воде, не была конкретной: она не чувствовала себя уполномоченной беспокоиться о будущем человечества. Не имея близких друзей, она была достаточно дружелюбна с соседями и сослуживцами, чтобы не слыть нелюдимой безмужней чудачкой. Хотя ее жизни не хватало яркости, какую дают счастье и острая боль, она верила, что взамен обрела благословение одиночества. Каждое утро в любую погоду совершала долгую и бодрую прогулку, после работы – еще одну; дважды в неделю волонтерствовала в местном приюте для животных, другие вечера проводила в библиотеке за чтением старых романов, к которым редко кто прикасался. Работа у нее была успокаивающая, не похожая на то, какими она представляла себе большинство работ, – ей нравились образцы, искусственные цвета и запахи, нравилась неизменность протоколов, предсказуемость результатов. Когда на работе случались свободные промежутки, она грезила о других местах и временах, где жизнь людей, не имеющих к ней отношения, была настолько полной, насколько она это позволяла: где девочка по имени Грация умерла от туберкулеза в пятнадцать и была похоронена в швейцарском горном городке, забытая всеми, кроме ее несчастной гувернантки-француженки; где в парижской мастерской, склоняясь над кусочками кожи и тусклыми гвоздями, трудился стареющий сапожник, чье зрение ухудшалось день ото дня, чье сердце билось неровно; где молодой пастух в Баварии апатично чахнул по соседке, девушке на три года старше и уже просватанной за деревенского мясника. На случай, если кто-нибудь заглянет к ней в лабораторию, Можань принимала меры, чтобы выглядеть занятой, хотя подозревала, что сотрудники видят в ней подобие ее прибора – безотказную машину, про которую, один раз хорошо ее настроив, спокойно можно забыть. Она не ставила это в вину коллегам, большинство которых стоически, пусть и не вполне счастливо, жили пригородной жизнью. Если они ощущали некое превосходство над Можань, она не чувствовала этого – впрочем, скорее всего, потому, что держалась от них на безопасном расстоянии; не чувствовала она и какого-либо преимущества над всеми прочими – у каждого свой удел, считала она, у нее это одиночество, уделом же сослуживцев, радостным или тягостным, стали брак, родительство, повышения и выходные. Глупо было бы считать себя лучше или даже просто другой только потому, что у тебя есть что-то, чего у остальных нет. Семья с ее теснотой, одиночество с его требовательностью – и то и то храбрый выбор, а может быть, наоборот, трусливый – все это в конечном счете мало сказывается на глубоком и труднопостижимом безлюдье, окружающем любое человеческое сердце.
Сейчас Можань хотела бы вернуться к обычному субботнему распорядку, нарушенному звонками родителей и письмом Бояна; но известие о смерти – о любой смерти – неопровержимо доказывает эфемерность спокойной жизни. Последний раз Можань видела Шаоай перед своим отъездом в Америку; к тому времени Шаоай уже потеряла много волос, зрение сильно ухудшилось, глаза потускнели, жилистое в прошлом тело опасно раздалось, ум помутился. Что сделалось за двадцать один год с этой узницей в собственном теле, Можань могла только гадать, но принуждать себя к ответу не стала. Легче было воображать, как Грация лежит в хижине и смотрит на покрытые снегом вершины: на прикроватном столике кувшин, в круге чистой неподвижной воды блестит утренний луч; рядом неоконченная вышивка по образцу – стихотворение Гете, и Грация вспоминает, как в пять лет начала неуклюже вышивать алфавит розовыми и белыми нитками.
Когда Можань только приехала в Америку, к ней несколько раз заходили из местных церквей. Она отвечала – и это была не просто бойкая отговорка, хотя звучало, должно быть, именно так, – что для веры у нее не хватает воображения. Но теперь она знала, что дело не в воображении, его у нее было достаточно. Парижский сапожник потерял единственного сына в уличном бою; он не знал, кого винить, судьбу или революцию, и его растерянные слезы жгли сердце Можань больнее, чем вздохи ее родителей. Жительница Баварии вышла замуж без сожалений, не подозревая о мучениях молодого соседа. Она произвела на свет девочку и умерла при родах, и в иные дни, когда Можань испытывала ледяную неприязнь к себе, она позволяла молодому пастуху выкрасть малютку и утопиться вместе с ней; в другие дни, чувствуя себя виноватой из-за расправы, которую безответственно учинила над ничего не подозревающими душами, – и по какой причине, как не ради того, чтобы самой ощутить боль, от которой избавляла себя в жизни? – Можань позволяла девочке расти и быть для соседа с разбитым сердцем более ценной, чем она была для себя и остального мира.
Допустим, она разрешила бы себе быть ближе к реальному миру, чем к воображаемому. Допустим, во время родительского звонка рядом с ней был бы кто-то, с кем можно обсудить смерть Шаоай. Можань немедленно захлопнула эту дверь. Быть застигнутой за надеждой, пусть даже самой поймать себя на ней – но ведь только самой это и возможно – похоже на то, как ее застали, когда она робко сыграла простую мелодию на пианино во время вечеринки у коллеги по работе. Девочка всего лишь трех, видимо, лет, еще не доросшая, в отличие от старшей сестры и брата, до уроков музыки, тихо вошла в комнату, где Можань улучила минуту уединиться. Привет, сказала Можань, и девочка изучающе посмотрела на нее с собственнической жалостью и досадой. Какое право, говорили, казалось, ее глаза, ты имеешь прикасаться к пианино? Можань покраснела; девочка оттеснила ее от клавиш и забарабанила по ним обеими руками, вполне, судя по всему, довольная дикой какофонией. Казалось, она показывала Можань: вот как ты играла!
Про нее-то Можань и вспоминала сейчас, идя по своему обычному маршруту к местному парку – к рощице, мало что предлагавшей помимо унылой детской площадки с металлическим ржавым скелетом паровоза и несколькими скрипучими качелями, тоже ржавыми. Не все имеют право на музыку, говорили глаза этой девочки, и не все имеют право на красоту, надежду, счастье.
Старая женщина, закутанная в мешковатое пальто и шарф, терпеливо ждала, пока ее черный пудель в желтой жилетке кончит обследовать камень. Можань пробормотала «здравствуйте» и готова была пройти мимо, как вдруг женщина подняла к ней свое маленькое лицо.
– Я вам вот что скажу: никогда не забывайте дату последней менструации.
Можань кивнула. Когда с ней заговаривали, она всегда принимала внимательный вид, показывая, что услышанное для нее значимо.
– Всякий раз, как иду к врачам, они это спрашивают, – сказала старуха. – Как будто это важно в моем возрасте. Мой вам совет: идите домой и запишите где-нибудь – так, чтобы легко было найти.
Можань поблагодарила ее и пошла дальше. Она легко могла представить себе, что задерживается, что выслушивает рассказ этой женщины о долгом ожидании у врача или ветеринара, или о недавнем приезде внуков; такие разговоры с незнакомыми людьми случались нередко – в продовольственных магазинах, в химчистке, в парикмахерских, в аэропортах, – так что иногда Можань приходило в голову, что, может быть, ее главное достоинство – готовность служить живым вместилищем подробностей. После того как она добросовестно, но все же в недостаточной мере, выражала сочувствие, восхищение или удивление, люди двигались дальше, они забывали ее лицо, едва перестав ее видеть, а могли и не увидеть вовсе; она была из тех чужаков, в которых иные нуждаются порой, чтобы скрасить пустоту жизни.
Когда она вернулась, на автоответчике было сообщение от Йозефа. Странно, что больше одного звонка за утро. Она перезвонила только вечером. Хотела внушить ему мысль, что ей есть чем заниматься в субботу.
Голос Йозефа, когда он ответил, был слабым. Он спросил, говорила ли с ней Рейчел, и Можань почувствовала, что сердце у нее упало. Рейчел была младшей из четверых детей Йозефа и Алены; два года назад, когда Йозеф ушел на пенсию с должности библиотекаря в муниципальном двухгодичном колледже, он продал дом и купил квартиру в нескольких кварталах от Рейчел и ее мужа, которые тогда ждали третьего ребенка. Рейчел единственная из детей Йозефа открыто выражала недовольство его женитьбой на Можань, которая была всего на три года старше нее.
– Рейчел хотела что-то мне сказать? – спросила Можань.
Она вспомнила свой утренний страх, когда позвонили родители. Она боялась тогда услышать, что Йозеф умер.
Можань постоянно жила с мыслью, что рано или поздно раздастся звонок – хуже всего, если от кого-нибудь из детей Йозефа. Тем не менее от того, что позвонил сам Йозеф – сообщить о своей множественной миеломе, новые очаги с июня, когда они виделись последний раз, – было не легче. На мгновение у нее возникло странное чувство, что его уже нет на свете; их разговор, память для будущего, звучал нереально, тон Йозефа был извиняющимся, как будто он по глупости, по ошибке подхватил рак.
Как давно он узнал, спросила она, и он ответил: месяц назад. Месяц, повторила Можань, чувствуя, как вскипает гнев, – но до того, как она могла разразиться тирадой, Йозеф сказал, что прогноз не самый тяжелый. «Заботливая бывшая жена пережила его, будет гласить некролог», – пошутил Йозеф, когда наступила пауза.
Сколько он продержится, задалась вопросом Можань. Сколько кто-либо или что-либо способно держаться? Брак, отнюдь не лишенный теплоты вначале, мог оказаться удачным: недостаток страсти компенсировался бы нежностью, бездетность не служила бы источником разочарования, ибо проистекала бы не из разницы в возрасте между Йозефом и Можань, а из ее твердокаменного нежелания стать матерью. По выходным приезжали бы дети и внуки Йозефа, и старые друзья – мужчины и женщины на двадцать-тридцать лет старше Можань, которые хорошо знали не только Йозефа, но и Алену и заботились о Йозефе после несчастья с Аленой, – поддерживали бы традицию регулярных встреч, возникшую задолго до появления Можань в их кругу.
Заботливая бывшая жена должна быть лучшим утешительным призом, подумала Можань, на какой мужчина может претендовать и каким женщина может быть. Но даже если дети Йозефа не стали бы возражать, она все равно выглядела бы лишним элементом, нарушающим безупречную стройность некролога. Не один год Можань регулярно заходила на сайт, собирающий некрологи со всей страны. Ей никогда не надоедали эти мягко подретушированные резюме чужих жизней. Без ее вторжения жизнь Йозефа была бы одной из этих безупречных историй любви и утраты: добропорядочное взросление в добропорядочном городе на Среднем Западе; счастливое супружество с той, к кому он был неравнодушен с детства, оборванное беспечным водителем; обожаемый отец четверых детей и дед одиннадцати внуков; многолетний участник местного хора, рьяный садовник, прекрасный друг, добрый человек.
– Я приеду повидаться, – сказала она, уже решая попутно, что после разговора забронирует перелеты и ночлеги в своей обычной гостинице.
– Но до июня еще далеко, – заметил Йозеф.
Каждый год последние одиннадцать лет Можань навещала Йозефа в июне в день его рождения – посидеть вместе за ланчем, но не за ужином, потому что ужин в день рождения – дело семейное, а у него были дети и внуки. Он был подчеркнуто благодарен ей за эти ланчи, как будто не знал, что ей они нужны больше, чем ему.
До июня действительно было далеко, и можно ли было рассчитывать, что он доживет до июня? Та же мысль, должно быть, пришла в голову и Йозефу, и он заверил Можань, что прогноз неплохой: врачи говорят, еще пара лет как минимум, смотря по тому, как пойдет терапия.
Тогда зачем вообще надо было ей рассказывать? Почему нельзя было подождать до очередной встречи в июне и избавить ее от семи тягостных месяцев? Но она знала, что несправедлива к нему. Он сообщил ей, как наверняка и другим, далеко не сразу.
– Любой план допускает корректировку, – сказала она. – Или сейчас время для моего приезда неподходящее?
Нет, ответил Йозеф, время вполне подходящее. Но колебание в его голосе – то ли воображаемое, то ли реальное – уязвило Можань: в смерти, как и в жизни, у нее нет твердого права ни на что. Более легким тоном она сказала ему, чтобы он не беспокоился, она до Дня благодарения избавит его от своего присутствия. Обратный билет забронирует на среду; в этот день к нему, вероятно, приедут с семьями дети.
– Думаешь, меня бы обеспокоило, если бы ты осталась на праздник?
– Я не хочу навязываться, – сказала она.
Решить приехать к нему, она понимала, уже значило навязаться, но Йозеф был слишком добр, чтобы указать ей на это. Ее непоследовательность, которую она ему одному давала увидеть, сама была любовью своего рода, какой не получал от нее больше никто, хотя ничего хорошего такая любовь ни ему, ни кому-либо другому, если на то пошло, принести не может.
– В этом ты вся, – вздохнул Йозеф. – Вечно волнуешься из-за того, из-за чего не должна.
– Ты же связан с людьми, – сказала Можань, хотя имела в виду лишь привязанность его времени к окружающим.
Считать человека связанным в любом смысле – кровью, юридическими документами, касающимися брака или трудовой занятости, неписаными обязательствами перед друзьями, соседями и братьями по роду человеческому – иллюзия; время, однако, – дело иное. Беря обязательства перед другими, чем человек на самом деле жертвует – это временем: ланч, ужин, уикенд, брак, сколько он длится, последний промежуток у смертного одра; пойти, совершая ошибку, дальше, предложить свое подлинное «я» – у каждого есть история-другая о горьких уроках, которые получаешь, давая больше, чем просят.
– Я не могу просто прийти и попроситься в их компанию, – продолжила она.
– Почему нет, Можань?
– Мне казалось, ты уже понял, что я не подхожу, – сказала Можань.
То, что она не подходит и не может вписаться, было доводом, который она привела, прося о разводе. Вписаться – что за нелепая идея. Можно подумать, брак должен работать как рука мастера, постепенно сглаживающего твои углы и меняющего твои оттенки вплоть до невидимости, до полного слияния с окружением. Йозеф, пришедший тогда в смятение, сказал, однако, что их брак не предполагал ее приспособления к его миру, что такого у него и в мыслях не было.
Но упомянуть о своем мире значило, думалось Можань, получить несправедливое преимущество. Войдя в брак сама по себе – она сослалась на трудности с визой, объясняя отсутствие своих родителей на церемонии, – она могла опираться только на себя, тогда как у Йозефа была его семья, ставшая в итоге одной из причин, которыми она объяснила свой уход.
Конечно, заверил ее Йозеф сейчас, я понимаю твое беспокойство. Она пожалела, что он это сказал; ей хотелось, чтобы он не был так покладист. Она сказала, что свяжется с ним, когда забронирует билеты. Он ответил: хорошо, но голос был расстроенный. Почему она не могла быть к нему добрей?
Секунду поколебавшись, Йозеф сказал, что есть еще одно, о чем ей следует знать перед приездом: сейчас всюду, куда ему нужно, его возит Рейчел.
Во время своих прежних посещений Можань не видела Рейчел, и ей приходило в голову, что Йозеф, может быть, скрывает их ежегодные ланчи от детей и друзей. По их мнению, она все делала с расчетом: будучи иммигранткой, вышла за Йозефа, чтобы упрочить свое положение, а когда получила гражданство и ей предложили хорошую работу, тут же развелась. Можань представила себе, как он вынужденно просит Рейчел отвезти его встретить ее, просит с виноватым видом мужчины, пойманного на измене, и вместе с тем упрямо, вопреки своей беспомощности.
– Я возьму напрокат машину, – сказала она. – И буду возить тебя всюду, куда скажешь.
Йозеф поблагодарил ее.
– Тогда до встречи, Можань?
Можань судорожно вдохнула: тишина, которая вот-вот наступит, была страшна.
– Йозеф, – сказала она, чувствуя себя, вопреки всем резонам, овдовевшей.
– Да?
Она хотела сказать ему, что скончалась одна ее давняя знакомая, но вывалить эту новость на умирающего было бы эгоистично. Она хотела попросить его, очень попросить не отказываться от надежды, пусть даже сама, окажись в таком положении, наверное, сдалась бы без борьбы. Хотела попросить прощения за то, чего не сделала для него, и за то, что сделала не так. Но чувствовала, пока он терпеливо ждал, что эти слова, с которыми ее сердце было согласно, прозвучав, отдавали бы мелодрамой.
– Что с тобой? – мягко спросил Йозеф.
– Со мной, разумеется, все в порядке, – ответила она и добавила, что если у нее имеется талант, которым можно похвастаться, то это талант всегда быть в порядке.
Йозеф проигнорировал зловредство ее замечания (прежде всего по отношению к ней самой, а не к нему). Он никогда не был большим любителем сарказма.
– Тебя что-нибудь огорчает, Можань?
Не разбил ли ей сердце какой-нибудь другой мужчина – он об этом спрашивает? Он, конечно, проявил бы заботу – она вспомнила, как он утешал Рейчел после ее разрыва с университетским бойфрендом, – но как могла Можань объяснить ему сейчас, что не сердце ее разбито, а вера в одиночество? Прося о разводе, она сказала ему, что лишь малая часть его жизни пойдет насмарку. Дети и внуки, друзья и дом – все это ему оставалось, со всем этим она пересекалась лишь минимально, ничем из этого никогда не владела. В сравнении с тем, как томительно длинна жизнь, сказала она ему, пять лет, которые они провели вместе, – не более чем временное отклонение. Чего она ему не сказала – это что, отказываясь от супружества, решила жить более ограниченной жизнью: хотела одного – держать ум и сердце незагроможденными, и с помощью дисциплины она потом поддерживала суровый порядок, очищавший ее существование вплоть до стерильности. Но сегодняшние два звонка, две вести – одна о свершившейся смерти, другая о надвигающейся, – и чем наполнилось это незагроможденное пространство, как не болью, которую не облегчит даже самая безжалостная чистка? Она тосковала по Йозефу; она тосковала по людям.
– Что случилось, Можань?
Ничего не случилось, заверила она его. За прошедшие годы до его сознания, видимо, дошло, что она больше не ищет себе близкого человека, однако она видела, что он продолжает надеяться, желая, чтобы наступило время, когда она, оберегая чьи-то чувства, перестанет ездить на его дни рождения.
– Прости, я скверно себя с тобой веду, – сказала она.
– Ничего подобного.
– Давай не будем об этом спорить, – сказала она, хотя с кем еще ей спорить, как не с ним?
На прощание велела ему беречь себя и подтвердила, что скоро приедет. Когда разговор окончился, она почувствовала напор извне, словно его голос оставил трещину, сквозь которую в комнату хлынуло безлюдье. Она вспомнила историю, которую прочла в юности, про голландского мальчика, обнаружившего течь в плотине и заткнувшего ее пальцем, чтобы сдержать океан. В этой истории море, которое раньше было ему веселым другом, зашептало в ухо мальчику, коварно его соблазняя, подбивая сдаться, а между тем онемение распространялось с пальца на руку и на все тело. Почему, сказала Можань мальчику и себе, не прекратить героическое сопротивление и не посмотреть, что случится?
Но ничего не случилось. Тишина – не шепчущее море, она не поглотила и не утопила ее, и женщина на картине Модильяни продолжала смотреть, милосердная в своей беззаботности.
Можань надела пальто, замотала шею шарфом и вышла на улицу. Темнело, поднимался ветер, он гнал листья по тротуару. В домах загорались окна, слышалось, как открывают и закрывают почтовые ящики, фырчали и умолкали после урчания гаражных дверей автомобили, кое-где гудели, не желая светить тихо, уличные фонари. У здешнего пригородного вечера может быть такой же обманчиво идиллический саундтрек, как у вечера в швейцарской горной деревушке: машинам так же хочется добраться до дому, как овцам и коровам после пастьбы; собаки, проведшие день в одиночестве, лают, заслышав хозяйские шаги, так же рьяно, как овчарки, которые после дневных трудов на лугах чуют запах теплого и жареного из кухонь. За каждой дверью, недосягаемо для чужих любопытных или бесчувственных глаз, радости и печали очередного дня собираются воедино, прибавляя или отнимая, что-то видоизменяя, что-то маскируя, ведя чьи-то восприимчивые сердца по доброму или недоброму пути в место пусть неощутимо, но отличное от вчерашнего.
Когда-то Можань, стряпая в кухне, где Алена год за годом готовила для мужа и четверых детей, и прислушиваясь, не едет ли Йозеф, но не скучая по нему на самом деле, нафантазировала себе жизнь отдельно от Йозефа, как позднее нафантазировала жизни для Грации, для сапожника и для пастуха с разбитым сердцем. Не разочарование в браке, как думал Йозеф, повело ее к этому, а сознание необходимости в каждую данную секунду жить лишь частичной жизнью. Время – тоненькая, ненадежная поверхность; верить в прочность момента, пока ступня не коснется следующего момента, столь же заслуживающего доверия, – все равно что идти во сне, ожидая от мира, что он будет перестраиваться, создавая для тебя сказочную тропу. Ничто так не губит полновесную жизнь, как неосновательность надежды.
Жизнь, которую Можань вообразила себе на кухне у Йозефа, не сильно отличалась от ее теперешнего существования: нарезая овощи, она репетировала одиночество. Оно было ее единственной защитой от того, чтобы сердце, подчиняясь Йозефу, их браку, ходу времени, двигалось в чуждую ей сторону. Порой, когда она не слышала дверь гаража, погрузившись в шипение масла под крышкой, она вздрагивала при внезапном появлении Йозефа. Кто ты такая и что делаешь в моей жизни? – чуть ли не ждала от него вопроса, и мелькала мысль, не ждет ли он, увидев в ее глазах мимолетную враждебность, такого же вопроса от нее.
В своей взрослой жизни, полагала Можань, она безошибочно предугадывала будущие события: переезд в Америку, замужество, поздне́е развод с Йозефом. Посторонние сказали бы, что она просто подгоняет жизнь под свое ви́дение, осуществляет его, но это было не так. Да, человек может видеть то, чего нет, может лелеять пустые надежды, но все-таки себя обмануть труднее, чем окружающий мир. В случае Можань – невозможно.
Странно, однако, было то, что ясность видения изменяла ей, когда речь шла о прошлом. На ранней стадии их отношений Йозеф любопытствовал насчет ее жизни в Китае. Она не была способна удовлетворить его любопытство сполна, и ее уклончивость ранила его – по меньшей мере печалила. Но как можно делиться воспоминаниями о месте, не перенося себя туда? Безусловно, были моменты, которые останутся живыми до самой ее смерти. Зимними утрами мать, прежде чем вытащить Можань из крепости одеял и покрывал, терла свои руки одну о другую, чтобы согреть, и пела песню о том, что рано вставать полезно для здоровья. Ржавый велосипедный звонок отца, звучавший так, будто вечно был простужен, однажды украли; кто, недоумевала семья, позарился на старый звонок, когда вокруг масса новых, блестящих, с ясным и громким звуком? Возникали лица соседей, умершие выглядели живыми и полными жизни, состарившиеся – молодыми. В первом классе, когда пришли из районной поликлиники брать кровь на анализ, она надоумила Бояна, который во всем ей доверял, помассировать мочку уха, чтобы кровь шла лучше, и медсестра потом на него наорала, потому что кровь долго не останавливалась.
Но может ли человек, думала Можань сейчас, гарантировать достоверность своих воспоминаний? Определенность, с которой ее родители называли Жуюй виновной, не отличалась от определенности, с которой они верили в невиновность своей дочери. Ищущие убежища в несовершенстве памяти не разграничивают случившееся и то, что могло случиться.
Можань не верила – ни раньше, ни теперь, – что Жуюй намеревалась причинить кому-нибудь вред. Убийство требует мотива, умысла, плана – или совершается в минуту отчаяния и безумия вроде тех, что в ее воображении побудили молодого пастуха утопить разом невинное дитя и свою любовь. Можань недостаточно знала Жуюй, когда они были школьницами; даже сейчас она не могла сказать, что понимает Жуюй: она была из тех, кто противится тому, чтобы их понимали. Когда обнаружилось, что Шаоай отравлена, Жуюй не проявила ни сожаления, ни беспокойства. Делает ли это ее более виноватой, чем другие? Но то же самое можно сказать о разводе Можань: многие друзья и родственники Йозефа сочли ее интриганкой, получившей от брака все, чего хотела, и после этого сразу от него избавившейся. Объяснения, которые она дала Йозефу, были вялыми, ее сдержанность в присутствии других выглядела вызывающей, и это делало ее более достойной осуждения, чем если бы она просила простить ее.
Йозеф, так или иначе, ее простил. «Заботливая бывшая жена пережила его», вспомнились ей его слова. Йозеф умирал, Шаоай умерла; на его умирание недостаточно было смотреть издали, ее же смерть, даже видимая из такого далека, мучила и смущала. Можань ускорила шаг. Через три дня она приблизится к Йозефу, хотя смерть будет к нему еще ближе.
6
В Пекине многие стороны бытия Жуюй требовали объяснений. Чья она дочь? Где родилась? Чем собирается тут заниматься? Эти вопросы, наряду с менее существенными, касающимися ее первых пекинских впечатлений и деталей прошлой жизни, надоедали: люди спрашивали то, на что не имели права, или то, на что не стоило трудиться отвечать.
Когда выяснилось, что Жуюй не может дать удовлетворительных ответов, Тетя взяла ее под защиту и вместе с тем, казалось, была сконфужена на ее счет; соседи утешали Тетю, говоря, что Жуюй еще тут новенькая, что она стесняется, что мало-помалу разговорится. Жуюй старалась не пялиться на людей, когда они говорили такое в ее присутствии. Она не понимала, что они имеют в виду под ее стеснительностью: она никогда в жизни ничего подобного не ощущала – человеку либо есть что сказать, либо нет. Соседям по двору, однако, эта идея была недоступна: здесь жизнь с утра до ночи проживалась на общественный манер, всем было дело до всех; ее молчание не радовало и стариков, которые сидели в проулках в тени бобовых деревьев, пока утренний ветерок не сменялся немилосердным летним зноем, и, устав от старых баек, с надеждой смотрели на незнакомое лицо Жуюй: не скрасит ли она чем-нибудь свежим и легко забывающимся монотонность дня, оставляя нетронутой безмятежность?