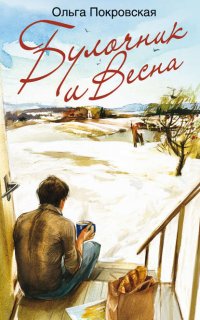Читать онлайн Полцарства бесплатно
- Все книги автора: Ольга Покровская
© О.А. Покровская, 2017
Глава первая
1
В тот образцовый мартовский вечерок, даже и с блинами, которые по случаю Масленицы продавали на площади, молодой шустрый человек Алексей, добрая душа и обожаемый учениками тренер детского клуба по мини-футболу, выскочил из метро и оказался немедленно вовлечён в конфликт.
Скандал зрел на перекрёстке Климентовского переулка и Малой Ордынки. Дядя Миша – харизматичный пьяница из местных – затеял опасное разбирательство с уличным музыкантом и, кажется, собирался уже посадить паренька с индийской дудкой в собранный у обочины снег.
Скандалов Лёшка не любил, но дядя Миша был не чужой ему человек – сосед по «последней коммуналке», где Лёшка вдвоём с мамой провёл своё грустное и счастливое детство.
Давным-давно – Лёшка учился тогда классе во втором – по стене их дома поползла трещина, и жильцов пообещали расселить в новенькую многоэтажку у метро «Пролетарская». Уже успела с той поры миновать школа, и случилась авария, в которой не стало мамы, а Лёшка всего только повредил колено, лишившись шансов стать Пеле; уже возникла из арки на Пятницкой Ася – волшебство его жизни, отзвенела свадьба, а дом всё стоял.
Лёшка хотел продать комнату и на вырученные деньги обзавестись квартиркой в спальном районе – для молодой семьи. Но дядя Миша слёзно умолял повременить. Боялся: что, если новый владелец сживёт его со свету? Лёшка хмурился, но пока что жилплощадь на продажу не выставлял. Сосед, хоть и падшая личность, всё же из детства.
История дяди-Мишиного падения проплыла перед Лёшкой подобно каравелле, сперва новенькой и блестящей, в звоне музыки и шутих, затем – почернелой, потрёпанной бурями, полной гула и брани пьяных матросов, а под конец – совсем завалившейся на бок, в пучину.
Когда Лёшка был маленьким, дядя Миша, бородатый красавец и балагур, человек-праздник, торговал с лотка печатной продукцией: картами города, путеводителями, краеведческой литературой. Всякий разговор с покупателем превращался им в интерактивное шоу, венчающееся продажей той или иной мелочи. Творческий подход дяди Миши к делу, подогретый прихлёбыванием из фляжки, однажды закончился дракой, и буяна попросили с поста.
С тех пор он околачивался возле лотка добровольным помощником и по-прежнему угощал покупателей байками. Из них вытекало, что дядя Миша был лично знаком и дружен со всеми авторами, представленными на книжном лотке, включая Гиляровского, у которого он неоднократно «пивал чай». Байки способствовали продажам, а потому владельцы точки не чинили препятствий творческим порывам сказителя.
Шло время, и радужный хмель сменился тяжёлым пленом. Дяди-Мишина комната, увлекательная, как пиратский клад, полная антикварного барахла, из которого маленькому Лёшке перепадал то значок, то монетка, подверглась безжалостному разорению. Нуждаясь в средствах на прокорм зелёного змия, дядя Миша стал приторговывать сломанными примусами и истёртыми пятаками. Понемногу сокровища иссякли, на их месте образовалась свалка тряпья, посреди которой изредка ночевал хозяин.
Дядя Миша осел, причём и в буквальном смысле, на пыльных швах замоскворецких улиц. Начали погрохатывать скандалы. Соседство становилось небезопасным, и потому Лёшка был рад перебраться в дом неподалёку, к молодой жене, в душевное семейство Спасёновых.
Иногда в нём проблескивало божьей искрой желание вызволить дядю Мишу: обустроить рухнувший быт, отвести лечиться. Но здравый смысл подсказывал: разгулявшийся бес не оставит жертву; пожалуй, и Лёшку за компанию утащит в трясину. А ему теперь собой рисковать нельзя. У него – счастье!
Рассудив так, он ограничил своё участие малым. Если кто обижал бедолагу, тот мог от Лёшки и схлопотать – благо это ему не трудно и даже приятно для мышц, скучающих по былым спортивным нагрузкам.
Но проучивать сегодняшнего флейтиста было не за что. Насколько Лёшка понял из дяди-Мишиных воплей, его сосед был категорически против того, чтобы иноземная флейта бансури звучала в Замоскворечье, на нашей, братцы, православной земле!
Бесформенным мешком дядя Миша наваливался на паренька и дышал ему в лицо угарной бранью. Флейтист, твёрдо заняв глухонемую позицию, в дебаты не ввязывался, а отступал себе потихоньку в сторону, поближе к торговым точкам. Когда Лёшка был в двух шагах от очага конфликта, дядя Миша, раздражённый трусостью противника, не стерпел и боднул свою жертву косматой головой в грудь. Флейтист, удерживая на вытянутой руке драгоценную дудку, шлёпнулся наземь.
– Дядя Миш, ты чего, озверел? – вознегодовал подоспевший Лёшка и бросился поднимать пострадавшего.
Когда вдвоём с поутихшим буяном они присели на лавку в родном дворе, дневной свет пошёл на убыль. Синева в тополиных ветвях потемнела и стала стеклянной.
– Враги меня давят, Лёха! – просипел дядя Миша и, вздохнув, как исплакавшееся дитя, прилёг косматой головой Лёшке на плечо.
От дяди Миши разило правдой жизни, к тому же была некоторая вероятность подцепить насекомых, но Лёшка терпел, не отстранялся.
– Нет у тебя врагов, дядя Миш, кроме тебя самого! – возразил он, скашивая взгляд: дядя Миша плакал. Слёзы вытапливались из отёкших незабудковых глаз и стекали по багряным щекам Лёшке на чистую куртку. – Дядь Миш, ну чего раскис-то? – заволновался Лёшка. – Давай подымай башку, гляди веселей! – И подтолкнул плечом. – Смотри, завтра выходной, приходи к нам, матч посмотрим, наши с хорватами будут играть! Только отмойся почище, а то Софья не пустит.
Лёшкина свояченица не пустила бы дядю Мишу на порог, даже будь он отмыт до блеска и надушен хоть «Кензо». Но Лёшка не опасался прослыть пустобрёхом. Он знал, что дядя Миша не придёт. Непропитым остатком совести этот человек понимал, что вламываться в добрый дом, где к тому же растёт ребёнок, было бы непорядочно. И всё же он благодарно склонил голову, на грязной шее мелькнул голубой шарф, ставший в последние годы отчасти бордовым. Лазурное это кашне было подарено в далёкие годы то ли сбежавшей впоследствии женой, то ли ещё кем – к дяди-Мишиным голубым глазам. Выцвели глаза, шарф пропитался жизнью.
– Дядь Миш, давай домой, отдохни, – ласково проговорил Лёшка. – Мне Асю пора встречать, обещал ей. Сам понимаешь, обидится. А как я тебя такого оставлю?
Но нет, черёд сна, горького и рваного, полного населивших душу чертей, ещё не настал. Дядя Миша встрепенулся и с тревогой поглядел в подворотню.
– Гурзуф брешет! – заволновался он, привстал и, шатнувшись, нащупал в заднем кармане штанов поводок.
Косматый страж дяди Миши, старый пёс Гурзуф, украсил собой не один туристский фотоальбом. На него обращали внимание часто, особенно иностранцы. В лицах читалось сомнение: полагается ли подавать псу на пропитание?
«Да вы чё! – разрубая воздух ладонью, возражал дядя Миша. – Итс майн! Сами прокормим! Вот если мне сигаретку стрельнёте – это да, будет гуд, о’кей!»
Иностранцы улыбались и, достав гаджеты, щёлкали дядю Мишу с питомцем. Разве что автограф не брали. А что – он бы дал!
– Одолевают, Лёха, меня враги. Погибну – не брось Гурзуфчика! Он мне, знаешь, как отец!.. – пробормотал дядя Миша и, набычив взгляд, совсем уже мутно уставился на Лёшку. – Дай слово друга!
– Да сказал уже, всё. Не брошу! – раздражился Лёшка.
Дядя Миша удовлетворённо кивнул и, отчалив от лавки, поплыл в сторону Малой Ордынки – на поиски пса. Он шёл как прокопчённый пароход, слегка накренившись набок. Раскисший снег брызгал из-под дачных галош, весьма уместных в московскую дурную погоду, если только поддеть шерстяные носки. Винтажный поводок, сделанный, кажется, из лямок рюкзака времён КСП, волочился за дядей Мишей по мартовской грязи, и где-то лаял, чуя приближение хозяина, штормовой и скалистый Гурзуф.
Нахмурившись, Лёшка зашагал по ещё различимым в слякоти следам дяди Миши. Наступало проклятое время, когда на площадь у метро «Третьяковская» валом повалит народ и милый сердцу облик старой Москвы уступит место всемирному мегаполису. Запахнет холодной пылью, и нечего станет делать на обезличившихся вдруг улицах, похожих на переполненный аэропорт.
Но даже и у этого «проклятого времени» есть оправдание – пора встречать из студии рисования Асю! Не пройдёт и пяти минут, как он увидит в арке своё заклятие – прозрачную сероглазку, насквозь городскую, тоненькую, несмотря на волжские корни. Только волосы, стриженные под каре, рыжеватые и беспорядочные, как луг в сентябре, напоминают о солнце, которое в изобилии знали предки. Ася машет рукой, летит навстречу – и тут бы настать безмятежному счастью! Но каждый раз в первый миг свидания словно срабатывает «рентген» – Лёшка видит Асю насквозь и ничего не понимает в увиденном.
Затем молодожёны целуются, начинается ещё один счастливый вечер, но загадочный «снимок души» хранится в сознании и тревожит новоиспечённого супруга своими извивами и лунными кратерами.
От этих «кратеров» и происходили все их размолвки. То Ася влюблялась в какую-то сложную музыку, то рвалась в жуткую метель гулять, а то и вообще заявляла, что на своей карамельной работе разучилась рисовать честно – значит, надо на выходных сесть в электричку и уехать далеко-далеко! И попробуй ей возрази – умрёт улыбка, веснушки стекут со слезами, не допросишься ни одного поцелуя. В общем, дело табак.
Лёшка искренне недоумевал, зачем человеку по молодости копаться в трудных вопросах? Для этого существует старость. Вот бы Асину душу сделать простой и весёлой – уютный дом да любовь к мужу! Ну ладно, пусть ещё иногда рисует котят.
2
Кто сказал, что весна добра и прекрасна? Она, как разбойник, сшибает с груди замок, рвёт дверь и переворачивает сердце. И всё же Ася любила эти ветреные облавы и с приходом марта уже успела помечтать, как уберёт в шкаф пальто и зимнюю обувь. Но пока что через маленькое круглое окно чердака на Пятницкой, где приютилась студия рисования, было видно только самую первую оттепель – сырые главы церквей и огромную кривую берёзу в гнёздах, натуральные саврасовские «грачи»! И старые эти деревья, и церкви доставали корнями до тех времён, когда купцы Спасёновы, Асины предки, гоняли чаи, дуя на блюдца, ловко вели дела и щедро жертвовали на храм.
Студия «Чердачок» стала одним из многочисленных коммерческих проектов Асиной старшей сестры Софьи, взращённых ею на ниве образования. В послужном списке у неё имелись: Центр детского развития, театральная студия, курсы ландшафтного дизайна и даже филиал международной школы коучинга, забиравший в последний год всё её время.
Ася, не унаследовавшая предпринимательской жилки предков, получила от сестры задание по силам: разработать учебную программу и обзвонить знакомых с худграфа – кто возьмётся разделить с ней преподавательские труды?
Не то чтобы Ася была настоящим художником. То есть два года назад она получила диплом, это правда, но рисовала совсем не то и не так, как мечтала, когда только собиралась податься в искусство. «Не живопись, а чай с булочкой!» – сердилась она, глядя на свои рисунки, собиравшие кучу «лайков» на аккаунтах сестры.
Нет, Ася, конечно же, любила и булочки, и старые улочки, и цветение крымских магнолий, до сладости ощутимо передаваемое акварелью, и прочие «отпускные» мотивы, которые желали освоить записавшиеся в студию дамы и девушки. Но одновременно и не любила – почти ненавидела. Однажды перебрала стопку своих работ и, стиснув зубы от натуги, раня нежную кожу рук, всю пачку разорвала на кривые полосы.
– Соня, но это ведь пошлость! Ничего там нет настоящего! – жалобно объясняла Ася сестре, обнаружившей цветные лоскуты в пакете с мусором.
Но Софья не приняла оправданий.
– Потому что забот у тебя нет! Хорошо живёшь! – твёрдо сказала она. – Лучше бы сварила Серафиме кашу, а то я опаздываю!
Пятилетняя Серафима, Асина племянница и крестница, была как две капли воды похожа на тётку – обе рыжевато-русые, пастельные, с чуть заметными веснушками. А вот Софья, после развода взвалившая на себя обеспечение семьи, перекрасилась в брюнетку и пристрастилась к алому маникюру, что вскоре отразилось и на характере.
В масленичный четверг подвалило снегу – весна взяла передышку. И всё же в закутках дворов и под окнами, где недавняя оттепель накрошила сосулек, чувствовался весенний беспорядок и свежесть. Стал различим на слух особый, хрипловатый разговор окрестных домов – то стукнет дверь, то окно, то «поплывёт» и шмякнется оземь отсыревшая штукатурка. «Вот бы о чём надышать акварель!» – думала Ася, прогуливаясь между мольбертами. Но сегодняшняя группа – шесть милых дам и один скромный молодой человек рисуют начатую на прошлом уроке вазу.
Ася поправляла карандаши в руках учеников, добавляла штришок-другой, а сама думала о том, что ничего нового в её жизни, конечно, уже не будет – одни надоевшие натюрморты!
Ещё полгода назад у Аси всё было впереди. В голове нестройными табунами бродили мечты о будущем, и оно обещало быть чудесным! И вот – всё определилось. Не то чтобы плохо, но – без чудес.
Прошлой осенью Ася вышла замуж и до сих пор не могла понять: как же так получилось? Почему? В голову приходил единственный ответ – ей хотелось, чтобы Лёшка улыбался. Видеть его совсем ещё мальчишеское, но такое суровое, скорбное лицо – сжатые губы, сведенные брови – было невыносимо. Нет уж – пусть улыбается, хохочет, захлёбывается счастьем. Последние Асины сомнения разрешил папа. «Настюша… – сказал он несмело, – Но ведь если ты согласна выйти замуж за человека, просто чтобы он улыбался, если это так важно для тебя, – значит, ты его любишь?»
Да, так сказал папа, а папа с мамой – лучшая пара на свете. Все трое их детей это знают – и Ася, и Софья, и старший брат Саня, Александр Сергеевич Спасёнов, врач, святой человек и Асин кумир. Может, из-за того, что «лучшая пара» уже есть, ни у кого из детей не сложилось пока что личного счастья.
Прохаживаясь между мольбертами и поправляя работы, Ася чувствовала, что сегодня ей совсем не хочется на диван, к семейным ценностям, а хочется вытворить что-нибудь, пусть даже и глупое, – к примеру, залезть на липу, протянувшую крепкий сук к Спасёновым на балкон. Однажды в детстве они с братом разыграли Софью – перебрались на липу и подглядывали, как сестра в недоумении ищет их под кроватями. Вот сбежать бы и сегодня в гущу ветвей, притвориться там воробьём! Да только Лёшка устроит скандал – он за Асю боится. Вечно кутает её, а летом не пустил полетать на воздушном шаре! Даже не разрешает ездить по городу на велике, хотя по Пятницкой проложили дорожку. Скучное житьё!
Дотерпев кое-как до получасового перерыва перед вечерней группой, Ася заварила пакетик чаю и подошла к окошку глянуть – как там весна? Смеркалось потихоньку, снег пока что не таял, но воздух набух, как дождевое облако. Значит, к ночи потечёт!
Взяв бумагу и карандаш, она принялась набрасывать хмурые купола, но её отвлёк топот на лестнице. В дуэте шагов Ася различила звонкие каблуки сестры, а через пару секунд ввалились: Софья в ореоле резких духов и её спутник с монитором в обнимку.
Женя Никольский по прозвищу Курт, программист и музыкант, был Софье не то чтобы друг, скорее добрый знакомый. Свой ник он получил в честь какого-то «культового» Курта, не то Кобейна, не то Воннегута, точно Ася не запомнила.
Курт был приятный парень, симпатичный, постарше Аси, помладше Софьи. Его фигура, высокая и тонкая, с довольно широкими для астеника плечами, порадовала бы глаз художника, если бы красоту силуэта не смазывала привычка держаться стиснувшись, обхватив плечи крест-накрест, словно он сильно зяб и старался укутаться сам в себя. Облик венчала груда вьющихся русых волос, собранная даже не в хвост – в сноп, в захватывающее дух творение, которое хотелось принять за наследственный признак некой таинственной расы или же за остаток небесного обмундирования ангелов.
Лицо Курта было задумано красивым, но не раскрылось вполне, как фантазия живописца, забытая на стадии наброска. Не всё было решено с формой носа, прямого, но как будто припухшего. Прекрасные серые глаза можно было расположить удачнее. Хорош был ясный лоб, но линиям бровей недоставало чёткости.
Несколько раз Курт бывал у них дома, помогал Софье организовать поддержку её проектов в Сети, а потом перестал заходить. Однажды Ася чуть было не нарисовала его по памяти, но лицо на портрете выразило такое сомнение и смуту, что она, испугавшись, отложила рисунок.
Курт вошёл вслед за Софьей, опустил монитор на кресло и обернулся в ожидании указаний.
– Ну, что ты смотришь! Ящик свой сними! Так и будешь с ним мотаться? Там ещё пять мониторов! – сказала Софья и помчалась в чуланчик под скосом крыши – проверить, есть ли место. Согласно распоряжению босса, старая техника в Студии коучинга была заменена новой, однако и для прежней Софья надеялась найти впоследствии какой-нибудь сбыт.
Тем временем Курт снял с плеча висевший на ремне ящик антикварного вида и, мельком взглянув на Асю, кивнул ей:
– Привет!
– Привет! А что это? – спросила Ася, разглядывая деревянную шкатулку.
– Мой друг, фонограф Эдисона! – скромно представил товарища Курт.
– Неужели работающий?
– Ну, сам ящик – это как бы душа, – пояснил Курт и, передёрнув повыше плетёные фенечки на запястье, откинул крышку. – Внутри, видишь, айфончик обычный, в режиме диктофона, и к нему микрофон. Микрофоны можно разные подключать… – помолчал и прибавил: – Я к вам вообще-то с ним уже приходил. Давно. Наверно, ты просто не обратила внимания.
Ася задумалась, вспоминая начало их небольшого знакомства.
– А! Так это для твоих песен?
– Да нет… Песни в таком бедламе не живут, – усмехнулся Курт и дотронулся до виска. – Записываю в основном всякий шум и потом в нём копаюсь. Это, знаешь, как на блошином рынке. Иногда такое найдёшь!
Он снял висевшие на шее солидные наушники, но не протянул их Асе, а положил рядом с фонографом на стол. Асе предлагалось решить самой, хочет ли она послушать.
– Можно? – спросила она и, взяв наушники, примяла пушистое каре ободком. Одно ухо приоткрыла, чтобы слышать комментарии Курта.
– Звуки можно перемешивать, наслаивать друг на друга. Можно создать другую реальность, даже поменять прошлое, – объяснял он, выбирая запись. – Это очень затягивает.
Тут Ася приложила палец к губам. В наушниках поплыли голоса.
«Женечка, ты не видел мои глазные капли? Беленький пузырёк? – вдалеке, через туман шорохов, произнёс совсем старый женский голос. – И куда я их сунула, шут знает…» Затем – мелодия звонка на мобильном, лай собаки и совсем близко голос Курта: «Запросто! А когда?» Кашлянул. «Ладно. Договорились». И снова – фоном – пожилой голос: «Кашка, прекрати шуметь! Фу!»
– Что это? – шёпотом спросила Ася.
– А это мне Софья звонила сегодня утром, насчёт мониторов! – пояснил Курт. – А вторым голосом – бабушка. И Каштанка лает – требует, чтоб её гладили. Они почти в одно время умерли – Кашка и через неделю бабушка. Она просто расстроилась очень с Кашкой, ещё и поэтому… Этой записи больше двух лет. А получается – как будто мы были все вместе сегодня утром. Удивительно, правда? Только лучше глаза закрывать.
Ася зажмурилась и на этот раз, помимо человеческих голосов и лая, различила отдалённое теньканье синицы и шипящий шорох – не то дождя, не то картошки на сковородке. Договорив по телефону (Ася поймала щелчок «отбоя»), Курт взял гитару (гулкий стук, звон) и наиграл что-то средневековое, простенькое, вроде «Леди зелёные рукава».
– А ещё? – спросила Ася и крепче прижала наушники.
– Конечно, пожалуйста! – с готовностью, как ребёнок, которого похвалили, отозвался Курт. – Вот ещё другое…
Он выбрал на диктофоне запись, и Ася погрузилась в многоголосие иноязычной речи. Через несколько мгновений в шуме улицы она ясно различила свой голос. Негромко, как будто на ухо своему спутнику, голос произнёс: «Здорово, правда? У меня прямо душа отогревается!»
Ася приподняла один наушник и вопросительно посмотрела на Курта. Тот ушёл от взгляда, однако объяснил:
– Это ты со мной в Барселоне! Я, когда вернулся, начал разбирать записи и подумал – а пускай там со мной будет Ася! Вот, получился такой монтажик…
Ася сняла наушники. Хоть убейте, она не понимала, когда и где он мог украсть её голос?
– А это тогда… Помнишь, меня к вам на Масленицу Сонька притащила? Давно… – вновь уклоняясь от распахнутых Асиных глаз, подсказал Курт. – Твой папа играл на флейте – я включил записать. А потом мы разговаривали – ну и всё сохранилось.
– Просто не знаю, что и сказать! – честно призналась Ася.
Она хотела полюбопытствовать, отчего Курт не подыщет практическое применение своему хобби, но тут из чулана ураганом вырвалась сестра.
– Здрасьте пожалуйста! – воскликнула Софья, уткнув кулаки в бока. – Ребята! Вы что, издеваетесь? Мне в Химки ещё, в типографию, а они болтают! Женя, давай-ка, быстро! Ася, а ты иди хлам разгреби! Правый угол там освободи мне!
– Ладно. Пошёл таскать, – сказал Курт и, как-то чудно кивнув Асе – словно приглашая её присмотреть в его отсутствие за ларцом со звуками, а возможно, даже развлечь господина Фонографа беседой, – отправился исполнять поручение.
Четверть часа спустя дело было закончено. В продувном чуланчике под скосом крыши, потеснив мольберты и старые стулья, мониторы расположились до лучших времён и убили, конечно, весь антураж.
– Ну вот! – удовлетворённо сказала Софья. – Всё, Куртик, спасибо тебе! И с машиной ты меня очень выручил, правда! Но всё уже, завтра свою забираю. Две недели коробку передач везли, охламоны! А твою я прямо сегодня тебе пригоню, как из Химок вернусь. Тебе куда, в гараж?
Курт отряхнул друг о дружку пыльные ладони.
– Да не обязательно, Сонь. Хочешь, я сам заеду? Где-то после девяти?
– Ох! Я так надеялась, что ты это скажешь! – воскликнула Софья. – А то убегалась уже до смерти. У нас в студии третий модуль стартует – шестнадцать часов! И конь не валялся.
– Куда стартует-то? На Альдебаран? – улыбнулся Курт и, помедлив ещё немного – вдруг сёстры догадаются пригласить его на чай? – простился.
– Эй! А ящик! – крикнула Софья, когда он выходил за дверь.
Курт мигом вернулся и подхватил фонограф.
– А пальто твоё в машине! Забыл? Подожди меня внизу, я спущусь через минуту! – прибавила Софья.
– Растяпа! Но чтобы ящик забыть – это что-то новенькое! С ящиком он неразлейвода! – сказала Софья, когда бег по ступенькам стих. – Ася, твой чай? Я допью?
Наспех заглатывая бутерброд с чуть тёплым чаем, Софья оглянулась на дверь чуланчика.
– Я вот думаю: кому мониторы сбыть? Есть идеи?
Ася с укоризной посмотрела на сестру. Ну откуда у неё могут взяться идеи насчёт мониторов! Разве это должно волновать молодую девушку?
– Соня, а почему ты в гости его не зовёшь? Позвала бы! Смотри он какой потерянный!
– Я зову – он сам не идёт. Да и зачем мне «потерянный» сдался? – уверенно возразила Софья.
– Вот Лёшка не бывает потерянным, – проговорила Ася, задумываясь.
– Ну и слава богу! – сказала Софья и, поставив чашку прямо на папку с рисунками, принялась наматывать шарф. – От потерянных сплошные убытки. И этот тоже – ни одну халтуру в срок не сдаёт, бездельник!
– И поэтому ты снабжаешь его заказами? – Сдержав улыбку, Ася посмотрела на старшую сестру и прищурилась, словно хотела взять пропорции её лица на карандаш. Всё-таки что за красавица у них Соня! Черты ясные, собранные, глаза – огонь! Не то что Ася – бледная мечтательница.
– Я снабжаю его заказами, потому что он хотя бы воспитанный человек, не хамит и не строит из себя ценного специалиста. Плюс добряк! Кто бы ещё мне на две недели машину дал? А ты лучше думала бы о том, что у тебя недобор в группе! – сказала Софья и, чмокнув сестру, ушла.
Ася сдержала вздох и поплелась устраивать натюрморт. Вялыми от скуки руками развесила на спинке стула бархатную синюю тряпку, принесла из кладовки кувшин. Затем достала из сумки настоящее красное яблоко и задумалась. Два года назад, когда она привела Лёшку, тогда ещё просто приятеля, на семейную Масленицу – познакомить со своими, почему-то и Курт оказался у них в гостях. Видно, у Соньки был очередной аврал – весь день они проковырялись в компьютере, только вечером присоединились к празднику. И как-то так здорово, дружно они втроём – папа, Ася и Курт – разговорились о музыке, осмотрели и опробовали папину коллекцию флейт, что Ася запуталась: кого она вообще-то привела на смотрины? Лёшку или этого Сонькиного фрилансера?
А потом она подглядела в дверную щёлку: на лестничной площадке Лёшка, наставив лоб на конкурента, шипел неразборчиво, но ядрёно. Курт отсмеивался сначала, а потом что-то понял, сокрушённо покачал головой и быстро сбежал по лестнице. С тех пор он больше не заходил к ним.
Тогда Ася не придала значения случаю, а теперь подумала с досадой: «Господи, ну что за человек! Разве можно так сразу сдаваться!» – и, бросив яблоко, помчалась к окошку.
Ей повезло: должно быть, Курта задержала Софья. Он только что обогнул дом и стоял теперь на краю тротуара, пережидая поток машин.
Старинное окно чердачка никак не хотело открываться. Ася влезла на стул и костяшками пальцев постучала в стекло. Предвесенний вечер гудел голосами машин и ветра, не пропуская скромный Асин стук. Она заколотила громче.
Курт обернулся и увидел в деревянной мансарде Асю, отчаянно дёргавшую на себя квадратик форточки. Наконец рама поддалась.
– Эй! Женя! Приходи к нам в воскресенье на Масленицу! Илья Георгиевич блины будет печь! – крикнула она. – Прямо заходи в любое время, запросто! – И, высунув руку на весенний воздух, помахала.
Курт стоял, запрокинув лицо к явлению Аси в окне, и не шевелился – словно боялся спугнуть птицу.
Закрыв окно, Ася перевела дух, затолкала поглубже в сердце неуместную радость и вернулась к натюрморту. В холле уже слышались голоса учениц. Значит, так: фалды туда, кувшин сюда, яблоко справа… Она ещё немного сдвинула драпировку и отступила на шаг. Глаза в глаза – с кувшинного и яблочного боков на неё глядела прежняя нестерпимая скука. Ася схватила яблоко и, смачно откусив бок, поставила возле кувшина. Так вот пусть и рисуют!
* * *
На перекрёстке Курт ещё раз обернулся на дом с окном в чердаке. Будь Вселенная чуть податливее, отзывчивее на мечты, этот чуланчик под скосом крыши, заваленный мольбертами и реквизитом для натюрмортов, мог бы стать для него отличным приютом! Он устроил бы себе из подручного материала гнездо и провёл жизнь, слушая через стенку, как юная художница ведёт занятия, объясняет и хвалит. Тихо стучат её туфельки, когда она прохаживается между мольбертами.
А когда Аси нет, он, лёжа на животе, поглядывал бы в щели и слушал, как гудит и щебечет улица. И ждал бы терпеливо следующего дня, представляя, что, скажем, он раненный в тылу врага, укрывшийся на сеновале. Так прошла бы вечность. А однажды зимой, под утро (у всякой сказки бывает конец!) тридцатиградусный мороз зашёл бы сквозь хилые доски внутрь чердачка и унёс его душу прочь.
Даже не думая возвращаться домой, к недоделанной работе, Курт бесцельно пошёл по улице. Ася, запах весны, приглашение на Масленицу – подобное везение на фоне его нынешней деградации казалось ему фантастикой. Впервые после долгих месяцев мрака он испытал самую что ни на есть свежую, детскую радость жизни.
Свернув в первое встречное кафе, оказавшееся пиццерией, он взял красного вина, что-то перекусить и, поставив ящик на соседний стул, откинул крышку. Вот уже не первый год старинный фонограф с новомодными звукозаписывающими гаджетами внутри был его компаньоном и другом. Курт и представить себе не мог, как раньше жил без него.
Однажды на городской барахолке среди хлама прошлого столетия ему попался на глаза обшарпанный ларец. Дерево ещё хранило следы былой красоты – резные виньетки, потёртый лак. Перед Куртом оказался предмет начала двадцатого века – компактный фонограф. Под откинутой крышкой взгляду предстала изящная панель в стилистике зингеровских машинок и на ней валик. Фонограф не работал. За столетие часть деталей была утрачена.
Принеся предмет домой, Курт поставил его на компьютерный стол и несколько дней косился, недоумевая: как его угораздило соблазниться ободранным ящиком! Понадобилось время, чтобы покупка открыла хозяину свою душу.
Спустя месяц Курт устроил внутри фонографа крепления для микрофона и базы, на которую передавался звук. Микрофон прилегал к вырезанному в корпусе окошку со ставней. Там же подключались наушники. Само собой, куда легче было бы положить в карман обычный диктофон и не мучиться с ящиком, но не всегда то, что легко, радует сердце.
Курт увлёкся бытовой звукозаписью и вскоре был целиком во власти волшебной шкатулки. Корпус фонографа он покрыл лаком, приделал ремень и отныне фланировал по московским улицам с увитым инкрустацией ящиком на боку, возбуждая в людях законное любопытство.
Чуткий микрофон улавливал шорох дождя, скрип снега и шум дорог. Звук накатывающих машин был неповторим, как плеск волны, в разную погоду захлёстывающей скалистый, галечный либо песчаный берег. Это грубо намешанное, жёсткое на слух городское море можно было записывать вечно. В невод фонографа попадали остатки чужих вечеринок – визг чертей, пьяная качка попсы и, наконец, треск расшатанной дверцы – уехали.
Постепенно лоскуты начали складываться в единый образ. Но теперь, в кафе, за бокалом вина, Курт надел наушники вовсе не ради звукового портрета столицы. Ему нужен был голос Аси – всё, что она успела сказать сегодня, с той минуты, когда он, продемонстрировав ей пару треков, тихонько включил «запись».
Курт знал, что, как бы говоривший ни желал скрыть истину, по тембру и интонации можно в точности узнать его подлинные эмоции. Переслушав несколько раз свою тайную добычу, он убедился: Ася испытывала сочувствие к чудаку с ящиком плюс некоторое количество любопытства, не слишком жгучего. Ну что ж, могло быть и хуже! Кроме того, приглашение в гости давало ему ещё один шанс затесаться в друзья. Единственное, что смущало: стыдно нагружать человека, к тому же теперь семейного, своей пропащей личностью.
Выпив ещё вина, Курт почти справился с нападками совести и ушёл бы временно счастливым догуливать вечер, если бы не выяснилось, что на карте, которой он собирался расплатиться, оказалось недостаточно средств.
– А сколько там не хватает? – смутился Курт и полез в карманы.
– Хотелось бы одним чеком, – сказал официант.
Исполнить пожелание не удалось. Расплачивался, собирая копейки.
«Сегодня Софья вернёт машину, – думал он, шагая по улице. – Можно её продать и поехать, скажем, на Аляску. Там, в музее Севера, данные сейсмических, геомагнитных и прочих станций земли бесконечно преобразуются в музыку. Прикольно вот так сидеть и слушать. Но что это даст? Если бы можно было уехать на Аляску без себя – тогда другое дело! А с собой – нет, не имеет смысла. Единственный плюс – это уберегло бы Асю от его персоны. А то ведь правда возьмёт и приедет к Спасёновым на блины!»
Чары недорогого итальянского вина ещё были в силе, а совесть уже начинала раскладывать костры инквизиции. Обещал заехать к Софье за машиной – и как теперь быть с промилле? Клялся заказчику, что сегодня вышлет готовый код программы, – но уже ясно, что не успеет.
Не то чтобы Курт расстроился сильнее обычного. К сюжету «преступление-наказание» он привык. Но отчего-то подумалось: надо бы забежать к Сане Спасёнову, брату Аси и Софьи. Он врач и к тому же его, дурака, жалеет. Зайти хоть сегодня, дождаться конца приёма и сказать: «Всё, Александр Сергеич, край!» Пусть выпишет ему таблетки от лени, скуки и стыда. Вдруг есть такие? Он будет глотать их горстями. Ну, или яду. Может, оно бы и к лучшему – лишь бы не эта хмарь.
3
Замечательный старый дом в тесном дворике с липой был не раскуплен богатой публикой и не отделан в соответствии с евростандартом по причине многолетней угрозы слома. В нём обитали старожилы, и среди них семья Спасёновых. Сперва семья была большой – бабушка с сыном, невесткой и тремя внуками – Александром, Софьей и Анастасией. Затем бабушки не стало, дети выросли, а родители, достигнув пенсионного возраста, уехали поправлять здоровье на волжский воздух, в отдалённый от столицы городок, на родину отцовских предков-купцов, где раньше каждое лето дети проводили каникулы. Старший брат Саня тоже поселился отдельно. В трёхкомнатной квартире на Пятницкой остались сёстры и маленькая Серафима.
Когда Ася изъявила желание привести в дом мужа, Софья не возразила – хоть будет кому менять перегоревшие лампочки. И действительно, зажили дружно, всем нашлось место. Гостиная – общая, Софья и Серафима – в комнате средней, Лёшка с Асей – в маленькой, угловой, где слегка разъехались плиты стены и приходится каждую осень вызывать службу «запенить» трещину.
В тот вечер Лёшке так и не удалось встретить молодую жену у студии. Ася задерживалась – дорисовать иллюстрацию на заказ. Больше того, ему было велено забрать из садика Серфиму, что он и сделал – не то чтобы с досадой, но без особой радости. Только около девяти пришла Ася, занялась сначала племянницей, и лишь потом, на кухне, впервые за целый день обнялись. Тает, кружась, старая деревянная мебель с филёнками, волшебный пар окутывает сердце. Случаются всё же небеса на земле! Минуты полторы благодати – а затем ворвалась Серафима и потребовала Асю к себе.
Пока Лёшка, розовый от перебитого поцелуя, сердито листал телеканалы, Ася намыла тарелку мандаринов и устроилась в гостиной с племянницей – читать «Муми-троллей». Лёшка поскучал-поскучал рядышком да и вернулся на кухню смотреть футбол.
Когда матч закончился, и, надо сказать, по-дурацки, обе барышни уже сладко спали на Серафиминой кровати. Ася с краешку. В ногах шуршит заползший в пододеяльник Серафимин хомяк Птенец. Ну что, будить или не будить? Ладно, пусть себе спит, устала…
Посмотрев со скуки повтор вчерашнего биатлона, а затем и чемпионат по кёрлингу, Лёшка выключил спортивный канал и подошёл к окну. Через прогал в сырых ветвях горело зарево ночной Москвы. Всё же такие вот одинокие вечера – опасная штука! В голову лезут мысли, и нет среди них хороших. Волей-неволей вспоминаешь, что на самом-то деле ты никчёмная личность! Метил в спорт – не сложилось. В институт поступил – бросил. Слава богу, поженились с Асей. Встретил любовь, повезло! И всё равно, стоит остаться наедине с собой, наплывает: недоучка, нянька для малышни. Нет, вообще-то обучать мелких лучшей в мире спортивной игре – это классно! Вот только где денег-то взять на достойную жизнь? Может, потому такая Ася и скучная, что нет сверкающей перспективы?
В полуночное окно било капелью, сосульки кинжалами рушились с крыши наземь. Он как раз стал свидетелем крушения очередной глыбины льда, когда вдалеке сверкнул яркий, как молния по чёрному небу, визг тормозов. Лёшка навострил уши. Тишина длилась секунд пятнадцать, а затем в глубине дворов густо взлаяла и завыла собака.
«Гурзуф, ты, что ли? – с досадой подумал он. – Ну чего не спится тебе?»
Из-за невысоких домов, откуда-нибудь с Большой Татарской, поднимался и тёк по весеннему небу собачий вой. Взяв на себя роль колокола, Гурзуф провозглашал неведомую беду.
Лёшка не верил в приметы и прочую мистику, но на этот раз дурное чувство подняло его с места и вынесло прочь из дома на мокрую улицу. Выскочив из подъезда, он остановился и покрутил головой. Отовсюду летел капельный шёпот. Тысячи неземных голосов ткали по Замоскворечью весну. И на тебе, Гурзуф испортил всю музыку! По ночным переулкам, бранясь и хмурясь, Лёшка пошёл на вой.
– Гурзуф! Ты чего вопишь! Перебудил всех! – заругал он воющего на перекрёстке пса и вдруг осёкся. Сделал несколько шагов и почувствовал, что колени подламываются. В поблёскивающей ночными огнями луже, выбросив руку за голову, лежал расхристанный дядя Миша. Из косматой головы тёк классический ручеёк. – Дядя Миш, ты чего? – шепнул Лёшка, приблизившись ватным шагом, и в следующий миг был атакован чудищем. Гурзуф налетел и, обнажив клыки, рыком донёс до Лёшки свою главную и единственную мысль: не тронь хозяина!
Отбившись кое-как, Лёшка отступил на тротуар и наконец заметил то, что должен был увидеть сразу: в нескольких метрах от дяди Миши помаргивал аварийкой автомобиль, небольшой корейский кроссовер. В этой коробочке, судя по всему, и скрывался дяди-Мишин палач. Лёшка подался было к машине, но раздумал. Зачем? Сейчас приедет дорожный патруль – вот и увидим, кто. Вдруг безотчётно, из глубины всплыла мысль, что не нужно искать виновного. Не было виноватых в дяди-Мишиной беспутной жизни и смерти.
На всякий случай Лёшка позвонил в «скорую», хотя тот, убийца, наверное, уже вызвал все необходимые службы, и, ещё раз оглянувшись на погибшего, зашагал прочь.
Сказать по правде, Лёшка считал себя человеком не сентиментальным и здравомыслящим, но на этот раз его пробрало крепко. По отравленной весне, глядя под ноги и стараясь не вдыхать глубоко, он спешил домой. Из-под земли, вытесняя родной замоскворецкий воздух, поднимался пар невидимого зла, а в отдалении всё выл и выл Гурзуф. Должно быть, это и не вой был, а горькое нечеловеческое рыдание.
В зацепках, оставшихся на куртке после собачьих когтей, дикий и ошарашенный, Лёшка через две ступеньки взлетел по лестнице, торопливо открыл ключом дверь и попал из огня в полымя.
– Где ты гуляешь! – пронёсшись из гостиной на кухню, бросила Ася. – Илье Георгиевичу плохо! Софьи нет – звонки отбивает, и ты ещё пропал! – продолжала она из кухни, перебирая на полке пузырьки с лекарствами. – Давай раздевайся бегом и помогай!
– Дядю Мишу сбили! – застопорившись посередине прихожей, не способный уже ни на какое «бегом», проговорил Лёшка.
Ася выглянула из кухни с флакончиком корвалола в руке и широко распахнувшимися глазами уставилась на мужа.
– Совсем, похоже. Кровищи из башки натекло. А он сегодня Гурзуфа мне поручил. Прямо как чувствовал!
Ася охнула. Задрожали губы. Дядя Миша-то ирисками её угощал! Да и кого из замоскворецких детишек он в золотые годы не угощал ирисками!
– Не говори Илье Георгиевичу! – наконец выдохнула она и, перекрестившись, понесла лекарство в гостиную.
Илья Георгиевич Трифонов был давним соседом Спасёновых, ещё бабушкиным задушевным приятелем и собеседником. Всю жизнь он преподавал детям сольфеджио, был женат и на пару с женой так закормил единственного сына Колю культурой и нравственностью, что тот «сошёл с ума» и сбежал в глушь карельских озер, к безденежью и суровым зимам, приносившим ему непонятное удовлетворение.
Овдовев, Илья Георгиевич накрепко прижался к Спасёновым. Дети – Саня, Софья и Ася – любили старика, почитая в нём память бабушки, а может быть, и тоскуя по старшему поколению, без которого ощущение молодой жизни не бывает полным.
Чтобы как-нибудь оправдать свою беспомощность и навязчивую ипохондрию, Илья Георгиевич завёл обычай угощать соседей произведениями домашней кухни, вроде блинчиков или постных щей, при необходимости забирал Серафиму из сада и вообще помогал по мелочи. Добрые сёстры чувствовали себя эксплуататоршами.
И вот сегодня старик, держась за сердце, в очередной раз постучался к соседям со скорбным призывом – спасти его «ради внука». Когда Лёшка, скинув ботинки, вошёл в комнату, пик приступа миновал. Надсадный кашель измучил грудь и отступил. Илья Георгиевич, в жилетке с ромбами, обтягивающей животик, и неизменно отутюженной рубашке, без сил обмяк на диване в гостиной Спасёновых.
Причина его нынешних проблем со здоровьем не вызывала сомнений: сегодня у Ильи Георгиевича был «пенсионный день». Всякий раз он праздновал его особо. Во-первых, торжественно шёл в банк. Затем – покупал какой-нибудь специальный продукт для неожиданного блюда. Скажем, разорительный соус «песто», если намечался итальянский обед, или, если грузинский, мяту и кинзу для чахохбили. И, наконец, посвящал середину дня кулинарному колдовству. Плодами трудов он с торжественной скромностью одаривал вернувшихся с работы сестёр, а заодно и Лёшку.
Обед, именовавшийся «пенсионерским», был прост, но кокетлив. Постным щам прибавляли элегантности завитки свежего перца, жареную картошку, поструганную необычайно мелко, украшали кольца томлёного лука, а блинчики с курицей светились маслом, как счастьем. К тому же из мелко резанного укропа кулинар умел сотворять узоры, подобные тем, что бариста рассыпают корицей на капучино.
Нынешней ночью Илья Георгиевич пришёл к Спасёновым, ощутив, что как-то нехорошо щекочет в груди. И всё-таки прихватил тарелку с блинами – угостить ребят, сами-то не пекут.
– С утра уже, Лёша, были признаки, – пожаловался старик, увидев Лёшку. – Вышел на балкон и чую – как будто черёмуховый цвет! Соскрёб ледок с перил – даже и он мёдом пахнет! У меня в детстве за соседским забором росла черёмуха, огромная, потом срубили. Вот и к чему бы? Я такую провёл цепочку: черёмуха в цвету – это как бы подвенечное платье. Значит, к смерти… Мне и перед инфарктом что-то такое мерещилось…
– Ерунда! На дерево только зря наговариваете, – буркнул Лёшка.
– И потом вот левая рука иголочками пошла. Немая совсем… – робко прибавил Илья Георгиевич и пошевелил пальцами.
Чтобы вывести симулянта на чистую воду, Лёшка с удовольствием сделал бы ему «крапивку» или посадил на лысину Серафиминого хомяка – пусть взбодрится. Его методы борьбы с хворями соседа были разнообразны. Как-то раз после очередного ипохондрического припадка Лёшка нарисовал смерть с косой, огрызавшуюся вполоборота: «Илья Георгиевич, отстань!» – и повесил комикс на входную дверь. Старик плакал.
Но теперь, в присутствии Аси, перевоспитывать паникёра было рискованно. Она только что сбегала за тонометром и, просунув руку больного в манжетку, напряжённо слушала шум. Пульс зашуршал на низких цифрах – мелким и частым дождиком.
Подозрительно было, что Илья Георгиевич даже не полюбопытствовал о результатах измерения. Он смотрел мимо Асиного плеча на нахохленные спины голубей, в свете фонаря дремлющих на карнизе.
– Низкое! – сказала Ася и подняла глаза на мужа – не придумает ли тот, как быть?
Лёшка глянул на старика, перебиравшего толстыми пальцами бахрому пледа, и изо всех сил попытался выжать из сердца жалость. Пнул: сочувствуй, гад! Но то ли слишком привык к выступлениям Ильи Георгиевича, то ли все эмоции были растрачены на дядю Мишу.
– Ну а «скорую» – то чего не вызываем, раз плохо? – спросил он с досадой.
Илья Георгиевич вздохнул, суетливым жестом пригладил на сторону чубчик и проговорил:
– Нет. Не надо «скорую». Позовите Саню!
В стародавней жизни Илья Георгиевич учил маленького Саню Спасёнова музыке. Их сотрудничество длилось восемь лет и со временем вышло далеко за рамки предмета. Не встретив заинтересованности в собственном сыне, он вывалил на соседского мальчика весь свой обременительный культурный багаж и вскоре почуял, что обрёл наследника. Нельзя и передать, как учитель был обескуражен, почти убит, когда его ученик, вместо того чтобы заняться искусством, рванул в медицину.
Его по сей день печалило, что одарённый мальчик, а теперь уже взрослый мужчина тратит себя на работу, в общем, подённую, возится с болезными стариками и ничем пока не удивил мир. Кроме того, Илью Георгиевича расстраивало, что так заметно опростились Санины прежде высокие облик и речь. Ходил нестриженым, выражался как попало, перекусывал на бегу. При всём при том целительное воздействие Сани на нервы старика было огромно. Илья Георгиевич приползал к нему в самых чёрных клубах ипохондрии, уходил же с весёлой отвагой в сердце, которую иначе можно было бы назвать верой.
Застигнутый страхом старик смотрел, как младшая Ася, прижав телефон к уху, слушает гудки, и ему казалось: она звонит в область света – туда, где придумывалось небо и капель, откуда обязательно вышлют помощь. Но область света не отвечала. Видно, Саня был занят другими просителями.
– Я на домашний попробую, – сказала Ася озабоченно, и в ту же секунду брат перезвонил. – Ну вот. Через полчаса будет! – сообщила она, улыбнувшись напуганному старику. – Лёш, ты побудь пока с Ильёй Георгиевичем, а я в ванной бардак разберу – а то вдруг с ним Маруся увяжется! Она может. И Софья-то где? Господи! Первый час!
4
В это самое время в девятиэтажке на краю московского лесопарка, в скромной квартирке, где последние два года обитал с супругой и её маленькой дочкой врач-терапевт Александр Сергеевич Спасёнов, разгорелся семейный конфликт. Он вспыхнул от телефонного звонка.
То обстоятельство, что мужу придётся ночью ехать через пол-Москвы, сперва туда, а затем и обратно, привело Санину жену Марусю в панику.
– Что им ещё надо? Кто ночью в гости зовёт? – вскрикивала она, закрывая ладонями исказившееся лицо.
– Марусь, не в гости. Илье Георгиевичу плохо, – торопливо одеваясь в прихожей, возразил Саня.
– Плохо? А мы что, в каменном веке? Что, разве «скорую» нельзя вызвать?
Уже взявшись за дверную ручку, Саня почувствовал, что трещит по швам. Вот и как быть? И уйти нехорошо, и остаться – немыслимо.
Он вздохнул и, поцеловав вспотевший от возмущения лоб жены, всё-таки вышел из дому.
Пешеходный проспект вдоль кромки гремящего оттепелью леса нёс усталого Саню, баюкая на ходу. После трудового дня с девяти до восьми, плюс ряд «внештатных» обязательств, в голове у него был беспорядок. Мысли танцевали друг с другом, меняя партнёров и закруживаясь до обморока. А между тем сегодня масленичный четверг – к тёще на блины. Только Санина тёща в Калуге. А мама и того дальше, в маленьком волжском городке. Укачало их там с папой, не дозовёшься. Значит, надо ехать самому – у папы последняя кардиограмма была неважная. И, кстати, Илью Георгиевича пора загнать к кардиологу… – думал Саня на лету, пока вдруг не понял, что ничего этого не хочет, а хочет упасть, вот хоть сюда, на просевший от влаги снег под соснами, и отключиться.
В этом году он устал непозволительно рано. Не прошло и двух месяцев после январских каникул, а уже навалились яркие сны. Февраль принёс метели, и реальность сблизилась со сновидениями настолько, что, начиная пробуждаться, обычно минут за пять до будильника, он обнаруживал вокруг всякую невидаль. На место соснового леса с горками надвигались волнистые пески. Различимы уже всадники-арабы в одеяниях цветных и воздушных. Стена горячего воздуха перебивает дыхание. Нет, давайте-ка поправим видение! Пусть блеснёт мне тихий разлив Волги, мягко накатит из-за сосен на асфальт перед домом…
А потом звенел будильник. Саня отрывал от подушки набитую дроблёным камнем голову и шёл на кухню. Чашка с кофе казалась свинцовой. К счастью, двадцать минут, за которые он успевал добежать через парк до работы, возвращали его движениям и мыслям присущую от природы стремительность. Но где-то накапливался тот «свинец».
Ты устал, друг, отдохни. Хотя бы просто выспись. Но как выспишься, когда тебя обступают просьбы о бессмертии. Несметное число просьб. День и ночь они висят в уме, как стикеры с напоминанием о невыполненных делах, и вместо глухого, восстанавливающего силы сна тебя мучат видения.
Полагая себя специалистом маленьким, не призванным к великим делам, Саня всё-таки ухитрился зарасти пациентами, как бурьяном. После работы непременно кто-нибудь ждал его у крыльца поликлиники и провожал домой, выясняя дорогой – делать ли прививку от гриппа, соглашаться ли на шунтирование, как советует профессор Н., а также другие вопросы, как пустячной, так и великой важности.
Звонки, переписка, беготня по соседям, полагавшим, что имеют особое право на внимание доктора, – всё это приподнимало Саню на высоту утомления, с которой любая ситуация становилась видна как на ладони. Мозг включал повышенную передачу, и интуитивные решения самых сложных вопросов, принятые в такие минуты, неизменно бывали верными.
Коллеги относились к Александру Сергеевичу с уважением, однако не без юмора. Случалось, он выпадал из профессии и задумывался о смешных вещах. Не сменить ли ему медицину на что-нибудь более действенное? Например, молитву! «Саша, принимайте фенибут! Фенибут вам поможет!» – иронизировал его старший коллега, невролог, истинный профи и атеист.
По большому счёту, Саня был с ним согласен. Фенибут или что покруче – и долой из медицины, для которой непригоден совсем.
Однажды он сошёлся сам с собой на том, что не лечит людей, а попросту «держит дверь». Для стариков – чтобы не захлопнулась. Для прочих неловких – чтобы не защемило больно. Отзывчивость делала Саню швейцаром без сменщика. Валясь с ног, он подпирал вечную дверь, через которую било жизнью.
Особенно его мучили родственники безнадёжно старых людей, врывающиеся в кабинет, звонящие и поджидающие его у поликлиники с каким-нибудь убийственным вопросом. Скажем, если делать всё, как он скажет, то будет ли гарантия? И никак он не мог, не хватало духу, ответить честно: «За гарантией – это, ребята, к Богу! Разве я тут решаю хоть что-нибудь? Я маленький, дверь держу!»
Два года назад, к великому удивлению Аси и Софьи, Саня женился. Сёстрам казалось естественным, что никто из кандидатур, ежедневно встречавшихся на пути их лучшего в мире брата, не осмеливался забрать «народное достояние» в личное пользование. Возможно ли приватизировать в одни руки Покров на Нерли? Дрезденскую галерею или Уффици со всем содержимым? Так кому же могло прийти в голову отнять у целого мира для себя для одной Саню Спасёнова!
И всё-таки отыскалась Маруся. По совету знакомой она привела к доктору своего старенького дедушку. Заглянув после приёма в кабинет с полными слёз глазами, Маруся попросила Александра Сергеевича повторить для неё главное, а то дедушка что-нибудь напутает. С тяжёлой чёрной косой, лежащей на узком плече, с узкими запястьями нервно сцепленных рук, слегка полноватая и словно бы стесняющаяся своей проявленной женственности, Маруся гнездилась на краешке стула и с отвагой слушала доктора. В ответ на все его предписания и советы она мужественно подтверждала – «да!». А вечером позвонила ему уточнить назначение.
Кто дал ей номер? Неужели он сам? Теперь часто, до или после работы, Саня видел её – у поликлиники или на лесной аллее, по которой возвращался домой. Маруся робко роняла вопросы, кивала в ответ и твердила своё неизменное «да», пока однажды Саня не почувствовал, что переполнен её согласием.
Марусины «да» стучали в голове, сливаясь с пульсом, как шаг судьбы. «Да, Саня! Да. Именно да! Вот теперь – да!»
Ещё ничего не случилось в реальности – ни свиданий, ни заветных слов. Но он уже всё понял и рассказал сёстрам.
«Конечно, женщина с совестью не осмелилась бы тебя присвоить, – рассудила Софья. – Но, в конце концов, кто-то должен присматривать за хозяйством, пока ты на подвигах. Приводи – посмотрим!»
Предложение Маруси о совместной жизни Саня принял с нежностью, но без иллюзий. Это был меткий удар по его предназначению – голова с плеч. Как любящий муж отныне он был обязан потеснить из жизни излишек работы, и в первую очередь её неоплачиваемую часть – стариков, инвалидов и сложных подростков, с которыми он приятельствовал, оказывая посильную помощь. Он больше не имел морального права ложиться в два и вставать в шесть, чтобы заняться их нуждами. Теперь у него была семья – Маруся и её дочка Леночка.
Как-то, однако, всё утряслось. Санина бескорыстная «частная практика» жила и здравствовала, а Марусина ревность, хотя и разжигалась потихоньку, пока что не приносила ущерба. Куда больше, чем избыток работы, Марусю страшили моменты, когда на её супруга вдруг нападало раздумье – то самое, против которого грозил ему фенибутом невролог.
Дождливой или снежной ночью, заглянув на кухню, Маруся не раз заставала мужа глядящим в круговерть непогоды. Планшет бывал закрыт, закрыты и отложены на край стола книги в перьях закладок. И всё же Маруся чувствовала: Саня не один. Комнату заполняли собеседники.
Его ночные бдения походили на подготовку к трудному путешествию, когда приходится изучать карты и путевые записки предшественников. На расспросы жены Саня не умел ответить вразумительно, потому что и сам не знал. Он «просто читал». Но Маруся чуяла ревнивой душой: в глубине его ночного уединения с книгами росло и обретало форму предназначение, о котором пока нельзя было сказать ничего определённого.
* * *
Возле отчего дома Саня притормозил и взглянул на родные окна. В их свете укрывшая балкон мокрая липа казалась великолепной бронзовой люстрой с множеством витиеватых рожков. Кстати, если допрыгнуть до нижней ветки, по толстому боковому суку вполне можно влезть домой, ну или в гости к Илье Георгиевичу!
Саня мотнул головой, вытряхивая сон наяву, и зашёл в подъезд. Дверь открыл Лёшка.
Скинув куртку, вымокшую под весенним дождём, даже не разуваясь – как врач из районной поликлиники, Саня направился было в комнату, но увидел младшую сестру, и, спохватившись, снял ботинки.
– Ну что там? Серьёзно или паника? – спросил он у Аси, обнявшей его и ткнувшейся носом в плечо.
– Хотели «скорую», но ты же его знаешь – подавай тебя! – Ася отстранилась и, оглядев Саню, озабоченно нахмурила брови. Обе сестры, Софья и Ася, обожали брата и любящей завистью завидовали его красоте. Не то чтобы он блистал, просто черты его лица были так устроены, что при взгляде на них душа утешалась. Но сегодня брат явно был утомлён сверх меры. – Саня! Ты какой-то прямо… Устал? – спросила Ася. – Я тебе, хочешь, выжму апельсиновый сок! Или чаю давай, с блинами, Илья Георгиевич принёс. Я думаю, это он у плиты перетрудился! Вот кто его просил, скажи на милость? А Пашка в своей ветеринарке. Там их собачка приютская болеет. И Софьи до сих пор нет! Не могу дозвониться. Думаю, может, с Куртом застряли в какой-нибудь кафешке? Она ему сегодня машину возвращает. Хоть бы позвонила, сказала…
Саня контужено, не всё разбирая, слушал сестру, и опять ему захотелось поддаться притяжению земли и, забившись в какой угодно угол родного дома, уснуть хотя бы минут на десять.
– Я умоюсь, – сказал он.
Через минуту, промаргивая воду на ресницах, готовый к службе доктор Спасёнов зашёл в гостиную.
Илья Георгиевич, забавный, с чубчиком из трёх волосинок, в натянутой на круглый живот жилетке и толстых совиных очках, лежал на старом диване, любимом несколькими поколениями Спасёновых, неудобном, зато нарядном – с деревянной спинкой и подлокотниками. На этом диване они сиживали по-соседски ещё с бабушкой, Елизаветой Андреевной, и Ниночка тогда была жива, и сын Коля не ушёл ещё в свои дебри. Главное же, были не то чтобы молоды, не то чтобы счастливы – но уместны, нужны друг другу!
– Саня! – воскликнул он и хотел заплакать, но, видно, побоялся дать сердцу лишнюю нагрузку и прерывисто вздохнул. – Видишь, милый мой, опять приходится тебя нагружать…
С видом приветливым и бодрым, словно и не было усталости, Саня подвинул стул к дивану и взял дрожащего Илью Георгиевича за запястье. Поднял гнилую нить пульса, подержал, вникая в удары, и отпустил.
– Илья Георгиевич, вот так, навскидку, ничего нового и неожиданного я не слышу! – сказал он и обернулся на дверь, где ждала, не шелохнувшись, Ася: – А давай-ка Илье Георгиевичу чаю, не в пакетике, а нормально заваренного. С сахаром. И мне тоже можно! И фонендоскоп принеси, пожалуйста! Он в мамином шкафу. А Лёша пусть за релиумом – там ампулы у Ильи Георгиевича на кухне в шкафчике, и шприц.
Отдав распоряжения, Саня пересел со стула на край дивана и внимательно поглядел на старика.
– Рассказывайте, что у вас стряслось? Кто вас расстроил?
– Что стряслось… – отозвался Илья Георгиевич. – Ничего не стряслось. Санечка, жизнь прошла! Страшно мне – и я плачу! – На этих словах старик действительно заморгал и, подтянув неуклюжими пальцами плед, укрылся до подбородка. – И потом, ведь Паша-то опять ночевать не пришёл! Совсем сдурел со своими зверями. А у него ведь ЕГЭ!
Прошло пять или шесть минут тихого разговора. Лёшка промчался, звеня ключами, в квартиру напротив и обратно. Вошла Ася со шприцем и ампулой на застеленной салфеткой тарелке, ободряюще улыбнулась больному и выскользнула за дверь. А когда укол был сделан, явилась опять, на этот раз с двумя зимними, синими в белый горошек, чашками на подносе.
Такая же синяя, полная белой мглы чаша колыхалась за окнами в невидимых ладонях – это на смену дождю пришла последняя злая метель зимы. Гремит «бородинское сражение», но уже известно – снег займёт Москву лишь ненадолго. В последний раз его уберут с тротуаров, а возможно, он сдастся без боя и сам сбежит в водосток.
Саня взял чашку со сладким чаем и отпил в надежде раздобыть сил. Бывает усталость прозрачная, с разрывами в тучах – когда по юности не спал ночь, заменяя сон сигаретами. Утомлённость Сани была сплошной и длительной. Отзываясь на реплики Ильи Георгиевича, он из последних сил приподнимал её плиты, высвобождая из-под них сердце.
Илья Георгиевич сел на диване и тоже пил чай, сжимая чашку в неловких пальцах. Из неё набрызгало уже немало на плед и на старенькую жилетку в катышках. И всё же крупный озноб, пробиравший ветхого, непрочного, как шалаш, Илью Георгиевича, стихал. Лекарство действовало.
– А ведь я, Санечка, нашёл три причины, по которым мне нельзя умирать! – почувствовав облегчение, заговорил старик. – Пашку дорастить, чтоб в институт поступил, и курса хотя бы до четвёртого, а то кто смотреть за ним будет? Это первое. Затем, объясниться с Колечкой, понять его, всё же сын. А то представь, он, может, поумнеет к старости, и как ему будет горько, что так вот нехорошо бросил отца, да и сына бросил… Это вот второе. – И умолк.
Саня погладил старика по руке, как отчаявшегося ребёнка. Прихватил мимоходом запястье.
– А третье?
Илья Георгиевич вздохнул и мелким нервным движением поправил чубчик.
– А третье – хочу успеть до смерти как-нибудь перемигнуться с Ниночкой! Хоть бы сон какой вещий приснился – тогда уж не страшно. Глупо звучит – но вот хочется «установить связь»! Вот такие у меня планы на последние метры до финиша.
Саня поставил чашку на стол и, упёршись ладонями в колени, убеждённо сказал:
– Илья Георгиевич! А вы не проводите этой черты! Вы сейчас живёте, и дальше будете жить, и потом. Планируйте жизнь вперёд, через эту точку, которой вы так боитесь! Планируйте желанные встречи, берите с собой хорошие дела, которые не удастся завершить здесь! А может быть, и удастся – кто знает? Я бы на вашем месте открыл какой-нибудь долгосрочный проект! Вот хоть Пашку вывести в люди. Институт – это мало. Надо определиться в жизни – это ещё лет десять. Вы ведь шебутной! Вон, девочкам нашим ещё ухитряетесь помогать!
Саня говорил бодро и связно, подозревая мгновениями, что текст не его, он лишь исполняет некую классическую роль, весьма любимую пациентами вроде Ильи Георгиевича. И действительно, старик ожил и бросился возражать, желая, конечно, чтобы Саня разбил его скепсис. Саня выслушивал оппонента и снова мёл пургу под стать заоконной, пока в какой-то момент не почувствовал, что сознание расслоилось, как старая фанера. «Илья Георгиевич, думаете, у меня есть вера? На самом деле я верю в смерть и в похороны!» – вспыхивало в уме, а язык всё плёл и плёл вдохновляющие кружева.
Илья Георгиевич доверчиво внимал. Скоро совсем утихла дрожь, по груди разлилось тепло. Больной уснул.
Саня осторожно вынул из-под его локтя Серафимину книжку. Из середины просыпался летний гербарий. Саня опустился на пол и собрал сухие листья и цветы. В накатывающей дрёме ему захотелось составить из них кораблик. Он прилёг щекой на столик и, глядя сбоку, принялся выкладывать лиственную мозаику. Лист дубовый – корпус в волнах, липовый – парус, мелкие «ступеньки» акации – снасти…
Когда Ася с новой порцией чая, пастилой и вафлями в конфетнице, не смыв ещё с ладоней сладкую пыль, вошла в гостиную, оказалось, что поставить всё это некуда – журнальный стол занят. На нём, головой поверх сложенных рук, спит брат, так тихо, что страшно – жив ли?
Из-под ворота его свитера выбился шнурок с медным крестиком. Этот крестик с чуть заметным остатком эмали Ася помнила с детства, когда он ещё был новеньким. Саня купил его взамен своего крестильного, потерявшегося в Волге во время одного из ныряний.
Ася поставила поднос на пол и поправила крестик. На серо-синей вязке Саниного свитера были видны «соляные» следы стирального порошка. Маруся, опасавшаяся всего, брала для стирки двойную дозу. Помедлив, Ася осторожно смахнула крупинки.
Сёстры знали, как незакреплённо брат существовал в новой семье. Он, наверное, и спал на лету, не прислоняясь. Как люди уходят в пустыню, в пещеру, в стылую келью, чтобы открыть в себе дверь чему-то большему, так, возможно, и Саня, загнав себя на Марусину чужбину, хотел открыться чему-то.
Эх, если б можно было хоть ненадолго заполучить брата к себе! Прошлой зимой, между Новым годом и Рождеством, Маруся с Леночкой уехали к родным в Калугу, а Саня приболел, и сёстры зазвали его к себе. Что это были за дни! Как будто детство выпорхнуло из-под ладони. Сколько было выпито чаю под родительское варенье! Сколько всего припомнили из милой давней жизни! Даже сны им снились о прошлом – они обсуждали их утром за завтраком. Правда, Лёшка тогда ещё жил у себя. Он бы, конечно, всё им испортил, поскольку из другой сказки.
Выйдя из комнаты, Ася мельком оглядела прихожую – нет по-прежнему ни Софьиных сапог, ни пальто. Вызвала номер сестры – раз, другой и третий, пока вдруг не получила эсэмэску: «Прекрати сажать мне заряд! Приду, когда смогу!»
В пять утра повернулся ключ, в дом на цыпочках просочилась Софья. Скинула сапоги, пальто в тающем снегу и тут же была атакована вылетевшей из кухни сестрой.
– Совсем ты с ума сошла! – шёпотом набросилась Ася. – Где ты бродишь? – Хотела обнять – живая, и слава богу! – но Софья глянула как-то холодно, незнакомо, словно в её обличье домой пришёл другой человек.
– Мы три блинчика тебе оставили. Будешь? – торопливо сказала Ася и убежала на кухню.
Софья вошла следом, сполоснула руки и, налив в чашку воды из кувшина, с жадностью выпила.
– Дядю Мишу сбили! – сообщил Лёшка, просидевший всю ночь на кухне, возле Аси.
– Знаю, – хрипло отозвалась Софья и плеснула себе ещё воды.
– Да, а у нас ведь Саня! – спохватилась Ася. – Илья Георгиевич его пригнал. В гостиной оба спят, не буди! Маруся обзвонилась. Объясняю – спит человек, вымотался, – не понимает!
Софья, не дослушав сестру, быстро прошла в гостиную. На диване бурлил водопадами, свистал ветрами в печной трубе сон Ильи Георгиевича.
– Саня, проснись! Надо вставать! – перекрывая «звуки природы», громко и твёрдо сказала она.
Брат тут же вскочил, огляделся, припоминая, где и как его угораздило выпасть в сон, – и увидел сестру.
– Соня, что случилось? – спросил он свежим встревоженным голосом, словно и не думал спать. – Что у тебя?
– Поезжай. А то тебя Маруся сожрёт, – сказала Софья и скупо поцеловала брата в висок. – Давай. Утро скоро.
– Да! – Он подхватил со стола чашку и двумя глотками допил холодный чай. Зажмурился, прогоняя остаток сна, и опять уставился на сестру. Определённо, с ней что-то было не так! Он чувствовал, как из области Софьиного сердца невидимо подтекает тёмное – кровь, тоска, беда. – Соня! Я же вижу! Говори немедленно!
– Не сейчас! – отрезала Софья и вышла из комнаты.
Прежде чем уйти, Саня ещё раз склонился к спящему Илье Георгиевичу. Взяв аккорд на запястье, прижал тайные струны, вслушался. Положил затем ладонь на морщинистый лоб старика, кивнул – и вышел в прихожую. Его провожали сёстры и племянница Серафима, выскочившая из спальни в пижаме, со спутанными волосёнками, дышащими детским сном.
– Саня! Ты послушай! – заторопилась она, боясь, что её остановят. – Пашка ведь к себе привёл собаку! А Илья Георгиевич не пустил! И мы сидели все во дворе. Я сказала: ну что, моя хорошая, будешь кусочек? А она мне улыбнулась и расправила уши!
Саня опустился на корточки и, расцеловавшись с племянницей, понял, что до слёз не хочет домой – как, бывает, ребёнок не хочет от родителей утром в садик.
– О! Сейчас кому-то будет кирдык! – крикнул из кухни Лёшка. Он высунулся в окно, рискованно подставив голову под сосульки, и увидел: во дворе под облепленной мокрым снегом липой стояла Маруся. Из опущенной форточки такси выкатывалась кабацкая музыка.
5
Когда за братом закрылась дверь, Ася ринулась на балкон. Вот Саня – вышел из-под козырька и сразу попался. Стукнула дверца, стала глуше музыка, поехали… Стоя на зябком воздухе, Ася смотрела на опустевший двор. Мокрые снежинки, как большие неуклюжие комары, путались лапами, висли друг на друге, усеяли всю липу. В последние дни под утро сильно пахло бензином. Но, может, никакой это и не бензин, а просто Москва печёт на Масленицу огромные уличные блины? На невиданный пир по ночам собирает дома, и чаёвничают они под звёздами марта?
– Соня, ну рассказывай теперь! – вернувшись на кухню, потребовала Ася. – Лёш, уйди, дай нам поговорить!
– Да не надо никому уходить! – возразила сидевшая у стола Софья и отбарабанила ногтями по сахарнице. – Всё, ребятушки! Кончилась наша хорошая жизнь!
Ася села напротив сестры и испуганно посмотрела в её бледное и резкое, с тенями лицо.
– Соня, ну что ты говоришь! Почему кончилась?
Софья почесала нос и, отогнав сомнение, прямо взглянула на сестру, затем на Лёшку.
– Это я сбила дядю Мишу, ребят. Вот такие дела! – Во всеобщем молчании она приподняла край хлебной корзинки, словно искала что-то под ним, и опустила с усмешкой. – Медицинскую экспертизу прошла – трезвая! Утром буду дозваниваться Елене Викторовне. Ночью не подошла. Попрошу, чтобы взяла это дело. Как раз её профиль, – договорила и уткнула лицо в ладони.
– Нет, Соня, подожди! – наконец поборов немоту, сказала Ася. – Разве Курт машину не забрал?
Софья опустила руки – лицо под ними оказалось спокойным, твёрдым.
– Нет. Я оставила ещё на день. – И, взяв нож и вилку, принялась за блинчик.
Ася беспомощно взглянула на мужа. Лёшка молчал, привалившись плечом к холодильнику, нахмурив белёсые брови. Затем достал из буфета бутылку открытого на Новый год коньяка и, плеснув в рюмку из-под корвалола, протянул свояченице:
– Сонь, ты давай-ка, того… Не паникуй! На вот!
– Спасибо, милый, – кивнула Софья. – Дядя Миша, прости! – И, пристально поглядев в глубину отравы, выпила.
Под золотым с зелёной вышивкой, ещё бабушкиным абажуром, мягко сияющим в центре ночной вселенной, сдвинув стулья поближе друг к дружке, сёстры облаком завернулись в плед. Глоток коньяка растворил железную волю старшей сестры. Уткнувшись Асе в плечо, Софья каялась, что во всём виновата сама. Кто просил её становиться амбициозной выскочкой! Рисковать, пахать на пределе сил, рваться бог знает к каким целям, когда всего-то надо было – любить близких. И вот – расплата! Случайный камушек повредил обшивку космического корабля, и теперь все погибнут.
А какой это был дивный корабль! Уютный стеклянный шар, в котором зима кружится сахарной пудрой с блёстками. Ангелы встряхивают шар – и на ветви липы падает душистый снег. В полёте не укачивает. Перегрузок нет. Можно рисовать, вышивать, растить детей, устраивать чаепития. Можно по освещённым улицам отправиться в театр или на концерт. И вот – хлынул космический холод и выстудил счастье. Неужели ангел выронил шар!
В семье, где выросли дети Спасёновы, любящей и нетщеславной, не было принято планировать дальше ужина. Поэтому, когда Софья заявила, что презирает семейное болото, родители сперва удивились, а затем незаметно выскользнули из её молодой жизни – на дачный огород. Там, кажется, мало скучая о детях, мама с папой научились выращивать волшебные урожаи – тыквы, как в сказке о Золушке, огурцы всевозможных сортов и малину со вкусом детства. Был, между прочим, у Спасёновых и виноград – лоза, оплётшая свод беседки и дававшая осенью до пятнадцати килограммов синих гроздей.
На воздухе, в простом труде, поправилось пошатнувшееся было здоровье папы, вернулось тихое счастье. Есть такие избранные пары – когда спустя сорок лет муж и жена любят друг друга крепче, чем собственных детей. Ну а Софье за дерзость, за пустые амбиции – одиночество!
Ася захлюпала, жалея сестру. Принялись вспоминать далёкое, и в питательном тумане слёз, на опушке березняка, мигом поспела весёлая земляника. Расправилась во всю стать срубленная ель, под лапами которой детьми был устроен «штаб». Ожила и бросилась на сестёр целоваться бабушкина собака Мушка. Софья большая, ей хорошо, а у Аси-маленькой – всё лицо мокрое от собачьего языка. Сладко плакать!
– Ладно. Я спокойна. Что бы ни было, Серафиму вы не бросите – это главное! Да и не будет ничего – он же пьяный… – высморкавшись в салфетку, проговорила Софья.
Ася погладила Сонины жёсткие, сбрызнутые лаком волосы. «Глупости! Не может этого быть! – вдруг ясно подумалось ей. – Убей сестра человека – разве успокоилась бы так быстро? Ходила бы, пожалуй, всю ночь и выла!»
Тут скрипнула дверь гостиной, зашаркали шаги, и на пороге кухни, жмурясь на абажур, возник Илья Георгиевич. Седые волосёнки топорщились над ушами, как парик клоуна, и было ясно: что-то чудесное он принёс с собой из сна, рождённого ампулой релиума.
– Деточки, вы сидите прямо как сёстры у Чехова, тогда, в пожар, – сказал он, подсаживаясь к столу. – Вон как лампочка горит у вас уютно, и бутылка, смотрите, запылилась. Как будто её тогда и не допили, сто лет назад… – Он вздохнул и, коснувшись взглядом стенных часов, воскликнул: – Погодите! Это что же, утро? Почему никто не спит?
Кое-как его успокоили, уговорили поспать ещё в гостиной у Спасёновых, под присмотром. А уж утром переберётся домой.
Рассвет на исходе зимы неуютен. Нет в нём укромной темноты декабря. Синицы звенят, лезет сквозь шторы грейпфрутовое, не русское какое-то солнце, и уже следа не осталось от вьюги, так сладко укрывшей ночью липу и двор.
Утром, где-нибудь около семи, в дверь задолбил Пашка, щупленький парень шестнадцати лет, с хмурым взглядом и нестрижеными волосами, которыми любил занавеситься от лишних вопросов взрослых.
– Что с дедом? – шёпотом рявкнул он, движением плеч наезжая на сонного Лёшку. – Дед мой где?
– Дед у нас. А вот ты где шляешься? – встречно наехал Лёшка, имевший свои причины недолюбливать «мелкого Трифонова».
Выдали Пашке деда. Торопливо надев жилетку, всклокоченный и жалкий Илья Георгиевич посеменил в компании сурового внука через лестничную площадку к себе в квартирку.
– Почему не позвонил, что тебе плохо? Влом было кнопку нажать? Я тебе кто? – шипел подросток, бережно препровождая старика домой.
– Паша, ну а как бы ты ночью один через лес пошёл? Это мне только лишние волнения! – оправдывался дед. – Да ведь я и не один – со мной девочки, и Саня прибежал. Как собачка-то ваша? Жива?
Ася в пижаме, с шалью на плечах высунувшись из комнаты, слышала, как звенят ключи и стихает на площадке Пашкина ворчня. А когда легла, вдруг прошибло током: добрался ли Саня? Не убила его по дороге Маруся? Ринулась к телефону и с облегчением прочла эсэмэску: «Дома».
Этот принятый в семье отчёт о передвижениях друг друга Ася помнила с детства. Она и сама всегда звонила из института – доехала, пошла перекусить, выезжаю… Подружки смеялись: мол, что вы все друг друга пасёте! И Лёшка смеялся тоже, а порой ревновал. И теперь Асе вдруг стало жалко себя и брата, да и Софью тоже – как особо редкую, вымирающую породу душ. Она решительно выпросталась из мужниного объятия и пошла проверить, как там спят Софья и Серафима. Заглянула затем в пропахшую корвалолом гостиную посмотреть голубей на балконе – воркуют! Опять придётся сегодня мыть за ними перила. А в клетке уже проснулся и зашуршал наполнителем Серафимин хомяк Птенец. Все целы. Нет, не может такого быть, чтобы ангел выронил шар!
6
Кроме Гурзуфа, никого не осталось на свете, кто всерьёз тосковал бы о дяде Мише. Что касается Лёшки, он жалел о несчастном пьянице, как об одном из старых домов, чьё место займёт новодел. Невесело без него будет идти по переулку, замрёт воспоминанием сердце. Но такая жалость и в сравнение не шла с безутешным собачьим горем.
Осиротевший пёс лежал под мигающим светофором и плакал. Крупные, похожие на стеклянные шарики слёзы вытирал шерстяным кулаком, поджав когти, чтобы не оцарапать глаз. Именно по этому, вовсе не собачьему, жесту Лёшка догадался, что Гурзуф снится ему во сне.
Московское утро, нежное и старинное, наплевать, что бензинное, проникло сквозь шторы с дубовыми листьями, и Лёшка проснулся. Моргая, просеял сквозь белёсые ресницы солнечный свет и понял, что здоровье взяло верх над хандрой. Вчерашний морок закончился. Дяди Миши нет, но мы живём дальше. Эх, вот если бы поваляться часок-другой, растормошить Асю – тогда блаженство было бы полным. Ну уж ладно – пусть спит. А Лёшке пора собираться и топать на занятия младшей группы, учить шестилетних гавриков гонять мяч.
Если бы Лёшка был чутким хотя бы вполовину душевной чуткости Спасёновых, то, открыв дверь спальни, он понял бы: в доме творится нечто странное, опасное и героическое. Но, будучи человеком обычным, он увидел только, что мелькнувшая в коридоре Софья воодушевлена и волосы у неё дыбом. Ах чёрт, да это ж она дядю Мишу!.. Лишь бы хоть не посадили, а то им с Асей кранты – придётся воспитывать Серафиму! Поймав себя на этой не подобающей хорошему человеку мысли, Лёшка сконфузился и отправился на кухню – заесть смущение яичницей.
– Лёш, ты флешки моей не находил, зелёненькой? – спросила Софья, бледная, но бодрая. – И «мак» куда-то дели. Чёрт знает что! На один вечер нельзя оставить! Компьютер – это же не иголка! На столе журнальном лежал! Нет, ну куда дели-то? – возмущалась она, проносясь из кухни в гостиную и обратно.
Лёшка, естественно, не брал Софьиного компьютера и, тем более, флешки. Ему и вообще не было дела до коммерческих изысканий Асиной сестры. «Что там “мак”! Вот март – это да! – И он мельком глянул в окно: припотевшее стекло, как матовая линза, смягчало яркость дня. – Март – это круто. Или, если на “ма”, то ещё “Манчестер Юнайтед”, особенно когда интересный соперник!.. – думал он мимоходом, не неволя течение мыслей. – Капает вон! Всё небо протекло. Да что небо! Влага сочится прямо из воздуха! А в апреле начнется безумный свет. Ася в скверике пристроится рисовать. Пока зелени нет, и правда свет сумасшедший. Ну а в мае в Анапу с мелкими – двухнедельный спортивный лагерь. Конечно, и Ася возьмёт отпуск. Ася и море! Разве нужно человеку в жизни что-то ещё?»
Увлечённый мечтами Лёшка как раз нацелился разбить на сковородку тройку-четвёрку яиц, когда на улице, совсем рядом, может быть, в Климентовском, подал голос матёрый пёс. Метнувшись к окну, Лёшка открыл створку и вслушался: это была сильная ария – глубокая и трагическая. В ней пелось о щенячьих деньках, когда дядя Миша пригрел дворового кутёнка и назвал Гурзуфом, о молодости, проведённой на вольных хлебах Замоскворечья, о верной подруге, беленькой, с коричневатым хвостом, Марфуше, и о кровных врагах, но главное – о погибшем хозяине. А ведь не раз Гурзуф спасал дядю Мишу, поднимая морозной ночью лай у бесчувственного тела…
«Эх, дядя Миша, дядя Миша! – нахмурился Лёшка, закрывая окно. – Наследники на комнату, как пить дать, уже сбежались – может, хоть похоронят как человека. Спи с миром!..»
В настроении мутном, подпорченном вытьём Гурзуфа, за которого, согласно последней воле покойного, ему предстояло теперь отвечать, он отправился на работу и вскоре почувствовал, что день не задался. На занятиях младшей группы пацанёнку мячом засвистели в нос. И как только умудрились с цыплячьим весом разбить до крови? Пришлось вызывать маму мальчика и отправлять пострадавшего в травмпункт.
Дальше – хуже. В школе, куда он, прослышав о вакансии физрука, помчался в перерыв между группами, ему отказали с улыбкой, как маленькому. Подавай им диплом! А ведь как было бы удобно: утром – школа, после обеда – секции. Горько сделалось Лёшке. Выходило, все спортивные достижения его детства и юности ничего не стоили. Зря терпел, ломался, выкладывался. Вдобавок он вспомнил, что мама подрабатывала в той школе, мыла окна… И скис совсем.
Когда, кое-как отработав две оставшиеся группы, он двинулся домой, на улицы уже навалился шумный и хмурый вечер. Пройдя дворами, сырыми от ночных осадков, на Ордынке попав под душ подколёсных брызг, Лёшка вышел в толчею у метро, где и был пойман рыжей Аней-билетёршей.
– Лёш, Гурзуфчик-то от горя взбесился! Слышал, чего творит? Напал на полицейского! – возбуждённо сообщила она и огляделась по сторонам, как если бы информация была высокосекретной. – Сам дал дёру, а Марфуша его на трёх поковыляла! Дубинкой, что ли, её огрели, я уж не знаю. Заберут их теперь! – И оправила куртку, слишком тесно сидевшую на располневшей фигуре.
Лёшка хмуро выслушал новость и хотел уйти, но Аня, словно подосланная покойным дядей Мишей, удержала его за рукав.
– Лёш, погоди! Ты бы взял, может, Гурзуфчика? В дяди-Мишину память. Сосед же! Да и пёс-то видный какой! Такого и выгуливать не стыдно.
Лёшка повёл локтём, чтобы Аня отлипла. Он чувствовал, как его унижают все эти старые уличные знакомства – из-за них, может быть, и Ася относится к нему свысока. Он хотел гордо заявить: соседство с дядей Мишей не означает, что у него с ним было что-то общее! Но внезапно почувствовал смягчение сердца.
– Не знаю. У свояченицы аллергия на шерсть, вряд ли… – сказал он и, хмурясь, прибавил: – Ладно, схожу посмотрю, как он там.
Кляня дядю Мишу за то, что вывалился Софье под колёса, ещё и умудрившись накануне содрать с него обещание, Лёшка пошёл обследовать тайные прибежища пса. На случай, если Гурзуф найдётся, у него был план: заманить его во двор и привязать возле бойлерной, за кустами сирени. Дать воды, сосисок – пусть отдыхает от битв. А они с Асей пока подумают, куда его деть.
Гурзуф с подругой, беленькой и скромной Марфушей был застукан им возле мусорного контейнера с весёлой надписью «Майский день». «День» нередко подкармливал местных дворняг, однако на этот раз контейнер был чист. Гурзуф, голодный и разочарованный, поддавшись сладким речам, сразу пошёл за Лёшкой. А вслед за Гурзуфом, поджимая раненую лапу, боязливо похромала Марфуша.
«Их ещё и двое!» – мрачно констатировал Лёшка, но отгонять Марфушу не стал – жалко собачью дружбу.
Два лохматых странника, следуя за Лёшкой, вышли дворами на Пятницкую. В хмуром небе гудели колокола, начиналась вечерняя служба, а в скверике на углу, где некогда благоухала Филипповская булочная, под совсем иную музыку продавали блины. С понедельника – Великий пост. Ася и Софья – вот ведь нашлись блюстительницы традиций! – уже обсудили грустное весеннее меню, в котором не будет до самой Пасхи никакой мужской еды.
Смурной, в клочковатых мыслях, Лёшка привёл собак во двор, выковырял из полиэтилена купленные дорогой сосиски и, наблюдая за трапезой двух голодных псин, позвонил жене.
К тому времени, когда, закончив занятия, во двор пришла Ася, из низких облаков уже вовсю тёк жидковатый снег. Пристроившийся под козырьком бойлерной Лёшка озяб, и заметно заскучали собаки. Гурзуф, переминаясь на густо шерстяных, с колтунами, лапах, жевал и выплёвывал обёртки из-под сосисок. Его коричневые глаза то и дело с упрёком взглядывали на Лёшку.
Марфуша, по-щенячьи присев на поджатый хвост, держа на весу ушибленную лапу, дрожала и с видом, полным недоумения и вины, смотрела на пересекающих двор людей. Когда Ася подошла, Марфуша вытянула морду и что-то сказала – беззвучно, изнутри существа. Ася догадалась чутьём – у Марфуши болела лапа.
Беленькая собака нравилась ей. Конечно, совсем уж белой она бывала редко – разве что после особенно мощных ливней, да и то лишь спина. Пузо же и в самые неслякотные дни имело оттенок дождливого неба.
Марфуша, опёршись об Асину коленку здоровой лапой, принюхалась: что ты ела, Ася? Пирожок с капусткой?
Ася отшатнулась и, порывшись в сумке, вытерла колено влажной салфеткой.
– И куда ты их думаешь? – спросила она у мужа.
– А я знаю? Всех подставил, старый чёрт! – не сдержался Лёшка. – «Не бросай Гурзуфчика!» Что мне теперь, в бомжи податься, чтобы за ним приглядывать?
Раздосадованным шагом он прошёлся вдоль бойлерной и остановился, ткнувшись плечом в сырую стену. Великая бездомность, какая бывала с ним в юности, после гибели мамы, накатила и проняла до костей, похуже дождя. Нельзя было идти домой, не пристроив собак. Последняя воля умершего тоскливо держала его за горло. Вдруг до слёз ему захотелось тепла, чаю, поджаренной с луком картошечки.
– Ну, чего делать-то будем? – в отчаянии взглянул он на Асю.
Та повела плечами и, внезапно обернувшись на арку, взметнула брови. Внук Ильи Георгиевича Пашка, суровый подросток, к тому же будущий ветеринар, только что свернул с улицы в слякотный двор.
Супруги переглянулись.
– Лёш, а давай их к Пашке! – шепнула Ася. – У них там при ветпункте что-то вроде приюта, Саня к ним иногда забегает. Там не много собак, может, десять – пятнадцать. Говорит – прямо так хорошо, душевно! Попросимся?
– Щас. Просить я буду… – прошипел Лёшка, но из-под досады уже вырвалась и заблестела в глазах надежда разрешить собачий вопрос.
Ещё прошлой зимой, когда Лёшка ходил в женихах, у него с младшим Трифоновым вышел конфликт, обидный и унизительный, особенно если учесть едва ли не десятилетнюю разницу в возрасте. Хватаясь за любой приработок, Лёшка в преддверии новогоднего сезона устроился сменным продавцом в киоск с «боеприпасами». Тогда-то на него и наехал Пашка. Явился и средь бела дня стал читать ему лекцию о том, как опасен для животных стресс от взрывов петард. «К нам на прошлый Новый год привезли собаку – у неё не выдержало сердце!» – заявил он, полагая, должно быть, что Лёшка смотает удочки и помчится записываться в Гринпис.
– Да и хрен бы с ней, раз нежная такая. Хочешь жить – адаптируйся! – болтнул Лёшка, в сущности не желая никого обижать. Он уже подумывал о том, как смягчить неудачную реплику, но Пашка не стал ждать. Он набросился, как тигр, на складированные под брезентом боеприпасы, расшвырял по асфальту коробки и топтал их до тех пор, пока возмущённый продавец не догадался двинуть ему в ухо. Конечно, только слегка, для острастки – всё же Асин сосед, да ещё и мелкий. Стукнул и полчаса потом ползал по слякоти, собирая разорённое добро, а защитник животных насмешливо любовался его трудами с безопасного расстояния. С той поры Лёшка насторожился на его счёт и к Трифоновым, если приходилось, заглядывал без охоты.
И всё-таки на что ни пойдёшь, чтобы снять с плеч возложенную на него дядей Мишей скалу – Гурзуфа!
На Асин оклик Пашка приблизился не торопясь, на ходу собирая размётанные волосы в хвост. Расправил худенькие плечи и слегка задрал подбородок.
– Вы зачем их сюда приволокли? – спросил он и, не дожидаясь объяснений, подошёл к вымокшим собакам.
Пока Лёшка докладывал обстановку, он внимательно, с удовольствием оглядел беспризорников – так, словно перед ним были не дворняги, а невиданные гончие, или скакуны, или даже пегасы. В его взгляде было одобрение знатока, понимающего ценность породы и умеющего обойтись с ней.
Русые Пашкины лохмы, выбившиеся из-под резинки, трепал ветер, и совсем прозрачными, озёрными стали серые глаза. На их дне ясно посверкивал интерес к происшествию.
– В общем, дядя Миша, царство небесное, поручил мне этого вот артиста! – кивнув на Гурзуфа, заключил свой рассказ Лёшка. – Буянили, говорят, весь день, на полицию наехали.
– А может, полиция на них? – предположил Пашка, разглядывая жалобно приподнятую лапу Марфуши.
– Слушай, я тут подумал. Саня говорил, у тебя там типа приют какой-то? А то к себе мы их не можем, у Соньки аллергия! – пыхтя от вынужденного унижения перед «мелким», сказал Лёшка.
Тем временем Гурзуф, натянув до предела верёвку, на которой был привязан, устремился к Пашке. Тот милостиво позволил псу обнюхать себя как следует. Затем коснулся остужающим взглядом жгучих звериных глаз и, мигом выиграв поединок, потрепал косматую голову.
– Гурзуф, – произнёс он спокойно. – Гурзуф. Молодец.
Пёс ткнулся носом в ладонь и резко, с задержкой, втянул воздух. Потряс головой и снова ткнулся – теперь в Пашкин карман.
– Там корица. Это деду на пироги. А для тебя в другом кармане, – сказал Пашка и слегка улыбнулся. – Ты мне скажи, слушаться-то будешь?
Гурзуф не знал, как ответить. Он сел на картонку и поднял морду, за что немедленно получил от Пашки шарик собачьего лакомства.
– Корм мы будем привозить, это понятно. Всё, что скажешь. Короче, если можно их к тебе, так мы бы… – продолжал объясняться Лёшка.
– А ты чего сидишь? Лапа болит? – сказал Пашка и, вопреки заведённому правилу, сам подошёл к беленькой собачке. – Видеть-то я тебя видел… Ты кто у нас?
– Это Марфуша! – заторопилась представить собаку Ася. – Она с Гурзуфом.
– Марфуша! – повторил Пашка и протянул собаке повернутую кверху ладонь – познакомиться. Та осторожно её обнюхала. – Марфуша молодец! – кивнул, скармливая ей с ладони несколько шариков, а затем осторожно ощупал ушибленную лапу. – Думаю, нет перелома… – проговорил он. – Но всё равно надо рентген. Может, трещина.
– Слушай, Паш, я вообще-то разговариваю с тобой! – впадая в нетерпение, напомнил Лёшка. – Может, ответишь по-человечески? Берёшь их – так и скажи!
– Привиты собаки, не знаете? – спросил Пашка у Аси и мимолетно поднёс ладонь к носу, словно хотел понять по запаху Марфушиной шерсти, есть ли прививки.
– Да откуда привиты! – возмутился Лёшка. – Дядя Миша, что ли, прививал? Щас!
Ему очень хотелось стукнуть или хотя бы встряхнуть за шиворот этого мелкого, но пока он терпел, надеясь, что дело выгорит.
Пашка взял у Аси салфетку и, бегло протерев руки, пошёл к подъезду. На ходу сдёрнул с волос резинку и сунул в карман.
– Больной он, что ли? – прошипел Лёшка и гаркнул: – Эй! Пацан! Так чего в итоге?
Пискнув ключом от домофона, Паша обернулся:
– Завтра утром привозите. Попробуем! – и скрылся в подъезде.
Лёшка набрал воздуху в грудь и выдохнул: «Уф!» Никогда он не ждал добра от «мелкого Трифонова», и нате вам – такой подарок! Ася тоже улыбнулась. Хорошо стало на душе. Когда всё наперекосяк, но какое-то дело, пусть маленькое, вдруг уладится – можно уцепиться за него, как за воздушный шарик, глядишь, он и вытащит тебя из больших невзгод.
Мирно закончился день. Лёшка сбегал за Серафимой в сад, Ася приготовила ужин. Собаки, утомлённые приключениями, дремали под козырьком бойлерной на Асином старом пальто. Невзгоды дня растаяли за горизонтом, как вражеская эскадра, напуганная мощью «наших».
«И со школой зря распереживался! – утешал себя Лёшка. – Ещё сами упрашивать будут! А деньги – ну что деньги? Ведь не голодают они. Главное, чтобы была любовь!»
Точнёхонько на ужин – к скромным Асиным сырникам – заглянул Илья Георгиевич. Его лицо осунулось, но глаза под очками были живые. После вчерашней тяжёлой ночи он решил поверить Сане – бороться, бодриться, жить! Поводом для визита послужила зелёная Софьина флешка, едва не сбежавшая из неуклюжих пальцев Ильи Георгиевича, пока он вытаскивал её из нагрудного кармана рубашки.
– Ага! Сонька утром её искала! – вспомнил Лёшка.
– Это Паше отдал их помощник по приюту, Сонечкин друг. Сказал, Соня вчера в машине выронила, а там что-то такое, по работе.
– Илья Георгиевич, какой ещё друг-помощник? – заволновалась Ася, принимая флешку из рук старика.
– Ах! Ну такой, симпатичный. Женечка! Он у вас бывал. Такой чудной псевдоним у него, забываю всё время. Он Паше там помогает, давно уже.
– Не псевдоним, а кликуха, – буркнул Лёшка, поняв, о ком речь. Довольно обидно было, что типа, когда-то бросавшего взгляды на его невесту, назвали «симпатичным»! И с какой радости он помогает Пашке? Что ещё за ерунда!
– А чем это у вас пахнет, ребята? – принюхался Илья Георгиевич и, без спроса заглянув на кухню, узрел тарелку сырников. – Настюша, ты прости меня, что делюсь опытом, – заговорил он с энтузиазмом. – И всё-таки сырники перед подачей на стол очень хорошо посыпать корицей с сахаром. И в тесто обязательно надо добавить сливки! Почему-то стали люди забывать, холестерин, что ли, их смущает, а ведь без сливок – это не то, уж поверьте!
Ася слушала болтовню соседа, одновременно стараясь соединить в уме осколки – вчерашнюю катастрофу, Курта с фонографом, приют и Гурзуфа с Марфушей, дремлющих на её старом пальто.
Тем временем Лёшка догадался всучить Илье Георгиевичу блюдце с сырниками – на дегустацию – и выдворил старика прочь.
– Представляешь, а я его на воскресенье к нам на Масленицу позвала! – подняв брови, словно сама удивляясь своему нелепому поступку, сказала Ася.
– Кого? Илью Георгиевича?
– Нет, Курта.
– Курта? – поразился Лёшка. – Ну, знаешь! Хоть бы меня спросила! Я ведь тоже могу наприглашать. Позову вон Аню-билетёршу – то-то вы обрадуетесь! – И, попыхтев с десяток секунд, примирительно потормошил Асину руку. – Ну ладно. Я так! Я ж понимаю – надо Софью пристраивать. Не пойму только, зачем ей эта барышня кудрявая, и потом, он ведь младше её! Да ещё песенки сочиняет, придурок.
– Песенок больше нет, – задумчиво покачала головой Ася. – Только шум.
7
«…Стучат по переулку каблуки – бам! – Ревёт за переулком Крымский мост – бом! – Бежать хотела вроде – а куда? – бряк! – Хотела улететь, а крыльев нет… – бемс! – И в голове такая дребедень! Одни грехи и никаких стихов! Господи, что же это?» Софья шла от Парка культуры к метро, с удивлением наблюдая, как её ум самопроизвольно рождает ритмичный бред, и не знала, что предпринять, чтобы вернуть себе ясность сознания.
В тот сопливый ранневесенний денёк, наставший после ужасной ночи, Софья проявила себя как человек волевой и исполнила поставленные задачи. Первым делом добралась до офиса Студии коучинга. Вот уже два года организация работы и раскрутка московского филиала являлись её главной заботой. Она взялась за этот проект не ради денег, а по душе – на то имелись причины.
И вот теперь, вводя помощницу в курс дела, на случай своего возможного отсутствия, Софья почувствовала безразличие к собственному детищу. Ей вдруг стало всё равно – просуществует филиал ещё год или умрёт сегодня.
Подойдя к доске, Софья сдёрнула один за другим цветные стикеры, смяла в комки – получилась горсть мелких глупостей. О чём все эти лекции и семинары? Брошюрки, рекламки, сайты? Всё, что занимало её ум и время, внезапно стало убогим. Смятый пластиковый стаканчик на берегу.
Распрощавшись с помощницей, Софья взяла курс на адвокатское бюро своей давней знакомой Елены Викторовны, добралась к обеду и провела там несколько часов. Разбирались, раскладывали варианты, так и этак крутили закон, накурились до боли в висках.
Выводы были тяжёлые, к тому же такие, каких никак не ожидала Софья. Её надежда, что трезвого водителя, сбившего круглогодично пьяного пешехода, должны оправдать, оказалась наивной. По мнению Елены Викторовны, если учесть тормозной путь, говорящий о превышении скорости, и прочие «нюансы», Софье могло грозить до полутора лет в колонии-поселении. Конечно, при усилиях всё должно ограничиться условным сроком, но гарантий никто не даст.
Софья вышла на улицу, под мелко порубленный снег с дождём, в разгар часа пик. У метро, в толчее спешащих домой людей, ей на глаза попалась девочка лет пяти, ровесница Серафимы. Девочка только что заметила, что матери нет в поле зрения, и, прижав к животу сумку с аппликацией, озиралась по сторонам. Её личико уже начало расплываться в гримасу отчаяния, но заплакать она не успела. Мать, налетев, как орлица, откуда-то сверху, подхватила ребёнка на руки и с возмущёнными возгласами унесла прочь.
Давно исчезли в толпе мать и дочь, а Софья всё стояла на месте, задеваемая десятками плеч. Ярко и страшно она видела теперь, что решение, принятое ею вчера ночью, определило не только её собственную судьбу, но и судьбу Серафимы. Без оглядки она пожертвовала её детским счастьем, её миром и будущим. И главное, ради кого? Кто этот бог, которому она принесла свою жертву?
* * *
Когда вчерашней ночью Маруся приехала за ним на такси, Саня не то чтобы расстроился – растерялся. Он надеялся одинокой дорогой разобраться с мощным чувством тревоги, захватившим его у сестёр. Причин было несколько, но сильнее всего его волновала Софья.
Ему всегда казалось, что он знает сестру лучше, чем самого себя, – со всеми тайными и явными устремлениями, привычками, жестами, «пунктиками» и «тараканами». В ту ночь глаза у Софьи были словно повёрнуты внутрь. Она говорила как обычно, привычным образом вскидывала брови, но этот глухой, воткнутый в глубь себя взгляд не мог не испугать Саню! Только однажды он видел у неё такой – когда в летнем волжском отрочестве их неразлучный друг и по совместительству родственник Болеслав объявил, что переезжает с матерью в Варшаву. Саня боялся тогда за сестру, молчаливо влюбившуюся в своего троюродного брата. Ему хотелось немедленно сделать что-то такое, чтобы Сонины глаза ожили, посмотрели наружу.
Так и вчера, проснувшись головой на журнальном столике, Саня сразу же понял – глаза сестры нехороши и из сердца течёт тоска! Спросил, но она сказала «Не сейчас». Спорить бессмысленно. Саня сделал заметку в памяти – позвонить и выяснить завтра.
А завтра был день, хмуроватый и мокрый, хорошенько отмытый вчерашней вьюгой и выпущенный с непросохшими щеками на волю, бродить по лужам. В окно кабинета, на манер Снежной королевы, только весело и безобидно, заглядывала весна, лопотала синичьим голосом, прикладывала к стеклу мокрый нос.
Мимоходом Саня припомнил, что обещал забежать к Николаю Артёмовичу, знакомому старику, сломавшему в прошлом году шейку бедра да так и не поднявшемуся. На днях что-то там у него стряслось с коляской… И ещё хорошо бы успеть к Нине Андреевне – забрать документы на медаль ко Дню Победы. Сама-то она не дойдёт, а больше некому.
Конечно, после всех дел, ближе к ночи, он вспомнил бы и о Софье, но она позвонила первая. Её звонок раздался точно в паузу между двумя пациентами, когда терапевт Спасёнов включил телефон – ответить на многочисленные эсэмэски жены.
– Саня, ты после работы свободен? Очень нужно! Посидим где-нибудь? – спросила Софья отрывисто и поспешно, как будто боялась, что связь прервётся и не восстановится уже никогда.
Сразу договорились о встрече, вот хоть здесь, в кофейне на углу. А потом Саня перезвонил: давай лучше дома! После его ночного отсутствия Маруся просила хотя бы сегодня не отлучаться.
– Хорошо. Мне всё равно, – сказала Софья, сдерживая закипавшие слёзы. Ей не хотелось в Марусин дом, тем более что признание, которое она собиралась сделать, требовало уединения. Несколько минут она тешила себя сладкой мечтой – ворваться и завопить на невестку: «Прочь с дороги, глупая курица! Ты хоть понимаешь, что у меня беда! Не смей разлучать меня с братом!» Но ведь Сане потом отдуваться.
Ехала к нему плача. Потерявшаяся девочка у метро мелькала перед глазами, обретая любимые черты Серафимы.
Как и предполагала Софья, уединённо поговорить оказалось негде. В большой комнате играла Леночка, в спальню посторонним входить не полагалось, а на кухне, куда Саня привёл сестру, Маруся собралась варить кашу. «Я быстро сварю и уйду», – кротко сказала она. К сожалению, ей редко удавалось приготовить блюдо с одного захода. Так и на этот раз, «первая попытка» оказалась подгорелой и переслащённой.
Пока Маруся драила кастрюльку, Софья вышла в гостиную. Чужой дом брата, увиденный словно впервые, ошеломил её.
До женитьбы Саня был ужасен в быту. Сказать точнее, стоило ему уехать из отчего дома, как «быт» исчез совсем. Вместо него образовалось гулкое пространство с окном на лес. Его заполнили стенной шкаф, жёсткий диван-кровать, письменный стол и подаренный кем-то робот-пылесос, неутомимо поддерживающий чистоту в пустом жилище. Саня полюбил сложившийся «минимализм» и просил сестёр не рушить его попытками обустройства. Единственное, о чём он жалел: пылесос не умел застилать кровать и хотя бы раз в год мыть окна.
И вот спустя короткое время небольшая квартира оказалась до отказа заполнена хламом. Маруся суеверно боялась выбрасывать банки из-под детского питания, коробки из-под обуви, кухонных электроприборов и посуды, закупленной в невероятном количестве. Всё, не поместившееся на полках, хранилось под диванами и на размножившихся шкафах и зарастало белёсым мхом пыли. Пылились искусственные цветы, которые Маруся в юности сама делала из лоскутов и проволоки; однажды расставив по вазам, она больше не прикасалась к ним. Зато голые «полянки» пола и кухонных поверхностей были отдраены до блеска, сверкала на всю прихожую начищенная Марусей обувь и поражали воображение выглаженные без единой замятины и безупречно сложенные в шкафу пододеяльники и простыни.
Примечательно, что у Спасёновых всё было наоборот. Порядок в доме означал для сестёр быт без пыльных углов. Так приучила ещё бабушка. А вот постельное бельё частенько оказывалось поглажено кое-как, и в шкафах случался шурум-бурум. Главное, чтобы чистота была, а уж как она разместится в пространстве – дело второе. Конечно, и с обувью было далеко до парада. Никто не думал об особом блеске, разве что Софья перед ответственной встречей. Что же касается цветов, то они и при бабушке, и по сей день росли у сестёр буйными нестрижеными кустами, засыпая отцветшими лепестками чисто вымытые полы.
К тому времени, как Маруся справилась с кашей, Софья успела вдоволь нагуляться по небольшой квартирке и, вернувшись на освободившуюся кухню, почувствовала, что в груди перекипело: боль выпарилась и налипла по стенкам засохшей пеной. Не о чем говорить! Только зря нагрузит Саню тем, чего уже не исправить. Извиниться и уйти куда глаза глядят!
Может, она так бы и сделала, если бы Саня не догадался включить на подоконнике загостившуюся с Нового года рождественскую горку, чей-то подарок – семь свечек на деревянной дуге, а под ними домики, ёлки и человечки – католическая братия – по нотам поют псалмы. Братию Саня скрыл, прислонив к поющим фигуркам семейную фотографию из детства. Соня с дуршлагом, мама с кастрюлей на пояске, бабушка с корзиной, трёхлетняя Ася с корзинкой крохотной плюс кузен Болек без тары, с утомлённым жизнью взглядом – на принудительном сборе смородины.
Здесь, за кухонным столом, убрав после ужина посуду, Саня отвечал на письма, искал информацию по медицинским вопросам и вообще приводил мысли в порядок. Иногда читал для души.
Сев по одну сторону стола, плечом к плечу, перед слишком уж скромно, не по-спасёновски, сервированным чаем – две чашки, сахарница и сухарики, – брат и сестра молча смотрели на огоньки.
– Саня, я должна сказать тебе страшное, – наконец проговорила Софья и, устроившись виском на плече брата, так чтобы можно было смотреть на свечки, вздохнула. – Не волнуйся, ты ничего тут не сможешь поправить. Просто помоги мне выстоять духом. Я по дури, по идиотству и самомнению подставила Серафиму и всех нас… Помнишь, ты ещё спросил, что случилось?
Саня кивнул, напряжённо слушая.
– Я сбила дядю Мишу. Насмерть.
– Ничего! Это ничего! – мгновенно отозвался Саня и, крепко прижав Софьину голову к плечу, перевёл дух. – Это беда – но ничего! Как это вышло?
– Лихо ехала.
Саня кивнул и мучительно сморщил лоб, что-то сам с собой решая.
– Ты не виновата! – помолчав, сказал он. – Это я виноват! Занимался кем угодно, только не тобой. Моя, моя вина! Подожди, мы сейчас подумаем…
– Саня, есть ещё одно, – перебила Софья. – Ты дашь мне слово, никогда, никому, могила?
– Конечно! Говори! – сказал Саня, торопясь придать выражению лица уверенность.
– Это будет подлость с моей стороны – сказать. Но я не могу одна это нести. Скажу только тебе. Больше никто не должен знать. Ты обещаешь?
Брат твёрдо кивнул.
– Саня! Сбила не я! Я просто взяла чужую вину!
Саня приложил ладонь ко лбу и тихо рассмеялся.
– Я брала машину у Курта, пока моя в ремонте, – торопливым шёпотом принялась рассказывать Софья. – Он всё равно редко ездит. Доверенность нотариальная, всё хорошо. И вот вчера вечером договорились, что он подъедет, заберёт, потому что мою уже возвращают…
– Ты сидела рядом с водителем?
– Да меня вообще там не было! Я задержалась… Он в кафешке меня дожидался. Посидели, поболтали. Потом вместе пошли к машине, и он поехал. Я не успела дойти до подъезда, буквально через минуту – жуткий визг тормозов. Где он только разогнаться успел! Понимаешь, меня как пронзило! Он в последний год всё время чего-нибудь пьёт, от сознания собственной никчёмности, я думаю. Не напивается, а так, по-французски. Я пулей туда. Дядя Миша валяется. Этот сидит в машине, ничего не соображает – шок. Еле вытрясла: да, говорит, пил вино. Но часа три уже прошло – может, выветрилось? Саня, ты же знаешь его – он хрупкий, как наш папа! Если бы мама папу не подхватила вовремя, он бы так и пропал со своими фантазиями!
Саня в изумлении смотрел на сестру и не мог понять – как случилось, что он не узнал её за всю жизнь? Точнее, что его знание о Софье было таким неполным?
– Но самое ужасное, Саня, что я всё это сделала совершенно зря. Я в Интернете почитала, оказывается, ему надо было убежать и через день прийти с повинной, когда всё выветрится. Сказать, что испугался. Тогда его бы судили как трезвого. Все так делают, а я просто зря подставилась, по безграмотности! Скажи, ну как я могла? – И в величайшем недоумении поглядела на брата.
– Я тогда не подумала про тормозной путь, – опять, как в бреду, заговорила она. – Я просто подумала: ну разве он это вынесет? Он и в армии-то не смог бы. Кудри сбреют… А мне ничего не грозит. Дядя Миша пьяный, а я – достойный человек, работаю, мать к тому же. Вот как я думала. Разве я знала, что это вообще им без разницы – пьяный, трезвый, хоть наркоман…
Софья снова приникла виском к Саниному плечу и задумалась. В отличие от брата она никогда не была альтруисткой. Помогала своим – да. Кормила, лечила, способствовала деньгами. Но чтобы рискнуть за чужого – глупости! А тогда, в машине, рядом с потрясённо замершим Куртом, ей вдруг так ясно представилось, как этого доброго слабого мальчика упрячут в камеру, станут мучить.
– Я ведь правильно сделала? Это не бессмыслица? Или, думаешь, он просто трусливый дурак? – заплакав, спросила Софья и, наверно, совсем бы раскисла, если бы под кухонной дверью не дрогнула тень. Брат и сестра одновременно уловили движение: это Маруся беззвучно отдалилась от двери и, шмыгнув по коридорчику, скрылась в спальне.
Присутствие лазутчика сообщило Софье мужество. Кухонным полотенцем она вытерла слёзы. На ткани остались чёрные полосы от подводки и маковая крошка «ресниц». Вышла из-за стола и умылась под краном. Лицо без доспехов посветлело и стало юным. Успокоившись, вернулась, глотнула из чашки остывающий чай.
– Сань, а лимона нет? И чайник ещё включи, а то остыл…
Лимона не было, зато нашлось родительское малиновое варенье.
– Помнишь, у нас дома в сахарнице был не песок, а сахар? Но там было мало, мы доставали всю коробку – ну, чтобы строить! – сказала Софья.
Строить разрешалось только чистыми руками на чистой салфетке, и потом весь строительный материал надо было аккуратно сложить на место. Софья и маленькая Ася строили дома, а Саня всякие невероятные предметы. Например, корабли. Однажды он построил биплан, но к его крыльям пришлось приделать подпорки из палочек. «Нельзя быть самолётом на костылях», – сказал он, развалив творение, и потом весь день был грустным.
– А песок можно полить водой и слепить замок, как на море, – заметила Софья, подняв крышку сахарницы. Усмехнулась и опустила с тихим стуком.
– Послушай меня! – заговорил Саня. – Ты всё правильно сделала. Мы ведь на очень хлипком плоту! Всё время кого-то смывает волной. Всё время! Я это каждый день вижу. И чтобы была надежда, нужно как раз то, что сделала ты! – Он осёкся, заметив, что у сестры задрожали губы.
Что поделать, накатывали, подпирали слёзы.
– Ты опять, что ли, о своём? – усмехнувшись, спросила Софья. – Хочешь сказать, моя глупость тоже пойдёт в твою копилку?
Софье было лет двадцать, Саня заканчивал учёбу и, в пику непроглядному материализму, которым пресытился в институте, решил, будто бы чёрная тайна смерти – лишь временное обстоятельство в истории человечества, сродни ледниковому периоду. В свете этой надежды всякое доброе дело становилось взносом на демонтаж «Берлинской стены», поделившей вечную жизнь на «до» и «после» смерти. Хотелось, чтоб поскорее этих «взносов» набралось достаточно. Тогда же в Санином лексиконе возникло странное автомобильное слово «Противотуманка».
Софья недоумевала и расстраивалась, пока вдруг не поняла: брат не выдерживает гнёта профессии. Чтобы оставаться профпригодным, ему надо верить в утешение для всех. Ну что ж, пусть фантазирует, раз ему так легче! И всё-таки, может быть, не случайно Саниных родственников, знакомых и пациентов, охватывало в его обществе нечто вроде доброго предчувствия.
– С тобой ничего не случится плохого! Вот посмотришь! – сказал брат, как любил порой, не зная наверняка, пообещать – и сбывалось.
– Ну тогда хорошо, – кивнула Софья и тихо встала из-за стола. Светили рождественские свечки, а в окне снова закапал жидкий снег. – Пойду. А то Лёшка разворчится, что я Серафиму на них свалила.
– Ты ангел наш! И поступила как ангел! Ни в чём не сомневайся! – проговорил Саня, выходя за сестрой в прихожую, и, смущённый собственной репликой, подал ей пальто.
– За бабушкой повторяешь? У неё тоже все ангелами были, – сказала Софья, нырнув в рукава. – Грустно мне. Нет любви! Была бы любовь – разве бы я во всё это вляпалась!
– Как же нет любви? – удивился было Саня и осёкся. Покачал головой и решительно сорвал с крючка куртку. – Я провожу!
– Подожди, мы с тобой! – в тот же миг выскочила из спальни Маруся. Она контролировала ситуацию за дверью и, конечно, подозревала, что добром визит золовки не кончится. – Мы с Леночкой всё равно ещё хотели погулять на ночь! – заторопилась она и, дёрнув дочь за руку, прочь с кровати, от уложенных на ночь кукол, поволокла одеваться.
Софья усмехнулась:
– Ладно, Сань. Ну куда ты от них пойдёшь!
Поцеловала брата, крепко прижалась к щеке и, подхватив сумку, вышла.
На улице мела мокрая метель. Софья свернула за угол дома, обернулась и, найдя окно с рождественской горкой, помахала.
На пешеходном бульваре вдоль леса ещё встречался народ – шли от метро домой, гуляли с собаками. Среди чужих людей Софье неожиданно оказалось уютно, спокойно. «Ну что же, Елена сказала, максимум – поселение… – думала она, убаюкавшись на плече метели. – А может, и обойдётся. Вот и Саня сказал – обойдётся наверняка. Но главное, он считает – всё правильно…»
Недалеко от метро её окликнул пожилой извозчик на «ладе». Софья обернулась: утомлённый и какой-то добролицый, не страшный армянский дед подзывал рукой: куда тебе, красота? Недорого отвезу – каблуки-то вон ломаются!
И правда, Софьины ноги подкашивались. Она усмехнулась и села в машину. Старый армянин оказался болтлив. Дорогой он рассказывал ей о своём домашнем винограднике и о том, какие «правильные» бочки под вино мастерит его зять. Она рассеянно слушала, попутно пробираясь мыслью через сутолоку впечатлений: офис, Елена Викторовна, Серафима, брошенная на соседей и родственников, брат Саня – всё равно прекрасный, во всей нелепости своей нынешней жизни. Если кто и спасёт её – только он…
В бензинном тепле Софью разморило. Кажется, сколько вылито слёз, а опять стоят в глазах, готовенькие. Как бывает, жарким летом зарядят грозы одна за другой – не остановить.
Когда, подъехав, принялась искать в сумочке деньги, армянин достал портмоне и показал Соне заламинированную фотографию внука – мальчика лет пяти с глазами итальянской мадонны. Софья пригляделась под скудным светом автомобильной лампы и, заплакав, вышла. «Ты что! – всполошился армянин. – Подожди, сдачу вот возьми! На вот ещё – куда ты!» И, выскочив вслед за Софьей на полночную Пятницкую, взмахнул фантиками мелких купюр.
Глава вторая
8
Приют, в котором предстояло жить Гурзуфу с Марфушей, никогда и никем не был задуман. Он возник в лесном закутке ненароком, без малейшего умысла со стороны основателя.
Невольный создатель и куратор приюта Паша Трифонов был человеком трудной судьбы. Его родители разошлись. Мать обновила жизнь, но отношения ребёнка с отчимом не сложились. Вскоре появились на свет братья-близнецы, и пасынка по требованию нового главы семейства сослали к деду. «Ну и можно её понять, – хмуро оправдывал маму Пашка. – Кто их будет кормить, если эта сволочь свалит?» А было ему тогда двенадцать лет.
Родной Пашкин отец, Николай, сын Ильи Георгиевича, «упущенный», как со вздохом говорил о нём старик, жил далёкой диковинной жизнью. Его профессия опоздала на столетие – во времена менеджеров и программистов он оказался этнографом. Но не из тех модных, что производят популярное чтиво по истории алкогольных напитков и бритвенных принадлежностей. С «модными» не сложилась у него дружба, как, впрочем, и ни с кем особо не складывалась.
Однажды по научным делам его занесло в островную деревеньку Заонежья. В синих водах на зелёных кочках ютились домишки с хозяйством. Один из них был неожиданно выкуплен им. С той поры Николай Трифонов кормился производством нехитрых музыкальных инструментов – туристам на сувениры, а кроме того, огородом, рыбной и ягодной охотой. Была ли в его доме хозяйка, никто не знал.
Он не звал в гости ни отца, ни сына и не приезжал сам, по телефону говорил редко и кратко. Этого внезапного сыновнего «сумасшествия» много лет не мог понять Илья Георгиевич. Пока жива была мать, Коля заботился, звонил, таскал родителям фрукты. Когда же её не стало, словно вдруг сошёл с орбиты. Покойная жена Ильи Георгиевича, Ниночка, была как раз из Петрозаводской области. В первую же их встречу его поразил Ниночкин особый, очень ровный, склонный к раннему матовому загару тон кожи и светло-серые, прозрачные до самого дна глаза. И сын Николай, и Пашка, оба унаследовали дуновение той красивой земли.
Несколько лет Илья Георгиевич терпеливо ждал возвращения сына, ворчал: как можно так надолго бросить отца! А однажды озарением понял: «Дурак! Тебя просто больше нет в его жизни!» – и горько плакал, уткнувшись в комок пододеяльника (одеяло, как всегда, куда-то выползло), сморкался, кашлял. Тут явился всклокоченный Пашка, тогда уже сосланный жить к деду, и, взглянув прозрачно и строго, велел перестать ныть. Ох вы, карельские глаза!
Трифоновы, дед и внук, жили не то чтобы дружно – скорее вразнобой, что не мешало взаимной любви и тревоге. В распоряжении у них имелась двухкомнатная квартирка, а потому докучать друг другу было необязательно.
Деньги на Пашку давала мать. Отказаться от них, учитывая размеры пенсии, Илья Георгиевич не мог. Гордость же свою в отношении бывшей снохи научился выражать в подробных перечнях – на что ушла какая копейка.
Пашкина крёстная, тётка по матери, Татьяна, жалея племянника, взялась приучать его к «делу». Татьяна была ветеринарным врачом и опытным кинологом. На территории лесопарка ею было арендовано помещение под ветпункт, специализирующийся в основном на щенячьих прививках, и вольер, где проходили занятия школы по воспитанию щенков «Собачье царство». Название, впрочем, не прижилось и осталось лишь в документации.
Пашка вырвался из четырёх стен и почти поселился в лесу, помогая Татьяне. Это и в самом деле был прорыв. «Обалдуй» преобразился в пытливого ученика. Особенно его увлекла медицинская сторона вопроса. Учить щенка приносить игрушку – всё равно что гонять в футбол с мальчишками. А вот суметь произвести врачебные манипуляции со всей чуткостью, уважая трепетание собачьей души, – это уже кое-что. Конечно, Татьяна не могла допустить недипломированного Пашку до хозяйских псов. Но побыть на подхвате, одновременно наблюдая за работой тётки, ему разрешалось.
Почин Пашкиному приюту положила Манюня – невероятно дряхлый, глухой и слепой лабрадор. Её коричневая шерсть выцвела и обносилась, как старая замша. Хозяева привезли её усыплять. Татьяна возмутилась было – собака пока что вовсе не умирала, к тому же ветпункт не оказывал подобных услуг, но Пашка больно ущипнул тётку за руку.
«Ты чего! Они же её в другое место отведут – и всё!» – объяснил он, когда Татьяна, подчинившись огненной воле крестника, выпроводила хозяев, пообещав «всё сделать».
К деду, страдавшему астмой, взять Манюню Пашка не мог. У Татьяны хватало своих питомцев, да она и не «подписывалась» на благодеяния, о чём немедленно напомнила племяннику. Пашка пообещал в неделю раздобыть новых хозяев, а пока сколотили домик и устроили собаку на бывшей баскетбольной площадке, отделённой от мира кубиком старинной спортбазы, где размещался Татьянин ветпункт.
Второго постояльца – чёрного колченогого Фильку с молочными от катаракты глазами привели дети из ближних дворов. У пса умер хозяин. Затем появилась мелкая, невероятно тощая дворняга, получившая имя Мышь. Пашка нашёл её на обочине шоссе, отброшенную из-под колёс, но живую.
Так, потихоньку, за сеткой бывшей спортплощадки родился приют, обретший своего попечителя. Татьяна, хоть и бранилась, не нашла в себе духу разогнать «передержку», где оказывались все, кого иначе пустили бы в расход, – покалеченные, отказные, старые. С ними выгодно контрастировала деловитая бодрость Пашки, словно не замечавшего, сколь безнадёжный отряд попал под его начало.
Приют жил и рос, окутанный заботой невидимых сил. Лес укрыл Пашкину «богадельню» от посторонних глаз, сомкнул заросли орешника и низкорослой туи, сверху завесил берёзами. И, как всегда бывало на Руси, какого бы отдалённого уголка ни коснулась благодать, люди чутьём находили то место и являлись – кто на поклон, а кто и напроситься в «сопостники». Тропу разыскали сердобольные женщины из окрестных домов. Не участвуя напрямую в уходе за животными, они приносили корм. А затем Пашке нашлась помощница – одноклассница Наташа, суровая девочка с белыми волосами принцессы и носом-картошкой, фехтовальщица, лошадница и отчаянный геймер. С тех пор они заботились о постояльцах в четыре руки.
Под зиму чудом образовались откуда-то бэушные доски и утеплитель, из которых при поддержке местного техника Славы удалось соорудить домики. Сотрудники конноспортивной школы по соседству поделились свежей соломой. Даже администрация парка в лице Татьяниной приятельницы Людмилы не стала чинить Пашке препоны. Заброшенный уголок лесопарка подлежал реконструкции, но не сейчас, через годок-другой. Оглядев сперва оккупированную площадку, а затем и самого волонтёра, Людмила сказала: «Смотри, чтобы всех к Новому году пристроил! И калитку хорошо запирай».
На следующий день к Пашке прибежал работник и передал ржавый ключ от бывшего «шахматного павильона» – застеклённого по кругу, насквозь продувного домика. Так приют обзавёлся сторожкой.
– Ну что, отвоевал себе? – узнав новости, сказала Татьяна. – Тётка аренду платит – а этому всё на блюдечке! – Но в душе была рада удаче племянника.
* * *
Когда Илья Георгиевич пожаловался Сане на тревожное увлечение внука, приюту было уже несколько месяцев. Пашка пропадал в лесопарке днём и ночью, так что дед не без основания подозревал: и в школе не обходится без прогулов. «Санечка, может, забежишь после работы – тебе ведь всё равно по дороге. Хоть посмотришь, что у него там? Ноябрь на дворе, а ребёнок, можно сказать, живёт в лесу! И главное – школа! Школа страдает!»
Отругав Илью Георгиевича, что тот не сказал раньше, Саня обещал завтра же выяснить, в чём дело. Ежедневно он проходил по лесной аллее дважды – из дому на работу и обратно, но ни разу не слышал ни о каком приюте.
На следующий день, свернув по примерным объяснениям Ильи Георгиевича в северо-западное, «дикое» крыло лесопарка, туда, где тропинки были лишь слабо намечены и привольно росли опята, Саня вышел к небольшому кирпичному строению, украшенному остатками мозаики олимпийской тематики. Под обновлённым козырьком располагалась симпатичная дверь Татьяниного ветпункта и невдалеке – вольер для занятий со щенками. Обойдя строение с тылу, Саня увидел обсаженную разлапистыми туями площадку с облезлым баскетбольным щитом и сарайчиками-домишками по обе стороны. Несчётное количество синиц кормилось в туях и прыгало по сетке-рабице. На синиц потявкивали обитатели приюта.
Саня не успел ещё толком осмотреться, когда со стопкой мисок в руках перед ним возник Пашка.
– Дед прислал? – спросил он с досадой, даже не поздоровавшись, хотя любил Александра Сергеича за «прикольный» характер и терпеливую возню с Ильёй Георгиевичем.
Саня развёл руками. Ему было неловко, что явился не предупредив, словно и правда хотел застать врасплох.
– Ну ладно, пошли посмотрите, чего у нас тут, – пригласил Пашка, скептически глянув на ревизора. – И деду потом всё расскажите, как есть! А то он себе нафантазировал!
– Паш, да что бы ни было! Ты вообще-то образование собираешься получать или нет? А если собираешься… – возразил было Саня и умолк, оглушённый лаем, рвущимся из-за калитки. Слившись в единый шерстяной ураган, обитатели приюта навалились на сетку. Саня непроизвольно отшатнулся. В уме сверкнул план действий: сейчас же схватить Пашку и как угодно, хоть силой, доставить домой, к деду, и уж там разложить ему по полочкам, что к чему! А насчёт собак поговорить с Татьяной, пусть куда-нибудь…
Он не успел додумать мысль – её перебила наступившая вдруг тишина. Это Пашка вошёл на площадку, и собаки, смолкнув по мановению руки, все как один уселись в ожидании дальнейших распоряжений.
– Александр Сергеич, входите! – махнул Пашка. – Да не бойтесь, не тронут! Они и так бы не тронули – только тявкают! Не могу никак отучить. Вот эти два – Чуд и Щён – заводилы у них! И Тимка ещё.
Впечатлённый Пашкиной властью, Саня вошёл и в ближайшие пару минут испытал то, чего не переживал ни разу за всю предыдущую жизнь. Как, бывает. человек впервые заходит в море или, решившись полететь на дельтаплане, узнаёт стихию воздуха, так и Саня почувствовал совсем новое для себя единение – не просто с отдельной собакой, которую всегда был склонен очеловечивать, а с целой стаей разумных существ, не являющихся людьми.
Вместо опасной своры перед ним оказалась кучка жалких, по-детски любопытных животных. Они сидели смирно, позволяя себе лишь тихонько принюхиваться к новому человеку. Их неправильно сросшиеся лапы, клочковатые шкуры и слепые глаза поразили Саню – он обернулся на Пашку – как ты, брат, такое осилил? – а затем присел на корточки, чтобы стать вровень с обитателями приюта. Пашкины собаки показались ему похожими на очень старый осенний сад с обломанными яблонями, покрытыми лишаем сливами и вишнями, истекающими смолой.
Пашка со сдержанным торжеством следил за реакцией гостя.
– Александр Сергеич, это отличные собаки! Всё у них нормально, – сказал он, и Саня понял: Пашка не хочет сочувствия. Ему и без того нелегко справляться с распирающей сердце жалостью.
– Да, – поднимаясь, кивнул Саня. – Хорошие, я вижу. А этот вот, с катарактой – не думали оперировать? – указал он на чёрного колченогого пса. – Или поздно уже? – И внимательно, как будто впервые, поглядел на внука Ильи Георгиевича. За Пашкиными худенькими плечами светлела сила, он был обёрнут в неё, как в плащ. Или это осенняя заря горела над бывшей баскетбольной площадкой, где ютились теперь собачьи домишки, уже и с утеплёнными отделениями.
Распахнувшись всем сердцем, Саня прошёлся по маленькой территории, собравшей случайные остатки, последние крупинки чисто выметенных с московских улиц собак. На миг ему показалось, что перед ним не приют для животных, а частный детский садик. У каждой собаки было имущество – любимые тряпки для изготовления гнезда, игрушки-пищалки, пластиковые бутылки из-под воды, палки и прочий хлам, который приятно погрызть на сон грядущий.
– Нас перекантоваться пустили, а мы уже полгода тянем. Обустроились вот! – с гордостью объяснял Пашка. – Ну а куда их девать? Людям они без надобности… Александр Сергеич, могу чаем вас угостить! – сказал он и слегка улыбнулся.
Облокотившись о парту, заменявшую стол, и подперев ладонью щёку, Саня сидел в шахматном домике за чашкой растворимого кофе и смотрел на полный листьев и слякоти двор. Его миссия по спасению Пашки была провалена, во всяком случае на данный момент. Конечно же, между «пропаданием» в лесу и уроками под присмотром деда мог найтись и третий вариант, который устроил бы всех. Но его ещё предстояло выдумать.
Через четверть часа Саня покинул приют. Он уходил растерянный и мягкий, сознавая, что не сможет вернуть Илье Георгиевичу заблудшего внука. Знакомство с Пашкиными подопечными и печальный воздух городского леса, погружённого в туман межсезонья, взрыхлили Санино сердце до слёз. Он думал о Пашке с какой-то евангельской надеждой. Как, откуда в современной Москве мог проклюнуться этот подросток? Отчего магнитное поле ровесников не поглотило его?
В тот же вечер, обсудив с Ильёй Георгиевичем Пашкины возможности и перспективы, он добавил в бескрайний список своих обязательств ещё одно – подготовить Пашку к поступлению на «бюджет» вожделенной ветеринарной академии.
Биологию абитуриент взялся зубрить самостоятельно, а вот математику с ним отныне разбирал Саня. Маруся, прознав о напасти, тайком рыдала от приступа ревности, но не посмела отговаривать мужа.
В ближайшие недели после Саниного визита в приют к волонтёрам присоединился живущий неподалёку Женя Никольский по прозвищу Курт, и это вовсе не было совпадением. Доктор Спасёнов, лечивший приятеля Софьи от всевозможной психосоматики, лично посоветовал ему прогуляться в лес и поискать там резерв для исцеления.
С той поры Москва успела дважды пройти через зиму и готовилась к новой весне.
9
Субботним утром Ася проснулась от звонкого грохота. С крыши свалилась сосулька, а может, и весь карниз с ледяной бахромой. Звону и треску было словно из-под небесного купола, с потолка какой-нибудь облачной залы, рухнула гигантская люстра и засыпала дребезгами весь двор.
Ася вскочила, улыбнулась своему юному утреннему личику в зеркале над комодом: ничего себе! Оказывается, на летних улицах сна можно запросто нагулять румянец! И полетела на запах кофе, вспоминая на ходу, что сегодня им с Лёшкой везти в приют Гурзуфа с Марфушей. Хорошо ли это будет? Саня сказал, что не очень, поскольку зверей лишают их дома – замоскворецких улиц. Но в сложившейся ситуации лучшего не придумаешь. Тем более что Пашкин приют – это почти семья, каждую собаку там любят. А со временем, может, и удастся найти хозяина!
Не дойдя до кухни, Ася свернула в гостиную, глянуть с балкона: там ли звери? Если перегнуться за правый борт – видно бойлерную. Горемыки, отчаявшись вырваться, дремали клубком на Асином старом пальто. Взять еду – и скорее к ним!
А на кухне Лёшка уже устроил романтический завтрак. Не поленился, дурачок, сбегал, принёс для Аси из дорогущей кондитерской два круассана – шоколадный и с миндалём. Увидев жену, подхватил, закружил и сообщил новость: оказывается, «после собак» молодой чете предстояло явиться на день рождения к Лёшкиному коллеге, старшему тренеру. Место встречи – боулинг.
Ася расстроилась. Ничего там не будет хорошего! Много пива, до нутра пробирает грохот, бесчестно именуемый «музыкой», и у людей совсем не такие лица, какие нравятся ей. «Я не пойду!» – чуть было не сказала она, но взглянула на Лёшку, и сделалось жалко обжечь резким отказом его счастливые глаза и улыбку.
Когда через четверть часа вышли во двор, Илья Георгиевич в пальто и мохнатом шарфе, карауливший на балконе любопытные факты жизни, окликнул:
– Настюша, а вы куда?
– А мы к Паше в приют!
– Ну с Богом! Посмотрите, чтоб он там в куртке, а то ведь бегает раздетый! – вдогонку крикнул старик, и целый день потом местные сплетницы рассуждали между собой – с какого лиха Илья Георгиевич вздумал отдать Пашку в детдом – уж взрослый ведь парень, школу заканчивает, дотянул бы как-нибудь с дедом!
Едва успели дойти до бойлерной, а во двор уже вкатывался по Лёшкиному звонку гремящий стёклами «жигулёнок» Алмаза – недорогого и всегда готового к службе извозчика.
Собак грузили трудно. Марфушу Ася уговорила – та сама прыгнула на заднее сиденье и доверчиво подняла взгляд: всё так? А с Гурзуфом Лёшке пришлось пободаться.
– Ну, Алмазик, гони! – скомандовал он, когда погрузка была закончена. И трескучая колесница, плеснув по лужам, помчалась прочь из центра, в потаённый кармашек леса, где предстояло теперь поселиться двум замоскворецким собакам.
Ася обернулась с переднего сиденья и, поборов брезгливость, погладила обеспокоенную Марфушу. Её шерсть пахла шампунем городского дождя.
У трамвайных путей, разделяющих лесопарк на две половины, Алмаз был вознаграждён и отпущен. Ася и Лёшка взяли собак на поводки и пустынной аллей двинулись в глубину леса. Дорога похрустывала тонким льдом. Слушая этот звук, интимный и близкий, как шорох карандаша по бумаге, Ася поняла, что вокруг уже не грохочет. Город остался в другом измерении. Тишина паром отслоилась от влажного снега и заложила слух. Вокруг царила ни с чем не сравнимая светоносность ранней весны, когда пространство уже так напитано светом, что даже облачное небо сияет и режет взгляд.
В этом свете, влаге и шорохе, в белизне, расчерченной тенями в косую синюю клетку, и располагалось то небывалое место, о котором говорил Асе брат.
Возле мостика, как условились, позвонили Пашке и остановились ждать. Хозяин не спешил встречать гостей. Лёшка озирался по сторонам и, поддёргивая поводок рвущегося на волю Гурзуфа, ругал покойного дядю Мишу за «подарочек».
Ася в коротком сером пальто озябла, замёрзли колени, шея и подбородок – шарф цвета мимозы подевался куда-то, может, выронила в машине? Взойдя на мостик через канаву, отделявшую аллею от леса, она облокотилась о перила и подумала: а может, и не нужно было везти собак в эту сырость и тишину? Бегали бы себе по тёплому сытному городу сколько Бог пошлёт.
Вдруг что-то неуловимо сместилось в равновесии леса. Совсем рядом раздался голос снежного наста – шорох и треск, и в тот же миг, вынырнув словно из-под земли, к ним подошёл паренёк – невысокий, худенький, некрасивый. Одно утешение – серые глаза, отрадные на угловатом лице. Их оттенок вольно перетекал в серый лёд леса, во влагу и облачный свет. Несомненно, это был их сосед Пашка, но в то же время – совсем другой человек, незнакомый, никогда ещё не виденный Асей. Она растерялась. Здесь, в лесу, Пашка вполне мог бы сойти за духа природы, правда, несколько зачахшего в условиях города.
Он пришёл не один, в сопровождении старого жёлтого пса, деревянно, как пират на костыле, трусившего рядом с хозяином. Оглядел гостей и, кивнув: «Пошли!», развернулся в обратный путь.
Через несколько минут, пройдя по льдистой тропке в орешниковых кустах, они оказались на месте. Когда тропинка вынырнула на свет, перед ними открылся укутанный в заросли кустарника деревянный домишко со ржавым конусом крыши. Мелкие квадратики стёкол, как на старых дачных террасах, цвели тропическими травами изморози.
Пашка сделал жест: подождите! – и обратился к жёлтому псу:
– Джерик, иди домой! Скажи там, я скоро приду! – велел он и, проследив, как браво пёс переставляет негнущиеся лапы, направился к домику. – Джерик у нас вроде старейшины, – на ходу объяснил он гостям. – С ним вообще можно как с человеком – всё понимает. У него раньше был дом в подъезде, в закутке у консьержки. Он лет десять там ночевал. А потом дебилы какие-то въехали, выгнали его, избили ещё, чтоб не возвращался. Консьержка видела. А Джерик всё равно кроткий – никогда на человека не тявкнет!
Договорив, Пашка впервые за день взглянул на Асю – способна ли она к пониманию собачьей беды?
– У него артроз. На задней сустав совсем уже рассыпается, всё, – прибавил он и остановился возле дома, в маленьком дворике с лавкой и болтающейся между берёзами доской качелей. – Ну вот, а раньше тут был шахматный павильон. Играли в домино, в шахматы… Мы тут чай пьём, когда замёрзнем. А вон – спортбаза бывшая. – И кивнул на строение в осыпавшейся мозаике, защищавшее приют с правого фланга. – С той стороны – Танин ветпункт и школа. А с этой типа подсобка. Главное – есть водопровод и топят. Мы в холода туда собак заводим на ночь. А Джерик там всё время ночует, из-за суставов. Его вообще не надо запирать – он умный.
– Укромный уголок! Кто ж вас сюда пустил? – толкнув качели, спросил Лёшка.
Пашка неодобрительно глянул на взметнувшуюся доску.
– Ну… говорили, что здесь отходы всякие закопаны… токсичные. Типа гиблое место. Всё проверили – чисто, а у людей в голове всё равно пунктик. Да не бойтесь, ничего нет!
– А ты-то откуда знаешь? – хмыкнул Лёшка. – Ты что у нас, счетчик Гейгера?
Хозяин не удостоил его ответом. Он поднялся по хлипким ступенькам и, толкнув дверь в шахматный павильон, велел Гурзуфу и Марфуше войти. После кивнул и людям.
В домике пахло так же, как и на улице, – сырым лесным духом. Обстановка была необременительной – несколько составленных в ряд школьных парт, разномастные обшарпанные стулья, табурет с электрической плиткой и открытая полка с посудой.
Пашка молча наблюдал, как собаки обнюхивают помещение, а люди осматриваются.
– А где жильцы-то? – спросил Лёшка.
– На площадке. Ваших рано пока в коллектив. Пусть ко мне привыкнут.
Ася заметила: слегка нахмурив брови, Пашка глянул в окно, на закрытую туями площадку. Может быть, он волновался, как бы Гурзуф не вздумал отвоёвывать лидерство.
– Ну ладно! Это тебе виднее, – не стал спорить Лёшка. – Ну чего, мы, может, пойдём? Не будем мешать адаптации. Корм и всё такое – скажешь потом, сколько и чего. Привезём!
Пашка не отозвался. Молча он вышел за порог, поднял со ступеньки стопку мисок в засохшей каше и, мельком взглянув на Асю, обронил:
– Помоешь? А то их отскребать два часа, а мне ещё собак выгулять надо и лекарства дать.
– Конечно! А где? – с готовностью сказала Ася, принимая миски из Пашкиных рук и сжимая их, как чемпионский кубок.
– Слушай, парень! Это вот ты ошибаешься! Моя жена собачьи слюни отмывать не будет! – возразил Лёшка. – Назови, чего с нас причитается за койко-место, и мытьё посуды включи – всё уладим.
Пашка взял из угла веничек и смёл со ступеней комки заледенелой земли, просыпавшиеся с обуви.
– Мы коек не сдаём, – холодно отозвался он, сунул веник на место и, распрямившись, взглянул на Асю. – Видишь, дверь железная открыта, там на «мойдодыре» губка, всякие там порошки. Вода только холодная. Но можно чайник вскипятить. Он там прямо воткнут, найдёшь. Когда будете уходить, дверь прикройте, чтоб ваши не выбежали!
Договорив, Пашка пошёл к загончику – там, заслышав чужих, начали подавать голоса его питомцы.
Лёшка вздохнул, смиряя приступ досады.
– Миски-то поставь! – велел он Асе, когда хозяин отошёл на достаточное расстояние и, взяв жену за руки, тряхнул. – Да выпусти уже! Чего ты вцепилась!
Ася дёрнулась. Раз, ещё раз. Бессмысленно. Крепкие руки мужа наручниками обхватили запястья.
– Я их вымою! Ясно? – крикнула она. – Отпусти!
Лёшка удивлённо глянул в исказившееся Асино лицо и разжал пальцы: что-то бесценное, добытое кровью, может, меч-кладенец, под шумок вытягивали у него из рук.
– Знаешь что! Это нечестно! – опомнившись от секундного замешательства, ринулся он в бой. – Вот я никогда ничего не делаю, если ты против! Я даже на футбол перестал с пацанами ходить. И пиво уже полгода не пью! Как думаешь, почему? Потому что никто не смеет встревать между нами! Будь он хоть мать Тереза! Я тебе запрещаю эту гадость мыть, ясно? И вообще, нам ещё подарок покупать. Ты идти-то собираешься? Или раздумала?
– Раздумала, – сказала Ася и, стиснув отвоёванные миски так, что железные края врезались в пальцы, быстро пошла по тропинке к зданию спортбазы. Отдаляясь, она слышала перезвон стекла – это её муж саданул кулаком по стенке павильона. Раздался лай.
– Да заткнись ты, Гурзуф! – рявкнул Лёшка. – Связался с тобой! Плюнуть надо было, а я, блин, добрый!
* * *
Отзвенели стёкла хлипкого павильона, чуть не рухнувшего под Лёшкиным кулаком. Отгремел взаперти Гурзуф, поддержанный звонкой Марфушей.
Когда взбешённый Лёшка умчался прочь, Ася, так и не дойдя до подсобки, вернулась во дворик. Прямо с мисками в руках села на доску качелей. Обида ещё немного поколотилась в грудь, пощипала глаза и отлетела – по тропинке от загороженного туями собачьего загона возвращался Пашка. Ася взглянула на грязные колени его джинсов, на тонкие, сплошь в царапинах, руки из-под закатанных до локтя рукавов куртки и улыбнулась. На этот раз подросток не смог занавеситься от её взгляда волосами – их раздул ветер, и Ася увидела, что Пашка не то чтобы улыбается в ответ – подобная мимика была не свойственна ему, но – удивлён, доволен.
– Да брось их! Поставь прямо тут, на землю, мы с Наташкой потом отмоем. Пошли, покажу приют! – сказал он и с лёгкой усмешкой прибавил: – Не бойся! Они, во-первых, смирные и, во-вторых, воспитанные. И, в-третьих, я их предупредил!
После этих слов заробевшая было Ася расправила плечи и выразила готовность идти.
Пашка отпер сетчатую калитку и первым вошёл на присыпанный песком ледок площадки. По обе её стороны прижались один к другому добротные собачьи дома, возле них топтались и гомонили жители. Пашка обвёл население строгим взглядом и дал команду. Обитатели вмиг притихли и уселись смирно.
Последней из домика выползла и, обнюхав Асю, заплясала вокруг хозяина собака с тонкой мордой, в расчудесном сарафане шерсти, свисающей чёрно-белыми лоскутами до самой земли.
– Наша Василиса! – объявил Пашка, обеими руками обнимая и гладя Василисину голову. – Такая вообще история с ней была! Мамашка с карапузом двухлетним приводит её к Тане. Рассказывает, мол, собака на выгуле регулярно отрубается – а тащить её в дом некому. Эпилептические припадки. Таблетки якобы не помогают, и вообще, типа ей с ребёнком тяжело, не до собаки. Спрашивает, можем ли гуманно усыпить? Ну, мы, как тогда, с Манюней, сказали – оставляйте, до свидания. А чего с дебилами разговаривать? Ну и вот, живёт у нас отлично! Может, раз в месяц брякнется, а так, второй год уже нормально, все её любят! Ну, лечим, конечно…
А это Мышь! – отпустив Василису, кивнул он на тощенькое создание на пороге ближнего домика. – Её машина сбила – травма позвоночника. Но ничего, ходит. Она певица у нас. Как-нибудь послушаешь! Мыша, ко мне! Знакомься!
Представляя питомцев, Пашка вынимал из кармана подранной куртки комочки корма и угощал собак. Затем, покосившись на Асю, черпнул побольше и насыпал ей в ладонь – чтобы и она угостила тоже.
Задержав дыхание, Ася отважно, словно решившись на прыжок через пропасть, протянула руку и засмеялась, когда ладони коснулся холодный собачий нос.
– Дальше вон – Тимка-безлапый. Он у Курта на довольствии. Знаешь Курта? Его Александр Сергеич привёл, давно уже.
– Да, Курта я знаю, – задумываясь, кивнула Ася.
– Ну а вот один из старейших – Филька! Не стали уже катаракту удалять, сердце слабое. Дружок, Щён, Чуд. А это Нора, – указал он на старого эрдельтерьера. – Отказная тоже. – И, бросив перечислять, с неожиданной горечью взглянул на Асю. – А я никого не могу взять из-за деда! Сразу за сердце хватается, что его вытесняют. В общем, я заложник ситуации!
Он так смешно это сказал – «заложник ситуации», – что Ася поняла наконец, куда попала и с кем имеет дело. Все Пашкины звери были доходяги, хлебнувшие горя. Здоровых и счастливых тут не было. «Может быть, и люди, которые приходят сюда, “доходяги” тоже? В каком-то смысле?» – подумала Ася и вспомнила о своей ссоре с мужем.
Когда запирали загон, Ася разглядела на калитке самодельную фанерную табличку, изготовленную с помощью аппарата для выжигания по дереву: «Приют “Полцарства”». Ниже – мелко и довольно коряво – номер телефона и в скобках «П. Трифонов».
– Полцарства! – воскликнула Ася. – А почему?
Пашка, смутившись, мотнул головой.
– У Татьяны раньше школа называлась «Собачье царство». А что такого? – буркнул он.
– Да совсем ничего! Всё прекрасно! Просто можно я красиво напишу? Сделаем настоящую вывеску! Я могу! – загорелась Ася, но не получила ответа.
Намеренно ускорив шаг, Пашка направился к шахматному павильону, где остались запертыми два новых жильца. А на ступеньках, руки в боки, его уже поджидала хозяйка «собачьей школы» и по совместительству родная тётка Татьяна – женщина за тридцать, жилистая, с простым добродушным лицом без косметики, одетая по-спортивному. Ася вспомнила, что видела её однажды у Трифоновых.
– Ещё охламонов привёл? – сказала Татьяна, ткнув локтем в прикрытую дверь, за которой немедленно заворчал Гурзуф. – Паш, ты думаешь-то о чём?
– Танюлька, нельзя собак ругать просто так! Хорошие собаки, смотри! – отозвался племянник и, первым войдя в шахматный домик, взял на поводок раздражённого пленом Гурзуфа.
– Я не собак ругаю, а тебя, дурака! И с Людмилой сам объясняться будешь, на каких основаниях при ветпункте разбух приют! А я скажу, что ты вообще здесь никто и знать тебя не знаю!.. Татьяна меня зовут! – мимоходом прибавила она и по-мужски пожала руку Аси, робко остановившейся у двери.
– Людмила сама разрешила, – буркнул Пашка.
– Что она тебе разрешила? Пару псов подержать, пока не пристроишь, или бомжей со всего района собрать? Помалкивай лучше! И лавку почини! Я вчера чуть не грохнулась! – заключила Татьяна и ушла, для острастки стукнув дверью, так что из фанеры со звоном вылетел гвоздь.
Пашка вывел Марфушу с Гурзуфом во дворик и, вернувшись в дом, закрепил отставшую фанерку.
– Да она вообще-то нормальная… – сказал он, обернувшись на испуганную Асю и, взяв лопату и несколько камней из кучки гравия, пошёл поправить лавку. – У Марфуши лапа сегодня получше, – обронил он за работой. – Там гематомка небольшая. Татьяна остынет – займёмся ими. Надо прививки, и от паразитов…
– Паш, как же ты решаешься новых брать, если тут всё висит на волоске? – спросила Ася и, подойдя к собакам, осторожно погладила беленькую Марфушу.
Пашка мельком глянул через плечо.
– А что не висит на волоске? – отозвался он, приминая землю вокруг лавочки. – Всё висит на волоске, и приют, и дед мой… Абсолютно всё.
10
Давно уже Асе пора было ехать домой – мириться с Лёшкой. Но нет, не хотелось совсем! А хотелось сполна отгулять нечаянно свалившуюся свободу. Растратить её, как в институте отменённую «пару», на шатание по улицам и капучино в случайном кафе.
Ушла туманная взвесь и вместе с ней тишина. Эхо разнесло по лесу голоса детей и собак. В вольере, отгороженном от приюта зданием спортбазы, Татьяна начала занятия с двумя молоденькими терьерами. И Пашка, набрав побольше поощрительных лакомств, тоже занялся дрессировкой новых постояльцев.
Присев на лавочку и подставив нос солнцу – веснушки ей к лицу! – Ася краем глаза наблюдала собачий урок и гордилась Марфушиным послушанием и смекалкой. А вот Гурзуф… Да, Гурзуф-то у них оказался двоечник! Она уже совсем было собралась напроситься к Пашке в «помощницы дрессировщика», когда до её слуха долетел новый тревожащий звук.
Из орешниковых зарослей, в которые уходила тропа, на приют надвигалась тонкая скорбная музыка. За несколько секунд звук приблизился и, накрыв тенью радость дня, оказался знаменитым адажио Альбинони. Адажио было исполнено на губной гармошке в похоронном ритме. Ася встала и напряжённо вгляделась в гущу кустарника.
– Это Курт, – обронил Пашка, заметив её смятение.
И правда, музыка внезапно стихла, и во дворик вошёл Софьин приятель, как всегда немного растерянный, милый, со снопом русых кудрей, затянутых в хвост.
Он сунул губную гармошку в карман и направился к Асе. Было бы логично предположить, что Курт досадует на их семью за то, что Софья въехала на его машине в такую историю. Но нет – вопреки «адажио», он был весел.
– Ася, вот это подарок! – сказал он, подойдя. – А я иду, смотрю, на мостике – твой Алексей! Спрашиваю – какими судьбами? Бормочет. Я ничего не понял! Он собак, что ли, боится? – И, улыбнувшись от души, едва ли не до слёз, прибавил: – Ох, ну как же ты вовремя! А я всё думал – что мне Бог пошлёт сегодня?
От его слов пахнуло дымком шампанского, какой витает по подъезду в новогоднюю ночь. Причина небывалой душевности стала понятна. Несмотря на улыбку, его лицо было осунувшимся, бледным, и как-то слишком горячо блестели обычно тихие зеленовато-серые глаза. Фонографа на плече не было. Всё это мигом заметила Ася.
– Корм разгрузишь? – сказал Курт, направившись к Пашке, и тряхнул пакетом. В нём зашуршала и стихла набежавшая на песок волна.
– Чего там? Сухой? Поставь на ступеньку!
– Паш, вот возьми, если лекарства пойдёшь покупать, Тимке и всем. На вот! – И выгреб из надорванного по шву кармана пальто ворох некрупных купюр. – И вот, подожди, сейчас… – Он слазил за пазуху, достал паспорт и вынул из-под обложки аккуратно сложенную заначку.
– Это что? – не понял Пашка.
– Ну, пусть у тебя будет в казне! Бери, пока дают! – сказал Курт и сунул деньги Пашке в кулак. – Всё. И будем считать, дела я завершил! Тимку обниму – и свободен!
– Не выпускай только. А то у нас новобранцы! – предупредил Пашка.
Курт кивнул и взглянул на Асю:
– Пошли, познакомлю с Тимкой!
Ася подхватила миски и в тревоге и любопытстве пошла вместе с Куртом к загончику.
– А мы Гурзуфа с Марфушей привезли! – проговорила она, словно оправдываясь. – Это как раз того погибшего собака… – И осеклась.
Игнорируя просьбу хозяина, Курт отпер калитку, витиевато свистнул, и тут же из дальнего домика с фырканьем выскочил рыжий короткошёрстый пёс. У Тимки не было передней лапы, отчего его бег выглядел отчаянно, – так, словно бы он рвался изо всех сил, но кто-то крепко держал его за ошейник. Лихо взбив брызги льда, он наскочил и, прыгая на задних лапах, поскрёб единственной передней грудь хозяина. Ася заметила: сукно пальто было сплошь в затяжках.
Курт полез в карман штанов, модных и небрежных, как всё, что было на нём нацеплено, и выловил несколько горошинок корма. Тимка ухватывал их по одной с хозяйской ладони. Курт снова слазил в карман, ещё и ещё. Ася загипнотизированно следила за его действиями, пока не осознала, что лакомства больше нет, Курт добывал и скармливал Тимке какие-то крошки, пыль, а тот всё лизал и лизал руку.
– Ты, если будешь приходить, играй с ним, ладно? – проговорил Курт, почёсывая и гладя крепкую Тимкину голову. – Он такой… Как маленький. С ним обязательно надо играть. А ты почему с мисками? Пашка мыть послал? Там вода ледяная – простудишься! Давай лучше я!
В подсобном помещении бывшей спортбазы у большой чугунной раковины Курт скинул пальтишко и с воодушевлением, показавшимся Асе избыточным, приступил к делу.
– Я от тебя бессовестно скрыл, – заговорил он под звон воды. – Два года назад я в твою честь сочинил гимн! Очень красивый! – И, обернувшись, улыбнулся ей так беспечно, что и Ася улыбнулась в ответ. – Его можно было бы сделать гимном какой-нибудь очень хорошей страны, если бы такая нашлась. Я сегодня, когда вышел из дома, почему-то про него вспомнил. И вдруг оказалось – ты здесь! В моём нынешнем положении это мистика!
Ася сняла с гвоздя полотенце и принялась вытирать отмытые Куртом миски.
– Я вообще довольно неплохо знаю тебя, – продолжал он, передёргивая повыше фенечки на запястье, уже залитые пеной. – Даже следил за твоим творчеством. Софья выкладывала твои рисунки у вас на сайте студии. Я их все люблю! Вот так, потихоньку мы с тобой сблизились. То есть это я с тобой сблизился. И у меня к тебе есть просьба. Она не сложная. Выполнишь? – Курт быстро взглянул на Асю. Должно быть, испуг и отчуждение в её лице сбили его с настроя. Он опустил взгляд и подменил приготовленную фразу другой. – Пожалуйста, передай Софье, чтобы она не волновалась. Скажи ей, я кое-что придумал. Есть безотказное средство… Оно снимет с неё обвинение. Не могу пока рассказать, чтобы не сглазить, но уверен, всё будет в порядке.
– Ох, спасибо! Как бы хорошо! – заволновалась Ася. – Ведь у неё Серафима! А Серафимин отец, если узнает, он дочь может отсудить! Он давно уже… И, главное, этот ужасный тормозной путь! Так что если можно хоть что-то сделать… Спасибо!
Курт выключил кран. Звон по чугунной раковине умолк, и в распахнутую дверь вошёл ещё безлистый голос леса. Этот большой голос состоял из голосов деревьев и птиц, ударов капели, из отдалённого разговора Пашки с непокорным Гурзуфом и хруста шагов. Все эти звуки деликатно соседствовали, не губя и не притесняя друг друга. Курт поглядел в сияние дверного проёма и шагнул на порог.
– Я всё-таки очень люблю вот это всё! Свет, звук… – сказал он. – Хотя, конечно, должно быть что-то ещё, кроме любви к деталям. Но вот не удалось.
Ася в тревоге смотрела на Курта. Оттого ли, что тень и свет разрубали его пополам, ей казалось: она наблюдает крушение маленькой вселенной. Что-то оборвалось и летело в пропасть, ещё не достигнув дна.
– А насчёт Софьи… Да. Я об этом думал с самого начала, но как-то сомневался. Но вот ты сказала про Серафиму – и всё прояснилось окончательно. Передай Соне – всё будет хорошо! – заключил он твёрдо. Затем вынул из раковины и сунул безмолвной Асе последнюю миску, подхватил пальтишко и влез в рукава. Мокрые руки застревали. Он повёл плечами, устраиваясь внутри пальто, застегнул пуговицы, выправил из-под воротника хвост волос и бодро улыбнулся: – Ну что, к Пашке?
Со двора доносились собачье ворчанье и строгий голос тренера. Пашка знакомил Гурзуфа с Дружком. Похоже, у псов завязался мужской разговор.
– Ну как? Не загрызли ещё друг друга? Ну ты смелый, Паш! Я бы на этого намордник надел, – сказал Курт, понаблюдав за сценой собачьего знакомства. – А я всё – закончил дела. Предлагаю отпраздновать! – И, порывшись в брошенном у крыльца пакете с кормом, выудил розовую, сверкнувшую, как вечерний снег, бутылку крымского шампанского. – Ребята, будете? Я теперь пошёл по игристым винам. Знаете, почему? Мне нравится звук хлопка. Можно по-всякому стрельнуть – и так и сяк. Пальнём? Пашка, тащи посуду!
– Я эту вашу гадость не пью, – холодно отозвался Пашка. – Только идиоты кайфуют за счёт клеток мозга!
Курт тихо рассмеялся и принялся развинчивать проволочку.
– Ася, а ты? – И, на миг остановив движение, взглянул на растерявшуюся Асю. Он смотрел внимательно и с надеждой, как будто от её решения зависело многое.
Потом Ася жалела: надо было не строить из себя недотрогу, а спросить – в честь каких таких завершённых дел шампанское? И предложить встречный тост – за приют, за собачье везение. Может, тогда день пошёл бы иначе. Но в ту минуту она отпрянула, словно ей предложили яд.
– Нет, я не хочу! Нам ещё с Лёшкой в гости! Я совсем не могу!
– Значит, никто не хочет? Ладно! – сразу смирился Курт и, завинтив проволоку, поставил бутылку под лавку. Его оживлённое секунду назад лицо ушло под плотное облако. – Ну, наверно, тогда пошёл я… – сказал он и, сделав несколько шагов, обернулся. – Паш, ты прости меня в честь Прощёного воскресенья! Ася, и ты!
– Это завтра, – заметил Пашка.
– Ну да. – Курт кивнул и взял было разгон в сторону орешниковой тропы, но опять что-то остановило его.
Он вернулся к домику.
– Я ключи тут у тебя повешу, запасные, ладно? А то родители уехали на неделю. А мне, наверно, придётся лететь… в Берлин. Может так получиться. Да и вообще, вдруг дверь захлопнется. У меня там «собачка» – всё никак не откручу.
Пашка дёрнул плечом – мол, мне-то чего, вешай.
Порывшись в кармане, Курт выудил ключи и, взбежав по ступеням, нацепил на гвоздик за дверью.
– И бутылку забери, – напомнил Пашка.
– А как же! – улыбнулся Курт, подхватил из-под лавки шампанское и, на ходу отвинчивая проволочку, нырнул в орешник.
Ася проследила, как угасают за ним шум и колебание ветвей. А затем в отдалении раздался выстрел пробки.
– Мне тоже уже пора идти, – проговорила она и огляделась в поисках брошенной сумки.
– Хочешь – приезжай ещё, будешь помогать, – придерживая Гурзуфа, сказал Пашка. – Я в выходные тут рано. Выпускаю их попастись, пока народ не повалит.
– Я приеду! – кивнула Ася с готовностью.
Когда она уже пробиралась по тропинке в орешнике, её слух уловил важное. Развернувшись и взявшись обеими руками за сухие кончики веток, Ася прислушалась. Далёкий, но всё-таки различимый голос Пашки произнёс:
– Александр Сергеич! Мне надо с вами поговорить, насчёт Курта. Срочно!
Странно и печально было Асе уходить из приюта. Она шла талой тропой и чувствовала, как ласково смотрит на неё лес. Не было сомнений, что берёзам и ясеням нравились её бледная кожа и серое пальтишко – в масть ранней весне – и упрямый весенний характер. Вся она была близка этому странному месту и времени, промокшей тропинке в глубь жизни. Долой барышню, рисующую котят! Да здравствует то, чему пока не подобрать слов!
На мостике у аллеи Ася увидела Лёшку. Он сидел на корточках, прислонившись спиной к столбику перил.
– А ты думала, я тебя брошу? В чаще? И с кем! Один – подросток отмороженный, а другой вообще псих. Идёт и бутылкой машет! – приветствовал он жену и, сунув руки в карманы, обиженно зашагал к шоссе. Ася вздохнула, не зная, рада она или расстроена. По крайней мере, на день рождения к старшему тренеру её больше не звали.
11
Лёгкий после шампанского, Курт шагал по лесной аллее, приближаясь к роковой точке. Добыв из кармана айфон, по привычке глянул погоду. Плюс пять, переменная облачность, ночью ноль, а завтра… ничего себе – опять снег! Поглядеть бы на него за столиком у окна, в кафешке, где раз двести встречался с самим собой. Столешница пахнет как лоза – переспелым виноградом и солнцем. За стойкой звенит стекло, бармены напрягают связки. И низкий гул планеты порезан мелкой соломкой – это из колонок валит «клубняк». Но пассажиру у окна плевать на рёв мироздания, главное, что за стеклом на улице – сиреневый тихий балет.
Если бы Курта спросили, отчего такой милый и образованный молодой человек не занят полезным делом, а вместо этого ищет забвения во всякой, как верно заметил Пашка, гадости, Курт бы ответил, что виновата совесть. Совесть съела его заживо. Она увлеклась каннибализмом с детских лет, когда он ещё был просто Женей Никольским, любимым сыном и внуком. Видимо, он родился на свет с этим изъяном. Реплика, сказанная не вовремя, деньги, истраченные на ерунду, неуместная улыбка, тайная сигарета на школьном дворе – всё это были «статьи», по которым ночи напролёт совесть судила его и сразу приводила приговор в исполнение.
Курт старался не провоцировать карательные органы. Следил за своей устной и письменной речью, великих целей не ставил. На стыке школы и института ему удалось вырваться на свободу – он начал придумывать, а точнее, ловить из воздуха лёгкие и странные мелодии, «песенки», как он звал их. Это длилось недолго – музы ушли вместе с юностью. В отсутствие вдохновения его единственным делом остался скромный фриланс.
Когда утром, расположившись за компьютерным столом, Курт принимался за работу, настроение его обычно бывало сносным. Он видел курс, но где-нибудь через час в рубку врывался загадочный террорист. Отпихнув Курта, вставал к штурвалу и влёк захваченный корабль на кухню – выпить ещё кофейку или чпокнуть баночку пива. Затем выталкивал его на балкон – обозреть близкий лесопарк – и наконец сгонял во двор – выгулять, уже второй раз за утро, спаниеля Каштанку, по домашнему – Кашку. Только к ночи, попав на «сковородку» самобичевания, он замечал позади ещё один упущенный день.
Долго ли, коротко ли, совесть догрызла его до костей. Останки Курта блуждали по дождливым, снежным и солнечным московским улицам – одинаково безучастные ко всему, кроме следовавших одна за другой доз некрепкого алкоголя.
А затем заболела старая Кашка. Маленький ветпункт в лесопарке, зеленевшем под окнами Курта, стал местом продления собачьей жизни. По многу часов они проводили с Кашкой под капельницей. Собака – на столе, а Курт рядом на стуле – уткнувшись носом в шелковистую шерсть. Иногда к нему подсаживался и сочувственно наблюдал за дыханием собаки паренёк с очень светлыми и твёрдыми серыми глазами на угловатом лице.
Похоронили Кашку, а через неделю умерла бабушка, спасшая маленького Женю от детского сада, а в школе учившая с ним уроки. Не то чтобы Курт убивался сверх меры. Просто впал в несравненную по глубине и бесчувствию лень. Вероятнее всего, в ближайшие годы ему грозил переход из категории начинающих выпивох в продвинутые, но тут произошло чудо. Неприметное на вид, как и все чудеса высокой пробы, оно удержало его от крушения.
Однажды ранней весной жизнь Курта упёрлась в насморк. Тот грянул внезапно, как будто безо всякого повода, и с тех пор не оставлял его дольше чем на неделю, несмотря на все старания врачей.
Примерно через полгода по настоянию Софьи, с которой тогда уже был знаком, Курт попал на приём к её брату. Александр Сергеевич Спасёнов изучил историю болезни и спросил: а, собственно, почему к нему? В соседнем кабинете есть ЛОР, а по субботам принимает аллерголог. Впрочем, как оказалось, пациент уже у них побывал.
Курт смотрел на доктора сонно, туповатыми от нехватки кислорода глазами. Течение мысли было затруднено отёком. Александр Сергеевич уже собрался переправить его обратно к специалистам, но вдруг что-то смутило его. Он подпёр ладонью голову и, вглядываясь в припухшие черты героя, спросил, давно ли Женя во мраке и может ли назвать причину, по которой так раскис?
Брат Софьи был первым, кто догадался заглянуть за декорации и обнаружил в тайнике зрелище горькое, требующее немедленного вмешательства.
Курт рассказал ему всё: про потерю музыки, про скрежет холодного мира и про то, что планету людей уже давно пора сдать на техосмотр с заменой масла и тормозных колодок. К его удивлению, доктор горячо согласился с ним.
Интуицией висельника Курт просёк: Александр Сергеевич – его шанс на выживание. Как и многим другим пациентам терапевта Спасёнова, ему захотелось неформальных отношений – если не дружбы и приятельства, то хотя бы особой профессиональной опеки. Чтобы покрепче занозить Санино сердце, Курт вручил ему флешку с песенками.
Аранжировка, полная всевозможных звонов и шорохов, обрамляла творения явно нездешнего производства. Мелодии были сотканы таинственными мастерами и отличались от всех прочих так же, как эльфийскому клинку следует отличаться от человеческого. Саня был ранен. Обдумав положение своего пациента, он дал ему совет: если Курт хочет снова начать дышать носом, ему придётся что-то добавить в свою жизнь и одновременно что-нибудь из неё изъять. Скажем, изъять алкоголь и добавить пробежки в лесу, тем более что он живёт поблизости.
И то и другое оказалось Курту не по плечу. И всё-таки кое-каких перемен он добился.
Через пару дней после визита к доктору, вовсе не собираясь бегать, он отправился на прогулку по лесопарку, и сразу из глубины поднялось время, когда ещё дошкольником он гулял здесь с бабушкой.
Парк, запечатавший в себе детство Жени Никольского, был стар и хорош. Вековые липы так незапамятно давно росли в обнимку с фонарями, что окончательно переплелись и стали половинками друг друга. Фонари зацветали в июле и посыпали пыльцой гуляющих граждан, а у лип время от времени перегорали лампочки. Всё детство он заходил в этот парк, как в книжку с картинками. Лёгкий шорох страниц – и ты внутри. Собираешь палки и шишки, мнёшь мать-и-мачеху, срываешь с кустов бутоны листвы и пробуешь городскую природу на вкус. Жуёшь её, расковыриваешь, царапаешь – и она не обижается, потому что ты маленький, тебе надо познавать мир. Потом несёшься к блеснувшей луже, падаешь – и вспученный асфальт дорожки, ободравший твои колени, становится тебе братом, пусть и таким, с которым дерёшься…
Маленький Женя Никольский знал о парке только то, что на виду: аллеи, озеро с лодками, площадки для спортивных игр. Территория как бы состояла для него из швов-дорожек, а непосредственно ткань – лесной массив, где до апреля резвятся лыжники, а по осени бесстрашные пенсионеры разживаются некоторыми видами условно съедобных грибов, – осталась за пределами взгляда.
И вот теперь, двадцать лет спустя, ему открылось, как в действительности велик и таинственен был этот остров. Спасаясь от агрессии города, дух старого лесопарка сотворил «рукава» и «карманы», пещеры и бермудские треугольники, в которые был вхож не всякий. Один из таких секретов и предстояло обнаружить Курту в самое ближайшее время.
Как-то раз он плёлся по лесу с фонографом на плече, не находя вокруг ничего достойного быть записанным, как вдруг различил звук.
Средь бела дня где-то в глубине, за деревьями юный голос напевал народную песню – не из тех, что исполняют титулованные хоры, а иную – честную и шершавую.
Курт сошел с тротуара на размокшую под осенними дождями землю и дослушал пение до конца. После паузы песню сменили команды, отданные мальчишеским голосом, – тренировали собаку.
Уже собравшись уйти, Курт бросил взгляд на свои облепленные мокрой землёй кроссовки и неожиданно разулся. Что это оказалась за благодать – месить босыми ногами не промёрзшую ещё землю. Холод, проникающий в кровь через ступни, произвёл приятный эффект. Нос захлюпал и «прозрел» – запах земли, сродни весеннему, только грустнее, расшевелил память. Прислушиваясь, Курт пошёл по размокшей земле и вскоре оказался возле той самой ветлечебницы, куда захаживал с Кашкой. Обогнул кирпичный кубик спортбазы и увидел то, что искал.
Во дворе перед хлипким домиком ничем не примечательный паренёк в компании мирно прилёгших вокруг собак мастерил что-то из обрезков досок. Заслышав чавкающие шаги, он обернулся и смерил взглядом незваного гостя – в подвёрнутых джинсах и совершенно босого. Кроссовки Курт держал в руке, на «крюках» среднего и указательного пальцев.
– Там вон водопровод, – кивнул мальчишка через плечо, и несколько лохматых зверей, старых и хромых, поддержали его реплику любопытным вилянием хвостов. Ни один не взлаял.
Курт поблагодарил, поочерёдно сунул ноги под ржавый кран у земли и, обувшись, вернулся – знакомиться.
Он не сразу узнал того мальчика, что иногда подходил проверить капельницу Каштанки. За прошедший год паренёк похудел и подрос, выступили кости скул, отросли волосы. Только когда он спросил: «А собаку-то снова не завели?» – Курт вспомнил его. Ну конечно! Те самые глаза! Серых глаз много, но эти были особенные, прозрачные в тёмных ресницах. Озёрная вода!
Курт не стал тогда выяснять, что за песню пел паренёк и откуда взялся у него столь диковинный репертуар. Зато он спросил о собаках и вкратце узнал историю приюта.
Вернувшись домой, Курт открыл фонограф и прослушал сделанную тайком запись. Звук шуршащей под ногами листвы, звонкий со всполохами хрипоты лай собак, голос паренька и собственный живой голос – всё это вдруг показалось ему родным, важным, чудом уцелевшим в железном скрежете мира. Впервые за целую вечность ему стало хорошо на душе.
На следующий день, когда была закончена работа, ему ужасно захотелось снова наведаться в ту глухую часть парка. Он прихватил гостинцев для собак и провёл лучший вечер за последние несколько лет, наблюдая, как Пашка раздаёт лакомство лохматым детям. С той поры не было дня, чтобы он не приходил в лес.
А затем появилась Ася и, даже не заметив, забрала его сердце. Курт смирился с неудачей в любви, и вроде бы легко. Единственное «осложнение» – как-то сам собой в нём пробудился интерес к интернет-историям о самоубийцах всех мастей. Он испытывал жгучее сострадание ко всем этим мученикам, будь то дети, решившие умереть прежде, чем о проступке узнают родители, или звёзды шоу-бизнеса со смесью ядов в крови. В жалости к ним Курт видел последнее проявление своей заглохшей человечности. Приходилось признать: надежды на возрождение оказались пустыми. Не помог ни Саня Спасёнов, ни Пашкин лесной приют.
И вот в череде дурных месяцев произошло событие, равное первому хлопку на весенней реке, когда целостность льда даёт трещину. Ася помахала ему в окно и велела зайти на Масленицу!
В тот день, безрассудно потягивая в ресторанчике вино и слушая на диктофоне Асин голос, он думал: ведь не шутка же это была? Хорошо, пусть она пригласила его из жалости, – он не гордый, от неё и жалость бы принял как дар!
Он думал об этом весь вечер. Шёл по улицам – и видел Асино лицо, сохранённое в памяти. И позже, когда принимал у Софьи машину, и когда, сев за руль, как во сне, погнал по переулкам – всё время думал только о невероятном явлении Аси.
А потом в плывущее по лобовому стеклу кино мечты врезался незапланированный кадр.
Курт почувствовал всем существом глубокий и гулкий удар – тот, что невозможно ни с чем спутать. Он означал итог жизни, переход в иную систему координат, отличную от всего, что было прежде. Прочие шумы – визг выжатых тормозов, щелчок дверцы, собственный голос – были ничтожны по сравнению с тем великим потусторонним звуком. Курт сбил человека – означал он, и это был обрыв троса, за которым уже не существовало ничего – ни мучившей его с детства треклятой совести, ни родных, ни надежды когда-нибудь стать нормальным.
Человек замер на боку, одну руку выбросив за голову. Он лежал так же мёртво, как и полагалось мертвецки пьяному, с одной лишь разницей: из разбитой головы натекло уж порядочно.
Первым делом всколыхнулся детский инстинкт – спрятаться под кровать. Убежать в дальнюю комнату, нырнуть и, свесив покрывало пониже, примолкнуть. Курт мысленно созерцал свой побег, а на деле сидел неподвижно, словно в глубоком трансе, не имея ни воли, ни тонуса в мышцах встать или хотя бы просто пошевелить рукой.
Его разбудила резко распахнувшаяся дверца. Софья с белым лицом, схватив его за плечо, что-то кричала. Наконец он разобрал. «Ты пил что-нибудь? Да или нет? – встряхивала она его. – Отвечай! Говори правду!»
Курту казалось, он ничего не ответил вслух, только подумал, но цепкие руки Софьи тут же дёрнули его прочь из машины и толкнули к тротуару.
– Живо домой, скотина! Я сама была за рулём, по твоей доверенности. А ты дома спал, ясно?
– Почему? – спросил Курт.
– Потому что ты ноль, а не человек! Проваливай!
Курт мельком взглянул в её похожее на бурю лицо, машинально поднял с асфальта зелёную флешку и пошел прочь.
Когда, отдалившись на некоторое расстояние, он обернулся, на холодном перекрёстке вселенной уже начал скапливаться народ. Софья заперлась в машине. А рядом всё в той же позе лежало, а может быть, какой-то вечной своей составляющей уже и воспарило убитое им человеческое существо.
Домой поехал на метро. Сел не в ту сторону, затем не туда перешёл – как будто забыл дорогу. Но сколь угодно запутанные следы не могли изменить случившегося.
* * *
«Вот так… – думал Курт, взглядывая откуда-то сбоку на собственную совершившуюся судьбу. – Жизнь, посаженная в несчастливый день, гнившая и сохнувшая с самой юности, закончилась старым алкоголиком под колёсами. Если бы не дикий тормозной путь и не вино в пиццерии – ещё можно было бы надеяться на продолжение. Но при нынешних обстоятельствах…»
Когда Софья вздумала геройствовать, у Курта и в мыслях не было возразить. Он знал, что не примет наказание от государства. Вот этого – нет, не будет! Только совесть имеет право измываться над ним, больше никто. Но и о том, чтобы за него отдувалась Софья, не могло быть и речи. В её поступке он увидел лишь отсрочку – шанс собраться с мыслями.
Дома он откупорил бутылку недорогого и резкого аргентинского вина и на третьем стаканчике совершил окончательный выбор: написать подробную, оправдывающую Софью записку и закрыть неудачный проект под именем Курт, ну, или Женя Никольский, кому как привычнее.
Он решил снять с себя жизнь спокойно. Кинуть её на стул у кровати, лечь и уснуть. С этой целью уже давно им были сделаны неумышленные приготовления, а именно – припасена пачка медикаментов, отнятая у нервной, страдавшей бессонницей матери. В пылу обид на сына она грозила ему, что пустит таблетки в ход. Курт не был уверен, что способ надёжен, но суетиться и подыскивать что-то ещё уже не было времени. Он принял имеющийся расклад как судьбу и, допив вино, ещё раз оглядел мрак внутри и снаружи. Нет, никаких сантиментов в адрес мира, который собирался оставить, не шевельнулось в нём. Решение было верным. Он дал себе сутки на наведение порядка и раздачу долгов.
Появление в приюте Аси поразило его. Эта светлая девочка пришла в день казни – не для того ли, чтобы отменить приговор? Но нет, она просила помочь сестре, а значит, подписала его. Что ж, так даже лучше – не будет напрасных сомнений.
Выйдя из парка и перейдя дорогу, отделяющую лесной массив от квартала, Курт вошёл во двор, где раньше жила его бабушка, а теперь, вот уже пару лет, – он, её внук. Поднял взгляд к белому небу: бабушка, ау! – и мимолётно подумал: а может, не надо таких уж крутых мер? «Надо, Женька, – ласково отозвалось в мозгу. – Ты духовный банкрот. Вляпался в то самое банкротство, когда стреляются – просто из чувства самосохранения!»
Усмехнувшись парадоксу, он прошёл по двору, отметил, что дама в «пежо» слишком уж яростно вопит на амбала в джипе, занявшем её парковочное место. Открыл электронным ключом подъезд и вдруг осознал: как-то ребячливо, не всерьёз, он относится к задуманному шагу. Как если бы это было кино в записи. Выключил, не досмотрев, – завтра включил опять – устал, спать захотел – снова выключил… Может, так оно и окажется?
Дома Курт вспомнил, что не позвонил матери. Это надо было сделать обязательно, а то ещё начнут разыскивать раньше времени.
– Мам, улетаю в Берлин, на выставку, – сказал он грустно. – По работе, на пару дней, срочно пришлось подменить одного парня. В аэропорту уже, да. Звонить не буду. Долечу – скину эсэмэску! Короче, ты не волнуйся.
Но мама, хотя и привыкла, что сын время от времени куда-то срывался, всё же разнервничалась. «Ни тоски, ни любви, ни обиды», – думал он, выслушивая её смешанные с укорами наставления. Хотел сказать на прощание, что, наверно, не любит её или любит совсем немного, но не стал. Зачем всё портить?
За вчерашний день он успел разобрать почти все свои бумажки и файлы. Не велик архив. Оставалось последнее. Он снял с компьютерного стола монитор, ноутбук и колонки. Мелочь – бумажки, колпачки от ручек, несколько истертых фенечек, которые не носил, по-простому ссыпал в пакет и бросил в мусорное ведро. Стер завалявшейся под столом футболкой пыль и сухие лепестки герани, налетевшие с окна. На расчищенную поверхность положил записку, которая должна была освободить от вины Софью. Он указал в ней, когда и в каком заведении ел пиццу и пил вино и что официанта звали Денисом – он, может быть, вспомнит клиента, которому при оплате счёта не хватило денег на карточке. Написал, что его спутница Софья Спасёнова взяла на себя вину с перепугу – это он, нижеподписавшийся Евгений Никольский, шантажировал её, угрожал дочери.
Вот и всё. На край записки, чтобы не сдуло сквозняком, поставил фонограф.
Ещё пара часов ушла на всякую ерунду вроде заправки стиральной машины и мытья сковородок. Не то чтобы ему хотелось прослыть чистюлей, но хотя бы минимальный порядок навести было надо – всё же будут приходить разные люди. Первыми, скорее всего, заволнуются приютские – Пашка с Наташкой, Саня. Может быть, и зайдут – ведь повесил он им ключи.
Напоследок ему захотелось под душ – смыть стыд и копоть неудавшейся жизни. Но разбираться потом с кучей кудрявых волос! Только высушить эту чащу – уйдёт полчаса. Курт уже не мог ждать. Внутри нарастал бешеный стук, будто кто-то из грудной клетки ломился на волю.
Закончив дела, он отправил матери эсэмэску: «Долетел» – и выключил телефон. Сбегал на кухню за пивом – не водой же смерть запивать! – и, поглядев на приготовленную постель, подумал: вот сейчас он примет лекарство и ляжет, как в детстве, на бочок – спать. Вспомнит что-нибудь хорошее – бабушку, Кашку. Одеяло натянет на уши, и ничего страшного с ним больше уже не произойдёт.
12
После исповеди брату у Софьи полегчало на душе. Возвратившись, она уснула намертво, а когда проснулась, субботнее утро с тучками показалось ей добрым. За окном шуршала капелью, звенела птичьими голосами оттепель. Завтра Масленица, а за ней весна – будет слякоть и свет, головная боль на перемену погоды, надежды и крушения надежд. А разве, Соня, ты мечтала когда-нибудь о гладкой занудной жизни? Нет уж, пусть будут битвы и риск, и героическое безрассудство. Главное – не поддаться унынию!
Завтракая в тихом доме – Ася с Лёшкой повезли собак в приют, а Серафима с хомяком дрыхнут, – Софья обнаружила в почте письмо. Кузен Болеслав, бесценный друг детства и первая любовь, человек, по образу и подобию которого она старалась выстроить себя, прилетал в Москву в понедельник. Пару лет назад основатель европейской сети школ, призванных помогать клиентам достигать успеха в разных жизненных сферах, а также обучать профессиональных коучей, предложил Софье обустроить московский филиал – она взялась и справилась.
Формальным поводом визита Болеслава в Москву была презентация его новой книги, от которой он сперва отказался, но буквально вчера передумал и дал добро. Софье была известна причина перемены решения. В день после аварии она позвонила ему из офиса и наговорила лишнего – о случившейся беде, об отчаянии, о том, что вряд ли ей удастся и дальше курировать деятельность филиала – из тюрьмы это будет неудобно.
Софья не думала, что Болека растрогают её жалобы, и ошиблась. Он ухватился за её признание, как будто только и ждал повода прилететь.
К письму прилагалась фотография: распечатка электронного билета на самолёт, прихваченная знакомой рукой – крой кисти изящный и крепкий, светлый шрам под суставом большого пальца. (Софья лично была свидетельницей тому, как юный Болек неловко махнул топором.) Подлинная рука маэстро Болеслава! Фокус на пункте прибытия – «Москва» и ниже подпись: «Держись! Скоро буду!» – черкнул по экрану. Многие коллеги и подчинённые получали от Болеслава подобные знаки внимания. Это был его стиль. Трогательный, но вовсе не гарантирующий любви к адресату.
Выйдя из подъезда, Софья остановилась и неспешно, с прищуром, словно боясь в один миг растерять надежду, оглядела двор. Нет, Курта не было. И сразу она упала духом. Ей казалось, что теперь, раз уж она взвалила на себя его груз, он должен по законам чести сопровождать её – идти рядом, раздвигая ветки, веселя беседой, давая глотнуть воды. «Ладно, подождём!» – постаралась взбодриться она. Но за целый субботний день от него не было ни звонка, ни эсэмэски.
Софья знала, что Курт бездельник, мечтательный разгильдяй, но не свинья. Иначе не взялась бы его выгораживать. Между делами она продолжала с растерянным сердцем поглядывать – нет ли сообщения? А к ночи о нём явились странные вести. Ася в пижаме пришла на кухню за «снотворным» ромашковым чаем и сказала, что в приюте видела Курта – с «Адажио» Альбинони и шампанским. Он велел передать, что придумал нечто, в результате чего у Сони всё будет хорошо.
Значит, хотя бы вспоминает о ней. Спасибо и на том!
Масленичное воскресенье Софья потратила на дела, которыми нагрузил её Болеслав. Выбирала гостиницу, договаривалась об аренде зала, где пройдёт встреча, размещала новость в Сети. Тысячи подписчиков Студии были мгновенно оповещены о возможности лицезреть гуру в Москве. Посыпались заявки.
Когда, раскидав дела, Софья собралась домой, оказалось, что на улице вечер. «Ну что же, – подумала она, оглядывая улицу в огнях. – Ася, Серафима, Лёшка и бессменный Илья Георгиевич испекли и съели блины, прогулялись потом с толпой весёлого народа по Лаврушинскому к реке. У них – праздник. И теперь в этот праздник, в тёплое счастье семьи явится мама-строгая, расчетливая тётка, убийца безвинного дяди Миши и, как Снежная королева, всех заморозит. Серафима спрячется в Асину комнату, а сестра взглянет серыми глазами, с упрёком: Соня, опять ты прогуляла самое важное!»
Нет, ей нечего делать дома! Придёт, когда все уснут.
На Пятницкой, расстилая по земле платок-паутинку, пошёл снег. Софья отпечатала по белому сотню шагов и, остановившись на перекрёстке, свернула в противоположную от дома сторону. Многолюдье и огни московского вечера развеяли горькие мысли. Она потянула на себя тяжёлую дверь «пироговой» и, погрузившись в душистый воздух, вздрагивая от волн озноба, остановилась перед витриной – что бы взять?
Горячие бруски пирогов всех мастей, похожие на терема с резными наличниками, на летние, полные ягод корзины, зачаровали Софью. Забыв, что семья сыта масленичными блинами, она попросила курник и застопорилась – брать ли ещё и ягодный? И если брать, то брусничный или черничный? Мучилась столько, что улыбка девушки за стойкой сделалась кислой. Совсем ты, Соня, выпала из формы – где твоя резвость, лихость, стремительность речей и решений?
Пока упаковывали пироги, Софья глянула в окно, залепленное сиреневым влажным снегом. Напротив виднелся дом, где двадцать лет назад пекли и продавали пончики. По поводу и без повода они с подружкой забегали туда и брали пакет колечек в липкой пудре. Кажется, и дядя Миша, любимец всех без исключения замоскворецких продавщиц, захаживал развесёлым молодцом в парное тепло заведения. А теперь вот – молодёжное кафе, вайфай…
Меняя руку с коробками пирогов, чтобы от бечевы не затекали пальцы, Софья почти что дошла до дома, когда в кармане загудел телефон. Звонила адвокат Елена Викторовна.
– Софьюшка! – бодро сказала она. – Я твоему владельцу автотранспорта, Никольскому, не могу дозвониться, а он мне нужен! Весь день звоню – недоступен. У тебя домашнего его нету?
– Сейчас скину, – ответила Софья и, отступив на край тротуара, к водостоку, гудящему ветром, остановилась. Снег стучал по коробке, и так же мелко, часто и вразнобой в виске задолбил пульс.
«Так, ну хорошо…» – вслух сказала Софья, чтобы прогнать необъяснимую тревогу. Отвела с лица мокрую прядь волос и вызвала номер Курта. Он и правда был недоступен. Не подошёл и на домашний. Ужас пробрался в грудь и тонко прищемил сердце. «Идиот! – бодрясь, выругалась Софья. – Эгоист безмозглый!» Считая, восстановила дыхание – вдох, выдох – и, закусив губу, позвонила брату. Этот бы хоть подошёл!
– Саня! Ты дома? – сказала она, услышав родной голос. – Умоляю тебя! Беги, пожалуйста, срочно к Курту и звони ему в дверь! Если откроет – перезвони мне сразу. Я еду!
* * *
Не совсем дома был Саня – но это и к лучшему. Будь он дома – ему бы уже не вырваться. За два года он крепко превысил лимит терпения жены. Теперь, чтобы исполнить обещанное, ему приходилось многое умалчивать и отчасти хитрить. Необходимость эта, как любой обман, наложила отпечаток на его слова и поступки. Теперь не всегда он чувствовал себя вправе поглядеть на человека прямо и настоять на собственном мнении, а всё чаще сокрушённо молчал.
Уже очень давно Саня обещал забежать к Николаю Артёмовичу, старику из соседнего дома, посмотреть забарахлившее инвалидное кресло, да и вообще проведать. Нарушенное слово угнетало его. Наконец, по завершении воскресного обеда с блинами и семейного просмотра скучнейшей мелодрамы, он решился и объявил Марусе, что у старика выпал винт из коляски, нужно срочно сбегать поправить, а то человек не может передвигаться.
Косматобровый Николай Артёмович был одним из подопечных, с которыми у Сани сложились приятельские отношения. Его подшефных объединяла общая черта – все они оказались никудышными воспитателями. Их дети, внуки и племянники вспоминали о них значительно реже, чем Саня, а то и не вспоминали совсем – до момента, когда настанет пора вступать в наследство.
После роковой травмы Николай Артёмович некоторое время пытался освоить костыль, но сдался и сел в коляску. А сев, обрадовался облегчению. Больше всего в случившемся Саню убивало, что теперь уже никогда старику не выйти на воздух подышать, не пройтись по знакомой улице «до булочной» – так он звал открытый на месте старинного магазина «хлеб» дешёвый сетевой супермаркет.
Сын давней Саниной пациентки, владелец «оконного» бизнеса, узнав о переживаниях доктора, установил Николаю Артёмовичу в подарок новый балконный блок с широкой дверью и специальным порогом, чтобы проезжала коляска. Теперь всякое утро старик по-королевски выкатывался на балкон и в дыму и всполохах глаукомы различал крыши пятиэтажек и близкий лес. Затем возвращался на кухню и, вызвав номер, докладывал Сане, что погода сегодня сырая, надо одеться, взять зонт.
Николаю Артёмовичу иногда помогали соседи-пенсионеры, из поликлиники приходил врач, но Саня был единственной опорой души. Будучи человеком гордым, «подшефный» постарался устроить так, чтобы доктор Спасёнов не только жертвовал собой, но и сам получал пользу от общения. Николай Артёмович посвящал свои дни прослушиванию радио- и телепрограмм и копил информацию, чтобы в ежедневном звонке сообщить, что пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте, повсеместно начали штрафовать или что в молочных продуктах такого-то завода найдены болезнетворные бактерии.
Краткий – на одну-две минуты – звонок Николая Артёмовича обычно случался утром, по пути на работу. Летя через лес, Саня радостно впитывал бессмысленные новости и заряжался бодростью духа.
Сердечной глубины общения, как с Ильёй Георгиевичем, у Сани с Николаем Артёмовичем не было, но зато было восхищение мужеством человека перед лицом собственной дряхлости и была привязанность, которая возникала у Сани очень легко к старым людям и детям.
Прибежав к Николаю Артёмовичу, Саня сразу же занялся коляской и справился быстро. Когда позвонила Софья, он как раз пытался увернуться от картошки со стопочкой, коими по случаю Масленицы настойчиво и строго угощал его хозяин.
В секунду поняв, чего опасалась Софья, и мгновенным спазмом в солнечном сплетении разделив её страх, Саня ринулся в прихожую.
– Заболел, что ли, кто? – нахмурился Николай Артёмович, выкатываясь следом.
– Да! – срывая с вешалки куртку, ответил Саня. – Заболел. Главное, чтобы жив.
Если бы Саня мог представить, что жена следит за его перемещениями из окон – сперва из южного, затем из восточного, он позвонил бы ей и честно сказал, что задержится ещё ненадолго. Просто нужно проверить, всё ли в порядке с одним несчастным парнем. Да ты его знаешь – Курт!.. Больше того – если бы Саня мог догадаться о степени Марусиной ревности, он поразился бы до слёз и навсегда прекратил враньё. Но ни о чём таком он не догадывался, а потому решил без лишних объяснений добежать через парк до дома Курта, выяснить, что к чему, и сразу вернуться домой.
В тот вечер, стоило мужу выйти за дверь, Маруся кинулась к окну спальни и минуту спустя увидела: пройдя наискосок через двор, Саня зашёл в подъезд, где живёт старик на коляске. Это успокоило её душу. Сохраняя снайперскую концентрацию, Маруся принялась ждать, когда муж выйдет. Это случилось минут через двадцать – она была довольна. И вдруг сердце заколотилось. Вместо того чтобы вернуться дворами, он направился за угол дома. Маруся метнулась к окну на кухне: вылетев из-за домов, супруг пересёк пешеходный проспект и бегом помчался в глубину парка.
Ещё осенью Маруся заподозрила, что собачий приют есть лишь удобное оправдание, которое выдумал муж, чтобы скрыть от неё правду. Марусе было совершенно ясно: ни кучка грязных зверей, ни жалость к патлатому подростку не могли бы столь часто завлекать её Сашу, уважаемого пациентами и коллегами врача, в эту промозглую чащу. Конечно же его притягивало иное. Марусе ещё ни разу не удалось выследить врага, коварное создание, сбившее с толку её супруга, но фантазия при поддержке нетвёрдой логики убеждала её: встречи происходят поблизости, возможно в том изящном особнячке, близ центрального входа, где расположился небольшой фитнес-клуб.
Не замечая нытья заскучавшей дочери, Маруся вернулась в комнату и, упав на постель, уткнулась застывшим взглядом в тёмное пятнышко над кроватью – след от прибитого комара. Так она пролежала минут пять, а затем поднялась и, позвонив мужу, спросила, поддаётся ли коляска починке. «Да в общем не очень, – сбивчиво ответил Саня. Его голос предательски гаснул в порывах лесного ветра. – Ещё немного задержусь, но уже скоро! – И через небольшую паузу: – Марусь, вообще-то я к Жене Никольскому бегу. Что-то там неладно. Ну, прости ты меня! Не обижайся!»
* * *
Моментально забыв семейный конфликт, молясь только о том, чтобы Курт не вздумал избавляться от греха посредством нового, ещё более тяжкого, Саня пересёк парк. На другой стороне шоссе, куда выходила лесная аллея, стояла многоэтажка Курта. Во дворе запрокинул голову: свет в его квартире горел подряд – на кухне и в обеих комнатах.
Он уже вовсю барабанил в дверь, когда из лифта выбежала Софья.
– Не открывает? – Бросила коробки с пирогами на плитку площадки и вжала палец в кнопку звонка.
Саня покачал головой – без толку! – и приник ухом к щели, там, где дверное полотно стыковалось со стенкой.
Воображение открыло ему выстуженную комнату: на диване – логово из одеял и пледов, а внутри норы – слабая, прерывистая волна дыхания.
– Родителей его телефон знаешь? – обернулся он к сестре.
Софья мотнула головой.
– Погоди! Мне ведь Пашка говорил. Сейчас… – спохватился Саня и, потерев ладонью лоб, припомнил: действительно Пашка вчера звонил ему. Сказал, Курт странный, явился с шампанским, дал денег на собак – кажется, выпотрошил всё, что было, и ещё зачем-то в шахматном павильоне оставил свои ключи. Что-то мёл про Берлин. Саня не знал, как вышло, что он забыл об этом звонке. Замотался – пациенты, Марусины слёзы.
Нашарив телефон, он позвонил Пашке. Нужно было скорее добыть ключи.
– Паш, а можно я там слева стёклышко выну, ну, которое побольше, чтобы пролезть? – сказал он, коротко объяснив ситуацию. – Оно же хлипенькое у нас. Я аккуратно, а завтра поправлю! Ну, не гнать же тебя павильон отпирать, а? – И, получив дозволение, сразу же вызвал лифт.
Софью на каблуках, во избежание травм на льдистых тропинках, решено было оставить во дворе. Через некоторое время она услышала доносящееся из леса эхо собачьего лая. Должно быть, это Саня разбойно проник в шахматный домик.
Брат вернулся раньше, чем она ждала. Бежал бегом. Махнул добычей – три ключа на кольце.
Поднимались молча. Только у двери переглянулись и поняли, что заняты общим делом: оба молились Ангелу-хранителю. Бабушка учила их разным молитвам, но почему-то именно к Ангелу дети прониклись особым доверием. В данном случае адресатом был Ангел-хранитель Курта; странно же было, что брат и сестра обращались к нему с просьбой уберечь Курта не теперь и не в будущем, а в прошлом, некоторое время назад. Так, как если бы перед небесными силами жизнь человека лежала единовременным целым и любой отрезок можно было поправить.
Отперев дверь, Саня велел сестре ждать на лестничной площадке, а сам мигом пролетел через прихожую и очутился в комнате. Всё было в точности так, как представилось ему, когда он пытался увидеть сквозь стену – ветер из форточки, на разложенном диване «логово» из одеял. Значит, внутри должна сохраниться жизнь!
Подойдя к постели, он задержал дыхание и тронул холодными с улицы пальцами жилку на шее Курта – вот он, миленький, тикает! Слабоват, но вполне себе есть! Можно сказать, нормальный.
Прикосновение не разбудило спящего. Саня быстро оглядел комнату – нет ли объяснения случившемуся. На столике у дивана горела дурацкая лампа – полоска белого света в металлическом корпусе. У стены на подставке – доска синтезатора, покрытая вековым слоем пыли, и в таком же пыльном футляре гитара. Офисное кресло-вертушка… И, наконец, да! Вот оно!
На компьютерном столе, придавленная корпусом фонографа, трепетала свободным краем записка – белая и чистенькая, с неровно и всё-таки внятно выведенными словами признания. Саня взял её в руки, пробежал и, зажмурившись, словно ударило по глазам, сунул в карман.
Склонился над спящим и крепко, на пике острого чувства, тряхнул за плечи:
– Ну? Как Берлин?
Курт шевельнулся.
– Берлин, говорю, как? Понравилось? – повторил Саня, ощущая, как наваливается отчаяние. Бьёшься-бьёшься, не знаешь, что ещё выдумать, чтобы дверь проклятая не захлопывалась, а этот – сам! Сам!
Курт повернулся на бок, трудоёмко разлепил веки и сразу же понял всё, кроме единственного момента: как вышло, что он оказался жив? Тяжёлая пустота во всём теле не позволила ему решить – хорошо ли это, что он здесь, а не там? Всё равно. Лишь бы отстали и дали ещё поспать. Так ведь нет, не дадут! Пробудившееся сознание сказало Курту, что теперь его будут мучить. Тем более что Саня уже поднял с пола и вертел в руках широкую пластинку таблеток с несколькими пустыми гнёздами.
– И это что, всё? – спросил он, с надеждой взглядывая на Курта. – Всё или не всё?
– А зачем больше? Хватило, чтоб отоспаться… – хрипло и слабо, ещё не владея затёкшим голосом, отозвался Курт.
– Чтоб отоспаться – как раз!
Пока Саня чинил осмотр, слушал пульс и дыхание, больно светил в глаза лампочкой, Курт вспомнил, что пил таблетки медленно, по одной, давясь, царапая горло, ставшее узким от спазмов. Затем ощутил прилив тошноты и, чтобы не сорвать всё мероприятие, был вынужден переждать. Дальше воспоминаний не было.
Измученный манипуляциями и вопросами настырного доктора, он откинулся на подушку и снова задремал. Тем временем Саня вышел на лестницу, где его дожидалась сестра.
– Жив. Надеюсь, что и здоров. Снотворного перебрал, – сказал он и прислонился к стене, охваченный тяжёлой усталостью.
Софья охнула и ветром промчалась в комнату, бросила пироги на стол и в секунду очутилась на коленях у постели.
– Женька, ну как ты? – затормошила она его, чувствуя, что голосом завладевают слёзы. – Ты поправляйся, и всё будет хорошо! Мы всё уладим! Саня, может, ему чего-нибудь принять? – в тревоге обернулась она на вошедшего следом брата. – Ну там энтеросгель, уголь? Или, может, пусть поест? Жень, ты поешь? Хочешь? Есть брусничный пирог! Я прямо никак не могла выбрать – брусничный или черничный?
Курт лежал не шевелясь, не открывая глаз.
– Слушайте, вы как хотите, а я буду! – решила Софья и подошла к столу. – Я зверски хочу есть, сейчас умру! – Сняла бечёвку, крышку и, подчиняясь истерическому приступу голода, оторвала угол от большого брусничного пирога. Промычала: – Вкусно! Не хотите? А зря! – Распаковала вторую коробку и взялась послащёнными брусничной начинкой пальцами за курник. Его оказалось совсем не удобно ломать – он был испечён каравайчиком. Пришлось снять узорчатую верхнюю корочку, так что получился вулкан с обширным жерлом.
Прошла пара минут, прежде чем Софья утолила нервный голод и, прервав пиршество, снова очутилась возле Курта.
– Женька, ты, может, подумал, я ругаю тебя? – заговорила она взволнованно. – Нет! Совсем не ругаю, совершенно! Я, наоборот, жалею тебя, слышишь? Вот как себя жалею – так и тебя, даже больше! – И вдруг, словно утратив разум, принялась часто, крепко гладить его по лбу и по спутанным волосам – словно хотела умаслить их оставшимся на пальцах вареньем.
Курт собрал силы и отстранил руку Софьи.
– Я не понимаю… Как вы можете без разрешения врываться? Это полный бред – то, что вы здесь, – скованно и медленно, всё ещё хрипя, проговорил он. – Лампу погасите. Режет…
Саня погасил лампу – остался верхний свет, люстра, включённая на два плафона, – и, бросив взгляд на Курта, ещё раз перебрал в уме результаты краткого осмотра. Никаких критических повреждений, скорее всего, нет, хотя контролировать сердечную деятельность надо. Затем поглядел на сестру, приникшую щекой к руке смертного грешника, и, что-то грустное поняв о ней, чего не понимал раньше, вывел её из комнаты.
– Поезжай домой. Ты сейчас тут не нужна, – сказал он на лестнице плачущей Софье. – Я потом позвоню тебе.
– Саня, мне очень жалко его!
– Ему вот тоже тебя жалко было, – проговорил Саня, чувствуя, как в кармане шевелится живым существом предсмертная записка Курта, и вдруг взорвался: – Нет, ну ты скажи мне, ну как так можно! Сколько людей за лишний год жизни готовы на всё! На всё! А у этого здоровье, молодость! Откуда такое?
– Чувство вины, – сморкаясь в бумажный платок, сказала Софья.
– Чувство вины! Ну так что же? Терпи, раз виноват! Тащи свой крест! Люди помогут, Бог поможет!
– Саня, у каждого своя картина мира. Болек сказал бы, что вину надо сбросить с пятидесятого этажа и полюбоваться брызгами. И что для тебя почётный крест – то для другого бессмысленная пытка.
– Да нет, я понимаю, – внезапно смирился Саня и приложил ладонь ко лбу. – Я просто всё время упираюсь в вопрос: что сделать, чтобы победила жизнь? Куда всем навалиться, чтобы сдвинуть? И когда рядом человек поступает ровно наоборот, на другую чашу весов… Ладно, – оборвал он сам себя. – Не хочу я «скорую» вызывать, привяжутся. Сам пока послежу. Не должно было ничего с такого количества…
Когда лифт увёз сестру, Саня вернулся в комнату. Глянул на Курта – тот дремал. Посмотрел затем на общипанные Софьей пироги. Вдруг зверски ему захотелось затянуться сигаретой. Саня бросил курить несколько месяцев назад, но пока что окончательного освобождения не наступило. В утешение он жёг теперь на блюдцах маленькие костерки из всякого сора, засохших веточек и цветков домашних растений – чтобы только посмотреть на дым. Он огляделся – что бы тут пожечь у Курта? – и, почувствовав валящую с ног усталость, присел на стул, под весенний ветер из форточки.
Глава третья
13
Если через вмонтированное в кровлю раздвижное окно заглянуть в глубь маленькой авангардной виллы, то внизу, точно под разверзшимся в потолке звёздным небом, можно было увидеть низкую и широкую, в японском стиле, кровать и на ней – довольно хрупко сложенного человека с тёмными волосами, умеренно загорелым лицом и хорошей ссадиной на скуле, спящего не мирным сном.
Обладатель скромного архитектурного чуда на побережье ночевал под звёздами в терапевтических целях. Он поступал так по рецепту своей пожилой и мудрой «экономки» Марии Всеволодовны, именуемой для краткости Марьей, на поверку его единственной жилетки для слёз.
Звёзды кололи спящего, откупоривая протоки, снимая спазмы с души. По мнению Марьи, небесная иглотерапия была куда эффективнее всех до единого психологических методов, в которых её пациент увяз давно и прочно. Уж не в них ли причина произошедшей путаницы?
Тридцатисемилетний страдалец Болеслав вырос на родине отца, в Москве. Учился в Варшавском университете, на родине матери. Первый успех обрёл в странах Восточной Европы и, потрудившись на славу, через несколько лет сбежал от себя на край земли. Именно здесь, в самой западной точке континента, им был куплен небольшой прелестный дом, спускающийся террасами на каменистый берег океана.
Его карьера развивалась гладко. Получив добротное психологическое образование, Болеслав избрал направление и принялся возделывать ниву консультирования. Ему везло, а может, он действительно был талантлив. Успех клиентов мгновенно расцветал в его руках. Его делом стало натаскивать и без того продвинутых персон на ещё более крупный жизненный выигрыш. С целью популяризации своего большей частью компилятивного, однако свежо и весело выстроенного метода Болеслав создал сеть школ и настрочил пяток книг, благо с младых ногтей чувствовал склонность к писательству.
Несметное число нацеленных на успех землян прибегало к его методу и получало искомое. Он учил актёров и архитекторов, политиков, спортсменов и целый океан людей бизнеса тому, как половчее выбить свою судьбу у Бога из рук и распорядиться ею по своему усмотрению. Возможно, он прожил бы великую жизнь и умер счастливым – если бы не «русские сны», которые он изо всех сил старался не подвергать анализу.
Первый из них приснился ему два года назад. Он увидел окрестности маленького волжского городка, где с бабушкой Елизаветой Андреевной и прочими родственниками проводил летние каникулы, пока не уехал из России. Во сне Болек сел в лодку и, проплыв мимо затопленной колокольни, голыми руками поймал… серебряную рыбку!
Проснувшись, он долго не мог вынырнуть из воспоминания. «Приехал наш шляхтич!» – горделиво сообщала бабушка соседу, держа за руку маленького Болека, и каждый год повторяла со вздохом: «Юра-то мой нашёл себе чужую, как будто русских мало! Но с другой стороны, без “этой” не было бы такого ангела, верно? Слава Богу за всё!»
Болек не был ни на похоронах у бабушки, ни на её могиле. В семнадцать лет он принял решение уехать с матерью в Европу, окончательно и бесповоротно отрубив с плеч своё детство. Больше он о нём не вспоминал.
И вот теперь, достигнув цветущего среднего возраста, Болеслав обнаружил у себя приступы тяжёлой ностальгии. Турбина детства засасывала. Он, знавший работу человеческой психики, как толковый автослесарь знает устройство двигателя, глянул «под капот» и не нашёл сколько-нибудь значительной проблемы. Никаких тревожащих точек – один свет. Прошлое было прекрасно! Любовь бабушки к нему, его собственная влюблённость в кузину Софью, запах реки, запах нагретой солнцем дорожной пыли, голубые и зелёные блики, счастье. Но если раньше всё это благолепие спокойно хранилось в витрине памяти, то теперь ему страстно хотелось разбить стекло.
В тот же день он связался с почти утерянными из виду родственниками, а именно с кузиной Софьей, и наткнулся на счастливое совпадение. Её «портфолио» оказалось вполне подходящим для его целей. Вскоре при Сонином вдохновенном участии в Москве был открыт филиал Студии коучинга. С той поры у Болека появился повод часто бывать в России. Родина сделалась ближе, но тоска не унялась и за несколько быстротечных месяцев приняла опасные формы. Он вынужден был признать, что ему надоело быть «тренером успеха». Система, принёсшая деньги и славу, обросшая богатой коллекцией счастливых историй, начинала казаться ему мошенничеством.
Болек прописал себе отпуск и, впервые в жизни отменив цикл семинаров, примчался в своё убежище на океан. Тщетно попробовал отоспаться и на следующий день, заняв позицию наблюдателя, оценил положение. Итак, у него было дело жизни – помогать стяжателям, уважать беспринципных, вдохновлять «акул». Люди другого типа редко рвались к успеху столь отчаянно. В личном секторе – супруга и сын, с которыми уже давно не жил вместе, впрочем стараясь не афишировать этот факт. В остальном – утомлённость, почти бесчувствие, пугающее отсутствие живых движений сердца. И на фоне сплошной ледяной корки – аленький цветочек детства.
Болек знал миллион одобренных наукой методов эффективного избавления от тоски и отчуждения, но даже не подумал прибегнуть к ним. Ему хотелось спуститься на самое дно бессмыслицы и поглядеть, не откроется ли там тропинка к новой вершине.
Проснувшись в тот день, он сел на кровати и поднял глаза к окну в потолке. «Доброе утро, Болеслав!» – сказало ясное небо, по которому зримо носился ветер. Океан сошёл с ума. Он выл, как сосновый бор в непогоду. Болек подобрал одеяло, сброшенное в ночных метаниях, и, укутавшись, припомнил содержание ночного кошмара.
На этот раз «русский сон» забросил Болека в зиму. Его везли в похожих на кровать санях по пространству сплошной белизны. Окрест раскинулся беспредельный славянский снег. Вокруг пронизывающе ветрено, но у Болека есть одеяло. Закутавшись в него, он доверчиво принимает поездку, хотя и не знает маршрута – как в самом раннем детстве.
Сладкое чувство преданности воле старших, когда можно ничего не решать, осталось с ним на какое-то время. Он встал, босиком вышел из спальни и посмотрел вниз. Взгляду открылись два соединённых деревянным пандусом этажа, рабочий и ниже – обеденный. Ещё ниже – вечнозелёный сад, и правее сада – беснующаяся синева. Глядя на смешанные со скалами волны, Болек почувствовал накат головокружения. Здесь, на краю Европы, всё немножко двоилось, немножко смещалось с оси. Сушу, подхватываемую океаном, качало, как палубу.
Весенний ветер, налитый солнцем, свободно гулял по распахнутому дому. Марья, мелькнув далеко внизу, в зоне столовой, помахала Болеку сухонькой ручкой и промчалась во внутренний двор.
Семидесятилетняя Марья, русская эмигрантка, сохранив юношескую живость души и тела, резво управлялась с хозяйством, а заодно руководила работником – собственным мужем Луишем, выполнявшим обязанности садовника. Управлялась она и с самим владельцем дома, придирой и неженкой, да ещё, как говорят, гением науки о человеке. Ерунда!
Что касается Болека, порой ему казалось: Марья заменяет ему оставшуюся в Варшаве чужую, как альфа Центавра, мать.
Через пять минут он был приглашён на завтрак. Спустился помятый, с глубоко залёгшей между бровями складкой. Чуть не грохнулся, поскользнувшись на свежевымытом пандусе, и поскорее спасся в плетёном кресле.
Марья принесла завтрак и бегло оглядела «сынка»: хороший темноглазый мальчик, два дня назад слетел с велосипеда, разодрал скулу, дурачок. Удачливый – и всё-таки не свинья. Добрый! Не раз она растолковывала ему, что его профессия – игра. Одна из множества игр наподобие настольных, со своими карточками и фишками. Не стоит сокрушаться всерьёз, если вдруг она ему разонравилась… Всё это он знал и без неё.
– Что, сынок? Как ты спал? – спросила она со своим обыкновенным радушием, как если бы являлась не прислугой, а крёстной-волшебницей, призванной исполнять желания дитяти.
– Сядь со мной! – попросил Болек.
Марья послушно и весело подсела к столу, позволяя хозяину себя обслужить. Руки вытерла о передник.
– О нет! Эту ерунду мне не лей! Мне кофе! – напомнила она, когда Болек попытался плеснуть ей в чашку травяной чай.
Грохот океана мешал говорить. Болек поднялся и сомкнул стеклянные двери. Вернулся на место и молчал с минуту, отглатывая из чашки зеленоватую воду.
– Мне плохо! – наконец сказал он и рассмеялся – так нелепо звучали эти слова из его уст. – Думал, достиг просветления, а похоже, просто наелся мыла и пускал пузыри.
– Сынок, ушам не верю! Ты же мастер – примени к себе какой-нибудь метод! – сказала Марья, но Болек не распознал насмешки.
– Я хочу вытряхнуть из головы все «методы», – возразил он, ковыряя омлет. – Хочу отмыться до трёхлетнего возраста, до белизны.
– Ох-ох! – не отступала Марья. – Как же мы будем без «методов»? Когда я побила Луиша – вспомни, как ты учил меня сортировать эмоции!
Болек поморщился.
– Вот что, сынок! Поезжай-ка с Луишем ловить рыбу!
– Не хочу. Что мне даст ещё одно убитое утро?
Марья внушительно посмотрела в глаза «сынка» и вынесла вердикт:
– Надо пустить тебе кровь!
– Думаешь, уже пора?
– Кровь души, моя жемчужина! – уточнила Марья. – Тебе полегчает. У тебя тяжёлая закупорка любви. Ты, конечно, любишь своего сына и любишь нас с Луишем – но примерно с той же силой, что и вон тот диван. Ты ведь не умрёшь без дивана? И тем более не умрёшь за диван!
– А тебе обязательно надо, чтоб умер?
– Непременно! – сказала Марья твёрдо. – Если мужчине не за что умереть – я и не погляжу на такого! Милый, у тебя даже нет родины! За кого ты пойдёшь воевать? Бедный сынок!
– Но ведь и у тебя нет родины! – напомнил Болек.
– Вот неправда! У меня Луиш! Где он – там и родина.
Болеку захотелось взять сухую ручку Марьи, прижаться к ней лбом. Но его экономка не любила сантиментов.
– Ладно! Пойду поищу, чем пустить кровь! – сказал он со вздохом и, поднявшись из-за стола, боднул увитую лианой колонну.
– Иди с Богом! Поглядим, на что ты напорешься! Постарайся, чтобы было острое, но не ржавое и не гнилое! – велела Марья и принялась собирать чашки.
Начавшаяся недавно весна, небывало тёплая даже по местным меркам, хороша была ещё и тем, что позволяла прокатиться до города без ветровки. Болек вывез из-под оплетённого вьюном навеса велосипед, поднял пультом решётку ограды и взял курс на шоссе. Океан бил в грудь золотым ветром.
Через час взмокший до ручьёв гонщик припарковал велосипед, купил в первой встречной лавчонке майку и, переодевшись на ходу, отправился прогулочным шагом вверх по узкой, завешенной цветами и сохнущим бельём улочке.
Когда он поднялся достаточно высоко, показалась площадка с видом на порт и его любимая кряжистая сосна. Больше всего в этом городе Болек любил деревья. Местные платаны и сосны – редкие, отдельно растущие – напоминали ему себя. Он был так же отдельнорастущ и своеобразен. Сев на лавочку под сосной, затылком к шершавой коре, Болек поглядел на лазурные блики в бухте. Ну и чем займёшься теперь? Станешь валять дурака и щёлкать виды? Модный коуч ведёт модный блог о путешествиях! Тоже дело.
Он полюбовался ещё немного на мерцающую под солнцем колыбель бухты и соседней улочкой двинулся вниз. Там, ближе к порту, было людно и яснее проступал вкус местной «сборной солянки» – пряной смеси Европы, Востока и Африки. На площади ожившее надгробие Моцарта протянуло ему ладонь.
Болек привык к подобным аттракционам. Ко многому он привык и научился отделять себя от улицы, шагать в толпе, не допуская взаимопроникновения. Но сегодня по спине пробежали мурашки – он почувствовал, как под солнцем прикипает к телу актёра костюм и плавится грим. Бедняга, каково тебе будет в июле? Болек отвернулся и побыстрее прошёл мимо – к центральной площади. Оттуда давно уже доносился ухающий подобно прибою гул толпы.
Он не любил эту площадь – торжественную и одновременно жалкую. Сиротский вид ей придавали высаженные по периметру безлистые деревца. Их тощие ноги были погружены в островки земли, остальное пространство закрывала мелкая плитка, создающая на солнце эффект морской качки.
В прежние века на площади случались гильотины, а теперь разместился аттракцион. На подъёмном кране был закреплен эластичный канат, готовый подбросить в небо всех желающих. Под вой толпы «тарзанка» взлетала. Болек вышел на площадь как раз в тот миг, когда вздёргивали очередного добровольца. Похоже, человечек, болтавшийся на канате, лишился чувств.
Подчинившись неясному импульсу, Болек стал пробираться через кольцо зевак и успел как раз к моменту, когда горе-джампер был спущен на землю.
Девушка оказалась жива и в сознании, только от лица совсем отхлынула кровь. Она сделала несколько нетвёрдых шагов по плиточным волнам площади и ткнулась взглядом в Болека. В изумлении он почувствовал – перед ним была его сестра Сонька, продрогшая в июньской речной воде, – только не нынешняя, лет двадцать назад.
Конечно, этот дохлый мотылёк, почти подросток, был совсем другим человеком. Но что-то родственное – в серых ли глазах? – потрясло его.
В следующий миг, выругавшись на несомненном русском, «мотылёк» метнулся под дерево и упал на скудный квадрат земли. Его било и выворачивало – всеми несчастьями, краем света, вселенской бесприютностью человека. Болек смотрел на скрюченную фигурку, и чужая дрожь беспрепятственно лилась в душу.
– Мне холодно, – проговорила девушка сквозь лязгающие зубы, когда к ней подошёл врач из дежурившей поблизости медицинской машины.
Чужие улицы с балкончиками и «аутентичным» бельём на верёвках мелькнули и выплеснулись в открывшийся с высоты порт. Болек бежал к велостоянке, и землю под ногами качало, как шлюпку. Та девушка высказалась за него сполна. Вот именно, холодно! – несмотря на текущий ручьями пот. Сердце мёрзнет всюду, куда ни спрячься. В Париже холодно! В Севилье холодно! В Лиссабоне мороз! Тепло только в летнем детстве на Волге. Как вышло, что нет любви? Хорошо, что бабушка Елизавета Андреевна не знает, в кого превратился её обожаемый внук!
Уже недалеко от дома, отжимая избыток эмоций в педали, Болек принял телефонный звонок. Ирония судьбы была великолепна: звонила Софья. Через минуту разговора Болек знал, что она сбила человека на превышенной скорости, что её ждет суд, а следовательно, она вряд ли сможет и дальше заниматься филиалом. Нужно подыскать кого-нибудь ей на смену.
– Да плевать на филиал! Я сейчас к тебе вылетаю! – объявил Болек и, в тот же миг наехав на камень, грохнулся.
Это было уже слишком! Второе крушение за неделю, притом что он всегда считал себя ловким. В прошлый раз стесал о камень скулу, а теперь ухитрился налететь грудью на руль. Дыхание встало. Ему показалось, что он проткнул сердце. Отлежавшись, Болек поднялся и в ошеломлении оглядел себя. Майка на груди порвана о рычаг тормоза, ссажена ладонь – больше никаких повреждений.
– Болек, сынок! Знаешь, что я скажу тебе? Тебе надо пропить таблетки для мозгов, которые ты выписывал Луишу! – покачала головой Марья, рассмотрев его раны. – Разве я про такую тебе говорила кровь? Хотя ладно, может, и эта сойдёт! – прибавила она, заметив небывалое оживление на лице своего любимца. – Луиш! – позвала она мужа, корявого и прочного, как сосна, старика. – Принеси мальчику молока – глянь-ка, он чуть живой! Я велела ему открыть сердце, а он решил распороть грудную клетку!
Болек выпил стаканчик вина, преподнесённый ему вместо молока упрямым Луишем, и вскоре блуждавшая в уме фантазия оформилась в ясный образ. Ему захотелось взять топор и прорубить в собственной лодке течь – просто чтобы прервать комфортное плавание. К сожалению, его карьера была скорее океанским лайнером, чем лодкой. Да и персонала на нём не один десяток. Что, всех топить?
В сомнении, ещё не понимая творящегося, он решил послушаться интуиции и занялся поиском авиарейса. Прямых на Москву не оказалось. Пришлось выбирать среди десятка стыковочных. Фото электронного билета вкупе со списком срочных дел отправил Софье и на этом вздохнул с облегчением.
«А может, заодно мотнёмся в детство?» – подумал он, проглядывая своё расписание и соображая: куда между плотно сбитыми мероприятиями можно будет втиснуть волжский городок?
14
Болек летел дурацким рейсом с пересадкой в Мадриде, к тому же и задержавшимся. Голова трещала, но таблетку решил не пить. Расслабился и лёг в дрейф на поверхности прозрачного сна, подобно тому как дрейфует усталый пловец, перевернувшись на спину. Ему привиделся травяной чай, солнечно-жёлтый в белом фарфоре. Поначалу Болек с любопытством разглядывал его цвет, стараясь уловить дух луговой ромашки, а затем сновидение вышло из-под контроля. Память выплеснула панамку, за ней – детскую сандалию с жёстким, ох, слишком жёстким ремешком, и что-то ещё, мелькнувшее рябью, – след резиночки от голубых носков на младенчески пухлой щиколотке! Детство невыносимой глубины волной поднялось из чашки и накрыло его с головой. Болек почувствовал, что не может дышать, и проснулся.
Самолёт потряхивало. Щурясь, он глянул в иллюминатор и увидел над побережьем чудо природы – радугу на триста шестьдесят градусов, многоцветный мыльный пузырь. Снова закрыл глаза и откинулся в кресле. Возможно, его подспудно тяготили отменённые семинары или подействовал утомительный перелёт, – вчерашний кураж сменился плотной, без просвета, подавленностью. Она была похожа на атаку вируса гриппа, когда вдруг начинает крениться сознание. И опять он не стал прибегать к «методам». Ещё шаг по тропинке вниз – отлично!
Именно о гриппе или ином вирусе подумала и Софья, когда наконец отыскала Болека в суете аэропорта. Она привыкла опознавать кузена в толпе чутьём – по солнечному концентрату силы, скрытому за его элегантной, отчасти хрупкой внешностью. Но теперь, столкнувшись лоб в лоб, едва узнала. Зеленовато-карие, густые, как щавелевый суп, глаза Болека выключенно упёрлись в её лицо. Нет мерцающего волшебства – глухое болото. Пустым был голос, произнёсший приветствие. Даже щека, которой коснулась губами Софья, показалась ей пластиковой. Всё это значило – нет надежды. Не выручит, не сотворит чудо, не спасёт.
С упавшим сердцем Софья сама выловила на конвейере его обёрнутый плёнкой щегольской чемодан. Односложно переговариваясь, взяли такси и молча приехали в гостиницу. Вопреки вчерашней телефонной договоренности, заселять раньше двух отказались. Разрешили только оставить багаж.
Остановившись у дверей отеля, Болек оглядел улицу – какая сторона света примет его? Подумал и укрылся от ветра, подняв воротник пальто. Город, в котором вырос, затекал в сердце сырой бензинной взвесью, гулом, необъяснимым страданием. Как будто что-то бесценное, что Болек оставил здесь, украли, пока он отсутствовал.
– Пойдём погуляем! – сказала Софья, встревоженно погладив его по рукаву. – Хоть после самолёта подышишь!
Однако Болек не пожелал гулять. Пройдясь по улице метров двадцать, он потянул тугую дверь кофейни. Солнечный угол с диванчиком был свободен. Именно здесь ему захотелось убить оставшиеся до заселения часы.
Никогда ещё на Софьиной памяти её кузен не выглядел таким утомлённым, если не сказать подавленным. С тревогой она наблюдала, как он смотрит на светлеющую в прогале домов набережную, а затем грустно объясняет официантке, принёсшей минералку, что вода в пластиковой бутылке не годится – нужна в стекле.
– Но ведь чай мы всё равно завариваем из пластика! – отчаянно проговорила девушка.
Болек улыбнулся без сил:
– Да. Вы правы. Оставьте… – и, подняв бутылочку высоко над стаканом, устроил маленький водопад. Звон воды по дну и стенкам бокала и подожжённые солнцем брызги немного встряхнули его. Последние капли Болек плеснул на ладонь и промокнул лоб.
– Соня, прости меня! – сказал он. – Давай с самого начала: что у тебя стряслось?
– Нет! Это ты прости! – горячо отозвалась Софья. – Я тебя нагрузила жалобами, сбила с планов! Даже не хочу об этом говорить! Если будет необходимо – обращусь к тебе, но пока – нет. Давай лучше о делах!
Болек вздохнул:
– О делах… Нет, о делах не будем. Если не хочешь о себе, расскажи хотя бы о семье. Как там Саня? Всё в своей поликлинике?
Софья заволновалась, почувствовав, как к щекам приливает румянец. За последние два года Болек несколько раз бывал в Москве, но всегда отклонял её приглашения в гости. Много лет он не видел Асю и Саню, а Серафиму и вовсе ни разу. Да что там не видел, – даже не спрашивал! Скрепя сердце Софья признала его право не обременять себя дальними родственниками. И теперь вдруг – «расскажи о семье»! Конечно, надо было поддержать светскую беседу и наболтать чего-нибудь нейтрального – про Асину живопись и Серафимин садик, но Софья не смогла.
– Болек, зачем тебе? – спросила она. – Разве тебе интересно?
– Зачем мне… – повторил Болек, словно и сам был удивлён. – Мне кажется, Соня, я взобрался на ледяную вершину. Здесь никого нет, и я уже очень хочу обратно. Снимите меня! – Он слегка улыбнулся и взглянул на ошеломлённую сестру. – Понимаешь, я видел джампера… девушку, ей было плохо, и мне показалось… Ладно, – вдруг оборвал он. – Лучше скажи, как там Ася? Я её помню, когда ей было лет шесть.
– Ася рисует, довольно миленько. Вышла замуж, уже и сама не понимает зачем, – сказала Софья. – Саня тоже хорош – женился на ревнивой курице. Она ему теперь мешает спасать мир. Всё не так, как было при бабушке, ты будешь разочарован. Единственное, что сохранилось, – это то, что мы втроём очень дружно… Понимаешь, мы как бы одно существо. Может, поэтому ни у кого по отдельности и не складывается.
Через полчаса увлечённые беседой Болек и Софья спонтанно перешли от напитков к ланчу. К этому времени они успели поговорить о Серафиме, об огородных успехах родителей и, наконец, об аварии, по трагическим итогам которой Софье предстояло платить. А затем неожиданно, во всяком случае для Болека, разговор перепрыгнул на Софьиного приятеля Женю Никольского.
– Ты понимаешь, добрый парень, но какой-то покалеченный, совсем без воли, – объясняла она. – Писал музыку, Саня говорит, самобытную, – не нашлось применения. Начал шляться, что-то там теперь записывает на диктофон – типа голос времени. Работает плохо, халтурит. Попивает винишко. Хотя симпатичный в целом человек. А тут на днях возникла проблема, я не знаю точно какая, он не сказал… – и, представляешь, наелся таблеток. Какое-то странное количество, маловато для серьёзных последствий. Болек, может, пообщаешься с ним? Я знаю, ты не занимаешься такими случаями. Но, может, в виде исключения? Надо просто его пнуть – чтобы зажил. Дать импульс!
– Я действительно не занимаюсь такими случаями, – твёрдо сказал Болек. – Найди ему экзистенциального психолога, тут налицо утрата смысла. Пусть разбираются.
– Я предлагала – отказался наотрез, – качнула головой Софья. – Болек, но ведь речь не о занятиях! Тебе бы с ним просто поговорить, как опытному человеку. Ты же много всего такого видел!
– Соня, это совершенно исключено! – сдерживая досаду, повторил Болек.
– На тебе не будет никакой профессиональной ответственности! Просто скажи два слова! – не уступала Софья. – Может, он после этих слов жить захочет. Ну а нет – так нет!
Болек вздохнул:
– Соня, какие ещё два слова? Ты ведь понимаешь, что это несерьёзно? Такими вещами не шутят.
– Очень тебя прошу! Помоги ему для меня! – взмолилась Софья и осеклась, почувствовав, что перешла черту.
– Помочь ему для тебя… – след в след повторил Болек и подвесил реплику в воздухе.
Ещё долго потом Софье было стыдно вспомнить, как этим ненароком сорвавшимся «помоги для меня» она высказала Болеку претензии на особое отношение. Наивная – повелась на сентиментальное настроение утомлённого перелётом босса. Знай своё место! Ты просто наёмный работник.
Но тогда она всё-таки не сдалась и пошла на хитрость.
– Им ведь и Саня занимался, но без толку, – сказала она, припоминая подростковое соперничество братьев.
– Что значит «занимался»? – уточнил Болек и с любопытством выслушал подробности про насморк и попытки терапевта Спасёнова дотянуть безвольного разгильдяя до высоты собственной души.
Троюродный брат Саня был важен Болеку как часть тех лет, когда в их детской вселенной ещё не существовало ни Европы, ни коучинга, а была только Волга в июльский день. По утрам туманы пахнут сосновой смолой. Днём от катеров – весёлые волны, их полагается встретить грудью. К вечеру – простокваша на корках бородинского хлеба, а поутру – вчерашние блины. В том раю прирождённый альтруист Саня и столь же подлинный эгоцентрик Болек схлёстывались по самым разнообразным поводам. При всём при том именно Саня, единственный из всех Спасёновых, удручённо принявших новость об отъезде Болека в Европу, страстно восстал против его эмиграции. Уговаривал, пугал, обзывал предателем, плакал.
– Соня, – подперев голову кулаком, сказал Болек. – Давай поступим так. Я поговорю с вашим молодым человеком. А ты за это пригласишь меня в гости – на чай в семейном кругу. И чтобы все были!
Софья, оторопев на миг, пропустила сквозь гребень пальцев чёрные струи волос.
– Или это неудобно? – уточнил заморский родственник.
– Господи! Почему же неудобно? Удобно! Великолепно! – вскричала она и, порывисто пересев к Болеку на диванчик, обняла его. – Я так рада тебе! И все будут рады! Все! Даже не сомневайся!
15
Курт продремал ещё сутки прозрачной дрёмой, холодной и хрупкой, как первый снег. Ему снилось, как этот самый мелкий крупитчатый снег проникает с улицы в комнату и посыпает его. Сквозь полусон изредка проступала действительность. Звонила мама, выяснить, каким рейсом он «прилетает из Берлина». Затем снова явился Саня, поднял с пола одеяло и, укрыв больного, наполнил дом огромным количеством назойливых звуков – шорохом пакетов с едой, звоном воды, упрямыми расспросами. Пользуясь безволием Курта, он мучил его, обжигал прикосновениями фонендоскопа и, самое жестокое, заставлял поесть, угрожая страшными карами, ни одна из которых не могла напугать безразличного ко всему больного. Не имея сил сопротивляться, Курт съел глазунью с кружочками огурца и ломоть багета, засыпавший всё его лежбище хрустящей крошкой. Плохо, что всё это, даже свежий, тёплый хлеб, ничем не пахло и казалось на редкость невкусным.
И всё-таки еда подействовала на него животворно. Подремав после принудительного ужина, Курт проснулся ещё тёмным утром, в начале пятого, и осознал, что вернулся. Бесчувствие отступило – грудь занял привычный мрак. Самое плохое, он почти ничего не помнил – одни обрывки, чёрно-белые клочья. Вроде бы он сбил человека. Нет, это неправда… Гадкий сон.
Последним ясным воспоминанием прошлого была Ася. На секунду – где-то далеко-далеко, не здесь – он почувствовал радость. Как будто существовала параллельная жизнь, совсем по-другому сложившаяся, из которой быстрым отблеском к нему долетела весть.
В маете прошла оранжевая заря и утро. Жизнь, гордая тем, что её не удалось отменить, встала перед Куртом, уперев кулаки в бока, и напомнила про отложенные долги. До полудня он старался отворачиваться от неё к стенке, а к обеду подумал, что надо бы купить маме какой-нибудь сувенир «из Берлина». Иначе не миновать упрёков и слёз.
Он покорно собрался, и, когда, одетый к прогулке, с высушенными и умотанными в хвост волосами, уже стоял на пороге, не решаясь вывалиться в мартовский холод и свет, ему позвонила Софья. Она требовала, чтобы он немедленно приехал к ней в офис для беседы с человеком, который ему поможет.
Курт смутно припомнил: в полусне, кажется, вчера по телефону, он сказал Софье, что не будет общаться ни с какими «специалистами». Нет. Исключено. Окончательно.
– Соня, перестань со мной возиться. Я не поеду, – устало подтвердил он свой вчерашний отказ.
– Хорошо! Тогда просто спустись в ресторанчик у твоего дома! Ну, где мы были зимой, помнишь? Я не отстану! – твёрдо сказала Софья, и Курт как-то разом понял: ему нечего противопоставить её энергии. Тем более что упомянутое Софьей заведение предоставляло возможность хотя бы на время получить облегчение от мук.
Он подумал: ладно. В конце концов, на карточку ему как раз упала малая денежка за недавний проект – можно её пропить.
Войдя в маленький уютный зал кафе, Курт сразу узнал Софьиного родственника. Во-первых, он видел фото на её аккаунтах, а во-вторых, Болеслав оказался похож на сестру – не чертами, но энергичной теплотой мимики и интонации, с какой на глазах у Курта обратился к официанту. Должно быть, Софья переняла его манеру.
Увидев вошедшего, Болеслав махнул ему рукой и, неуловимо переменив позу и выражение лица, дал почувствовать, что Курт для него не посторонний – скорее хороший знакомый, которого он искренне рад повидать. В подтверждение этой несуществующей близости он не встал из-за столика – к чему формальности? – а лишь немного приподнялся и протянул руку.
– Женя? Очень приятно! Присаживайтесь! О! А вот и чай!
Официант бережно, как большие белые лилии, опустил на стол фарфоровый чайник и две чашки.
– Любимый Сонькин «пуэр»! Бодрит! Вы со мной? Или чего-нибудь другого?
– Да нет, очень хорошо… – слегка запнувшись, ответил Курт и, подвинув кресло, сел на краешек. Ладонями привычно обхватил локти.
Пока он располагался, выражение лица коуча переменилось. Исчезла энергия, вместо неё Курт заметил родственное свечение грусти.
– Женя, а почему Курт?
– А… Это из школы ещё…
– Ясно. Ну, наверно, давайте пока вы будете Женя, а я – Болеслав. Софья сказала, вы специалист по звуку. Работали даже на радио. Это верно?
Курт пожал плечами:
– Давно… Ещё в институте.
– Знаете, у меня к вам просьба неожиданная. Может, вы смогли бы коротенечко проконсультировать меня по звукооператорскому сленгу? Прямо сейчас!
Курт изумлённо взглянул на Софьиного родственника. Тот улыбнулся с грустью и объяснил:
– Один мой клиент сейчас погружён в эту тему, мне приходится быть в курсе. У него своя студия звукозаписи – в качестве хобби. Вот смотрите, что я тут успел насобирать из его перлов… – И Болек глянул в планшет. – Вот… Песок, бритва… Ну, вермишель, это понятно.
– Бритва – это когда середина неприятно так выдаётся… Ещё «мясо» бывает – это плотные низкие частоты, – взялся припоминать Курт и вдруг застопорился. – А вообще, это бред. Всё нормальным языком можно сказать… – качнул он головой и крепче обхватил локти ладонями. Этот жест холода и страдания был совершён им непроизвольно, он отследил его, как и свою нелюбезность, и исправился. – Нет, я, конечно, могу ещё вспомнить. Только всё это могло устареть. Ну, например, понизить частоту, соответственно, – «завал». Грязный звук – «сопли»… Это то, что вы спрашивали? Или, может…
– Как раз то, что нужно, спасибо! – заверил его Болеслав.
За минуту разговора на случайную тему он вполне оценил состояние клиента и понял, что согласился на встречу зря. Молодой человек обесточен и не готов к работе. «Два слова» здесь не помогут. Нужны регулярные сеансы, скорее всего, придётся поддержать и медикаментозно. Пусть Сонька найдёт ему толкового врача. Вот всё, что он может посоветовать.
Подумав так, Болек ещё раз взглянул на Курта и ощутил внезапное шевеление в груди – верный признак того, что ситуация несёт в себе больше, чем показалось сперва.
– Вот что, Женя… – помолчав, заговорил он. – Вы, пожалуйста, простите меня за нелепое начало нашего знакомства. Соня попросила что-нибудь полезное вам сказать. Но я не вижу в этом смысла.
– Не видите смысла? – переспросил Курт.
– Никакого.
– Тогда зачем… – запнувшись, проговорил Курт и не смог закончить, потому что Болеслав вышиб у него мысль, как мяч.
– Я вообще не вижу смысла в своей работе, и вы тут ни при чём! – объявил он. – Я не хотел браться за ваш вопрос, потому что сам нуждаюсь в ремонте, и честно сказал об этом Софье. Сотрудничать с неисправным специалистом – всё равно что эксплуатировать неисправный электроприбор. Коротнуть может. Понимаете? Единственное, что я могу для вас сделать, – просто поговорить, как случайный знакомый со случайным знакомым. Безо всякой профессиональной ответственности. Безо всякой попытки найти выход. Просто как убитый с убитым. Хотите?
– Хочу! – совершенно растерявшись и одновременно испытав облегчение, сказал Курт и тут же полюбопытствовал: – А почему вы не видите смысла в своей работе?
– Переливание из пустого в порожнее, – качнул головой Болеслав. – Я не имею в виду психотерапию – этим давно не занимаюсь. Я о тренингах успеха. Чья-то удача слишком часто приходит за счёт провала другого. Много моих клиентов сожрало своих противников в самых разных областях жизни, и некоторые из этих сожранных впоследствии тоже стали моими клиентами. Нет, никто никого не призывает к дурному! Напротив, мы вдохновенно придумываем, кто ещё выиграет от наших деяний. Получается убедительно. Но на деле это то самое вранье, за которым следует потеря смысла.
Курт озадаченно выслушал признание. На последних словах его прострелила мысль: а вдруг этот Сонькин «нуждающийся в ремонте» коуч вернётся сегодня в гостиницу и под гнётом своих преступлений тоже сделает что-нибудь страшное?
– Я могу вам чем-то помочь? – участливо спросил он.
Болек вздохнул: речь возымела успех. Ему даже было немного стыдно. А хотя… разве он сказал неправду?
Он подался вперёд и подтвердил:
– Давайте считать, что да!
А затем пошёл простой разговор, необыкновенный лишь тем, что у Курта возникла иллюзия, будто он говорит с самим собой, точнее, со своей лучшей, справедливой и любящей частью.
– В юности я слышал музыку, а теперь только гул, шум. Мир шумит очень жёстко! Просто бьёт по ушам железом! – жаловался он, морщась.
– А можешь сказать, когда в первый раз музыка стала шумом? Что произошло накануне? – решительно переходя на «ты», спросил Болек, и его глаза снова стали тёмными, наполненными энергией, много превосходящей возможности его визави.
– Что произошло… – попытался припомнить Курт. Умерла бабушка. Нет, сперва умерла Кашка. Да, вот это верно… Что ещё? Он встретил Асю и отказался от неё. Это из относительно недавнего. А раньше? Раньше, в институте, всё было хорошо. Песни появлялись из ниоткуда и, смеясь, водили вокруг него хоровод, пока вдруг однажды что-то не сломалось. Звук мира помутнел, мелодии стали рождаться мёртвыми – они вспыхивали на миг и сухо падали на стол – как мотыльки, сгоревшие в плафоне люстры. Курт понял, что в атмосфере Москвы больше нет кислорода для музыки, и пошёл записывать шум.
– Что ты чувствуешь, когда вспоминаешь об этом? – спросил Болек мягко и всё же настойчиво.
– Не знаю, – качнул головой Курт. – Бессилие. Невозможность помочь… Может, у меня сбилась настройка. Или там у них что-то разладилось. – И бросил взгляд на потолок.
– Бессилие. Невозможность помочь. Хорошо. А что случилось на самом деле? – эхом, как сокрытый до поры внутренний голос, спрашивал Болеслав, и Курт, чувствуя, как тихо, тепло наплывает дрёма, отвечал ему, как себе: он не знает. Не может объяснить. Ничего, кроме умершего от старости верного спаниеля, не приходило ему в голову. Конечно, бабушка – несравнимая потеря. Но почему-то сейчас лезут на ум именно животные, какие-то мокрые ободранные собаки…
– Хорошо, – кивнул Болек. – Соня сказала, ты помогаешь в приюте для бездомных животных. Можешь вспомнить, как тебе пришло это в голову? Что подтолкнуло?
Курт упёр локти в стол и ладонями обнял потяжелевшую голову.
– Нет, я не знаю… Не помню, – поморщился он.
– Ну и не нужно! Не напрягайся, – разрешил Болек. – Пусть ответ приходит сам. Давай я просто повторю то, что ты сказал. В юности ты слышал музыку. И вдруг звук мира помутнел. Музыка стала шумом. Ты почувствовал бессилие, невозможность помочь. А теперь помогаешь животным… Тут есть какая-то связь?
Курт кивнул и почувствовал боль, как будто в тепле зеленовато-карего взгляда начали отогреваться заледеневшие на морозе руки, ноги, сердце.
– Да… – проговорил он. – Сейчас… – И, зацепившись за волосинку, за мокрый клок чьей-то серой шкуры, зажмурился. – Я делал сайт для одного охотника… – начал он, с трудом вытаскивая из памяти давний след. – И уже не помню, как… Наверно, случайно, попал с ним на притравочную станцию. Там охотничьих собак тренируют на живых жертвах. Если зверёк ранен, но способен двигаться – на него натравливают опять. Понимаете?
Курт замолчал и, обеими ладонями закрыв глаза, вгляделся в черноту. Память почти стёрла обстановку, но оставила лязг отпираемых клеток и скулёж существа неизвестной породы. Вглядываясь в омут воспоминания, он различил тщедушное тельце с остатками вылезшей, словно ощипанной мокрой шерсти, с длинными и худыми пальцами на лапах и мордой собаки. Задняя лапа была окровавлена и вывихнута, зверёк волочил её, как случайно прицепившуюся тряпку.
Курт почувствовал тогда в себе неимоверную мощь, прилив сумасшедшей силы. Он прошёл через площадку к строению… Да! Оно было кирпичное. Ураганно вломился в дверь и собрался потребовать закрытия станции – просто так, в одной лишь надежде навязаться на хорошую драку. Пусть его превратят в такого же зверька. Плевать! На него снизошло безрассудство, охватывающее всякого честного человека, столкнувшегося с предельным злом и решившего его уничтожить, хотя бы и ценой жизни. Он страстно оглядел помещение, пронёсся по коридорчику, дёрнул двери в туалет и подсобку. Никого. В каморке женщина в уютной меховой жилетке пила чай.
Именно в тот момент, когда, не обнаружив врага, он вышел и, пешком, через пустыри, двинулся в сторону Москвы, планета заскрежетала. Вместо мелодичных переливов он услышал гул и стоны оставленной Богом земли.
Всё это, с удивлением добывая из памяти новые и новые подробности, Курт рассказал Болеку.
Человек с глазами друга, болотно-карими, в солнечных бликах, направлял его рассказ вопросами, искусно менявшими течение исповеди. Крен жизни, в котором Курт умирал со скуки, ленился и попивал, обнаружил исходную точку – неудавшийся бунт против земного зла. Примечательным было и то, что из далёкого пункта А на притравочной станции линия судьбы привела его в Пашкин приют.
Курт сидел навалившись локтями на столик, умытый майским дождём. Дождь затёк за ворот футболки, но ему не было стыдно за слёзы. Теперь он понимал, что ходил к собакам для того, чтобы Тимка-безлапый и прочие приняли от него помощь, не доставшуюся тому истерзанному зверёнышу. Мир перевернулся с головы на ноги и стал не то чтобы прекрасен – понятен, пригоден для осмысления. Даже авария вдруг показалась ему преодолимой. Теперь, пожалуй, он не стал бы сбегать от наказания в смерть. Отстрадал бы, что полагается, – лишь бы жить дальше. Впервые после детства он чувствовал ошеломляющую цельность. Куда-то вдруг спряталась та половина, что беспрестанно штрафовала другую. Он был с собой заодно!
А рядом «маэстро Болеслав», как иногда называла своего кузена Софья, подперев кулаком щёку, сочувственно наблюдал за его возрождением.
– Женя, и последний вопрос, – проговорил он. – Может быть, есть что-то, что сейчас было бы тебе в радость? Какое-нибудь желание? Что-нибудь, к чему лежит сердце.
– Да нет… Таких желаний я не заслужил, – возразил Курт, сокрушённо качнув головой.
– Ты засудил себя за чужие грехи, – сочувственно сказал Болек. – Лишил себя любви и дружбы, веселья, здорового сна, творчества, обзавёлся зависимостями. Не волнуйся, мы не будем с ними бороться. Они уйдут сами, когда ты найдёшь свой смысл и радость.