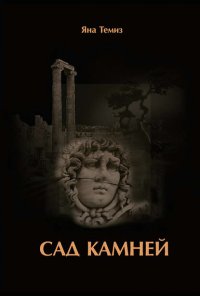
Читать онлайн Сад камней бесплатно
- Все книги автора: Яна Темиз
1. Лана
Урок словесности для женских гимназий: если мужчина говорит вам, что «выберется, если получится», или, еще хлеще, что «постарается выбраться», значит, он никогда не приедет. Или не придет – в зависимости от расстояния. Потому что «выбираться» можно откуда угодно, даже из соседнего дома.
Лану никто этому не учил, но она с детства дружила со словами и все поняла.
Он не приедет, и отдыхать придется одной. Нет, конечно, с сестрой, и мужем сестры, и племянником – но одной. Его тоже пригласили (Машка выговорила приглашение неохотно, всем своим видом давая понять, что просто так хорошо воспитана, иначе бы никогда), и он сказал (почти раскланявшись: мол, понятно, что вам не очень-то и хотелось, я не пара вашей драгоценной сестре), что постарается, что выберется, что как только, так обязательно и непременно…
Словом, она была одна.
Хорошо, что неожиданно нашлись друзья.
Хорошо, что сейчас они ждали ее на ужин.
Они – вся компания – собирались по утрам и вечерам и ждали Лану. Она увидела их издалека, ей было приятно, что они снова здесь, что она кому-то нужна, что ее любят и ждут… пусть из меркантильных соображений, пусть не бескорыстно, зато они не задают вопросов, не требуют объяснений, не обижаются, если она в плохом настроении.
Или вообще без всякого настроения.
В сущности, лучшая компания в мире. Можно молчать или, наоборот, пожаловаться на что-то такое, о чем никому другому никогда не скажешь.
Они были ей рады, и это как-то примиряло Лану с тем, что она зачем-то согласилась поехать черт знает куда и целенаправленно бездельничать, или, как это здесь называлось, отдыхать. Отдыхать ей было не от чего, она никогда не отдыхала специально, уехав подальше от любимого уютного дома, и первое время не находила себе места в этом искусственно созданном раю для бездельников.
Dolce far niente – так это, кажется, называется? Полная и окончательная победа обломовщины в одном, отдельно взятом дачном поселке на берегу прекрасного синего моря.
Если бы по утрам и вечерам она не приходила сюда, она бы, наверно, сбежала домой или умерла от скуки. Теперь было понятно, что умирать ей рановато, потому что ее ждут и ей рады.
Когда она была с ними, сидела в крошечном парке под сосной, ей начинало казаться, что все еще может… что? Наладиться, образоваться, вернуться… а если и нет, то как-то все-таки устроиться.
Можно, в конце концов, завести кошку. Свою собственную.
Лана с детства любила кошек. Даже не любила, а… ну, не могла она их видеть спокойно, этих красавцев, не могла пройти мимо, не погладив, не сказав чего-нибудь, и кошки, все без исключения, всегда отвечали ей взаимностью. Самые мрачные, нелюдимые коты, обитатели помоек и прочих кошачьих трущоб, приостанавливались и выслушивали ее, и нередко позволяли себя погладить, и подходили к ней, приветственно подняв парус хвоста, и охотно рассказывали о своих кошачьих проблемах…
Наверно, поэтому она была уверена, что если кого-нибудь любишь, то это непременно будет взаимно.
Оказалось, что нет. Что на двуногих это правило не распространяется.
Они уже ждали: трехцветная гладкая красотка, уверенная в себе глава семьи, тощая дымчатая со странно длинным хвостом – сестра или компаньонка, еще не сформировавшиеся подростки-близнецы, обычного дворово-кошачьего цвета, и появившийся вчера рыжик, крупный зеленоглазый кот со всеми задатками пушистого сибиряка.
Лана видела, что они узнали ее, зашевелились, заговорили, выясняя отношения. Кошачья стая готовилась к ужину. А ужин – это Лана, и они ей рады.
Ну и пусть.
Она погладила вьющихся вокруг ног, ревниво отталкивающих друг друга кошек, ответила на их приветственные мяуканья и открыла долгожданный пакет. Расставила несколько пластмассовых мисочек и разлила по ним принесенное молоко, отставив подальше ту, что предназначалась для рыжего. Он новичок, компания пока приглядывается к нему, трехцветная глава семьи даже шипит иногда, пусть поест в сторонке.
Его бы отмыть и откормить и вывезти туда, где не так жарко, он бы распушился, похорошел, стал важным и вальяжным, и кошечки шипели бы на него исключительно из кокетства. Кот сделал шаг к миске и бросил на Лану неуверенный зеленый взгляд: как думаешь, не тронут? можно есть? ты мне поможешь, если что?
Конечно, тоже переместившись, подтвердила она, ешь, котик, не бойся.
Она и кошки всегда понимали друг друга. Может, ей вообще следовало родиться кошкой, тогда все было бы проще. Жила бы среди себе подобных, а с людьми можно, в конце концов, и не общаться.
Гуляла бы сама по себе… да ты и так теперь совершенно сама по себе. Думала, что нашла хозяина, а оказалось…
«Слушай, в тебе есть какая-то… кошачесть! Из-за зеленых глаз, наверно!» – говорил Стас, которому, как выяснилось, не нужна никакая кошка.
Вернее, не нужна она, Лана. Со всей ее кошачестью и зелеными глазами.
Она присела на стоящую под сосной скамейку и подняла лицо, словно подставляя его вечернему солнцу и легкому ароматному ветерку. Если опустить – сразу потекут слезы.
А кошки, между прочим, не плачут.
Темно-зеленые пушистые лапы сосны каждой иголочкой выделялись на уже порозовевшем небе… как здесь все-таки красиво! И воздух… это же не воздух даже, это какой-то специально приготовленный аромат, им невозможно просто дышать, потому что хочется нюхать и наслаждаться. В Подмосковье так никогда не пахнет, даже в лесу, это запах юга, в нем каким-то верховным парфюмером смешаны море, и цветы, и засыхающие от зноя травы, и само солнце, которое здесь тоже имеет запах, и оливковые рощи, и апельсиновые деревья у античных развалин, и что-то еще, чего никогда не бывает у нас в средней полосе.
Может быть, поэтому нас, бледнолицых, так и тянет сюда – к этому древнему морю, к этой колыбели человечества, к оплетенным виноградом белым стенам под черепичными крышами, к жаре, на которую мы полупритворно жалуемся и от которой с облегчением убегаем наконец в искусственную прохладу аэропорта, и оттуда – домой, домой, в Москву, в Москву… чтобы через неделю начать строить планы на следующий отпуск.
«Вы летом куда?» – «Как куда? В Турцию, конечно! Мы уже привыкли… мы каждый год!» – «Конечно, и недорого, и пляжи там… красота!» – «Мы вокруг Антальи, по-моему, везде побывали!» – «Нет, там жара невыносимая, мы теперь в Кушадасы ездим…» – «Ой, а моя подруга там дачу сняла, она с детьми, ей в отеле не нравится, и потом так дешевле и сам себе хозяин!» – «Ой, да что вы? Мы бы тоже сняли…»
Так все это когда-то начиналось, а теперь сестра Ланы каждое лето приезжала сюда – в дачный поселок, построенный среди соснового леса на склоне горы, откуда открывается такой вид на небольшой залив, что каждый новобранец ахает и хватается за фотоаппарат.
Потом привыкаешь и начинаешь ходить с пустыми руками и просто смотреть и дышать – впитывать в себя эти пейзажи, это море, это солнце… а дома, в Москве или хмуром Петербурге, жалеешь, что сделал так мало снимков, и оправдываешься, показывая их друзьям: там гораздо красивее, это невозможно заснять, это и словами не опишешь, там так… следующим летом все-все сниму!
Но запах не заснимешь и не увезешь с собой, и мы возвращаемся в эту отпускную беззаботность, в оливково-хвойную жару, в эту ставшую почти своей, обросшую нашими собственными воспоминаниями Турцию.
Лана не хотела ехать. Само слово «дача» ассоциировалось у нее с деревянными подмосковными домиками, с отсутствием горячего душа, с неудобными кухоньками, с раскисшими от дождя дорожками, с более аккуратными, чем дорожки, грядками и с вечно ржавыми, заедающими крючками и щеколдами на скрипучих калитках. При этом гостеприимные хозяева всегда искренне убеждены, что лучше этого места ничего нет и быть не может, и рассматривают свое приглашение как благодеяние и подарок, и гордо демонстрируют свои дорожки, щеколды и грядки, и сразу сбежать обратно в Москву не удается… а еще комары, господи!
Нет, были уже и другие дачи – за каменными стенами, с охраной и спальнями для гостей, с гаражами на несколько машин, с фонтанами, как в Петергофе или Фонтенбло, но… как говорится, там хорошо, но мне туда не надо. Маша, старшая сестра, изо всех сил стремилась в этот круг и на правах всезнающей старшей тянула за собой и Лану, которая по определению и умолчанию сопротивлялась любым навязываемым ей инициативам.
Она согласилась, потому что ей было все равно. Дача, Турция, море, Москва или деревня – какая разница, если ничего уже не будет? Не будет Стаса, а без него и после него что же?.. Хорошо, я поеду – это вслух, а про себя: вот, ерунда какая, лечить меня переменой мест, как кисейную барышню! Я большая девочка и все понимаю… или все-таки не понимаю? И потом, может, Стас все-таки приедет?
Она старательно пряталась. Ей казалось, что если Стас поймет, какое место занимает в ее жизни, как серьезно она смотрит на такую простую для всех вещь, как секс, он немедленно решит, что для него это слишком сложно, что она хочет опутать его обязательствами и обещаниями, и ему, как всякому мужчине, это не понравится. Поэтому она изображала легкомыслие и даже не заговаривала о любви. Да, нам хорошо вместе, да, как удачно, что мы встретились, да ты мне нравишься, я в тебя даже влюблена… немножко. Последнее, конечно, с улыбкой, тоном легкой насмешки: мы современные люди, мы подходим друг другу, зачем все усложнять? И так хорошо, пусть все идет, как идет.
Все так и шло.
У Ланы перехватывало дыхание от одного его вида, и сердце ныло и стучало, стоило только его себе представить, как будто он был невесть каким красавцем и Дон Жуаном, хотя был он, наверно, совершенно обыкновенным, и женщины не ахали и не заглядывались на него на улицах.
Просто он был единственным – тем самым, который похож на отца в молодости, на поразившего когда-то воображение киноактера, на придуманного себе в детстве рыцаря, на не придуманного, но обожаемого девчонками учителя словесности, на где-то – не во сне ли? – мелькнувшего незнакомца, на всех них сразу и ни на кого, кроме себя самого.
Она влюбилась в него с первого взгляда и сумела понравиться ему – чего же боле? Они были свободны от условностей, они стали встречаться, они, кажется, даже были счастливы.
Лана осторожничала. Ей было хорошо с ним – в постели и в театре, на кухне и в ресторане, в машине и у телевизора, в компании и наедине. Он много читал, много знал, умел себя вести, ни разу не сделал и не сказал ничего, что вызвало бы у нее неприятие… а она была придирчива и разборчива, как та самая гоголевская невеста, и вечно примеряла губы и носы одних своих мужчин другим.
Всегда чего-то не хватало, что-то не сходилось, а тут вдруг раз – и сошлось.
Совпало. Наверно, это бывает, иначе чем объяснить, что многие пары всю жизнь вместе и души друг в друге не чают?
Она вдохнула поглубже и окончательно решила не плакать. Что же тут плакать, когда это даже смешно? Так тривиально, что… ну да, конечно, смешно.
Она сама так и написала ему днем, после его дурацкого звонка.
Она живо представляла себе, как он долго готовился и собирался с духом, чтобы ей позвонить.
Не сегодня – сегодня много дел. Завтра.
Не сегодня, у меня запись, я нервничаю.
Не сегодня… или сегодня, но попозже. Не сейчас, уже поздно, завтра прямо с утра.
И так несколько дней, до сегодняшнего – бедняга!
Сегодня он смотрел кино (если верить, но в такую ерунду можно и поверить, об этом-то зачем врать?) про кошек, и – по ассоциации… надо уже позвонить, в конце концов, а то и этот вечер будет испорчен!..
И услышал ее радостный, беззаботный голос.
Лана представила себе: с одной стороны, какое облегчение, она не плачет, не обижена, не говорит сердитых слов, с ней, как всегда, легко говорить. С другой – смотря что говорить. Радостный и легкий тон сейчас пропадет, истинное облегчение принесет только окончание разговора, если главное будет сказано. Если и не все, и не прямо, то хоть дать ей понять, что ли…
И он решился и сказал.
Наверно. Я боюсь, что. Если получится, но может не получиться. Тут неожиданно возникли. Словом, пятьдесят на пятьдесят.
Они поговорили еще: о последней песне, о погодах – питерской и турецкой, о его маме и ее здоровье и нездоровье. Пятьдесят на пятьдесят.
Потом они легко попрощались, как будто просто разошлись по разным комнатам, и Лана со странным ясновидением и обычно не свойственной ей проницательностью ощутила его облегчение.
Наверняка он взял сигарету, налил себе хорошего коньяка, сел перед телевизором. С чувством выполненного долга.
Молодец: разговор провел, Лану не обидел, она ничего не возразила, хорошо, что не сказал прямо, а вставил это «пятьдесят на пятьдесят», можно досматривать фильм и не мучиться.
Следующий звонок через недельку: я же говорил, мне так жаль, уже, наверно, нет смысла ехать, я старался выбраться, но… но я приеду в Москву, я постараюсь выбраться, и мы увидимся, тогда уже точно!
Господи, какая пошлость!
Неужели он думает, что она так глупа? Как будто она верила, что он приедет! Человек, которому надо откуда-то «выбираться», безнадежен, и ждать его безнадежно. Такой человек умеет уехать из Москвы в Петербург так, словно отправился на другую планету, или в крестовый поход, или в заколдованный лес, или… туда – не знаю куда.
Отключив телефон, Лана достала ноутбук, подключила его к Интернету и принялась писать.
Сразу, пока горячо.
«Я не понимаю, зачем ты оправдываешься. Я давно поняла, что ты не выберешься, и вовсе этого не ждала. Если ты за три месяца не смог выбраться в Москву…» Нет, это стереть, это можно воспринять как упрек, а кто я ему, чтобы упрекать? Легче надо, веселее, как будто его поведение прекрасно и нормально, пусть радуется. Пусть думает, что я его понимаю и одобряю. Я удобная московская любовница, я в каком-то смысле деловой партнер, я почти уже старый друг, я… я живу в привычном ритме, я ищу слова и рифмы…
Она стерла все. Потом подумала и начала сначала.
«Я не понимаю, зачем ты оправдываешься. Я давно поняла, что ты не приедешь, я знаю, как ты занят, что поделаешь. Мне даже странно, что ты не звонишь и не пишешь, как будто боишься, что я начну тебя упрекать. Это смешно, честное слово! Я тебе послала два новых текста – как они, подойдут? Давай уже будем нормально общаться, хоть по делу, мы же друзья и коллеги, правильно?»
И еще что-то в этом роде. Пусть порадуется. Если, конечно, рискнет открыть ее письмо. Их там много скопилось, ему не хочется… надо найти время и подходящее настроение, что ж, если рискнет – порадуется. Этакое «легко обо мне подумай, легко обо мне забудь» – то, что ему надо.
Тоже своего рода обломовщина.
Лана, прилежно читавшая все, что полагалось по школьной программе, никогда не могла понять некоторых сюжетов. Вот, например, тот же Обломов – почему он не мог самостоятельно снять квартиру, чтобы жениться? Не просто не мог решиться на женитьбу, это как раз было бы понятно, а именно не мог снять квартиру, что по тем временам и при его средствах было элементарно.
Или художник в «Доме с мезонином»: его любимую куда-то увезли – можно подумать! А попробовать адрес узнать или письмо послать в любое другое их имение? Не спи, не спи художник, не поддавайся сну! Нет, как можно, это другая эпоха, мы так не умеем, она уехала, конец всему, Мисюсь, где ты? Бред какой-то, а вроде взрослые люди!
Теперь она видела, что такое бывает. Уезжает человек в Питер – и как в кругосветное путешествие во времена Васко да Гама.
С другой стороны, не нами сказано: нет человека – нет проблемы, правильно? Тот скажи любви конец, кто на три года вдаль уедет. Тебя увезли, как ту самую Мисюсь, отдыхай себе, наслаждайся жизнью, пиши стиши, как говорит отец.
Ну и что, что он не приедет, не позвонит, не напишет письма… черта ли мне в письме?!
Нет, не зря я согласилась приехать… сосны какие, и море внизу, и дома с мезонинами, и кошки… что еще нужно для – нет, не для счастья, конечно! – для отдыха и покоя? И всегда желанное одиночество, и сколько угодно времени, и можно писать свои стиши… стихи… только вот они приходят, когда хотят, их не приманишь, как кошек, для них нужно что-то другое, но Лана никогда не могла понять – что.
Просто вдруг в какой-то момент где-то в ней самой или совсем рядом начинал звучать… нет, еще не стих, какой-то ритм, потом появлялись слова, потом надо было спешить и все это записывать, словно кто-то, требовательный и строгий, диктовал ей текст и не позволил бы встать из-за стола, пока она его не допишет.
Она уже не помнила, когда это началось – давно, в детстве, так рано… что и не знала я, что я поэт. Наверно, она прочла что-то из придуманного сестре, а та – уже не вспомнить, в шутку или чтобы обидеть? – принялась декламировать: «Я – поэт, зовусь я Светик, от меня вам всем приветик!»
И это было отвратительно. Маленькая поэтесса наотрез и навсегда отказалась откликаться на любые сокращения от раньше приятного ей имени Светлана. Или – полностью: «Спи, моя Светлана…», или – никак! Никаких Светиков, никаких откровений и кому-то показанных стихов.
Потом родители придумали – Лана.
«А что? Красивое имя», – с робкой надеждой предложила мама.
«А главное – редкое!» – с непонятным смехом, чуть не испортившим все дело, поддержал папа.
Теперь этим именем она подписывала песни. Светланой Владимировной она была только в школе, где работала мало, почти числилась, но всех это устраивало. Ее, потому что давало небольшой заработок и избавляло от комплекса бездельника и тунеядца, коллег, потому что в последнее время учителям стали прибавлять зарплаты, и все с удовольствием набирали часы и брали классное руководство, к чему она не стремилась, директора, потому что Лана всегда была под рукой, чтобы заменить заболевших и чтобы продемонстрировать ее, с ее университетским образованием и имиджем поэтессы, богатым родителям.
Наверно, Стасу тоже было приятно, что ее можно показывать, что с ней не стыдно показываться, – среди тех, кому уже не интересны просто длинноногие и длинноволосые фотомодели. В Лане (она сама понимала это) была та усредненность, которая легко оборачивается красотой, образованность, легко сходящая за интеллект, воспитание и такт, льстящие не перебиваемым собеседникам, умение одеваться так, что встречные не ахали, но смотреть было приятно.
К тому же были песни. Стас, профессиональный композитор, занимавшийся чем попало вокруг шоу-бизнеса, но иногда и собственно музыкой, легко намурлыкивал мелодии на любые ее стихи и решительно говорил: «Это не годится! Кто это будет слушать? Длинно, сложно… не пойдет!»
«А вот это…» – помедлил он однажды, вглядевшись в буковки на экране. Лана хотела быстро свернуть недописанное, она и оставила-то его случайно, отвлеклась на закипевший чайник, но Стас так махнул рукой, что она так и замерла – протянув одну руку к мыши и с трудом удерживая чашку с чаем в другой. Сейчас он решит, что она его упрекает, что хочет связать его навсегда, что ее не устраивают их свободные отношения, как же это иначе понять: мы с тобою не венчаны и поэтому вечером расходиться обязаны, будто вовсе не связаны мы глазами, улыбками, связью призрачной, зыбкою, без свечей пред иконами, без колец пред законами… черт, надо было вовремя спрятать!
«Вот это мы уберем… так… да… и вот это… а вот это то, что надо…» – бормотал Стас, а через десять минут его бормотание превратилось в мелодию, а через месяц эту мелодию (вместе с ее, Ланиными, словами – нет, не всеми, половину, лучшую, как ей казалось, половину, жестоко отсекли!) можно было услышать из любой застрявшей в пробке машины.
«Вот видишь, как надо! – говорил он гордо. – А ты вечно все усложняешь, а сложности никому не нужны. Вон у «Биттлз»: “Love is old, love is new! Love is all, love is you!” – и все, больше ничего не надо! Вот как надо писать! Понимаешь?! И все поют и сто лет еще будут петь!»
Стас просто бредил «Биттлз». Когда речь заходила об их песнях, он горячился и кричал, он втайне мечтал написать хоть что-нибудь такого же класса, но в то же время свое, не похожее; они были его вечными кумирами и постоянными соперниками.
«Я не усложняю, – и ей казалось, что говорит она не о стихах и не о песнях, а о совсем другом, и от этого сразу становилось неловко, потому что Стас терпеть не мог выяснять отношения. – Просто английский язык… там больше коротких слов, и преобладает мужская рифма, а по-русски… и потом тебе надо, чтобы куплет и припев…»
И снова становилось неловко, как будто она хотела блеснуть образованностью или оправдаться за собственные «стиши», которые, она это чувствовала, в оправданиях не нуждались. Они просто жили и все. Они могли приходить или не приходить, могли дразнить ее, приближаясь и снова прячась, у них была своя, отдельная от Ланы жизнь, она никогда не понимала, как это: сесть и написать стихотворение на заданную тему и к определенному сроку. Она не думала, что они помогут ей заработать славу или деньги, она вообще прятала бы их, показывая только самым-самым… кому? Сестре? Как бы не так! Ну, старому другу Мишке, это понятно, а больше и нет никаких «самых». Самым-самым был Стас, хоть он и оценивал их со своей, конкретной и целенаправленной точки зрения, но он все-таки внимательно прочитывал, и взвешивал каждую строфу, и иногда хвалил даже то, что никак не годилось в шлягеры.
«Тебе нужен не тот, кто читает твои стихи, а тот, кто может их издать и раскрутить! Неужели ты не понимаешь?!» – внушала ей все знающая старшая сестра. Стаса она потому и принимала: все-таки песни – это моментальная известность, пусть не такая долгая и тяжеловесная, как у серьезных поэтов, но… но и ты, между прочим, не Пушкин, дорогая моя, согласись! Да и не те времена сейчас… хоть ты гениальный стих напишешь – кому он нужен-то?..
Никому. И она сама так же бесполезна и никчемна, как ее стихи.
Стихи нужны Стасу, а она сама нет. Ну и ладно.
Вот кошки трутся о ноги, благодарят за еду, им стихи не нужны, да, собственно говоря, и стихов-то никаких давно нет. Правда, отдельные строки закружили было над ней, когда Борис возил их по Измиру, но мысли о Стасе, о его приезде или не-приезде, мешали, заставляли сочинять письма, гнали прочь рифмы… ну и ладно!
Рыжик вспрыгнул ей на колени и принялся топтаться, устраиваясь поудобнее… отдыхай, какие стихи?!
Здесь художником надо быть, а не поэтом, красота какая, словами не справиться! Лана посмотрела вдаль, на залив – он переливался на закате, он был, словно огромная чаша, окружен горами, и на их силуэты почему-то не надоедало смотреть, и сосны черной тушью, как на японской гравюре, вырисовывались на розовато-сиреневой акварели неба, и черепичные крыши поселка так органично располагались на склоне, и ветерок принес запах жасмина…
– Добрый вечер, – сказал кто-то по-турецки за ее спиной.
Она пробыла здесь уже две недели и легко улавливала в потоке местной речи часто повторяемые приветствия. Вообще, обитатели поселка (Лана не знала, можно ли распространить это наблюдение на всех турок) были как-то избыточно любезны, общительны, разговорчивы, они постоянно обращались друг к другу и к первому встречному со всякими бессмысленными, но доброжелательными «как дела?» – «спасибо» – «а вы?» – «пожалуйста» – «всего хорошего» – «и вам того же». Они улыбались и кивали, если видели, что первый встречный иностранец, и пытались говорить по-английски или по-немецки, если когда-то выучили на этих языках одну-две фразы, и непременно спрашивали каждого незнакомца «откуда вы?».
Не запомнить в этих условиях «доброе утро» и «добрый вечер» не было для человека с филологическим образованием никакой возможности.
– Hello, – сдержанно и строго откликнулась Лана, чтобы расставить точки… кстати, она заметила, что в турецком языке над некоторыми i не стояли точки, и тщетно пыталась выяснить у бывавших здесь раньше, что бы это значило. Версий было несколько, главная из них гласила, что им просто лень их ставить или они стерлись с вывески, но большинство соотечественников, удивившись вопросу и собственной невнимательности, объясняло это просто – пожатием плеч и пренебрежительной отмашкой: турки и есть турки, кто их тарабарщину разберет!
Сейчас Лана расставляла другие, невидимые точки: я иностранка, по-турецки не понимаю (кстати, эту фразу она даже могла сносно произнести, поскольку несколько раз слышала, как ее говорили англичанки у бассейна) и общаться не расположена. Главной жирной точкой было, конечно, последнее.
Она знала, что турецких, да и вообще юго-восточных, мужчин необъяснимо тянет к русским девушкам. Лана не особенно интересовалась вопросом, но, как и все, слышала о множестве смешанных браков, о бесчисленных курортных романах, о почти сериальных страстях, возникающих, вероятно, из притяжения противоположностей, – и совершенно не желала в этом черно-белом сериале участвовать.
Не то чтобы ей не нравились брюнеты, наоборот, вот и Стас не такой уж блондин, она просто не представляла себе, какой может быть флирт, а тем более что-то серьезное, не на родном языке. Невозможно же выучить иностранный так, чтобы не только что-то конкретное обсудить, но понять шутку, игру слов, второй и третий смысл даже не слова, а паузы между словами. Как они живут в этих своих смешанных браках, совсем, что ли, не разговаривают? Или только о том, куда пойти и что на ужин приготовить?
Девушки, выходящие замуж за арабов и турок, казались Лане существами с другой планеты, примитивными и не читающими ничего, кроме убогих рассказиков и советов в женских журналах. Им, наверно, ничего не нужно, кроме достатка, уюта в доме, детей… это, разумеется, неплохо, но когда некому стихи прочитать?!. Нет, это не для нее, и точка над этим самым i должна быть жирной и окончательной, как в конце фразы.
– Oh, – расплылся в улыбке общительный незнакомец, – я думал, вы турчанка и боялся, что не смогу объясниться. Я, кстати, удивился, потому что они кошек не любят, – быстро заговорил он на таком английском, который не приобретается ни на каких курсах и ни в каких Оксфордах – только если вы в этом Оксфорде родились.
– Нет, я… люблю, – хорошо еще, что в последнее время была практика: в соседнем доме жила очень приятная женщина по имени Айше, которая преподавала английский и говорила на нем так, что Лана начала испытывать комплекс неполноценности. И все равно фраза вышла невнятная.
– Вы откуда? – конечно, соотечественницу он в ней не мог заподозрить, надо все-таки английским позаниматься. Англичан в поселке было много – меньше, чем турок, но больше, чем русских. Маша говорила, что они любят покупать и арендовать здесь дома, им нравится климат и, в первую очередь, цены. Ведь такой домик на берегу теплого Эгейского моря стоит по английским меркам всего ничего, да и жизнь здесь дешевле.
– Из Москвы, – сказала Лана, поправив забеспокоившегося кота.
– О! Оу! – непонятно и шумно обрадовался ее собеседник. – Вернулся!
«О чем это он? – озадаченно всмотрелась в него Лана. – Или я вообще ничего не понимаю, или он…»
«Он» вполне подходил под второе предположение: толстые стекла очков, небрежный, какой-то не пляжный, а скорее, рабочий, загар, крошечный, явно только что вынутый из уха наушник с вьющимся по шее проводом, нестриженность и непричесанность, какой-то нелепый пакетик в руке – вполне мог вести беседу сам с собой.
– Я про кота, – четче, чем требовалось для такой простой фразы, выговорил он. Наверно, решил, что она совсем ничего не понимает.
– А что – кот? – изо всех сил стараясь говорить получше, спросила Лана.
– Да это мой старый знакомый! Я тут… – англичанин потряс своим пакетом, и кошки разом отреагировали на шуршание, предательски бросив Лану ради вновь прибывшего, и коготки спрыгнувшего рыжика царапнули колени, – их обычно подкармливаю, этот вообще у меня прижился, а потом исчез куда-то. Вы бы его зимой видели – вот такой! – он показал руками явно преувеличенного в размерах, какого-то метафорического кота, и Лане стало смешно.
– А вы и зимой тут живете? – надо было что-то сказать, чтобы не засмеяться, и фраза сложилась сама собой.
– Да, у меня тут… – он замялся, и она почему-то решила, что он сейчас скажет «кошки»: так деловито принялся он выкладывать еду и гладить ее, Ланиных, друзей, – бизнес и… и дела всякие. И мне здесь нравится, – он сделал широкий жест рукой, словно вся эта красота принадлежала ему лично, и он любезно предлагал Лане полюбоваться ею.
– Да, здесь красиво, – черт, что я говорю, фразы как из учебного пособия!
– Меня зовут Кристофер, – заявил вдруг незнакомец.
– Робин? – машинально продолжила Лана, которой до смерти надоело регулярно читать племяннику «Винни-Пуха».
Он посмотрел на нее так, словно увидел привидение. Наверно, это крайне невежливо, почему-то почти испугалась Лана. Мало ли, может, в этом слове есть какой-нибудь неприличный смысл… да, так, кажется, какая-то птица называется, что ли… вот оно подтверждение того, что всегда надо общаться на родном языке! Как они могут на турецком и арабском, тут по-английски и то не справишься!
– У меня была… девушка, русская девушка, так вот, когда мы с ней познакомились, она сказала то же самое. Интересно, да? – слава богу, странность разъяснилась, хотя совпадение, доказывающее стандартность ее мышления, Лану не порадовало. Почему-то сразу представилась безмозглая красотка, отправленная богатенькими родителями в Англию и подцепившая там этого… Кристофера-не-Робина.
– И куда она делась? – господи, ну что ты спрашиваешь, ты вообще соображаешь?!
– Я не знаю, – растерянно ответил не ожидавший такого вопроса англичанин. – Она дома, наверно, в России… мы с ней… мы учились просто вместе… давно очень. Можно просто Крис, так короче. А вас как зовут?
– Лана, – хорошо, что этот тип уж точно не скажет про «красивое, а главное, редкое» имя! Эта фраза Лану замучила: почему-то каждый считал хорошим тоном и верхом остроумия цитировать фильм столетней давности.
– Лена? – переспросил он. Наверно, так звали ту русскую девицу, а других имен он не слышал, почему-то разозлилась Лана.
– Нет, не Лена, а Лана, – ожесточенно артикулируя, она внесла ясность. Наплевать, в сущности, но не откликаться же на эту «Лену», если он снова притащится сюда кормить кошек.
– Sorry, – тотчас же отреагировал он, – здесь у нас недавно отдыхала женщина из России с дочкой, и она все время кричала на весь сити, – это он поселок, что ли, так называет, тоже мне «сити»! Ностальгия по Лондону, не иначе! – «Ле-е-ена! Ле-е-ена!» Всем надоела до смерти. Я около бассейна живу, а вы?
– А я вон там, – Лана показала на уходящую вверх улицу, как тут иначе объяснить расположение их дома, она не знала. – Моя сестра с мужем сняли дачу.
– Это последний дом на этой улице? – деловито спросил Кристофер.
– Да, – гордо подтвердила она. Их дом, то есть, конечно, не их, но ставший их домом на какое-то время, был расположен очень удачно, и Лана уже оценила все его преимущества. Во-первых, дом был отдельный: большинство домов в дачном поселке были построены парами – так, что два дома объединяла общая стена. Больших неудобств это не причиняло, соседи, не желавшие общаться между собой, спокойно отгораживались всякими живыми изгородями, а террасы этих сдвоенных коттеджей были спланированы так, чтобы сидящие на них семьи не могли видеть друг друга.
Но это в теории. На практике – Лана имела возможность наблюдать подобное – соседи если и не видели, то все прекрасно слышали, участки были маленькие, и не поздороваться со стоящим в метре от тебя человеком могли себе позволить только иностранцы, а общительность и дружелюбие аборигенов вообще не предполагали ни обыкновенных, ни виртуальных заборов.
Все было на виду, что усугублялось сравнительной новизной поселка. Лана часто бродила по территории и видела, что многие владельцы посадили деревья и разные вьющиеся растения, и было понятно, что вскоре вся эта зелень разрастется и создаст видимость изоляции. Но пока об этом можно было только мечтать.
Их дом был особенным. Таких здесь было не много, и построили их только потому, как объяснила вездесущая Татьяна, что закон запрещал рубить сосны, и проект пришлось подгонять под особенности ландшафта. Татьяна была риэлтором и уже несколько лет занималась недвижимостью в Турции, неплохо знала язык и считалась среди своих клиентов непререкаемым авторитетом во всех местных вопросах. Лане она была неприятна своей напористостью, успешностью, деловитостью, манерой являться в дом, когда ей заблагорассудится, самоуверенным и высокомерным тоном, которым она всегда говорила с турками. Говорила она по-турецки с невообразимым, сразу услышанным Ланой акцентом, турки понимали ее с трудом, но терпеливо и улыбчиво выслушивали и старались помочь – в меру своего понимания, а потому иногда невпопад. Тогда Татьяна сердилась и позволяла себе такие выражения в адрес всего турецкого народа во главе с отцом нации Ататюрком, что Лане становилось стыдно и противно.
Татьяна тоже Лану не жаловала. Однажды, чтобы остановить очередную тираду, произносимую к тому же в присутствии племянника, Лана перевела разговор и задала вопрос.
Про те самые точки над i.
Ответа специалист по турецкой жизни не знала и прикрыла свое невежество тем же пренебрежительным «турки есть турки». Усмешка Ланы, видимо, была достаточно выразительна, и Татьяна не то чтобы обиделась, но смотрела теперь на Лану свысока: поэтесса, тоже мне, делом бы занималась, а не буковками всякими!
Этот дом Татьяна нахваливала Маше еще в Москве, и сестра, уже давно облюбовавшая именно этот поселок, с удовольствием согласилась доплатить за уединение и отсутствие общей стенки.
К тому же дом был расположен выше, чем соседние, что тоже было хорошо. И сосны, которые, к счастью, не срубили, давали редкую в этих краях тень, и сад был со всех четырех сторон, а не с трех, как в других домах, и забор был одновременно границей поселка, за которой начинался настоящий лес, – словом, это был особенный дом, чем сестра очень гордилась.
– Самый последний? – зачем-то уточнил ее новый знакомый.
– Да, самый, – что, он по-английски не понимает? Или я все-таки так плохо говорю? Нет, с Айше я же общаюсь…
Айше была просто находкой. Она спасала Лану от скуки, спасаясь при этом сама, что приятно грело душу. Эта женщина перевернула все представления и стереотипы, имевшиеся, как неожиданно выяснилось, у Ланы относительно турецких женщин. Прежде она никогда не была знакома ни с одной турчанкой, никогда не задумывалась о них, но, если бы ее спросили, какими она их себе представляет, она сказала бы то же, что и все москвички: тихие, покорные женщины, в основном домохозяйки, вечно занятые детьми, носящие какие-то платки и длинные цветастые юбки… ничего примечательного, одним словом.
Айше была… Лана не могла даже определить, какой именно, она просто была совершенно нормальной женщиной, подходящей на роль подруги. Она опровергала все, что можно: была прекрасно образована и не только преподавала в университете, но была доктором филологии и доцентом; была замужем второй раз, а с первым мужем развелась, не прожив и двух месяцев; одевалась модно и совершенно по-европейски; курила и ненавидела домашнее хозяйство; писала книгу и до сих пор не обзавелась детьми.
«Все так надоели: дети, дети, – жаловалась она, – конечно, уже за тридцать, пора и подумать, но все как-то не получается…если у мужа такая работа… понимаешь, он же фактически каждый день рискует жизнью! То есть иногда сидит неделями в конторе, от компьютера не отходит, а потом раз – и стрельба какая-нибудь… как в кино! И никогда не знаешь, когда он придет и…»
Она не договорила, но Лана хорошо знала такие недоговоренности: когда не хочешь выдавать что-то слишком для тебя важное, что-то наболевшее, – тогда лучше замолчать и перевести разговор, или обратить все в шутку, или срочно заняться сигаретой и чашкой кофе.
Айше предпочла сигарету.
«…и придет ли вообще» – вот что она хотела сказать, и Лана чутко уловила ее нервозность и накопившееся недовольство. Еще бы: муж – полицейский, не позавидуешь. Это в кино или в романе хорошо, а в обычной жизни?
«Вот сейчас: я сижу одна у брата на даче, у него мог бы быть отпуск, мы все спланировали, так нет же!» – но у него, наверно, настоящее дело, мысленно возразила Лана, а вот я… Стас никакой не сыщик, и дела у него все… воображаемые дела, такие, которые бросить можно или отложить, и ничего от этого не изменится. Скоро и меня будут донимать: заводи детей, тебе уже… да, пока только тридцать, Айше постарше лет на пять-шесть, но у нее любимый муж, а я? Вроде есть и любимый, и муж, вообще-то, тоже есть… но какие в такой ситуации могут быть дети?!
– Это странно, – отвлек ее от размышлений Кристофер-не-Робин, – очень странно, что последний…
– Почему? – требовательно спросила Лана и поднялась со скамейки, чтобы собрать миски. Пора заканчивать этот пустой разговор, кошки накормлены, начинает темнеть, скоро семейный ужин у мангала – ежевечернее развлечение, от которого никуда не деться. Ужинали здесь всегда поздно, когда садилось солнце, до этого террасы были залиты нестерпимым ярким светом, и было жарко, и приставали осы, и не хотелось даже думать о еде; только вечер дарил прохладу и возвращал аппетит.
– Я знаю всех домовладельцев, и тот дом никогда раньше не сдавался, – пояснил англичанин, и как-то так переменил позу, что стало ясно: он не считает разговор оконченным и пойдет с ней, может быть, до самого дома, вызвавшего его недоумение. В матерчатой, купленной на местном рынке туфельке шевельнулся неизвестно откуда взявшийся камешек – надо бы остановиться и вытряхнуть, но неудобно… черт, придется терпеть!
Кошки двинулись за ними. Их, видимо, вполне устроило, что покровители объединились и не надо выбирать, за кем идти.
– Я здесь почти всех знаю, – гордо заявил провожатый, – и не только наших. Вон там странная дама живет, она к вам еще не приставала?
– В каком смысле? – удивилась Лана.
– Она русская, давно живет здесь и ни с кем не общается, но ко всем новым людям подходит обязательно – то поговорить, то, чтобы ей помогли что-то перевести. Причем непонятно с какого языка… турецкий с английским она знает.
– Нет, ко мне не подходила…
– А Айше вы знаете? Она там рядом с вами живет, за домом с колокольчиками. Удивительная турчанка, не типичная!..
– Да, знаю, – господи, о чем с ним говорить, какой надоедливый тип, а считается, что англичане все из себя чопорные…
Ну да, англичане чопорные, турчанки тупые домохозяйки, русские красавицы… сами понимаете, кто, восточные мужья тираны и деспоты, новые русские воры и хамы, старые русские – нищие интеллигенты. Ерунда какая! Нет ничего типичного и быть не может.
Придумали себе – от лености или от скуки – стереотипы и живем с ними.
Чтобы все упростить.
А тебе все бы усложнять, да? Вот Стас и боится всех твоих сложностей. Начиналось-то все так просто…
– …адвокат, у которого сад камней, почти как Стоунхендж, – закончил какую-то фразу ее собеседник. Вернее, претендент на роль собеседника. Развлекает он ее, что ли?
– Извините, Кристофер, я… – едва удержавшись от «Робина», начала извиняться Лана.
– Крис, – поправил он, – просто Крис, ладно? Меня все так зовут.
Кроме глупых девиц, любящих «Винни-Пуха».
– Вы случайно не знаете, Крис, – вдруг спросила она, – почему в турецком языке не всегда ставят точки над i?
А что, она всем уже надоела с этим вопросом, это стало почти традицией. Почему, интересно, я не спросила Айше – вот кто уж точно знает! Наверно, с ней и так было о чем поговорить, и злополучная, не дававшая ей покоя буква во время этих разговоров почему-то не приходила в голову.
– Знаю, конечно, – невозмутимо ответил англичанин таким тоном, как будто задавать такие вопросы первому встречному совершенно естественно. – У них есть две буквы: одна с точкой, она произносится как «и», а другая без точки, она произносится как «ы».
– То есть это вообще разные буквы? – удивилась Лана не столько самому факту, сколько непробиваемой уверенности Татьяны и ей подобных в отсутствии нормального объяснения и их нежеланию что-либо знать о стране и языке, которые кажутся им заведомо второсортными.
– Разные, – кивнул Крис. – Я пытаюсь учить турецкий, очень трудно, но приходится.
– А что у вас за бизнес? – говорить стало явно легче, но лучше пока обсуждать хрестоматийные темы.
– Ничего интересного, – неохотно, как ей показалось, ответил он, – недвижимость, туризм… разные такие вещи. А вы здесь первый раз?
То, как он быстро перевел разговор, снова заставило ее почувствовать неловкость: опять она полезла не в свое дело. Или у него какой-нибудь незаконный бизнес?
– Да, первый, – светским тоном ответила она, твердо решив не говорить больше ничего, кроме самого необходимого. В конце концов, ее английский не настолько хорош. И что я вообще не сказала ему, что знаю только «здравствуй» и «прощай»? Кошки, наверно, отвлекли. Она оглянулась, вспомнив о них. Трое уже отстали, сидели в отдалении, раздумывая, где бы продолжить ужин; рыжик преданно вышагивал около Криса, а тощая дымчатая нерешительно, серой тенью двигалась вдоль забора: вроде и шла за ними, но в то же время и сама по себе.
«Прям как я! – в раздраженном состоянии Лана всегда все принимала на свой счет. Угодно ль на себя примерить? Ей всегда было угодно, и она примеряла то листву дерева, то слезки дождя, то платье любимой героини, то вот кошачий мех. – Делает вид, что вся из себя независимая, а на самом деле…и серая к тому же!»
Пожалев сестру по разуму и подругу по несчастью, Лана присела и приглашающе кыскнула. Камешек, уже удобно устроившийся где-то между пальцами, снова напомнил о себе… решила терпеть – терпи. Серая кошка, обрадованно муркнув, бросилась к ней. Лана почесала подставленную ей шею, на которой, словно ошейник, выделялась более темная полоса.
– Ну что, Серая Шейка? Пойдем со мной? У нас там еще ужин будет…
– Думаете, она понимает по-русски? – насмешливо спросил Крис. – Это же турецкая кошка.
– Кошки интернациональны, – заявила Лана, сразу подумав, как смешно можно было бы назвать какую-нибудь девчачью поп-группу – «Кошки Интернэшнл»! Надо Стасу сказать!
Впрочем, Стасу надо сказать столько всего, что лучше совсем ничего не говорить.
А еще лучше – не вспоминать его по любому поводу и без повода. Как камешек в туфле: идешь же и делаешь вид, что забыла. Если идти с ним долго, можно, и правда, забыть.
Забыть!.. Кого это надо было специально, по команде забыть… Герострата, кажется? Что-то он натворил… ну да, сжег храм Артемиды какой-то. И чуть ли не в Эфесе – собираясь лететь в Турцию, Лана просмотрела рекламные проспекты и помнила, что Эфес должен быть где-то рядом. Точно, и Татьянин муж, бывший у жены на посылках, говорил что-то такое, когда вез Лану из аэропорта. Но он говорил столько всего, а Лана была погружена в собственные мысли и мечтала, как приедет Стас, и как они проведут здесь вместе если не целый месяц, то хоть две-три недели, и как они будут по вечерам бродить вдоль моря или съездят и посмотрят этот самый Эфес. До этого у них был только общий Петербург и немного общей Москвы, но там Лана никогда не ощущала этой странной свободы, которой здесь словно был пропитан воздух: вдохни поглубже – и взлетишь… вот если бы вместе со Стасом!
– А вы не знаете, Эфес здесь рядом, да? – хорошая тема, вполне для поддержания светского разговора, заодно и образованность показать можно, а там уже и дом, можно прощаться.
– Эфес?.. – переспросил англичанин каким-то странным тоном, и Лане вдруг показалось, что он сейчас добавит «а вам какое дело?», – не совсем… но здесь рядом Дидим, и Милет, и Иассос… если вы интересуетесь… э-э… античностью…
Теперь заявить, что она не интересуется античностью, было бы уже неловко, и Лана согласилась, что да, очень, очень интересуется.
– О! Тогда… если вы правда, – Кристофер-не-Робин просто задыхался от каких-то непонятных эмоций, а в глазах его вдруг вспыхнул непритворный интерес – или он ее неправильно понял? или она опять сказала что-то не то? – я мог бы… я вам покажу… если только…
Она пыталась уловить смысл разорванных фраз: приглашает он ее туда, что ли? Или хочет показать что-то другое, фотографии, например?
– Спасибо, – неуверенно сказала она. Пусть понимает, как хочет.
Машка суетилась на террасе и замерла, вглядываясь в подходивших. Теперь замучает: кто, да что, да о чем вы говорили, да как он тебе. Как всегда, когда видит рядом с младшей сестрой мужчину, даже если тот всего-навсего спросил, как пройти к метро.
– Это ваша сестра? – словно прочел ее мысли Крис.
– Да… – вот навязался, надо быстро прощаться, а то Машка уже заулыбалась – вот-вот примется производить впечатление, звать к столу и вообще. Особенно если узнает, что он англичанин.
– Ла-а-ан! Дай мне кошку твою погладить! Ой, нет, лучше рыжего! – выскочил откуда-то шестилетний племянник. – Это ваш котище? Ой, Лан, он не понимает, да? Вот из йор нейм? – заорал он одну из немногих удающихся ему лет с трех английских фраз.
– Крис, май нейм из Крис, – четко и громко, почти с таким же акцентом ответил тот.
– Крыс! Фига себе имечко!
– Мишка! Что ты несешь?! – заорала Машка.
– Ничего я не несу! Крыс – это клево! Это его кот, спроси! – потребовал Мишка. – Или я сам!.. Май нейм из… Мишка! Это… Из это йор кэт?
– Да, то есть… – англичанин замялся, как будто вдруг забыл родной язык или понял, что говорить надо на Мишкином, не всем доступном английском. – Я думал, – обратился он за помощью к Лане, – что кот мой, но он от меня ушел. Теперь он, наверно, ничей. А «Ми-и-шка» – это, наверно, «Майкл»?
– Не его это кот, а ты не кричи так: кошек вон напугал, – сказала Лана. Мишка всегда говорил так, словно все его собеседники были где-то вдалеке, и все, кто общался с ним, невольно начинали кричать.
– А он тебе кто, этот Крыс? – весь в мамочку, разозлилась Лана.
– Во-первых, не Крыс, а Крис, а во-вторых, никто, просто прохожий, – занудным голосом воспитательницы трудных подростков сказала она и, чтобы смягчить свой тон, добавила: – Тебя не интересует!
Мишка хихикнул.
«Тебя не интересует!» было его выражением, его личной находкой, и он гордился, когда взрослые (его личные, домашние взрослые) употребляли его вместо «Тебя не касается!». Конечно, в их интонациях и лицах при этом всегда было что-то подозрительное, но они не смеялись и фразу (его собственную, лично придуманную, взрослую фразу!) употребляли часто и охотно. А новым знакомым еще и поясняли: «Как говорит наш Мишка…» – и Мишка гордился.
– Заходите, Крис, добро пожаловать! – о, Машка в роли неотразимой хозяйки террасы – как же, должна же она показать, что тоже знает английский!
– Большое спасибо, не сейчас, – слава богу, хоть что-то истинно английское, обрадовалась Лана. – Было очень приятно познакомиться с вашей сестрой… а вы?..
– Мария… можно просто Мэри… хотите чаю или?.. – Машка запнулась: чаю только не хватало в такую жару, а что еще сказать, наша княжна Мэри не сообразит – не звать же его ужинать, а выпить предлагать тоже неудобно. Лана, как всегда, легко угадывала ход мыслей сестры – так же легко, как та угадывала ее собственный.
– О нет, большое спасибо! Очень приятно, но не сегодня. Мы с вашей сестрой договорились поехать на экскурсию… так что увидимся!
Машка одобрительно улыбнулась: молодец, сестричка, в кои-то веки подцепила достойного типа, езжай, езжай, знаем мы эти экскурсии.
– На экскурсию?! Мы?.. – как бы так сказать, чтобы не обидеть? Договорилась я с ним – как же!
– Да, сначала в Дидим, это ближе всего… потом… когда вам удобно? Хотите завтра?
– Завтра? Но я… мы едем на море…
– Лан, чего ты на море не видела?! С ума сошла?! Езжай, хоть развлечешься! Вон Танин муж все уши прожужжал этим Дидимом – что-то там такое есть… музей какой-то, что ли.
– На море? Тогда послезавтра? Или после моря? Только лучше все-таки утром…
Не отвяжется, поняла Лана.
Ладно, не похоже, что он собирается за ней ухаживать, мужской интерес к своей персоне она улавливала моментально, так что почему бы и не поехать на самом деле? Наверно, ему просто скучно, вот и решил найти компаньонку. Она наклонилась, демонстративно сняла туфлю и вытряхнула надоевший камешек: плевать мне на вас всех и на всяческую вежливость.
– Спасибо, давайте послезавтра, – завтра как-то уж слишком близко, надо это дело оттянуть! – Я тогда на море не поеду, мы каждый день ездим.
– А я уже и не езжу, привык, что всегда есть море, и не езжу.
– Лан, езжай, далось тебе это море! – сказала Машка по-русски.
– Лан, а у них в Англии море есть? – услышав что-то понятное, завопил Мишка, до этого отвлекшийся на кота.
– В Англии все есть, – засмеялась Машка, – Миш, она же остров, как же без моря?
– Кто – она? Остров – он!
– Зато Англия – она!
– Так как же «она» может быть «он»?!
– Тогда до послезавтра? Давайте прямо с утра, часов в девять?
– Хорошо, – согласилась Лана, еще не понимая, нравится ей вся эта затея или нет.
Крис попрощался, перекрикивая что-то вопящего Мишку, кивнул Лане и нажал какую-то кнопку, пристраивая наушник.
“All we need is love!” – донесся до Ланы осколок песни – такой узнаваемый, такой… из той ее, московской жизни, где песни и Стас… господи, только этого мне не хватало – еще одного поклонника ливерпульской четверки!
Как можно отдыхать в таких условиях, спрашивается? Если предполагалось, что отдыхать она будет от любви?!
На террасе дома напротив тихо и нежно зазвенели китайские колокольчики. Этот перезвон, раздававшийся обычно по вечерам, когда появлялся ветер, всем надоел, но сейчас Лана была ему рада.
Однозвучно звенит колокольчик… вот и отлично, хоть и уныло, но все лучше, чем так бодро пропетая прописная истина про любовь!
А еще: диги-дон, диги-дон, колокольчик звенит, этот звон, этот звон о любви говорит! Вот еще какая песенка – значит, и он о любви!
Или русский романс японскому колокольчику не указ? И он звенит о чем-то своем, на своем языке… как и мы, даже в Турции, думаем только о своем и только на своем языке.
2. Борис
«Господи, что же делать?!» – Борис давно научился все читать на лице жены, и сейчас, когда она, о чем-то поговорив с поселковым сторожем, тяжело поднималась на террасу, на ее лице была именно такая смесь озабоченности и отчаяния.
Вечно делает из мухи слона и волнуется из-за любой мелочи. Ему, конечно, ничего не скажет, с нарастающей злобой подумал он, не соизволит. Типа от него толку никакого, что с ним говорить, только «не волнуйся» да «не переживай», а из них шубы не сошьешь.
Шубу Татьяна давно сшила. Не купила, а именно сшила – на заказ, такую, какую хотела. Почему эта пресловутая шуба определила ход их семейной жизни на несколько лет? Борис однажды пытался что-то выговорить о знаменитой шинели – как жалок тот, кто подменяет истинные ценности… но Татьяна взвилась так, что отбила у него охоту проводить литературные параллели.
«Истинные ценности может себе позволить только тот, кому есть что надеть! – сердито закричала она. – И есть что есть! И на что детей растить! А образованность свою… знаешь, что можешь с ней сделать! Никому от нее не жарко, не холодно!»
«Достоевский с компанией вон вышли из гоголевской «Шинели», а мы вышли из Танькиной шубы!» – острил он потом, когда находил подходящего слушателя. Ибо никчемная, по мнению жены, образованность – тот еще крест: поговорить и то не с кем.
Из шубы, вернее из мечты о шубе, выросла сначала идея заработать любым способом, потом, после нескольких челночных рейсов, она преобразилась в другую, в итоге была создана даже небольшая фирма или ее подобие, и образованность Бориса тоже оказалась, наконец, востребованной. Так, по крайней мере, казалось Татьяне, и он старался не разочаровывать ее.
В конце концов, в чем-то она, безусловно, права: диплом историка – вещь сугубо декоративная, на жизнь зарабатывать надо, все равно пришлось бы менять специальность, осваивать, чего доброго, какую-нибудь бухгалтерию, идти на компьютерные курсы… это в лучшем случае. В худшем – вообще на какой-нибудь рынок… Борис не мог без содрогания вспомнить своей попытки (первой и последней!) помочь жене реализовать партию привезенных из Турции шмоток.
Нет, то, чем они занимались сейчас, просто прекрасно: чего стоит сама возможность проводить почти все лето на курорте! От него, в сущности, требуется совсем не много: привозить вновь прибывших и увозить уезжающих, рекламировать местные красоты и изображать из себя гида в кое-как организованных экскурсиях. Остальное время он совершенно свободен, может купаться, валяться на пляже или около бассейна, читать, думать, гулять… чем не жизнь? Мечта поэта!
Интересно, что там стряслось такого, что у нее на лице такой траур? Вроде все было в порядке, уезжать никто в ближайшие дни не собирался, про приезд Николая он, само собой разумеется, помнил, из новеньких только одна семья, но и те практически освоились – самое лучшее время.
Или опять из-за Инки? Да, дочь, конечно, давала повод, но это же возраст такой, подрастет, успокоится.
– Тань, ты чего? Случилось что-нибудь? – не спросишь – еще хуже: черствый, ничего не замечаешь, я кручусь, работаю, а тебе на все плевать… старые песни о главном. Ничего, она еще увидит… если не сорвется его план и все получится… получится, должно получиться, все так удачно складывается, нарочно не придумаешь. Вот тогда можно будет припомнить и шубу, и все остальное.
– Ничего, – сказала Татьяна таким тоном, что было понятно: случилось, но ему знать необязательно. Ну и ладно, не очень-то и хотелось, Борис демонстративно опустил глаза в книгу – читать ему не хотелось, все взятые с собой книги он уже перечитал по два раза, а приезжающие дачники привозили только детективы в бумажных обложках, такие, которые не жалко выбросить. Он потом пролистывал эти оставленные в пустых спальнях разваливающиеся покет-буки и так и не смог заставить себя отнестись к ним как к нормальным книгам.
Татьяна села напротив, вытащила откуда-то (из пляжной сумки, что ли?) свой вечный растрепанный органайзер и принялась судорожно листать его, одновременно нажимая какие-то кнопки на телефоне.
Деловая женщина… мечта поэта? Ей бы похудеть да перестать одеваться в эти ее сарафаны, которые только для огорода и годятся. И лет ведь еще немного, как-то отстраненно подумал Борис, как будто оценивал не собственную жену, а совершенно незнакомую, случайно остановившую взгляд женщину. Здесь никто так не одевается – все покупают себе что-то модное, шорты-майки всякие.
– Черт, – сказала Татьяна, – черт, черт, черт…
– Да что такое-то? – Борис попытался вспомнить, не забыл ли он сам чего-нибудь важного. Нет, если бы дело было в нем, она бы сразу на него и набросилась. – Проблемы какие-нибудь? Или опять акулы?
«Акулами» они называли не настоящие проблемы, а весь тот надуманный негатив, который в последнее время так и сыпался из Интернета в предкурортный сезон. Как-то весной мир облетела шокирующая новость: у побережья Эгейского моря впервые за сколько-то там обозримых лет (примерно с Гомера) появились (о ужас!) акулы! На всех пляжах от Кушадасы до Бодрума, читал Борис четкие энергичные, какие-то очень убедительные строки, вывешены красные флаги, запрещающие купание; закрываются отели; испуганные туристы разбегаются по домам. Объехав три ближайших пляжа, Борис не обнаружил на них никаких флагов, кроме привычных голубых, обозначающих экологически безупречный по мировым стандартам пляж, потом полистал местные газеты, потом посмотрел местные новости. Языка он не знал, но что речи об акулах не было вообще, мог поклясться. Татьяна в это время в полуобморочном состоянии, похожем на нынешнее, отвечала на международные звонки обеспокоенных клиентов: «Танечка, что там у вас? Это правда?! Нам ехать или нет?» К вечеру того же дня выяснилось, что вся история была буквально высосана из пальца: то ли недобросовестный переводчик, то ли (как считала Татьяна) некий злоумышленник и ее личный враг таким образом истолковал крошечную заметку в местной газете. Говорилось в ней вовсе не о нашествии акул, а о том, что в одном крошечном заливе (называющемся отнюдь не Бодрум, а Бонджук!) из-за нашествия туристов оказался под угрозой заповедник, куда раз в год приплывают небольшие, не агрессивные, никого не трогающие песчаные акулы. Таких заповедников в мире всего два, писали обеспокоенные ученые, и один из них на территории Турции, и желательно было бы не строить больших отелей в этом заливе. Песчаные акулы, самая большая из которых может быть около метра, не крупнее нашего осетра, никогда никому не мешали, и сохранить популяцию… дальше было уже все ясно. Красные флаги развевались лишь в воображении газетчиков, либо были банальными государственными.
То же бывало и с птичьим гриппом, якобы свирепствовавшим в Турции, и с террористами, и с авариями на дорогах: они бывают везде, но накануне туристического сезона, назло активной Татьяне и ей подобным, весь этот негатив выплескивался на головы слабонервных доверчивых, не очень богатых людей, озабоченных проблемой нормального отдыха.
«Акулы» и прочие газетные «утки» Бориса не волновали: плавали, знаем – справимся. Но ведь могло быть и что-нибудь другое.
Этого «другого» Борис боялся.
Он начал бояться давно, еще когда Татьяна решила сделаться челночницей. Все-таки сомнительный бизнес, раньше сказали бы спекуляция, и хоть уже было вроде бы все позволено или по крайней мере не запрещено, ему это занятие решительно не нравилось. Все непонятно, неофициально, заработаешь или нет – неизвестно, никаких гарантий, да и дело иметь приходится со всякими подозрительными типами. Могут обмануть – это в лучшем случае, о худшем и думать не хочется! А налоговая инспекция? Борис никогда не сталкивался ни с одним налоговым инспектором, но почему-то представлял себе подобную встречу как допрос партизана в фашистском застенке.
Когда Татьяна заявила, что бросает свои поездки, Борис вздохнул с облегчением. Да, конечно, денег будет меньше, придется ему самому… однако тут же выяснилось, что все, что ему придется делать, уже решено, и новое дело, за которое взялась жена, испугало его еще больше.
В принципе, бояться вроде бы нечего, они не делают ничего незаконного, всего-навсего занимаются тем, что сводят желающих сдать дачу в Турции с желающими ее снять.
Прекрасное и благое дело! Дачники, никакой торговли… красота!
И выгодное при всем том дело: дачник (Борис любил кстати вспомянуть Чехова и щегольнуть образованностью) в последнее время размножился до чрезвычайности.
Однако страх не уходил. Татьяна и подобие фирмы организовала, но это только для клиентов. На самом деле – Борис прекрасно знал и боялся уже поэтому – никакой такой фирмы не существовало, были только бланки договоров, составленные одним знакомым юристом, да визитные карточки.
А вдруг кто-нибудь из клиентов попросит показать документы? А вдруг кто-нибудь из них вообще окажется из той самой налоговой инспекции? А вдруг?.. Татьяна ничего не слушала, и Борис постепенно успокоился. Вернее, не успокоился, беспокойство осталось, он просто сумел спрятать его поглубже, чтобы не высовывалось; поверх беспокойства и страха он соорудил сложную конструкцию из безразличия, нежелания вникать в детали, удовольствия от возможности проводить время на курорте и вечного недовольства женой, которое, в случае чего, помогло бы ему сохранить лицо. Мол, я же тебе говорил, я тебя предупреждал, я всегда знал, что ничем хорошим это не кончится.
Сейчас, глядя на злое и какое-то растерянное лицо жены, он почувствовал, что был прав, и это, как ни странно, его совсем не порадовало. Собственная правота была сейчас совершенно ни к чему, он задумал такое… и если сейчас по вине Татьяны с ее неразборчивостью все рухнет… черт, он столько готовился, он придумал гениальный план, но если Танькин бизнес пошатнется, то ничего у него не выйдет.
Николай приедет послезавтра, ему предстоит сложный этап переговоров, а у этой бестолковой бабы проблемы какие-то! Ладно, проблемы чьи? Ее – я-то у нее на посылках, как золотая рыбка, я должен помнить о собственном деле, а ее проблемы…
– Да что случилось-то?! Ты можешь толком сказать? Что, я не вижу, что ли!.. Я тебе всегда говорил!.. – не сдержался Борис. Вечное беспокойство, заваленное разными старательно придуманными и отчасти надуманными вещами, на удивление легко выбралось из-под них и оказалось на самом верху.
– Что ты мне говорил?! – взвилась Татьяна, как будто только и ожидала возможности сорвать на ком-нибудь свое зло. – Говорил! Говорить ты у нас мастер!.. Ты вот лучше скажи, что мне теперь делать! Как же они меня достали, турки эти, никаких дел с ними иметь нельзя!
Это Борис слышал неоднократно. Несмотря на то, что все дела в последние несколько лет Татьяна имела исключительно с турками, подобные заявления она делала как минимум раз в неделю. Турки были виноваты во всем: в нелетной погоде и отложенном рейсе, в неправильном курсе доллара и росте цен, в капризах клиентов и сорвавшихся сделках. В Турции все было прекрасно, кроме турок, – это убеждение Татьяны вызывало у Бориса смех и то легкое презрение, которое он научился испытывать к деятельности жены.
– Ну и что они опять? – вряд ли что-то серьезное, ерунда какая-нибудь, любит она волну нагонять. Самооценку повышает: вот у меня сколько проблем, и каких, а я, умница, их все решила!
– Николай послезавтра приезжает, а тут… – беспокойство, уже уползавшее на свое привычное место, замерло и быстро принялось карабкаться наверх. При чем тут Николай, интересно? Не хватало только, чтобы он…
– Что, рейс отменили? – чартерные рейсы иногда отменяли, переносили, объединяли два самолета в один, ничего с этим поделать было нельзя… вот только Татьяна-то разговаривала со сторожем и в транс впала после этого разговора, а он никак не мог сообщить ей ни о каких рейсах.
– Да при чем тут рейс! – подтвердила она его догадку. – Дом мне надо свободный найти, и быстро!
– Какой дом? – не понял Борис. Черт, как все-таки хорошо ни во что не вникать, быть наемным работником – шофером и гидом, не знать ничего сверх ему лично положенного!
– Да любой, только где я его найду?!
– Что, еще желающие появились? – соображал Борис быстро, тем более что направление мыслей Татьяны понимал, как никто. Понятно, чего она бесится: боится выгоду упустить, заказчика потерять, их и так в сентябре не много, но это не беда, всех денег не заработаешь…
– Да говорю же тебе – для Маши с Николаем!
– Ничего ты не говорила про Машу! Им-то зачем еще дом, объясни ты толком!
– А затем, что хозяева из Германии приезжают, и дом освободить придется!
Эту манеру жены говорить о совершенно незнакомых ему людях и неизвестных проблемах так, словно он о них сто раз слышал и прекрасно знал, Борис ненавидел.
– Как приезжают? Они же дом сдали, куда же они приедут?!
– А вот в него и приедут! Придурки! А я должна быстро что-то подобрать…
– Да подожди, зачем подбирать? Ты поговори с ними, так же нельзя! Если они сдали дом, то должны понимать… не можешь же ты просто взять и выселить людей… контракт же есть в случае чего! – говоря это, Борис уже понял, что контракт – если он вообще есть! – составлен как-то так, что хозяева могут позволить себе его нарушить и приехать, когда им заблагорассудится. Иначе Татьяна не вела бы себя, как выброшенная на берег рыба. – Не имеют они права взять и приехать, если в их доме люди живут! Морального права, – уточнил он, чтобы утешить Татьяну и заодно уяснить положение вещей.
Уточнение неожиданно возымело действие: в глазах жены вспыхнул тот знакомый ему юный огонек, который всегда сопровождал зарождение всех ее авантюр. Он сам был одной из них – тогда, много лет назад, огонек сверкал и искрился, и Борис не мог отвести от нее взгляд, и готов был весь сгореть в этом огне… господи, куда все делось? Теперь эти искорки такая редкость…
– Вот именно! – словно воодушевившись от его поддержки, грянула она. – У нас с ними договоренность, так надо же совесть иметь! Нет: понимают, что я в суд не подам, дела мне не выиграть, ни языка толком не знаю, ни законов их дурацких! Вот и пользуются!
– Но хоть какой-то контракт?.. – робко начал Борис.
– А что им этот контракт! Договорились, записали, подписали – так это все законной силы не имеет, так, для честных людей! Самим налоги платить неохота, поэтому мы и оформляем все так, на честном слове, а потом – нате, пожалуйста, им прямо сейчас приехать приспичило! А я в каком положении!
Давно уже она так подробно не говорила с ним о делах, и Борису даже показалось, что и сейчас она все это произносит не для него, а для тех, перед кем ей еще предстоит оправдываться. Черт, только вот с Николаем поссориться не хватало, он приедет, а их выселяют, нарочно не придумаешь, гнусность какая!
– Давай их к нам поселим, – предложил он и, еще не договорив, понял, что это полная ерунда.
Поселить людей, привыкших если не к роскоши, то к чему-то к ней близкому, рассчитывавших на определенный уровень комфорта, в подобие коммуналки – это, конечно…
– Нет, ты соображаешь, что говоришь?! – возмущение Татьяны подтвердило правильность хода его мыслей. Жаль только, что она никак не хочет понять, что сказал он это, просто чтобы ее утешить, чтобы показать, что и он на что-то способен, может предложить какой-то выход. – Нет, как я могу их поселить сюда?! – жена часто начинала любые фразы решительным «нет!», как будто постоянно с кем-то спорила, подбирала возражения и сама себя за них уважала.
– А что такого? Место найдем, – он решил дать ей возможность поспорить: может, пошумит и успокоится, а там и выход какой-нибудь найдется.
Борис привык, что выход всегда находился. Что находился он не сам по себе, что его обязательно находил кто-то деятельный и ни на что не надеющийся, никогда не приходило ему в голову. Просто всегда так получалось: вот, кажется, совершенно безвыходное положение, а вот уже и выход. Надо только выучиться ждать, как пелось в старой песенке про надежду, надо быть спокойным и упрямым… вот это верно! Спокойным-то он был всегда, иначе не вынес бы вулканической Татьяниной активности, но теперь настало время проявить упрямство.
Он задумал умную вещь, и он своего добьется. Во что бы то ни стало. Потому что если он не добьется ничего и в этот раз, то… то никогда ничего уже не сумеет добиться.
А Татьяна – что ж, выход всегда находится, никак она не выучится ждать! Все мечется и дергается… ладно, пусть покричит, подоказывает, какая она умная, ей и полегчает. Глядишь, и выход обнаружится.
– Нет, ну куда?! Им нужно две спальни, детская… потом мы тут у самых ворот, шум этот… и деньги возвращать придется!
Конечно. Деньги. Главное слово ее жизни. Она уверяет, что не только ее, что жизни вообще… скучно на этом свете, господа, как сказал классик.
Квартирный вопрос в богатом дачном поселке! Сюжет для небольшого рассказа! Вот ведь умеют люди создавать проблемы! Нет, эти турки, хозяева дачи, конечно, хороши, спора нет, но, с другой стороны…
Стандартная дача здесь – это три этажа: на первом гостиная, объединенная с кухней на американский манер, и туалет, на втором две спальни и большая ванная комната – совмещенный, так сказать санузел, на третьем спальня, душ и туалет. Это если не считать окружающую весь дом террасу, большие балконы, один из них, на самом верху, вообще больше, чем комната, и при здешней погоде на них можно спокойно проводить время и даже спать. Не говоря уже о том, что большинство в принципе не сидит по домам, а с утра отправляется на пляж, потом, перекусив, валяется у бассейна, кто-то ездит по окрестностям, кто-то носится по рынкам и магазинам.
И им все мало.
Сад, который никому сто лет тут не нужен, кроме коренных жителей, непременно оказывается маловат, холодильник не той марки, кондиционер не той мощности.
Можно подумать, у себя в Москве или Питере все живут во дворцах.
Да даже те, кто уже построил или строит эти новомодные дворцы, пожили и в хрущевках, и в коммуналках, и в поселках городского и никакого типа, а теперь всем подавай роскошь, и отдельного туалета и душа на каждом этаже им уже не достаточно.
Некоторым еще и русское телевидение подавай. Подали – ах, только один канал?!
И – ах, ужас! – в магазине нет гречки! Да хочешь гречки – ешь ее весь год у себя в Урюпинске или Бобруйске, а месяц у моря питайся чем-нибудь местным, благо, не Китай, никто собак и гусениц с тараканами не ест, и овощей-фруктов всяких навалом.
Если и попала тебе под матрас горошина – не кричи, если ты настоящая принцесса. Кричат только простолюдинки, чтобы сойти за принцесс, в этом Борис был абсолютно уверен.
– И никто, как назло, не уезжает! – продолжала свое Татьяна. – Нет, ну как я Маше объясню, ты можешь себе представить?! Специально отдельный дом им подобрала, а тут такое! И сестра еще ее… к ней, говорят, то ли любовник, то ли муж приедет, ее тоже куда попало не поселишь!
Что сестра Маши жене активно не нравилась, Борис знал, как знал и то, что да, ее куда попало не поселишь. Хотя она-то, как настоящая принцесса, не стала бы ныть и предъявлять претензии, это он чувствовал.
– Слушай, – решил он высказать еще одно бесполезное соображение, чтобы поддержать разговор, – а может с этими поговорить… у которых по два дома? У них же половины пустуют, правильно? Предложить им денег или просто, – заторопился он, пока Татьяна не набросилась на него из-за упоминания всуе рокового слова ее жизни, – просто объяснить, в какое ты попала положение. Они же нормальные вроде…
– Где ты видел нормальных турок?! – как-то машинально, без обычной страсти произнесла Татьяна и замолчала.
Вот ведь как бывает. Кажется, так попала, дальше некуда, а тут раз – и помощь, откуда не ждешь! Чтобы муж хоть раз высказал здравую мысль, причем не абстрактную, никому не нужную прописную истину, а вполне практическую, такую, что можно применить! Татьяне было даже смешно, что такое простое решение не пришло в голову ей самой.
Перенервничала. Еще бы, он сидит тут, книжки свои умные почитывает, а она крутится, со всеми общается, от одних разговоров этих на двух языках к вечеру голова гудит.
Мысль, однако, вполне…
В поселке было два таких дома, обе половины которых принадлежали одной семье. В одном постоянно, даже зимой, жила странноватая женщина, русская, но хорошо знавшая турецкий язык. Она непременно подходила ко всем приезжавшим туристам, заговаривала, однако никогда никого не приглашала в гости и не ходила никуда, кроме рынка и ближайшего супермаркета. Сторож сказал, что у нее тяжело болен муж, лежит, не встает, что с ним, Татьяна понять не смогла, но, видимо, что-то серьезное. Зачем им, двоим, два соединенных дома, если они никогда никого не приглашают? Можно попробовать поговорить, почему нет.
Второй дом был совсем недалеко от того, который снимала Маша и который теперь надо было быстро, за два дня, освободить. В нем тоже было не так много обитателей, и с его хозяйкой по имени Эмель Татьяна была знакома. Тоже вариант.
Нет, Борис-то каков! Молчал, молчал – и выдал вполне здравую мысль. Обычно ты его ни о чем не спрашивала, шепнул какой-то тихий внутренний голос, вот он и молчал. Но, с другой стороны, не делиться же с ним… замучает поучениями, упреками… как будто она сама не понимает, что такое хорошо и что такое плохо! А что делать? Сидеть, как он, получать мизерную зарплату и книжки читать?
– Или еще с Крисом поговорить можно, – истолковав ее молчание как неодобрение, продолжил Борис, – он же риэлтор, всех знает…
– Я сама риэлтор не хуже твоего Криса! Сама и разберусь! – это было несправедливо, все-таки он ей подсказал хоть какую-то возможность выхода, но Татьяну, никогда подолгу не задерживающуюся ни на одной мысли, если та не была связана с ее работой, меньше всего занимали вопросы справедливости.
Особенно сейчас. Впрочем, у нее все и всегда было «сейчас». Она набрасывалась на любую возникающую проблему, как изголодавшаяся кошка, быстро и сразу, ничего не откладывая и ни о чем не жалея. Вот сегодня дала слабину… но оно и понятно, и вообще, хватит сидеть, если решила, что делать дальше.
– Пойду, поговорю, некогда время терять! С Крисом своим сам разговаривай, может, узнаешь что-нибудь, – она поднялась и одернула сарафан. – Переодеться, что ли? Сентябрь почти, а жарко как!
– Переоденься, – поддержал Борис, старательно не глядя на ее мятый выцветший сарафан. Сейчас она снимет этот, цветастый, и наденет тот, который в клеточку. Скучно на этом свете, господа: ни с какой стороны никаких неожиданностей.
Разве что акулы да мелкие сложности, которые его недалекая деловая жена принимает за вселенскую катастрофу.
– Кстати, Тань… ты бы Машу свою предупредила… я вчера ее сестру с Крисом видел, сидели в парке, кошечек кормили…
– И чего? – приостановилась заинтересованная Татьяна. Вот это правильно, хороший ход: сплетни она любит, пусть пользу приносит!
– А то, что Крис, насколько я понимаю, голубой. А у ее сестры, может, на него виды какие?..
– С чего ты взял? Если мужик один живет, так сразу уже голубой? Мало ли, кто у него…
– Да никого у него, и говорил он мне что-то такое… но вообще-то лучше не в свое дело не лезть, просто ты сказала, что к Машиной сестре любовник приедет, я и вспомнил… ладно, ты переодеться собиралась? И я пойду, – Татьяна все на лету схватывает, можно больше не утруждаться.
Он отложил том Алданова (все читано-перечитано, но не за детективы же браться, хоть бы и от все оправдывающей скуки), отнес его в гостиную (во как живем: обедаем в столовой, спим в спальне, оперируем в операционной – не то что Айседора Дункан!), усмехнулся (кому, ну кому можно сказать это – про операционную и Дункан – и быть понятым?), проводил глазами быстрый промельк клетчатого (угадал!) сарафана и неохотно вышел из дома – из спасительной тени на слепящую жару.
На террасе у Криса лежал, развалившись, изнывающий от жары рыжий кот.
«Бороду, что ли, сбрить? – глядя на его мех, подумал Борис. – Может, не так жарко будет?»
Нет, это надо было раньше, теперь уже смешно, скоро в Москву, да и половина лица будет незагорелая – глупо!
Он постучал в стеклянную дверь, кот неодобрительно шевельнул ухом и приоткрыл один глаз. «Что вам надо в такую жару? – говорил его недовольный вид. – Лежали бы себе, как я, а то ходите тут, а я как-то реагировать должен!»
– Крис! – не слишком громко, чтобы не переполошить всех соседей, позвал Борис и на всякий случай подергал ручку двери. Как правило, никто в поселке дверей не запирал – разве что уезжая на пляж или в ближайший городишко – такая вот идиллия. Территория, правда, была окружена незаметным забором из сетки, но это, как объяснили Татьяне, было сделано, чтобы из леса не забегали лисы, а из деревни бродячие собаки, а не от воров и злоумышленников. Три сторожа постоянно жили в поселке на разных его концах, но занимались они и стрижкой газонов в парках, и уходом за бассейном, и вывозом мусора, и если кто-то из них и нес дежурство в будке у въездных ворот, то, как правило, воспринимал это как законную передышку и безмятежно смотрел телевизор.
У Криса было заперто – значит, уехал куда-то. Конечно, вон и машины же перед домом нет! Борис удивился собственной глупости: он и сам ходил пешком только по поселку, а Инка даже до бассейна иногда просила довезти, да и все здесь на машинах, как он мог сразу не сообразить?
Нет машины – нет человека.
Нет человека – нет проблемы. Можно двигать домой, к своему Алданову, неплохой был писатель…
Нет, лучше не рисковать: Татьяна прилетит, а он опять сидит читает. Скучно… господи, цитата и та привязалась предсказуемая!
Борис решил сделать круг по поселку – потом скажет, что искал Криса в кафе и бассейне. Хотя он там почти не появляется – это Борис знал, как никто. Не то чтобы он за ним следил… хотя, между прочим, не мешало бы и последить! Ясно, что Крису, нечего делать в таких местах – так же как ему самому.
В каком-то смысле они почти коллеги, и это настораживало и пугало Бориса. Ведь если он додумался… до того, до чего додумался, то что может помешать Крису, если он не полный идиот, додуматься до того же самого?… Их разделял сейчас только один шаг, Борис опередил англичанина, но если тот что-нибудь пронюхает… или просто дойдет своим умом, то весь план Бориса может рухнуть.
Он неодобрительно присмотрелся к запущенному садику, заросшему высокой, почти по пояс, желтой, колючей травой, в которой были нагромождены какие-то камни. Да уж, этому не до английских газонов! Ловкий тип, ничего не скажешь.
Двоим на этом поприще не выжить. Как говорится, Боливар не вынесет двоих.
Ладно, до приезда Николая всего ничего, ждать осталось совсем недолго. Конечно, сразу так, с места в карьер, к такому разговору не подступишься, надо это все как-то похитрее обставить. Может быть, в Дидим их свозить или в Милет, и потом уже?.. Или, наоборот, прикинуться деловым человеком – и сразу?..
Сейчас, конечно, самое главное, чтобы Таньке удалось что-то придумать с переселением. Нет, ну надо же, подумал он почти словами жены, бывают же такие необязательные люди! Сдали дом – а потом раз и передумали, бред какой-то!
У бассейна и в кафе Криса, конечно же, не было.
Борис с неудовольствием понаблюдал за стайкой шумной молодежи, в центре которой резвилась загорелая до абсолютной шоколадности Инка. Какие-то парни изо всех сил старались привлечь ее внимание, крича ей что-то по-турецки в оба уха, но она хохотала, не слушала и строила глазки совсем другому, который имел наглость отвлечься от ее персоны и подойти к другой девушке. Через минуту вся эта компания, с визгом и хохотом, поднимая фонтаны брызг, плюхнулась в воду, наводя ужас на нескольких англичанок средних лет, мирно плававших в голубой спокойной глади и вдруг оказавшихся в центре бурлящего водоворота.
Что поделаешь, ничего им теперь не запретишь, делают, что хотят, да еще и не понимают своего счастья. Эх, где мои шестнадцать лет?.. Вот именно.
Борис вышел из-под навеса, образованного зарослями дикого винограда и еще чего-то вьющегося и цветущего, и пошел дальше. Лучше встретить Татьяну по дороге: быстрее узнаешь, чем дело кончилось.
Если оно вообще кончилось, а не началось. Борис был историк по образованию и уже в силу этого, по определению или, как теперь модно выражаться, по умолчанию, знал, что конец одной эпохи всегда оказывается началом следующей, а порой начала и концы так запутаны, что и не разберешь, что именно считать началом, а что концом.
Конец любого романа может автоматически стать началом другого. Только вот романы тогда предельно уподобятся жизни, превратятся в этакие бесконечные сериалы, утратят очарование условности, жанровое допущение, при котором автор и читатель заключают безмолвный договор – вот начало, а вот там конец, мы оба это знаем и играем по этим правилам. Даже если хитрый извращенец автор начнет с конца или с середины, бывалый читатель сразу это понимает и оценивает: ах, вот ты как, ну что ж, тем лучше, принимаем твою игру. Бесконечный роман или фильм – это все равно что игра в шахматы на доске с клетками всех цветов радуги. Ни законов, ни правил. Как в истории, где единственным объективным законом является смена эпох, причем даже сами эти эпохи, их начала и концы, определяются весьма условно.
Вот Татьяна начала ездить в Турцию – разве можно было тогда предположить, что из этих ее поездок родится замысел Бориса, который, он был уверен, станет началом нового периода его жизни. Может быть, даже самого главного периода. До этого он был уверен, что для него как личности все закончилось – только Татьянин убогий бизнес, какое-то выживание, попытки что-то заработать, никакой карьеры по специальности, никаких (господи, о чем ты!) научных открытий.
А оказалось, что все это было только началом, и настоящее дело, за которое потом будет не стыдно, еще впереди.
Татьяна стояла около дома с колокольчиками – кажется, когда-то была такая пьеса, и шла она в модном московском театре. Борис уже не помнил, о чем там была речь, но назвал этот дом именно так – «дом с колокольчиками». Хорошо, что нам их не слышно, в который раз подумал Борис, петуха, которого недавно завел сторож, вполне хватает.
Борису нравилось давать имена домам. Он приезжал сюда третье лето и не уставал удивляться тому, как постепенно увеличивается разница между одинаково построенными, покрашенными в один цвет, типовыми домиками. Сначала они все были на одно лицо, неразличимые как близнецы, капли воды, что там еще… он с трудом находил среди них свой и поглядывал на номера. Тогда ни о каких именах и речи быть не могло.
Но вскоре, несмотря на соблюдаемый запрет что-либо пристраивать и перестраивать, дома приобретали каждый свое лицо, становились отражением своих владельцев. А иногда желания этих владельцев казаться не тем, кем они были. Тогда Борис и начал эту игру – давать домам имена, в которую постепенно включались все вновь приезжающие. Котировались имена знаменитые, желательно бывшие названиями книг или фильмов, и когда только что приехавшая Лана, посмотрев, где ей предстоит жить, сказала: «О, дом с мезонином!» – Борис обрадовался: наш человек! И до Чехова почему-то никто не додумался.
У них были уже «дом восходящего солнца», «дом с привидениями», «дом, который построил Джек», «хижина дяди Тома», «кошкин дом», даже «дворянское гнездо», а вот «дома с мезонином» не было.
Теперь дом с мезонином, где жили Лана и Маша, надо было освободить, но что делала Татьяна у явно бесперспективного дома с колокольчиками, было непонятно.
В этом доме хозяева жили все лето, да если бы и не жили, то никого не подпустили бы к своему детищу. Сторож Байрам, этот неиссякаемый источник всех местных сплетен, сказал, что хозяин дома знаменитый адвокат, но сказал он это как-то так, что было понятно – Тань, ну что тебе может быть понятно, вы с ним еле объясняетесь, не выдумывай! – что никакого уважения это у сторожа не вызывает. То ли ему не по душе известность и богатство, то ли профессия адвоката, то ли сам этот господин как таковой.
Адвокат в своем доме души не чаял. Детей у них с женой не было, и все свободное время и деньги они явно тратили на этот дом. И вкладывали в него душу.
Что ж, родители Бориса тоже всю жизнь носились со своей дачей, теперь даже живут на ней постоянно, но разве это сопоставимо? Что там наши шесть соток, с непременной картошкой и изысками вроде флоксов и астр, – посмотрели бы они на местные фантазии! Потому и дома все разные, что никакой картошки, никакой финансовой зависимости от ежегодного урожая, – делай что хочешь, хоть альпийские горки, хоть террариумы, хоть, как у этих, сады камней.
Насколько Борис мог судить, сад камней, устроенный адвокатом, был если не идеальным, то все-таки правильным и продуманным, сделанным не просто так, а вполне компетентно. Не то что взял человек да положил камни на землю, нет – в этом небольшом саду просматривалась система и знание предмета. Борис не особо интересовался японскими чудесами, знал о них не больше и не меньше, чем любой, учившийся чему-нибудь и как-нибудь, регулярно читающий человек.
Кажется, полагается, чтобы с любого места, откуда бы ты ни смотрел, один камень не был виден, но удалось ли адвокату соблюсти это правило, Борис не понимал. Впрочем, его это и не интересовало. Грубо говоря, с жиру бесятся, и все дела!
Предложи нашему дачнику три из шести любимых соток засыпать мелким песочком, да разложить на нем штук десять булыжников пострашнее, да каждый день частыми грабельками тот песочек приглаживать и причесывать, чтобы линии были вроде ряби на воде, да созерцать это чудо до полного просветления души… такое тебе скажет тот дачник, мало не покажется!
Время собирать камни – и сажать на участке картошку, чтобы выжить. Это по-нашему.
Время разбрасывать камни – и воображать, что это нечто высоко интеллектуальное. Совершенно чуждая культура. До альпийских горок, гордо именуемых в дамских журналах «рокариями», некоторые уже дошли: конечно, собрал камни – сделал из них тот самый рокарий, сюда можно и флоксы приткнуть, чтобы картошке просторней было.
Но сад камней… нет, пока не для нас. Не пришло еще то время. Может, где-нибудь на Рублевке?.. Да и там – кто станет сидеть, уставившись на камни, лучше уж на собственный бассейн с красотками или на бутылку!
– Тань, ты чего застыла? Камни созерцаешь?
– Какие камни?! – Татьяна очнулась от явно не связанных с созерцанием камней мыслей. – Совсем обалдел?! Я, между прочим, делом занимаюсь…
Конечно. Она всегда занимается делом, а он так… просто живет, камни разбрасывает. Ладно, подожди, вот займусь настоящим делом, по-другому заговоришь. Придется тебе шофера искать, мне тогда не до твоего мелкого бизнеса будет.
– Криса нет, – доложил он, чтобы не слушать, – уехал куда-то.
– Да черт с ним, с Крисом, я договорилась уже… ну, вернее, почти. С Эмель, – она кивнула на дом, участок которого граничил с садом камней. – Вот только вечером муж ее приедет… турчанки эти! Ни черта без мужа не решают! Сама: да-да, конечно, как же не помочь, я бы с удовольствием… но: вот муж приедет, вот я его спрошу…
– Вот приедет барин, барин нас рассудит, – не удержался и нараспев процитировал Борис.
– Во-во, точно! Причем Айше, невестка ее, говорит: давай, мол, позвоним, спросим, сразу все и решим. Ах, нет, как можно! Он на работе, то-се, нельзя его беспокоить, вот приедет вечером…
– Ну и правильно! Такие вопросы не для телефона. Сама подумай: она позвонит, он занят, не выслушает толком и откажет: зачем ему наши проблемы, когда у него своих полно? А вечером отдохнет, расслабится, она ему про твою беду расскажет… очень даже умные твои турчанки, всем бы таких жен!
– Да тебе бы такую жену – ты бы с голоду подох! Вон она – ни образования, ничего! – в жизни не работала, сидит себе на собственной даче в тенечке, картину рисует!
– Картину? – удивился Борис.
– Не знаю, чего она там рисует, только ни копейки в жизни не заработала, а тут крутишься, как белка в колесе, и еще выслушиваешь потом!
– Тань, да что я сказал?! Я имел в виду, что все образуется, что муж ее вечером приедет, и все будет нормально. Она-то ведь не отказала, правильно?
– Да нет. И Айше согласна, она в их часть перейдет, все равно, говорит, муж, скорее всего, не приедет, так чего она одна на той половине… и Маше тут переезжать близко, – Татьяна понизила голос и, оглянувшись на дом с мезонином, заторопилась. Встречаться с Машей и Ланой лицом к лицу она, видимо, еще не была готова. – Пойдем, я еще с этой поговорю… не знаю, как ее зовут… вроде русская, а дикая какая-то!
– Зачем? Ты подожди до вечера, может, здесь все получится.
– А если нет? А если к Лане любовник приедет, и они захотят отдельно? «Подожди»! Тебе легко говорить, отвечаю-то за все я! Вот я сяду тоже на террасу, буду картину рисовать, узнаешь тогда!
– А ты нарисуй, может, ей цены не будет! «Сотбис»…
– Ох, отвяжись, ради бога! Тут и так не знаешь, как выкрутиться, еще ты со своими картинами…
Не было никакого смысла говорить ей, кто первый начал про картины. Пустая затея – вроде устройства сада камней.
«Борис, ты не прав!» – эта на все лады склонявшаяся, надоевшая всем фраза времен перестройки стала Татьяниным девизом и смыслом жизни.
Ты не прав – значит, права я. Когда, по какому умолчанию, возник этот антагонизм? Почему нельзя, чтобы мы были правы оба, если не вместе, то хоть каждый по-своему?
Ничего, наступит и для меня время… собирать камни.
Тогда она признает… а как, кстати, ей все это преподнести? Если выложить все, всю идею прямо сейчас, а потом что-нибудь сорвется… нет, так нельзя! Но, с другой стороны, придется же как-то объяснить, что он хочет остаться.
Да, проблема. Сдавать билет, продлевать аренду дома – без Татьяниной помощи не справиться, не говоря уж о том, что сама мысль задержаться в Турции… странно, что это раньше не пришло ему в голову. «Сотбис» вот пришел… а все остальное нет!
Впрочем, ничего странного: он был увлечен своим планом, обдумывал дело, а не то, кто и как к этому делу отнесется. К тому же, надо признать: он воображал само осуществление плана, на том этапе, когда он уже добьется успеха, и в этом случае одобрение Татьяны было бы ему обеспечено по определению. Да и что ему тогда ее одобрение?
А между тем до этого успеха еще далеко. И что он ей скажет? А если она назовет его идею бредом и авантюрой и не позволит ему остаться?
Он посмотрел вслед решительно удалявшейся жене и перевел глаза на сад камней. Вот и собирай тут… камни, когда ничего не можешь сделать без посторонней помощи и участия. Почему-то его больше заботило, как привлечь на свою сторону Николая, а о Татьяне он и думать забыл!
Думать забыл. Вот именно, в точку. Замечательное, в сущности, выражение – «забыл думать». Вытеснил в подсознание, как сказал бы любой психолог, потому что хотел забыть, от кого все в твоей жизни зависит.
И забыл думать о самом главном.
«Типа «слона-то я и не приметил!» – усмехнулся про себя он. – А что, японцы не дураки: всех камней сразу не увидишь, хоть один да подвернется потом на пути. И будет тебе «камень преткновения»! Черт, как бы так Таньке сказать?.. Чтобы и сказать, и в то же время… чтоб не все камни видно было… да, не дураки японцы: посмотришь на такой садик – задумаешься!..»
Борис сделал шаг в сторону, не сводя глаз с камней. Точно: один совсем исчез из поля зрения, зато неожиданно высунулся другой, которого до этого там вроде не было. Вот так и Танька вдруг высунулась… идею ей нельзя выдавать ни в коем случае! Или засмеет, или всем разболтает, или примется вмешиваться и замучает советами.
Николай, кстати, тоже еще неизвестно, как все воспримет. И если Татьяна сама по себе для дела не нужна, то без него-то никак не обойтись. А если он сделает вид, что идея ему не понравилась, а сам за нее ухватится и решит обойтись без Бориса? Бизнесмен все-таки, строитель, вольный каменщик, у них там без обмана ничего не делается, хрен бы он чего построил, да еще в Москве, если бы был весь из себя честный и порядочный!
Борис сдвинулся на полшага назад, рассчитывая увидеть-таки те два камня одновременно. Не может быть, чтобы хоть краешек да не увидеть! Вот, точно, так я и знал: обман все это! Оба камня выглядывали беззащитными краями из-за тех, что должны были скрыть один из них.
Ни черта этот адвокат не смыслит, положил камни как попало! Борис с презрением проследовал взглядом вдоль тонких, словно расческой проведенных зигзагов, и тут понял, что что-то не так: картина изменилась – он не видел теперь одного камня, который он заметил до этого, потому что тот был похож на большую морскую раковину.
Вот черт! Он снова переместился на те же полшага: раковина появилась, но исчез, как и до этого, один их прятавшихся камней. Неужели правда, что их невозможно увидеть все?
Ему захотелось перелезть через низкую бетонную ограду, встать прямо перед этим японско-турецким чудом и удостовериться… в чем, господи?! Какая тебе разница: видно, не видно?! Свои проблемы решай, Шлиман!
Решение пришло мгновенно, словно перед этим он не мучался, не колебался, не изводил себя сомнениями и страхами, и было оно таким простым, что все эти размышления и мучения хотелось сразу же забыть, чтобы не упрекать себя за них.
Конечно, как просто! Всего-то: не показывать никому все свои карты (все свои камни!), пусть ни Николай, ни Танька вообще не знают о его намерениях, он предложит им совсем другое, он сейчас же сделает жену своей союзницей, ведь сколько она ему твердила, чтобы он нашел нормальную работу…
Вот он и нашел – нормальнее некуда!
А больше им и знать не надо: вот ваши камни, все на виду, любуйтесь себе на них, пока не надоест.
Но один я положу похитрее и вы его до времени не увидите, а когда время придет, я возьму вас за ручку и поставлю на другое место. Тогда вы все увидите и удивитесь, как это вы раньше… а вот так – скажу я! Книжки надо было больше читать, тогда бы и сами смогли видеть, и собирать, и разбрасывать камни!
3. Кемаль
Таблица была четкой и ясной, даже красивой. А в глазах рябило не от нее, а либо из-за дешевого монитора (а какой вы хотите в полиции, хороший только у начальства!), либо просто от усталости. Как будто песок в глаза попал… откуда? Песок на пляже, пляж черт-те где, а ты здесь, и все твои проблемы с тобой.
Хотя мог бы быть и на пляже.
Только вот тогда Кемаль не был бы самим собой, а если бы был, то наверняка обычная песчинка, попавшая в глаз на пляже, раздражала бы его куда больше, чем вся эта усталость, и недосып, и рябь перед глазами. Работа всегда была для него не просто работой, а образом жизни, он привык жить ею, не признавал никаких отпусков и выходных, разве что случалось затишье – тогда он отсыпался, отдыхал, пробовал радоваться появившемуся свободному времени… и начинал скучать.
Да, он обещал Айше, что возьмет настоящий отпуск. Не такой, когда его в любой момент могут сорвать с места и попросить куда-то подъехать или что-то припомнить, не такой, когда все его мысли будут заняты оставленным делом и он сам будет без конца названивать работающим коллегам.
Не такой, а нормальный, как у людей. Недели на две.
«Я тоже люблю свою работу, я, между прочим, книгу пишу, у меня почти все мысли о ней, но – почти, понимаешь? Иногда надо отдыхать или хоть менять обстановку, нельзя же так! Мы почти не видимся, как будто и не женаты… и потом…» – главным, конечно, было то, что она недоговаривала, это самое «потом».
Она устала. Устала бояться, ждать его или, чаще, его звонков, разогревать ужин и, в конце концов, убирать его в холодильник. Устала ложиться, не дождавшись его, вздрагивать по ночам от телефонных звонков, даже столь любимые ею когда-то истории о преступлениях и расследованиях слушать устала. Устала жить в вечном детективе – своем любимом жанре. Когда-то глаза у нее загорались, и она слушала с неподдельным интересом, и обижалась, если он не рассказывал ей, чем занимается, и предлагала свои версии, и придумывала мотивы, и ждала продолжения.
Потом что-то пропало. Пропал этот блеск в глазах и радость – искренняя радость, без малейшего раздражения, ничего, кроме радости! – когда бы он ни вернулся домой. В дверях, по их молчаливому соглашению, всегда изнутри торчал ключ: если Айше была дома, она открывала ему сама в любое время, хотя он каждый раз предлагал ей не делать этого и спокойно спать.
Этой зимой что-то изменилось. Наверно, ежедневно получаемые ею дозы страха стали накапливаться, не находя выхода, Айше стала сердиться, и сначала ему даже льстило, что она так волнуется за него, что выходит из себя.
Значит, она его любит. Он постоянно сомневался в этом, хотя они были женаты уже несколько лет, он никак не мог поверить, что женщина, в которую он, как в кино, влюбился буквально с первого взгляда, которую так долго ждал, действительно любит его. Да, она его жена, да, она живет с ним и кажется вполне довольной жизнью, но… но у него самого перехватывало дыхание, когда она открывала ему дверь, а у нее?
Внезапные вспышки ее недовольства ему втайне нравились. Это было правильно: жена переживает, нервничает, боится. Наверно, он слишком поздно понял, что ей самой все это не доставляет ни малейшего удовольствия. И что свой страх она тщательно скрывает даже от себя самой, а вовсе не преувеличивает его, делая поводом для ссор.
Это началось прошлой осенью. В ноябре, дождливом, ветреном ноябре, вслед за которым пришел еще более ветреный и холодный декабрь. Именно тогда он начал свою необъявленную войну, которая продлилась всю зиму, захватила и испортила весну, затянулась и затянула тенью все лето.
Он не мог отказаться от борьбы, не мог оставить дело на коллег: он чувствовал, что с этим он должен разобраться сам. Иначе вечно будет считать себя проигравшим.
А выигравшим будет жестокий равнодушный убийца.
Именно равнодушие задевало Кемаля больше всего. Этот убийца был не таким, с какими ему приходилось сталкиваться, и Кемаль был уверен, что нашел ключевое слово, при помощи которого преступника можно найти.
Пусть он остался сначала в меньшинстве, а потом и в одиночестве, пусть психолог-профессионал слушает его невразумительные объяснения с усмешкой, – он знал, что понял что-то в душе убийцы, то, что не дается пока составителям профиля, которые с осени топчутся на месте, составляя свои бесконечные таблицы.
Он знал то, что отличает этого убийцу от остальных.
Равнодушие.
Не спокойствие, не холодный расчет, не безразличие к страданиям жертвы – они встречаются, они нередко помогают преступникам долго скрываться, а порой и избежать наказания.
Нет, здесь было другое – абсолютное равнодушие. Убийце было все равно, кого убивать, как именно это делать, когда и где, – об этом, и ни о чем другом, говорили все тщательно составляемые и анализируемые психологами и детективами таблицы.
Однако ему зачем-то было нужно продолжать убивать, и этого Кемаль пока не понимал. Он был абсолютно уверен, что когда-нибудь поймет и это, стоит сделать еще какое-то усилие, но… время шло, женщины продолжали умирать, полиция делала все возможное и невозможное ради расследования и ради предотвращения слухов и ненужного шума в прессе. Кемаль нервничал, почти не спал, сидел над таблицами и текстами допросов, бегал сам по всему городу, чтобы передопросить, уточнить, посмотреть самому…
Отпуск у моря на две недели?! Понятными словами в этой фразе оказывались только «две недели» («отпуск», «море» – что это и где?), но непонятно было, станут ли они неделями ожидания очередного убийства или началом расследования нового.
Каждое новое преступление заставляло пересматривать весь ранее накопленный материал – все улики, данные вскрытий, все связи потерпевших… колоссальная работа, ведшаяся одновременно в нескольких районах города, контролируемая самыми важными и серьезными людьми… колоссальная работа, делаемая пока впустую.
На данный момент было понятно одно: угроза нависла над женщинами, мужчин в страшном списке пока не было. Было ясно и то, что толчком к началу серии почему-то послужило отдельное, уже раскрытое преступление, совершенное по нелепым, но важным для убийцы мотивам.
Так бывает всегда.
«Разве можно ради этого? Какая малость!» – удивляются все, а убийца полагает, что у него не было иного выхода. Тот, пойманный самим Кемалем (не вычисленный, а примитивно пойманный за руку, подозревал-то Кемаль другого, и преследовал другого, и до сих пор не мог себе простить этого!) убийца хотел танцевать… всего-навсего танцевать! Танцевать ведущие партии, которые его будущая жертва насмешливо угрожала у него отнять. Отнять у него жизнь, будущее, смысл всего его существования. Ее угрозы ничего не значили, но сама она верила в них – и убийца поверил.
И лишил девушку возможности вредить ему – лишив жизни.
В том, что существовал второй убийца, Кемаль не сомневался с самого начала. Когда все в один голос заговорили о серии, привлекли к работе психолога, создали объединенную группу, уже тогда он чувствовал, что убийство балерины – само по себе, а похожее на него убийство домохозяйки совершено кем-то другим.
Мало ли зачем? Если вездесущие газеты, которым теперь ничего не запретишь даже ради спасения чьих-то жизней, описывают все подробности убийства, этим может воспользоваться кто угодно. Спрятать одно убийство в серии других – не слишком новая и, увы, отнюдь не оригинальная идея. В романах и фильмах – сплошь и рядом, да и в жизни – редко, но случается.
На месте обоих преступлений, в темных, действительно похожих друг на друга подъездах без лифта, были обнаружены перышки. Это, собственно, и убедило всех: да, серия, да, срочно создать группу, да, объединить оба дела.
Слишком легко, думал тогда Кемаль. Подъезд, способ убийства, перышки, оказавшиеся, кстати, из разных источников, – все это так просто подделать. Достаточно читать газеты… или где-то услышать подробности, благо вовлеченных в расследование людей немало, и наверняка многие из них, невзирая на официальные запреты, делятся информацией со своими близкими.
Искренне полагая, что делятся собственными переживаниями. И будучи уверены, как был уверен он сам, всегда все рассказывающий своей Айше, что близкие ни с кем и ни за что не поделятся полученными сведениями.
Но ведь этим довольно многочисленным близким тоже хочется поделиться переживаниями или просто произвести впечатление на соседей.
Первый убийца не мог совершить второго убийства – это было доказано, его алиби и неподдельное изумление при предъявлении еще одного обвинения подтверждали это. Своим убийством он дорожил и чуть ли не хвастался – чужое, совершенное по не понятным и явно незначительным для него лично причинам, он принимать на себя не собирался. И боролся с теми, кто пытался ему его приписать.
Впрочем, особо бороться и не пришлось: третье убийство было совершено, уже когда он был задержан, и все потенциальные жертвы были для него вне зоны доступа.
Третье… Кемаль был рад, что ни с кем не поделился своими умозаключениями, возникшими до него. Третье убийство, ставшее вторым в снова появившейся серии, отличалось от двух предыдущих. Балерина и вторая жертва были задушены проводом и выброшены в лестничный пролет, а третья просто задушена, и вдобавок не проводом, которому Кемаль придавал такое значение, а чем-то тонким, предположительно струной.
Четвертая – очень худенькая и слабенькая пожилая женщина – задушена руками. Разумеется, в резиновых перчатках.
Пятая… нет, балерину не надо считать, тогда первой в ряду оказывается безобидная домохозяйка, родственников и друзей которой совершенно измучили бесконечными допросами и подозрениями. До следующего убийства главной была версия, что кто-то, используя почерпнутые из газет сведения, решил избавиться от этой женщины, и в этом случае искать убийцу следовало среди ее окружения.
Что все старательно делали, хотя была высказано и предположение, что убийца балерины хочет отвести от себя подозрения и прячет, как знают все читающие детективы, лист в лесу, а камень на морском берегу. Когда у убийцы балерины обнаружилось бесспорное, неопровержимое алиби, эту версию отбросили: не было никого, кто стал бы так стараться ради прекрасного танцовщика, в таких делах не бывает компаньонов.
У Кемаля тогда была одна идея. Он исходил из того, что о том, как именно была убита первая жертва, никто не знал. Газеты писали, что она была задушена и сброшена с лестницы, но никто, кроме непосредственно занятых в расследовании и видевших тело, не знал, что орудием убийства был провод. Не самый обычный, кстати, провод, используемый компьютерщиками.
А что представляет себе нормальный человек при слове «задушена»? Случайный жест случайной знакомой подсказал Кемалю – это тянущиеся к горлу жертвы руки с угрожающе растопыренными пальцами. Значит, если бы кто-то хотел имитировать стиль убийцы, пользуясь как источником только прессой, никакого провода на месте второго преступления не было бы.
Этот провод, о котором потом предлагалось забыть, не давал Кемалю сбросить со счетов убийство балерины и принять за аксиому, что оно раскрыто полностью и окончательно, а серия началась с убийства домохозяйки Неше Алтай.
Если не считать балерину, убийств было уже шесть. Все совершены в пустых темных подъездах без лифта, во всех случаях жертвами оказывались женщины… и все. Провод (если забыть о балерине) был использован только однажды, одна из жертв была вообще убита оставленным на месте преступления ножом, перышки (если забыть о балерине!) появились еще дважды, следов сексуального насилия не обнаружено.
Зачем он их убивает? Специалисты затруднялись составить психологический профиль так называемого измирского маньяка, иногда высказывались предположения, что убийства совершают разные люди, однако такая точка зрения не встречала поддержки. Ни в верхах, у начальства, которому охота на маньяка представлялась более перспективной и сулила больше прибылей в случае удачи, ни среди коллег Кемаля, которые замучались изводить допросами людей из окружения жертв, ведь жертвы были ничем не примечательными, незаметными особами, у которых не было ни врагов, ни серьезного наследства, ни темного прошлого.
Маньяк – и все дела. Иначе – кто и зачем? Зачем?! Такие разные женщины, такие (кроме балерины, но она-то не в счет!) бесцветные женщины, такие безобидные, тихие женщины.
Ему все равно, думал Кемаль. Все дело в том, что ему абсолютно безразлично, кого убивать. Ему просто нужно убивать – ради какой-то своей тайной цели или из-за такой особенной душевной болезни.
Он их не выбирает. Не ищет, не выслеживает, не ждет неделями и часами. Потому что ему все равно.
Так не бывает, сказали психологи. В этом случае он убивал бы их одинаково, мучил бы, получая удовольствие от самого процесса, его жестокость, скорее всего, нарастала бы, сокращался бы интервал между убийствами… нет, маньяк, убивающий ради самой смерти, так себя не ведет.
Этот убийца (если он все-таки был один) выжидал достаточно долго, никакой логики, даже самой извращенной и неожиданной, в выборе времени убийства не было. Десятое, шестнадцатое и тридцатое ноября, пятнадцатое декабря, первое февраля, двадцатое марта и второе мая – никакой логики, никакого ритма.
Он записывал даты цифрами: 10, 16, 30, 15, 1, 20, 2; добавлял номера месяцев: 10, 11, 16, 11, 30, 11, 15, 12, 1, 2, 20, 3, 2, 5 – ничего, никакой геометрической или арифметической прогрессии, никаких чисел Фибоначчи, как ни записывай, как ни крути!
Разве что место… но эти подъезды сами манили, обещая надежно укрыть любое черное дело от посторонних глаз, а потом прятали следы среди накопившейся пыли и мусора, – идеальное место для большого города, лучше не придумаешь. Не трущобы с маленькими домишками, где все на виду, не респектабельные дома среднего класса с домофонами и чистыми, освещенными подъездами, не новомодные высотки со скоростными лифтами и множеством жильцов, любой из которых может в любой момент помешать. Нет: бедный район, где жильцы снимают квартиры и не знакомы друг с другом, где нет привратника и уборщицы, где все спешат на работу утром и сидят у телевизоров по вечерам.
Разумный выбор разумного человека.
Если убийцу нескольких беззащитных женщин можно назвать человеком.
Таблица в компьютере давно уже сменилась переплетающимися, как разноцветные змеи, лентами, и Кемаль сдвинул мышь, чтобы вернуться к ней. Хорошая таблица, толковая. Чего в ней только не было: и дни рождения жертв, и места их работы, и все адреса, по которым они когда-либо проживали, и цвет глаз и волос, и марки одежды и обуви… постарались психологи, ничего не скажешь!
И при всем том – ничего! Все попытки привести эту прорву сведений к общему знаменателю заканчивались ничем. Самый толковый из приглашенных психологов утверждал, что это не может быть никакой маньяк, что убийства совершают разные люди, а в лаборатории не было ничего, что могло бы опровергнуть это утверждение и привязать все убийства к одному, пусть пока неизвестному, человеку. Ни спермы, ни слюны, ни частиц кожи под ногтями жертв – видимо, он нападал так неожиданно, что они не успевали сопротивляться. Была масса бесполезных пока образцов: волоски с одежды жертв, выплюнутые около них комочки жевательной резинки, потожировые выделения на перилах, еще множество разного мелкого мусора, который современные криминалисты могут превращать в неопровержимые улики, – но при этом ни одного совпадения, просто разрозненные образцы ДНК каких-то людей, которые могли проходить здесь за час до убийства, или ехать рядом с жертвой в переполненном автобусе, или случайно столкнуться с ней в очереди супермаркета.
Да, никаких совпадений, ничего, что указывало бы на одного человека.
Но представить себе, что в городе – не маленьком, но все же относительно спокойном городе – существуют несколько человек, убивающих женщин в подъездах? Нечто из области фантастики. Допустим, один преступник мог, воспользовавшись благоприятным случаем, имитировать почерк предыдущего убийцы и избавиться от своего личного врага – а дальше? Что, он продолжал убивать? Маловероятно: не маньяк же он, на самом деле! И почему тогда он не подделывал этот почерк и дальше? Чтобы всех запутать? Да он бы сам запутался и попался – это только в кино и в книгах убивать легко!
На практике убить очень сложно, убить того, к кому равнодушен, еще сложнее: если ни аффекта, ни сильных эмоций, ни мотивов, какая же сила заставит лишить жизни ни в чем не повинную, кем-то любимую женщину? Только страх разоблачения? Но тот же страх, если он так силен, что заставил совершить ненужное убийство исключительно ради маскировки, не может не подсказать: хватит, остановись, затаись, чем больше ты убиваешь, тем больше проявляешь себя, тем больше следов оставляешь, тем больше и ужаснее станет, в конце концов, твоя вина.
В этом убийце не чувствовалось страха. Кемаль был уверен в его хладнокровии и равнодушии, которые пока и спасали его, не позволяя увлекаться и наделать ошибок.
Как бы ни был расчетлив и хитер маньяк, им движут эмоции, в основном сексуального плана, он подчиняется своим извращенным желаниям, потакает им, следует излюбленной схеме, – и рано или поздно такой убийца будет пойман. При нынешнем уровне развитии криминалистики любой Джек-Потрошитель обречен, вопрос лишь в столь важном для потенциальных жертв времени.
Измирский душитель никак не поддавался никакой классификации и ускользал от анализа.
Единственный вывод, с которым соглашались все, был тот, что убийца действовал разумно: хорошо выбирал места, хорошо выбирал не способных на активное сопротивление жертв. Он не торопился и не соблюдал никакой периодичности: не убивал, скажем, каждый вторник, или каждое пятое число, или через пятьдесят дней и пятьдесят минут после предыдущего убийства.
Такие правила для безумцев, а этому убийце они были не нужны. Потому что ему было все равно.
Он вполне мог не убивать. Обходиться без этого. Его не мучила неуправляемая жажда непременно совершить это – непременно таким способом, непременно в этот день и час, непременно с этой женщиной.
Он мог обходиться без этого и когда-то обходился. Кемаль настоял на том, чтобы подняли архивы по всей стране: ничего похожего, никаких нераскрытых убийств такого типа в доступном документам прошлом не было.
Значит, скорее всего, это его первая серия. Что же заставило его начать, что толкнуло на самое первое убийство? И было ли оно связано с убийством балерины?
«Прочитал в газете, что-то его зацепило, решил сам попробовать!» – высказал предположение коллега. И чем дальше, тем правдоподобнее казалась эта нелепая, абсолютно неправдоподобная, какая-то почти глупая мысль.
Кемаль снова и снова вчитывался в таблицу. У него была прекрасная память, он мог бы уже не глядя заполнить все ее колонки, но от того, что он знал ее наизусть, она не становилась понятнее и логичнее. К тому же, он всегда мысленно дополнял ее сведениями о самом первом убийстве, и тогда смертей становилось семь, но даже мистика числа оказывалась бессильна.
Равнодушного убийцу, в отличие от нормальных, хрестоматийных убийц, не волновали ни семь смертных грехов, ни семь дней недели, ни десять заповедей, ни двенадцать месяцев. На его решения не влияли ни знаки Зодиака, ни священное писание, ни магия чисел – ему было все равно.
Глаза болели, можно было идти домой, никто не заставлял его сидеть до ночи перед этой таблицей, которая и так стоит перед глазами.
Просто дома не было Айше, и идти туда было решительно незачем. Ну, придет он домой – и что? Включит компьютер и будет смотреть в ту же таблицу. А если так, какая разница, где сидеть?
Он достал телефон, чтобы позвонить ей. Хоть голос услышать. В принципе, ничто не мешает ему сесть в машину и через два часа увидеть ее. Если ехать быстро, то и через полтора. Она будет рада, хотя утром разговаривала с ним совершенно замороженным голосом.
«Можешь не приезжать, если много работы, – произносила она, а он с удивлением вслушивался в чужие, непонятные интонации. – Я побуду здесь до конца недели, потом с Мустафой вернусь, не волнуйся… да, пишу… да, прекрасная погода… да, море теплое».
После этого она попрощалась и первая нажала отбой, чего раньше никогда не случалось. Всегда именно он спешил и заканчивал разговор. Впрочем, о погоде они тоже никогда не говорили.
«Пойду домой!» – решил Кемаль и убрал телефон. Что-то мы не так делаем… она, нет я сам виноват. Но как я могу не работать? А если работать, то только так, с полной отдачей, я просто не умею по-другому. И она тоже всегда много работала и никогда меня не упрекала. А когда стала упрекать… когда? Осенью, зимой? Кажется, да.
Две недели у моря?.. Я обещал ей две недели у моря, а сам занялся этим маньяком. Я буду сидеть у моря, в то время как этот тип отдыхает перед следующим убийством?
«Когда он совершит еще одно, тебя вызовут!» – недовольно, с непривычным цинизмом заявила Айше.
«Что ты говоришь?! Да у нас каждую минуту прибавляется информация, мы топчемся на месте, но при этом работаем! А если…» – они почти поссорились, и она уехала одна.
«Если тебя смущает господин Эрман, так мы с ним почти не видимся, я с другой стороны, в доме для гостей, – говорила она, позвонив на следующий день после отъезда. – И вообще, каждый может ошибиться, он, наверно, и забыл уже…»
Он-то, может, и забыл. Хотя сомнительно, чтобы можно было забыть долгий допрос и почти предъявленное обвинение если не в убийстве, то в распространении секретной информации. Особенно если ты уважаемый адвокат, для которого репутация – это все.
Откуда берутся совпадения – то, что мы называем случайностью? Живешь-живешь себе, что-то планируешь, что-то предпринимаешь или, наоборот, не предпринимаешь – а тут раз: случайность!
Сколько, например, в трехмиллионном городе адвокатов? Явно много, во всяком случае, куда больше двух. Так почему, спрашивается, один адвокат – брат твоей жены, а второй (случайно!) его сосед по офису и даче и одновременно человек, которого ты предпочел бы никогда больше не встречать? Что, других адвокатов не нашлось?
Нет, он, Кемаль, разумеется, не обвинял почтенного адвоката прямо, но тот достаточно сообразителен, чтобы понять, куда он клонил.
Господин Эрман Юмушак защищал мужа первой жертвы от необоснованных, как потом выяснилось, обвинений в убийстве. Защищал, хотя в какой-то момент – Кемаль был в этом уверен! – считал своего клиента виновным. Что ж, это его право и его работа, все адвокаты так делают, а если Кемаль не понимает, как можно защищать убийцу и выискивать для него лазейки в законе, так поэтому Кемаль и не адвокат.
Эрман Юмушак ему не понравился сразу. И когда оказалось, что адвокат входит в число тех избранных, кто точно знал, как и каким именно проводом была задушена первая жертва, Кемаль, не слишком раздумывая о презумпции невиновности, пригласил его на допрос.
Тогда он, разумеется, не знал и не подозревал, что у них имеются общие знакомые: ни брат Айше Мустафа, ни он сам не имели привычки беседовать между собой о делах, считая в глубине души профессию другого менее достойной, чем собственная, и имя господина Эрмана могло никогда и не всплыть в их разговорах.
Фамилия адвоката («Юмушак» – «мягкий») была говорящей до определенного предела: под небольшим слоем пуховой мягкости таилось нечто абсолютно твердое, не желающее ни прогибаться, ни ломаться ни от какого давления. Он быстро понял, куда клонит этот явно опытный, но при этом ухитрившийся сохранить какую-то наивность и юридическую невинность полицейский, и на том единственном допросе играл с Кемалем, как кошка с мышкой. Что вы имеете против меня, какие факты? Ах, никаких, просто проводите рутинную проверку? И что это вам пришло в голову проверять людей, не имеющих отношения к делу? Ах, провод? И что из этого? Что, дела так плохи? У вас есть раскрытое убийство, мой подзащитный в нем невиновен, второго он не мог совершить, поскольку у него алиби, третьего не мог совершить, ибо сидел у вас в камере… а у нас, адвокатов, между прочим, существует такая вещь, как профессиональная этика, не слышали? Поэтому я, разумеется, ни с кем не делился никакими подробностями, да, буквально ни с кем! Не понимаю, зачем это могло бы мне понадобиться. А если разговор будет продолжаться в таком тоне, мне самому придется прибегнуть к услугам кого-то из моих коллег, и тогда вашему поведению не избежать огласки. Вы обвиняете меня в чем-то конкретном? Ах, нет? Что значит «пока нет»? По-моему, это несерьезный разговор, вам не кажется? Я понимаю, у вас нераскрытое убийство, даже два, и вы хватаетесь за соломинку…
Господин Эрман, вы меня неправильно поняли. Нам не до вашей профессиональной этики, поверьте. Такую же проверку мы предпринимаем в отношении всех – абсолютно всех, и случайных свидетелей, видевших тело, и наших сотрудников! – у кого была информация о проводе. В расследовании убийства нет мелочей, чья-то случайная фраза могла спровоцировать кого-то на имитацию почерка убийцы, вы понимаете? Про перышки писали все газеты, и неудивительно, что они появились и около второй жертвы, но о проводе знали не многие. Мы рассчитывали на ваше понимание и готовность содействовать и помогать следствию… в конце концов, вы тоже, как и мы, на страже законности, разве нет? Сейчас не важно, нарушили ли вы свой неписаный адвокатский закон, важно найти убийцу. И если вы случайно сказали где-то…
Абсолютно исключено, господин офицер. Профессионал не может себе позволить случайных проговорок, вы это сами знаете. Они могут впоследствии слишком дорого обойтись…
На этом месте Кемаль прервал его нравоучения, он не желал тонуть в этой мягкой перине, раз под ней все равно скрывалось нечто жесткое и твердое. От разговора остался неприятный осадок, особенно от этих его выпадов насчет профессионализма, и Кемаль, признав поражение, постарался забыть об этом господине.
Что Эрман Юмушак – сосед Мустафы по даче, он узнал случайно. За обедом, на который Эмель позвала их с Айше, возник разговор о ценах на квартиры, потом плавно перешел на подорожание недвижимости в целом, потом Мустафа стал рассказывать, как ему повезло, что коллега рассказал ему о новом дачном поселке. Он сам – этот пока безымянный коллега – купил там дом совсем не дорого и предложил Мустафе продать дачу в Чешме и за почти те же деньги купить два дома в районе Дидима. Рассказ обрастал подробностями, неизвестный коллега в его процессе обрел имя и превратился в соседа по даче – и Кемалю потребовалось не больше нескольких секунд, чтобы соединить имя с профессией и сделать неутешительный вывод.
В Измире, трехмиллионном городе, вы всегда попадаете на знакомого. В приемную дантиста может неожиданно войти тетушка вашего бывшего соседа; в переполненном супермаркете вы протягиваете руку за сыром одновременно с матерью вашего бывшего одноклассника; племянница вашего начальника, зашедшая к нему по делу, когда-то училась с вашей женой; учительница вашего сына много слышала о вас от своей приятельницы; единственный в городе адвокат, с которым вы бы предпочли не встречаться, друг брата вашей жены.
Город опутан цепями человеческих связей, разорвать которые невозможно. Даже смерть, безжалостно выбрасывающая сносившиеся звенья, не стирает воспоминаний о них, и звено выбывшего держит вас еще крепче, чем звено живущего: покойному можно приписать любые отношения с любым, даже неизвестным ему прохожим. Мой покойный муж так много о вас рассказывал, жаль, что вы его совсем не помните, – и вы связаны по рукам и ногам, и должны здороваться с бедной вдовой и поздравлять ее с праздниками.
На новой даче Мустафы и Эмель Кемаль не был ни разу – так получилось. Айше один раз съездила туда и уговаривала его провести там недели две: место дивное, море, сосны, тишина… дом Эрмана рядом, но с другой стороны… можно совсем с ним не встречаться. И потом он такой приятный, доброжелательный человек, почему ты думаешь, что ему не захочется тебя видеть?
При чем здесь этот Эрман, я просто занят! Я подумать не могу ни о каком отпуске, когда в городе появился серийный убийца…
Неужели при современном развитии криминалистики, при возможности анализа ДНК и еще бог знает чего, мы не сможем его вычислить? Что мне их психологические таблицы – теперь проблемы решаются в лабораториях.
Завтра же с утра возьму все-все данные – не те краткие обобщенные отчеты, которые они нам посылают, а все, что у них есть… сам к ним поеду, заберу все-все, со всеми их формулами и жуткими терминами. Или грязный подъезд дает убийцам гарантию? Там же, в этих каменных мешках, называемых лестничными клетками, на этих ступеньках, столько всякого материала – не может там не найтись чего-нибудь!
Камни молчат, но могут сказать больше, чем люди, надо только уметь спрашивать. По крайней мере они не умеют лгать, они ничего не скрывают, они выставляют напоказ все, что мы хотели бы знать, а если мы не видим этого – виноваты не камни, а мы сами.
Завтра же с утра… эксперты, конечно, будут ворчать и упрекать его за недоверие, но он должен перепроверить. Они могли что-нибудь упустить, не придать значения… в последнем подъезде, кстати, можно и еще чего-нибудь поискать, всего два дня прошло.
Нет, почему завтра – давай уж прямо сейчас, там такие же трудоголики, как ты сам, хоть завалены работой, а в глубине души только порадуются новой задачке… и глава их департамента на днях дал шикарное интервью, что у нас, мол, теперь, расследования как в американских фильмах… да, опять вот вас беспокою… да, все-все пришлите… вообще все… да черт его знает, что я там найду… а вдруг получится… да, опять все буду смотреть… спасибо, с меня причитается!
Он уже сел в машину, когда в кармане завибрировал и зазвенел телефон.
Слава богу, с облегчением подумал, даже всем существом почувствовал Кемаль, увидев на экране ее имя. Все не так, все в порядке, вот она звонит сама, соскучилась и звонит! И волнуется за него, и сейчас они поговорят, а в конце недели она вернется… или, и правда, махнуть к морю хоть на субботу?..
– Приезжай быстро, – сказала… нет, не она – телефонная трубка, это был не ее голос, и слова не ее, и вообще… – прямо сейчас. Тут у нас…
– Айше, милая, ты… – она никогда не разговаривала так, наверно, нужно было все-таки позвонить ей самому, но он боялся ее холодного тона и не хотел очередного объяснения, дотянул до вечера, получай теперь. Как он поедет «прямо сейчас», если глаза слипаются, а когда он их закрывает, перед ними стоит нескончаемая таблица, а на завтра намечено столько всего… и вообще, что это за капризы?.. – Сейчас я еще на работе…
– У нас полиция и убийство, – сказал ему голос в трубке, – и…
– Где?! – почти закричал Кемаль, не веря своим ушам. Убийство – там же нет никаких подъездов, это тихий дачный поселок, о чем она?!
– У нас, – ответил все тот же ужасный голос, – в доме прямо… если ты не приедешь…
– Я приеду, – быстро солгал Кемаль, думая, как бы заставить ее позвать к телефону брата. С ней что-то не то, это ясно, надо поговорить с кем-нибудь здравомыслящим. – А Мустафа… там?
– Не там. Никто не там. Он убил Эмель.
– Кто?! Что ты говоришь?! – перед глазами снова встал подъезд, никак не желавший соединяться в его сознании с дачами. Как убийство может случиться там? При чем здесь Эмель? Кто такой этот «он», сейчас Кемаль определял этим словом только своего неуловимого равнодушного врага, других убийц для него не существовало.
– Айше! – выкрикнул он. С ней что-то случилось, он должен докричаться до той, прежней, настоящей Айше, и она ему все объяснит. Спокойно и логично, как она умеет. – Айше, послушай! Что там у вас?..
– Приезжай. Сам посмотришь.
Гудки в трубке показались невыносимыми. Перезванивать не имело смысла – если она сказала правду, если ничего не придумала и не преувеличила (она никогда не делает этого, ты же знаешь!), если кто-то действительно убил Эмель, то что она сможет еще сказать?
Он тронулся с места, еще не понимая, куда ему ехать.
Наверняка это какое-то недоразумение – такого страшного розыгрыша Айше не могла себе позволить! – однако случилось явно что-то достаточно серьезное.
Эмель и убийство – эти два слова никак не желали соединяться в одну осмысленную фразу.
Эмель… тихая домохозяйка, милая женщина, талантливая художница – она просто жена и мать, Кемаль никогда даже не думал о ней вне ее семьи, словно она – сама по себе, отдельно – не существовала.
«Жена моего брата» – говорила Айше, и Эмель полностью соответствовала этому определению. Однако такими или почти такими были и жертвы маньяка, а они мертвы, не забывай. Да, но маньяк в надежном, охраняемом поселке, среди небольших коттеджей, где все на виду?
Да и как бы он туда попал – специально, что ли?!
До выезда на автостраду и, следовательно, выбора пути оставалось совсем немного, и Кемаль достал телефон. Единственная разумная вещь – позвонить Мустафе, брату жены, пусть он объяснит, что у них там происходит.
Никто не отвечал так долго, что Кемаль понял: придется сворачивать. Полтора часа – и он все выяснит. Если окажется, что ничего не случилось, он переночует, встанет пораньше и вернется, ничего страшного.
– Кемаль, – услышал он наконец, но голос Мустафы был почти сразу заглушен еще какими-то голосами. «Предупреждали», «немедленно», что-то типа «прекратить разговор» – нога сильнее нажала на педаль газа, и он вылетел на автостраду на совершенно недозволенной скорости.
– Что случилось?! – закричал он, уже понимая, что узнает это не раньше, чем доберется до места.
– Приезжай, – гудки оборвали начатую фразу.
«Уже еду», – мысленно ответил он, позвонил еще раз, услышал ожидаемое «Абонент недоступен, попробуйте…», не дослушал и полностью сосредоточился на дороге.
Чтобы не попасть в аварию и не мучиться догадками и бессмысленными предположениями.
Что-то случилось, и это что-то было абсолютно серьезным.
4. Крис
– Если у вас богатое воображение, – сказал он, и Лана вздрогнула, как от неожиданного попадания Мишкиного мяча в ничего подобного не ожидающую спину.
Попадание было точным: только что эти самые слова она написала в письме.
«У меня богатое воображение, и я легко могу придумать сколько угодно причин, почему ты не отвечаешь на мои письма и даже не читаешь их. И технических: от элементарно сломавшегося компьютера до самых ужасных катастроф, и психологических: от простой нехватки времени до нежелания что-либо знать обо мне вообще. Где-то между ними располагаются страшный, до полного самозабвения запой или, к примеру, захват тебя в заложники. Все это я могу вообразить, но не могу поверить в воображаемое. Для меня совершенно необъяснимо, почему взрослый разумный человек, занимающийся чем-то вроде бизнеса, неделями не включает компьютер, или включает, но не проверяет свою почту, или проверяет, но читает не все полученные письма. Мои, к примеру, так и оставляет непрочитанными. Как будто заранее знает, чего от них и, значит, от меня ждать, и совершенно в этом не нуждается…» – писала Лана.
В этом письме она могла себе позволить любые выпады, потому что писала она мысленно и знала, что никогда ничего такого на самом деле не напишет. А если напишет, то сотрет и не отправит – как обычно.
Рано утром – она любила вставать раньше всех, спускаться вниз, на еще прохладную кухню, пить в еще никем не нарушаемой тишине кофе – она привычно включила компьютер, убедилась – на всякий случай, она особо и не рассчитывала, но вдруг? – что письма от Стаса снова нет, привычно расстроилась и решила заглянуть в его почту. Это было нетрудно: он как-то сам сказал ей пароль, а потом то ли забыл об этом, то ли не придал значения и не стал его менять.
Ее письма – не все, но некоторые – оставались непрочитанными. Причем не последние, это можно было бы как-то объяснить, а разные – как-то выборочно.
Богатое воображение тотчас же пришло на помощь: ряд самых невероятных причин подобного странного поведения был через минуту готов к ее услугам… лишь бы заслонить самую простую и очевидную.
Оче-видную.
Очень видную.
Очам – не вооруженным глазам – видную.
Не-за-видную.
У героя прошлого века это были бы небрежно брошенные, нераспечатанные конверты. Иногда, когда совсем скучно, из этой кучи можно взять один-другой и распечатать, пробежать глазами неинтересные строчки, выхватить взглядом всякие неприятные «давно уже», «когда же», «скучаю», «без тебя» и бросить недочитанное обратно, в давно скопившийся беспорядок, на радость любопытной горничной.
Ее письма пылятся виртуальной пылью, но разве это что-нибудь меняет?
Не нужно иметь ни богатого, ни бедного, никакого воображения, чтобы это понять. Только вот понимать совсем не хочется, и в голову прокрадываются совершенно изумительные оправдания, до которых ему самому не додуматься при всем желании.
Не буду больше писать. Никогда.
Сейчас же напишу все, что я о нем думаю.
Сейчас же напишу, что я вообще о нем не думаю. И не хочу думать.
Но если не хочу, значит, все-таки думаю… лучше вообще не писать.
Или написать прямо и спросить, что все это значит.
Но это будет выяснение отношений, а он этого терпеть не может.
Оставлю все как есть и не буду больше писать. Пусть сначала прочтет уже написанное.
А если он… ну просто не заметил?.. Нет, это уже предел! Уйми свое драгоценное воображение. Наводнение, захват заложников, перелом руки (очнулся – гипс! не могу включить компьютер!), сенная лихорадка (подхваченная на Сенной площади!), землетрясение и ураган (компьютер унесен ветром в волшебную страну!) – это еще куда ни шло.
Но не заметить четыре новых письма в собственной почте, и не подряд, а вразброс… такое неправдоподобие покоробит даже сценаристов, старательно затягивающих сериалы.
«Надоела ты ему, и письма твои ему не нужны!» – это здравый смысл, враг всякого воображения. Решил-таки подать голос, спасти хозяйку. Хоть она ему никогда столько внимания, сколько своему любимчику воображению, не уделяет.
«Выбрось ты его из головы, посмотри лучше, что в мире делается! Хоть куда едешь, посмотри! И послушай, что тебе говорят, вникни… все отвлечешься!»
– …задумали восьмое чудо света построить, не меньше! – говорил англичанин. – Вот увидите, это совершенно грандиозно! Это… great, really great! Когда я первый раз увидел…
Крису казалось, что она его не слышит. Слушает, но не слышит. Или он говорит как-то так, что она не совсем понимает? Или ее английский хуже, чем ему показалось? Нет, наверно, он сам виноват: плохо умеет рассказывать.
Но, с другой стороны, как такое расскажешь?! Словами никак не получается! Это надо видеть, чувствовать, понимать.
Крису хотелось, чтобы эта женщина разделила его чувства, хотя обычно он не заботился о том, чтобы произвести впечатление. А на эту русскую хотелось бы. Не то чтобы она ему нравилась… скорее нет, да и кольцо обручальное у нее… да и вообще, ему никто никогда не нужен… женщины особенно: столько хлопот с ними…
А вот произвести впечатление хотелось. Очень хотелось.
Когда она совершенно неожиданно сказала, что интересуется античностью, Крису почудилась в этом какая-то подсказка судьбы. До нее никто особо не интересовался, несмотря на все его усилия, и вдруг! И то, что она русская, и то, что он был наслышан о ее сестре, и то, что муж сестры, как он узнал, скоро приедет, – все это были знаки, посланные лично ему, конечно, знаки, и если он их не заметит, если упустит эту Лану…
Он посмотрел на привычную дорогу ее глазами: ничего примечательного, они уже проехали ту часть пути, когда все, кроме водителя, не сводят глаз с моря, и сейчас ехали по не слишком ровному, почти расплавившемуся от недавней жары шоссе, которое было проложено среди выжженной неживописной пустоши. Вдоль шоссе год назад посадили маленькие сосенки, и Крис знал, что уже лет через пять эта дорога преобразится, благо растет здесь все очень быстро, но пока ничего привлекательного в ней не было.
«Надо было сначала ехать в Иассос, – Криса огорчало невнимание спутницы, как будто от него самого зависело, по какой дороге они едут, и какой вокруг пейзаж, и какая сегодня погода. – Там одна дорога чего стоит!»
С другой стороны, Дидим, несомненно, должен произвести то самое, так необходимое ему впечатление, не может не произвести! Надо просто рассказать ей побольше!
Иассос все-таки требует определенной подготовки, а Дидим, как и Эфес, поражает всех. Пожалуй, Дидим даже сильнее, потому что о нем мало кто знает и не предполагает увидеть ничего интересного.
Он не знал, с чего начать, и сам чувствовал, что говорит бессвязно. Это при его-то образовании и знании предмета! Вот что значит желание покрасоваться – был бы просто гидом, изложил бы все по порядку.
– Собственно говоря, начинать бы следовало с Милета – это был крупный город, известный научный центр. Фалес Милетский – проходили в школе теорему Фалеса? – так вот, тот самый. У него именно здесь была школа. Пифагор тоже, если верить некоторым источникам, здесь бывал, Анаксимандр знаменитый здесь работал, историк Геродот… до Милета отсюда километров двадцать, поэтому мы сначала посмотрим Дидим. Конечно, как я уже вам сказал, чтобы понять, что это было такое, придется включить воображение. Там мало что сохранилось… впрочем, увидите, – снова сбился с мерного ритма экскурсовода Крис. Черт, не надо так волноваться, а то она еще подумает, что ты в нее влюбился: вздыхаешь, краснеешь, торопишься. Тоже, в принципе, неплохо, делу не помешает, но что потом-то с этим делать? Совершенно ни к чему! Лучше следи за речью, выбирай слова попроще, чтобы понятнее было… и не увлекайся, не упусти шанс. – Так вот, сначала Милет стал серьезным значительным городом, потом было принято решение построить неподалеку храм Аполлона для собственного оракула. Такого, чтобы соперничал со знаменитым Дельфийским. И храм задумали с размахом… там колонны такого диаметра, какого даже в Парфеноне нет, два метра тридцать сантиметров, представляете?! Грандиозное должно было быть сооружение. Дальше существует несколько версий развития событий. То ли храм построили и позже разрушили, то ли так и не достроили. Точно известно только, что оракул в Дидиме существовал, он, например, предсказал, что Александр Македонский – сын Зевса, и еще разные вещи, и был там, в храме священный колодец, как положено у оракула. Судя по всему, храм начали строить, но не закончили: мрамор-то возили со всей Малой Азии, а его надо было много. Потом то война, то смена власти – словом, стройка у них затянулась, потом землетрясение случилось, потом камни на укрепления срочно понадобились, и часть вывезли. Сейчас трудно сказать, что именно было собственно построено. Во всяком случае версия, что храм был полностью готов, а потом разрушен землетрясением, годится, только чтобы туристов пугать. Таких мощных землетрясений в этом районе давно уже не бывает, даже то землетрясение, после которого была разрушена, а после восстановлена Марком Аврелием Смирна, не было сильным по современным понятиям – просто постройки в Смирне были не слишком фундаментальны. Это все легенды, что, мол, целый город разрушен землетрясением: при здешнем климате так строили, одно название, что стены – глина да песок! А здешние колонны так просто не свалить. Нет, скорее всего, храм так и не был достроен, однако известно, что он функционировал. Помещение для оракула, колодец, барельеф с изображением Медузы Горгоны для наведения священного ужаса на пугливых паломников – это все было, и кое-что сохранилось до наших дней…
– Крис, вам надо гидом работать! Откуда вы столько всего знаете? – Лана против воли заинтересовалась не совсем связным рассказом и так же невольно огляделась: где же они, эти грандиозные (really great!) сооружения?
Вокруг ничего подобного не наблюдалось. Неплохая для не то что сельской, а какой-то заброшенной или, наоборот, еще не освоенной местности широкая дорога, маленькие сосенки вдоль нее (каждый саженец заботливо огорожен и привязан к подпоркам, вот это да!), пыль от изредка попадающихся навстречу машин, какие-то низенькие крыши далеко впереди… ничего!
Степь да степь кругом… пуста была аллея! Будущая аллея – наверно, эти сосны при таком уходе вырастут быстро… да, но где же все эти колонны, медузы, мрамор?!
– Немного осталось, – извиняющимся тоном ответил на незаданный вопрос Крис, – совсем немного, километров семь… сейчас уже пригород Дидима начнется, промышленный район, не очень-то живописный, sorry… и дорога здесь ужасная, конечно…
Вот чудак – как будто он сам за все это в ответе! Похоже, что он так любит эти места, что ему очень хочется, чтобы они всем нравились.
– Нормальная дорога, – утешила его Лана, – даже красиво!
– Нет, туристам лучше приезжать с другой стороны – из Кушадасы, есть тут такой курорт неподалеку… там дорога нормальная, а тут… вон, видите, мастерские всякие начались… мы потом в городе поедим, можем искупаться, если хотите, а потом в Милет поедем, хорошо?
– А где купаться – прямо в городе? – решила уточнить Лана. Все-таки беглый английский не так легко давался… ну и ладно, буду переспрашивать, если чего не пойму.
– О, это такой маленький город! Собственно, тут только и есть, что пляж да отели вдоль него. Ну и рестораны с магазинами… практически на пляже… а античность мало кого интересует! Все туда едут, конечно, фотографируются, чтобы потом было чем похвастаться, но никто на самом деле не понимает всего значения…
– А вы-то откуда все это знаете? – перебила его Лана, пока он снова не углубился в столь любезные ему исторические дебри.
– Я археолог, – произнес Крис со странной смесью гордости и таинственности, как будто признавался в тайном пороке или в чем-то важном и необычном, – я сюда приехал только ради всего этого. Половина Древней Греции ведь расположена в Турции, и при этом…
Он горестно вздохнул и махнул рукой.
Еще не время. Нельзя так сразу.
Сначала она должна хоть что-нибудь увидеть и прочувствовать.
Увидеть эти древние камни, этот потемневший от времени мрамор. Они молчат и ждут, но они видели столько, что если бы заговорили… нет, они говорят, только мало кто умеет их слушать, они кричат, но люди не слышат их безмолвных призывов – это дано не всем, только избранным.
Он слышит, и он должен сделать так, чтобы все – пока хоть эта женщина! – услышали и почувствовали то же, что и он.
– Вот уже и город, – показал он.
Город начался как-то неожиданно: просто мастерские вдруг сменились невысокими, в три-четыре этажа домами современной, но очень приятной архитектуры. Если это местные хрущобы на окраине, то, похоже, этой стране как-то удалось решить проклятый квартирный вопрос. Дома не были безликими, как в любом московском (и питерском, и далее везде, со всеми остановками!) спальном районе – не серые бетонные коробки, а именно дома, в которых хотелось жить: с окнами интересной формы, с большими и маленькими балконами, с красивыми подъездами и зеленью вокруг. Дома различались по цвету и фасону – да, Лана так и подумала «фасон», наверно потому, что чистая ухоженная улица напоминала хорошо продуманную витрину. Не “haut couture”, конечно, не дорогие виллы – такие она здесь уже видела, когда ехала из аэропорта, – нет, явно для среднего класса… “pret-a-porter”, так сказать. Что ж, неплохо устроился местный средний класс – по крайней мере, видно, что он существует. Она невольно вспомнила собственный дом и подъезд: ничего утешительного, один-ноль не в нашу пользу. Только плотно закрыв, а лучше заперев на замок дверь собственной квартиры, она могла чувствовать себя этим самым средним классом, но в лифте, на лестничной клетке, возле дома… нет, куда ниже среднего!
«Вот почему, интересно, у нас так не могут?..» – начала было обиженно думать она, представив себе, как было бы дивно, если бы ее квартира была расположена в таком доме на такой улице. Так было бы… спокойно, надежно как-то… видно, что все это – вся наша жизнь? – не на минутку задумана и кое-как обустроена, а с любовью и интересом…
– Раньше тут ничего этого не было, – прервал попытки размышлений ее добровольный гид, – это все новые постройки. В свое время Дидим облюбовали мои соотечественники и стали сюда все время ездить, и начался расцвет… тут почти английская колония, – усмехнулся он, чтобы она не приняла его слова за имперские амбиции. – А несколько лет назад здешние власти разрешили нашим покупать тут недвижимость, я, например, тогда дом купил… а теперь много строят специально для иностранцев. Да вон, посмотрите на вывески!
Улица незаметно изменилась: тихие жилые кварталы сменились отелями с ресторанами и магазинами на нижних этажах. Было еще рано, посетителей и клиентов практически не было, а вывески, на которые указывал, Крис, были все на английском языке, и цены указаны в фунтах. Это было странно, Лана уже успела кое-как приноровиться к пересчету турецких лир на доллары, а потом на рубли, и эти фунты совершенно сбили ее с толку. Словно она, и так будучи за границей, пересекла еще какую-то невидимую границу и оказалась в другой стране.
– Здесь и по-турецки почти не говорят, мне очень удобно, – продолжал Крис, – надо было в самом Дидиме и поселиться, но здесь тогда ничего подходящего не строилось, это все позже началось… а вот… мы почти приехали!
Дорога сделала резкий поворот, из-за которого словно выскочили две колонны – не такие уж и огромные, не сказать, чтобы “really great”. Вокруг колонн Лана увидела какие-то руины, камни, но ничего толком не успела разглядеть, потому что Крис снова куда-то повернул, развалины остались позади, и смотреть на них стало неудобно.
Мы, оглядываясь, видим лишь руины… а не оглядываясь, никаких руин – взгляд, конечно, очень варварский, но верный, ха-ха! Лана любила приспосабливать чужие стихи к собственной жизни.
– Не смотрите! – почти приказал он, заметив ее невольный порыв обернуться. – Иначе все не так увидите.
Он был всерьез озабочен, чтобы она все увидела «так» – так, как надо ему. Вот чудак, подумала Лана, можно подумать, он хочет продать мне эти развалины или мифы. Или он на мне методику отрабатывает? Он же недвижимостью занимается, а если по образованию археолог, то это, наверно, его единственный козырь: впаривать клиентам не просто участки и особняки, а приправлять все это историей, мифологией… образованные люди вполне могут увлечься и захотеть что-то приобрести.
Может, он хочет продать мне – нет, не древние мифы, а проще: какую-нибудь квартирку в здешнем Эдеме? Я же сказала, что интересуюсь античностью… а что я в ней понимаю? Да и квартирки здешние мне не по карману.
Она достала из большой сумки шляпу и фотоаппарат и вышла из машины.
Развалины смотрелись весьма живописно, хотя странным образом располагались не на ожидаемом холме, а где-то внизу. Крис быстро запер машину и, увидев, что Лана направилась к небольшому киоску с английской надписью «Билетная касса», схватил ее за руку.
– Осторожно! – Лана не успела возмутиться или удивиться, потому что объяснение последовало буквально в ту же секунду. Из-за крутого поворота пустынной неширокой дороги, которую им надо было пересечь, на огромной скорости вылетел сверкающий двухэтажный автобус. А навстречу ему, не притормаживая, неслась появившаяся откуда-то, из-за другого поворота небольшая машина.
Через мгновение о них напоминали только клубы пыли. Лана высвободила руку и огляделась: да, повезло, а вроде ничто не предвещало, тихая улочка, кто же знал, что они тут так носятся!
Изгибы дороги словно нарочно были задуманы так, чтобы подъезжающих машин ни с той, ни с другой стороны не было видно до последней секунды. А ведь если бы он меня не остановил… секунда, и правда, могла бы стать последней!
– Спасибо, – выдохнула с опозданием испугавшаяся Лана.
– Здесь всегда так, – равнодушно сказал Крис, – носятся, как Шумахеры, очень опасно… подождите, сейчас…
Минуты две они, как прилежные школьники, смотрели то направо, то налево, и Лане уже начало казаться, что перейти дорогу не удастся никогда. То с ревом пролетал и исчезал за поворотом мотоцикл, то снова показывался автобус, то возникала из ниоткуда очередная машина. В какой-то момент Крис снова схватил ее за руку и потащил вперед. Видимо, у него был опыт в подобных делах, поскольку они благополучно оказались перед той самой билетной кассой.
– Хэлло, – расплылся в улыбке скучавший билетер. Никаких посетителей не было, ужас какой: сидеть целый день в этом аквариуме на жаре, представила себе Лана.
Крис что-то сказал по-турецки, билетер понимающе закивал, заулыбался еще слаще и принялся суетливо указывать на какие-то выставленные за стеклом его киоска книги. Среди них были путеводители на разных языках, в том числе и на русском… купить, что ли? Нет, зачем – все равно Крис расскажет все, что там написано, и еще больше, запоминать все эти факты и даты ей ни к чему, на память хватит и фотографий, а то тащить потом с собой эту книгу…
– Вот, видите, один немец детектив написал, – Крис показал яркую обложку с кровавым пятном поверх все тех же античных колонн, – прямо здесь, в храме, убийство происходит… никого больше ничего не интересует!
– В каком смысле?
– В самом прямом! Приезжают сюда… все, кому не лень… ни черта не смыслят ни в истории, ни в чем! Фотографируются! Или вот потом ерунду всякую пишут… ради денег! Впрочем… sorry, вам сейчас нужно не об этом… пойдемте!
– А билеты? – робко решилась напомнить Лана. Не хватало еще, чтобы он за нее платил, – спасибо, привез, рассказал, но платить, нет уж!
– Да какие билеты?! Меня тут все знают… если бы не я… да десять лет назад тут ни ограждения не было, ни билетов – иди кто хочешь! Бери и делай что хочешь! Варварство настоящее! Вы попробуйте себе представить, чтобы на территории… ну, скажем, Кремля вашего или у нас в любом музее такое творилось! Вход свободный, вернее вообще никакого входа, ничего не охраняется, все растаскивается! В древнем Иассосе овцы пасутся, из мрамора античного крестьяне себе заборы складывают – и никому ни до чего нет дела! Там итальянская археологическая миссия, так я как-то этим миссионерам здоровенный барельеф притащил… вот такой! В сумке вынес, смотрите, говорю им, кто угодно может так что угодно вынести! Они поахали, меня же чуть не заставили штраф платить, а через неделю приезжаю: то же самое, ни сторожа, ничего! А вы посмотрите…
Она посмотрела.
Прямо перед ней был огромный барельеф с головой Медузы – она уже видела его раньше, не могла не видеть, настолько сильно было возникшее дежа-вю! Но где и когда? Здесь я никогда не была… но эти волосы-змеи, этот открытый рот и пугающие глазницы… в детстве, может быть? Ну да, учебник истории древнего мира, пятый класс, черная обложка, меловая пыль класса, неожиданная скука уже читанного и казавшегося красивым мифа. Миф превращается в скучные параграфы, белая пыль неприятно оседает на черном фартуке, текст кажется серым пятном… остаются картинки. Иллюстрации – редко цветные, в основном же серо-потертые, как испачканный мелом фартук, – спасают от скуки урока, в окно отваживаются смотреть только отъявленные фрондеры, прилежная Лана (или тогда еще Света?) прилежно смотрит в потертую книгу… читаем второй параграф… знак «параграф» извивается змеей, взгляд скользит по волосам Медузы, по щиту Персея, по изгибам ионических и дорических капителей. Лик Медузы завораживает… что там, во втором параграфе, какая разница… извиваются змеи, и каждый смельчак превращается в камень… и сама она становится камнем…
Да, вот она, Медуза. Обращенная в камень: волшебство не имеет обратной силы – не закрыть искривленного криком рта, не зашевелиться змеям, не вернуться былому могуществу… но ведь я… это я не могу пошевелиться, я словно окаменела, я только что была не здесь, а в какой-то совсем другой, прежней жизни, с ее запахами, меловой пылью, шершавыми страницами. Я была там… та, маленькая Лана, еще Свет-Лана, смотрела в пустые глазницы и боялась превратиться в камень… если бы той девочке сказали, что она будет стоять перед этой всесильной волшебной Медузой, так близко, так просто – руку протянуть и притронешься!
Но не поднимается рука – словно налившись каменной тяжестью, а Медуза усмешкой уже, не гримасой муки кривит рот: что, окаменела? Не так все просто, не победил меня зеркальный щит, веками смотрю я на всех – и обращаю в камень. Хоть на несколько мгновений, но я чувствую свою силу, ей не иссякнуть – а сколько их уже было здесь, смотрящих на меня!
Я камень – но и вы, проходящие мимо за все эти тысячелетия, не больше чем камни… только недолговечные, рассыпающиеся в пыль, вечным мрамором отмечающие места своего ухода и только этим остающиеся в веках.
Я сама мрамор.
Когда-то я обращала вас в камень, даря вам бессмертие камня, а вы не ценили этого, полагая движение высшим даром богов и счастьем. Но движение ведет к смерти – неподвижные камни вечны.
Молчание мрамора – счастье и мудрость. Неподвижно извиваются змеи моих волос, молчит мой рот, но лишь неподвижность и молчание впитывают вечность и говорят о вечности.
С теми, кто умеет слушать камни.
Вереницы проходят мимо – но теперь лишь единицы застывают под моим мраморным взглядом. Вот и весь секрет мифа: я всегда была камнем, но в него превращала я умеющих слышать. Когда-то целые толпы замирали в священном ужасе перед моим мраморным ликом, потому что мой лик – это лик молчаливой вечности…
– Любой мог подойти и уничтожить это! Покрасить масляной краской, выцарапать надпись, отколоть кусочек! Понимаете теперь?
Лана с трудом возвращалась.
Яркое, почти белое, солнце освещало огромную, в человеческий рост, голову Медузы. Видимо раньше она была на каком-то постаменте, в стене или на верху колонны, но и так – потертая временем, потемневшая от времени, запыленная временем – она не казалась жалким осколком былого величия, она сохранила его, даже смещенная с небес на землю.
Отсюда, с пыльной, вытоптанной толпами туристов площадки, она с немым укором высокомерно взирала на тех, кто не в силах был понять разницу между собственным сиюминутным ничтожеством и ее непоколебимым, вечным мраморным могуществом.
Я – мрамор, вы – песчинки, словно говорила она. Вы мните себя героями, оракулами, мудрецами, вы играете в жрецов и воинов, в философов и строителей, в менеджеров и политиков… как вы смешны, когда, окаменев, стоите передо мной…
Лана зажмурилась – нет, хватит, что за наваждение! Все понятно, античный барельеф, красиво и ценно, но зачем же так… погружаться?.. Никаких сил не хватит… как это там у классика?.. Оно конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?!
Ей стало смешно, и она с облегчением оглянулась. Чуть ниже площадки с Медузой располагалось большое прямоугольное, то ли разрушенное, то ли действительно не достроенное здание. К нему вели высокие ступени, а на фундаменте располагалось то, что то ли некогда было, то ли задумывалось колоннадой. Две колонны сохранились лучше других – они тянулись к самому небу, и если бы небо висело здесь на той же высоте, что над Москвой или Петербургом, то они, несомненно, упирались бы в него, не давая упасть. Но здешнее небо, не отягченное облаками, легко парило где-то в такой дали, которая делала его недосягаемым даже для этих колонн.
– Пойдемте? – спросил почему-то утративший всю свою уверенность Крис. – Или вы хотите еще?..
– Нет-нет! – хватит этого интима с Медузой, как-то это было… чересчур. Музеев, что ли, не видела? Рука машинально потянулась к шляпе: спрятаться, прикрыться, не выставлять напоказ перед посторонним… душу? чувства? что?..
Кажется, она поняла.
Крис исподтишка наблюдал за ней, не останавливаясь взглядом на привычных, знакомых до последней царапинки камнях. У русских, как правило, неплохое образование, а если добавить этот их вечный романтизм и умение увлекаться… она, кажется, увлеклась. Сейчас важно повести себя так… черт, я не представляю себе, как надо себя повести, чтобы ничего не испортить!
Прежде всего, надо, наверно, не дать ей заметить, что я заметил… черт! Запутаешься с этими женщинами.
Крис отдавал себе отчет, что он ничего не понимает в реальной жизни. И в реально существующих, ходящих рядом, говорящих с ним, что-то думающих людях. Самому ему бы, вероятно, никогда не пришло это в голову, но когда все постоянно твердят… особенно женщины.
«Крис, ты ничего не понимаешь в реальной жизни! – первой была, кажется, мама… мамы ведь всегда во всем первые, да? – Брось свои книги и все эти надписи, посмотри вокруг!.. как ты будешь жить, мальчик мой, господи?!»
«Крис, ты такой милый, но ты ничего не понимаешь в реальной жизни!» – щебетали прелестные девушки с уже забытыми именами, собирая недавно расставленные на его полках духи и безделушки в дорожные сумки.
«Крис, какого черта, ты что, вообще ничего не понимаешь в реальной жизни?!» – это жена, первая, бывшая и, скорее всего, последняя. Сначала фраза звучала в ее устах как вопрос – потом превратилась в утверждение, потом в уверенное восклицание. И сменилась молчаливым приговором: к совместной жизни не пригоден.
Может быть, не пригоден к жизни вообще. К той самой пресловутой «реальной» жизни.
Ему казалось, что ничего в жизни не понимают они – те, кто произносил приговор, кто не мог понять, почему интересно и важно прочитать древнегреческую надпись на мраморном надгробии и совсем не интересно, скажем, заниматься недвижимостью и удачно продать очередную виллу.
Женщины. Странные существа, произносящие приговор, живущие той самой жизнью.
Он твердо знал, что понимает что-то главное – но не в их «реальной» жизни, а в совсем другой, той жизни, которая текла и течет под средиземноморским солнцем, у которой нет конца и начала, которая напоминает о себе легким дуновением ветра… или вот этими древними камнями.
Он не мог смириться с тем, что должен делать что-то общепринятое и оставить все как есть. Работать, например, риэлтором, продавать, покупать, вести переговоры и разговоры, зарабатывать деньги, тратить их на то, что принято у понимающего «реальную» жизнь большинства, а истратив, снова озабоченно продавать и зарабатывать… это что – жизнь?! Это кому-нибудь интересно?!
Женщинам? Господи, почему?! Как это может быть интересным?! Да лучше вообще не жить, чем жить их «реальной» жизнью! Почему кому-то нужны и интересны сами женщины – эти, нынешние, ничего не желающие знать, ни во что не вникающие, занятые какими-то пустяками вроде туфель и кремов?! Им вообще незачем жить, этим женщинам! Почему многие мужчины без них не могут, хотел бы я знать! Нет, секс, это понятно… но это же… ну, как еда – не жить же ради нее, поел и пошел! И какая, в сущности, разница, что и с каким соусом есть?
Нет, он знает, что интересно и нужно ему. Может быть, когда-нибудь все поймут то, что уже понял он… вон эта Лана… шляпу надвинула, чтобы я не заметил! Но я заметил – потому что знал, чего ожидать. До нее тоже некоторые попадались, не она первая, только с ними ничего не получилось, а с этой, кажется, есть шанс. И у женщин бывают проблески – если правильно себя повести.
Если бы еще точно знать – как именно!
Наверно, надо вести себя естественно, так же, как до этого.
– Вот здесь, – показал он, когда они спустились на несколько ступенек вниз, а Лана снова – уже снизу вверх – бросила взгляд на Медузу, – был священный колодец… осторожно, там довольно глубоко… вообще, сейчас, когда пойдем в сам храм, вы будьте внимательны. Тут ограждений нигде никаких нет… вернее, в последнее время появились, некоторые предупреждения я сам повесил… здание строилось с размахом, сами видите… сто восемь метров в длину, пятьдесят в ширину, а представьте себе, если бы были еще все колонны…
Представить Лана могла все, что угодно.
Сто восемь метров – педант чертов! Сказал бы просто – сто или больше ста, как сейчас принято, так нет, надо ему образованность показать! А как проверить, правда сто восемь или, к примеру, сто девять? Или сто семь? И какая разница, господи?!
Она уже видела, что он был прав, во всем прав, это действительно really great, иначе не скажешь… тут вообще ничего не скажешь! Почему это сооружение, это грандиозное здание, этот остов архитектурного динозавра не произвел на нее никакого впечатления, когда она смотрела на него от дороги?
Или она была занята своими мыслями (Стас, черт его побери!), или машина ехала слишком быстро, а потом она с трудом переходила дорогу и смотрела на кассира, и на книжную обложку и путеводители… а он хитрец, этот Крис, отвлекал ее разговорами до самой Медузы!
К тому же тогда она смотрела сверху вниз… в прямом и переносном смысле, а эти камни не прощают такого отношения и не показываются во всей красе смотрящему на них свысока.
Отсюда, снизу, от подножия храма становилось совершенно ясно… что?
Что вся наша жизнь – такая малость? Наверно, древние были убеждены в этом и строили, исходя из этого убеждения. Высокие ступени – ногу с трудом поднимаешь! ты все еще думаешь, что что-то значишь, маленький человек? – вели наверх, туда, где сохранились основания огромных – действительно огромных, неохватных, куда там Большому театру и Казанскому собору! – колонн. Некоторые из них были довольно высокими, от других сохранились лишь украшенные причудливой резьбой основания, а две, те самые, видные издалека, уверенно возвышались над всем, что не удалось победить все разрушающему времени и еще больше разрушающим людям.
Лана подошла к ним. Резьба основания – драконы, грифоны, листья, геометрический орнамент – притягивала взгляд, сама колонна тоже была не гладкой, а с выдолбленными в мраморе желобками, придававшими ей стройность и непоколебимую уверенность в собственной красоте и величии.
Колонна приказывала взглянуть наверх, туда, где остаток свода соединял ее со второй, тоже выстоявшей, – и Лана, подойдя вплотную, почти прижавшись к ней, запрокинула голову, насколько позволяла шея… ей показалось, что колонна падает на нее, что весь мир пошатнулся и не держится на своем украшенном неизвестным резчиком основании, у нее закружилась голова, в глазах потемнело, небо вдруг оказалось совсем близко, но какая-то легкость и неожиданная свобода вошли в нее вместе со следующим вдохом.
Свобода жить и дышать, смотреть на мир, и выше – до самого неба, свобода прижиматься к мрамору колонн, рассматривать античные камни, свобода писать стихи и быть самой собой.
Мне никто не нужен, говорила ей пошатнувшаяся, но выстоявшая колонна, я одна, я свободна, я не нуждаюсь в опорах, я такая, какая есть. Орнамент основания – всего лишь орнамент, от этих украшений ничего не зависит, я не нуждаюсь в них… пусть будут, мне все равно, но их стирает время, портят вандалы, они не важны. Что твой Стас – коготок грифона, не больше. Красиво, но разве колонна создана ради него?..
Важно выстоять, стремясь вверх, даже если здания, частью которого я была, уже не существует, даже если от других ничего не осталось, я и сама что-то значу, для чего-то нужна. Я храню время, обозначая место, где когда-то была жизнь, я должна выстоять, пусть только для того, чтобы песок не занес окончательно этот грандиозный замысел человека, я не позволю исчезнуть с поверхности земли Медузе, и львам, и грифонам… я сильна, пряма и свободна.
Я сильна и свободна, головокружение прошло, не падает колонна, не шатается мир… господи, как хорошо!
– Ох, спасибо вам, Крис! – выдохнула она. – Это действительно… необыкновенно и… грандиозно… не знаю…
– Я вас еще в Иассос свожу, – деловым, совсем не подходящим к ее настроению тоном ответил Крис, – или даже в Измир, вы там были? Я иногда езжу, где-то раз в два месяца… хотя от древней Смирны практически ничего не осталось, но я там брожу по разным районам… а сейчас мы в Милет, если вы не устали…
Помолчи, мысленно взмолилась Лана. Или это тоже коготок грифона, завиток орнамента, на него не надо сердиться? Пусть существует и верит в собственную значимость… мы, мраморные колонны, знаем, что по-настоящему важно.
Однако остаток мраморного свода она не удержала бы в одиночку!..
5. Маша
Почему, когда происходит что-то неприятное, ее никогда нет?!
Именно тогда, когда она нужна, она оказывается черт-те где, занятая черт-те чем! Маше не так часто требовалась помощь сестры, она привыкла полагаться только на себя, она завела мужа, подруг, многочисленных готовых помочь знакомых, но разве справедливо, что в тех редких случаях, когда хотелось позвать сестру или когда безвыходность ситуации подсказывала ее имя, ее никогда не оказывалось рядом?!
Она всегда чувствовала себя свободной и порхала по жизни, ни за что не зацепляясь, – зачем ей, она поэтесса! Родители болеют, или делается ремонт, или надо что-то куда-то отвезти, или что-то кому-то передать, или посидеть с Мишкой – нет, как можно, никому и в голову не придет обращаться к ее высочеству с такими пустяками.
Маша с детства мечтала, чтобы у нее была сестра-близнец. Только близнец, точная копия ее самой, не старше и уж точно не младше, чтобы учиться в одном классе, делиться всеми проблемами, интересоваться одинаковыми книжками и вещами. Младшая сестра (четыре года разницы, ни то ни се: нянчиться с ней еще не хотелось, играть как с равной не получалось!) ни на что не годилась.
Маленькая Маша так мечтала о сестре – и сестра оказалась ее самым большим разочарованием. Сначала все носились с ней, потому что она маленькая, и Маша, стиснув зубы, решила подождать, пока она немного вырастет. Потом выяснилось, что для Маши она не вырастет никогда: так и останется младшей, а следовательно, нуждающейся в опеке и помощи и обеспеченной всепрощением и вседозволенностью. Еще позже оказалось, что у сестры имеется что-то вроде таланта, и отличница и умница Маша навсегда отошла на второй план.
По крайней мере, ей самой так представлялось. Нет, родители вели себя абсолютно нормально, любили их обеих, изо всех сил старались сглаживать возникающие между ними ссоры и конфликты, но при всем этом…
«У меня будет только один ребенок! – твердо решила она для себя в том возрасте, когда максимализм кажется единственно возможным способом как-то примириться с жизнью. – Только один – чтобы ни с кем его не сравнивать, не лишать его собственной заботы, не вынуждать его ревновать и думать, кого я люблю больше, кого меньше!»
Хуже всего было то, что сестра никогда ничего не добивалась, словно не снисходила до бытовых и прочих земных забот, и то, что самой Маше давалось с трудом, Лане доставалось легко, само по себе. А если не доставалось, то ее все жалели, тогда как Маше никакого сочувствия было ждать не от кого. Ну, не вызывала она сочувствия, что поделаешь! А так хотелось иногда, чтобы пожалели, признали право на слабость и поражение, на любовь, не зависящую от ее успехов и мелких домашних побед…
У нее всегда все было в порядке, и в сочувствии она, на посторонний взгляд, не нуждалась по определению.
По умолчанию, как теперь принято говорить.
- Принцы прекрасны по умолчанию,
- Это доводит принцесс до отчаянья,
– детский стишок, подаренный Ланой, легко, с первого прочтения запомнившийся и привязавшийся на всю жизнь. Стишок обидел Машу: там было про охотниц за принцами, и она тотчас же приняла это на свой счет. Ни за кем она не охотится, выдумают тоже! Да, она не пойдет замуж за первого встречного – и что, спрашивается, в этом плохого? При чем тут капканы?
- Принцы стремятся в драконье логово,
- В башнях принцессы терзают локоны,
- Шьют по канве или вяжут шарфы
- Километровые. Мучают арфы
- И фортепьяно – принцессы учатся
- Ставить на принцев капкан.
- Вдруг хэппи-энд получится?
Принц был пойман, и хэппи-энд получился – муж, квартира, машина, сын. Только противный стишок не выходил из головы, обосновавшись там, в тренированной памяти отличницы, всегда умеющей вовремя вспомнить и ввернуть цитату. Застрял где-то между положенным Пушкиным и когда-то не положенным Гумилевым, а в нем и размер сомнительный и рифмы не то чтобы очень… с чего вообще все взяли, что у нее талант?!


