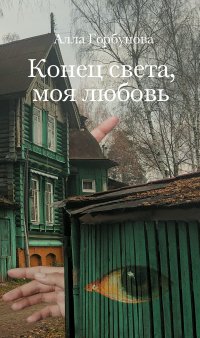Читать онлайн Пока догорает азбука бесплатно
- Все книги автора: Алла Горбунова
© А. Горбунова, 2016,
© В. Бородин, предисловие, 2016,
© В. Немтинов, фото, 2016,
© ООО «Новое литературное обозрение», 2016
Радуйся, гнев мой
«Пока догорает азбука» – четвертая книга Аллы Горбуновой, четвертая или пятая сотня стихотворений, в основном больших и всегда устроенных как подвижный, рвущийся за собственные границы объем. Этот объем – взаимообратимая связность мира внешнего и внутреннего: оба – большие и находящиеся в постоянном становлении. Поэтическая мысль и просодия здесь и неразрывны, и как бы видны по отдельности; все напоминает колебание очень тугой струны – или предельно ускоренное движение маятника от «события» к «впечатлению» (и обратно).
Авторский внутренний маршрут, то есть череда самовоспроизводящихся событий и впечатлений, задается так же устроенной амплитудой между «выбором» и «неизбежностью», «воинственностью» и «потерянностью». То есть эти самые, несомненно полярные, выбор и неизбежность оптически сливаются в «неизбежность выбора», воинственность и потерянность – в «воинственную потерянность», но примиренности, остановки маятника посередине – нет и быть не может: он, наоборот, ускоряется и автору не подвластен, а развитие этого тотального события комментируется – интонационно, во всевозможных обертоновых рядах – одновременно с яростью и нежностью, горечью и гордой усмешкой.
Задолго до стихотворения, строчка которого дает название книге, локус «откуда говорят» уже стоит перед глазами как костер, из заноз и книг, на пустыре морозного города, у которого греется человек (возможно, в большей степени «вообще человек», чем «лирический герой») – и очевидно: человек этот, если и не построил весь этот город и не написал все эти книги, что-то – сам, от начала до конца – построил и сочинил, а остальное аналитически увидел, собрал в собственной голове в прочное единство.
- И овраги разверзнуты между домами,
- как между людьми.
- И тянутся к лесу, как нижние тропы
- к последнему многоэтажному дому
- на отшибе у леса
- в провинциальном закате.
То есть говорит о самочувствии здесь не только личность, но и культура – которая в любом случае единственный дом: отчасти сырой и холодный, отчасти, в каких-то своих углах, превращенный в пыточную, но любой уход от него, любая месть заканчивается возвращением.
«Внутренний» сюжет книги, кажется, обращен к самому основанию речи. Азбука, которая догорает, это не просто образ чего-то, связанного с полем человеческой культуры и языка, но то первое, детское, что учит нас языку – и именно на этом уровне происходит некое преобразование. Горбунова пытается нащупать не просто новые смыслы, но какой-то новый способ их возможности.
С самой ранней юности Алла Горбунова с пристальной решимостью, никому не передоверяя, изучает фундамент «здания культуры» – древние и в современном человеке от него в нем же самом прячущиеся слои мифологического и магического мышления (очень, в действительности, стабильные) – и мистические интуиции, которые бóльшая редкость.
- до иссушения крови в огненную руду
- до низвержения грубого мальвы в полях
- мы землю копали и рыли но больше не будем
- там, далеко, за Якутией, ещё дальше, где дикая мать живёт
В этих стихах очень сложно провести границу между субъектом и его опытом; у субъекта нет четких границ, отделяющих его от мира, а те условные границы, которые стремятся удержать его от полного растворения, крайне подвижны. Кажется, субъект этих стихов впускает в себя – в стихах часто даже на телесном уровне – некий предельный и даже деформирующий опыт, как бы принимает на себя его удар:
- во имя какой любви ты хочешь со мной разделить
- распад этих атомов расщепление звёзд
- гибель богов
Горбунову интересует возможность откровения и чуда, и границы той субъективности, в которой они возможны, – вернее, постоянное проницание этих границ. Любое откровение пронзает как луч. Открывается новое видение: это и больно, и прекрасно одновременно:
- в замочную скважину
- луч проникнет и ранит меня.
Мы узнаём субъекта этих стихов в образе демиурга-неудачника, все творения которого ошибочны: огородные пугала, до пят укрытые волосами, бессмысленно бродящие в полях, каменные кувшинки, которые тонут, потому что их не может держать вода, сосуды, которые разбиваются:
- что он может сказать на прощание
- огородным пугалам, каменным кувшинкам, разбитым сосудам?
- вы были ошибками и свободны,
- никому не нужны и прекрасны,
- бесцельны и безусловны.
- и сосуды себя не склеят, каменные кувшинки
- не всплывут со дна, и огородные пугала, до пят укрытые волосами,
- будут вечно бродить в полях.
Мы находим его в разных местах: в полном одиночестве у базальтовых озер Радости и Зимы на Луне, где «сидели мы и плакали», как в псалме на реках Вавилонских, или на Елисейских полях Магеллановых облаков, где его окружают беженцы, и джинны, и нарядные трансвеститы. В одном из стихотворений он указывает свое место:
- я —
- внутри розы анголы
- когда её обнюхивает гепард
И это точка, где красота, опасность и сама дикая жизнь сливаются в одно. Но фоном многих стихов, «неизменным домом» остается лес, тот самый, с озерами, с запущенным садом, где прошло детство:
- дорога к кротовой норе
- к стоячей воде
- лосиного копытца
- вот любовь моя
- тёмная как торфяное болото
- вот падалица
- пушица
- птица
Во всем этом есть что-то грозящее безопасной, самосохранительной картине мира (полу)разрушением, не гарантирующим пересозидания во что-то более сильное-гибкое-свободное, а художественному языку угрожает специфическая «прагматика откровения», жесткая обусловленность эстетического события духовным.
- легче крыл стрекозы пари, прекрасный
- гнев мой, оставив фальшивый праздник,
- ты, сумасшедшая моя радость,
- здравствуй!
- горлинкой бейся, крутись юлою,
- бешеным дервишем, русским плясом,
- дикими осами, осью земною,
- на баррикадах рабочим классом,
- пьяной от гнева лежи в канаве,
- на фальшивом празднике нет нам места.
- гневайся, радость,
- радуйся, гнев мой,
- ave!
Поэты такой породы как честные и умные люди практически всегда – и Горбунова едва ли не «настойчивее» своих предшественников – уравновешивают этот чрезмерно благородный риск иронией. У Аронзона, Хвостенко, Владимира Казакова – да и у Красовицкого – ирония была, на старинный студенческий лад, идиллически-легкомысленной, при ощутимой какой-то весомости и плотности «трагического», объективного, как глубоко застрявший осколок, время от времени напоминающий о себе молодому и, в общем-то, здоровому ветерану; у Александра Миронова и Елены Шварц – что-то почти противоположное: по-достоевски ранимая язвительность, рассредоточенный, газообразный сарказм. У Горбуновой того и другого поровну, хотя вообще ее ирония уникальна, как уникальна и вся избыточно сильная – можно сказать, болезненно здоровая – поэзия.
- Мои сёстры – феноменолог и мать Тереза.
- Я хочу их убить и зарыть на опушке леса.
- Я одержима. Мной управляют бесы.
- Одна сестра молится, другая читает рукописи Бернау.
- Но только открою Гуссерля – бесы кричат мне «мяу».
- Рот открою молиться – бесы кричат мне «вау».
Именно ирония, этот утыкающийся в самую-самую повседневность громоотвод метафизических вспышек, спасительна для искусства-как-баланса; вообще ясно, что Горбунова не только самый серьезный и возвышенный современный поэт, не только самый панк, а (что очень важно) в этих стихах есть врожденное, как музыкальный слух, владение композицией, драматургией: не пере-изобретательство, а настоящая верность самым азам, внутреннее согласие с этими – природными, в конце концов, – законами.