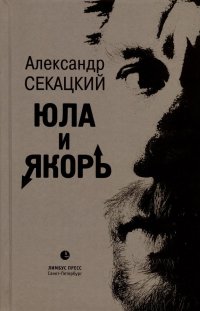Читать онлайн Прикладная метафизика бесплатно
- Все книги автора: Александр Секацкий
Защиту интеллектуальной собственности и прав издательской группы «Амфора» осуществляет юридическая компания «Усков и Партнеры»
© Секацкий А., текст, 2005
© Огарков А., послесловие, 2005
© Оформление. ЗАО ТИД «Амфора», 2005
Раздел 1
Странствия постороннего
Путеводитель по философии: версия Секацкого
1. Отправляясь в путь
Путеводители предназначены для заезжих и праздных гостей, для посетителей. Сегодня, по большей части, для туристов, в связи с чем идея путеводителя оказалась столь же дискредитированной, как и идея пути. Но изначально путеводитель предназначался для транзитного следования и представлял собой искусство оглядываться по сторонам. Для того чтобы руководствоваться путеводителем, требовалось свободное время, толика бесцельности и готовность отложить прибытие в пункт назначения. Требовалось также сочетание двух вещей, редко сочетающихся друг с другом: умения отвлекаться и умения стойко следовать своему влечению, не поддаваясь на первое попавшееся развлечение. В средневековом Китае такой путешественник назывался «мастер, владеющий сходством и несходством».
Попытка посетить таким образом философию – налегке, не обременяя себя багажом специальных знаний, не поддаваясь гипнотической позе мудрости и не жмурясь от света истины, – подобная попытка всегда вызывала нарекания со стороны стражей мудрости и олигархов, удерживающих власть в той или иной философской провинции. Нарекания, насмешки и другие препятствия неизбежно ждут вольного странника; едва ли не первая вещь, которую предстоит узнать путешественнику, сводится к тому, что олигархии мудрых не жалуют гостей: им требуются ученики и почитатели.
И все же обзорная экскурсия по разъединенным провинциям философии имеет свой смысл. Она притягательна не только сувенирами, которые никто не помешает захватить с собой, но и приоткрывающимся горизонтом новых типов возможного обобщения. Это не пустые слова. Дело в том, что в любой области знания «философский аспект» притязает на предельность и, одновременно, удаленность позиции, «правее» которой уже ничего нет. Философии принадлежит монополия на обобщение, и это обстоятельство следует принимать как данность. Взгляд странника, исходящий извне, способен нарушить монополию. Не то чтобы его обобщение было круче из-за крутизны высокого холма, откуда осуществляется наблюдение, – речь вообще не идет о трансцендировании как описании сверху. Но некое «трансцендирование вбок», выбор экстерриториальной позиции на всем пути следования – это доступно путешественнику-номаду и не лишено для него интереса.
Путь ученичества отвергается заранее. Он, конечно, самый надежный, но слишком долгий и к тому же не поощряющий экстерриториальность, искусство оглядываться по сторонам. Номад, впрочем, знает, что возможность чему-то научиться, полюбоваться той или иной утаенной жемчужиной – такая возможность всегда сохраняется, даже если отказаться от последовательности и поэтапности овладения мудростью. Ясно также, что единственный альтернативный способ проникновения состоит в подделке пароля и некоторых характерных жестов, провоцирующих гостеприимство. В этом путеводитель может сослужить добрую службу.
Техника имитации и притворства, какой бы критике она ни подвергалась, практически совпадает с техникой безопасности пребывания в мире. Если же речь идет о путешествии по философскому архипелагу, она равносильна знанию важнейших обычаев и умению вести себя правильно – то есть вежливо и тактично. Следует заметить, что в нашем мире видимостей, где подделки не просто имеют хождение наряду с эталонами, но и активно вытесняют их, проблема универсальной детекции лжи представляется неразрешимой в принципе. По большому счету, неподдельными остаются лишь те вещи, подделывать которые просто не имеет смысла. Платон считал такие вещи лишенными эйдосов: мусор, обрезки ногтей, старье, не являющееся товаром ни при каких условиях… Принадлежность к этому странному ряду представляет собой единственную гарантию от подделок. Справедливость, мужество, благородство, сама мудрость, как магнит, притягивают фальсификаторов – вот почему эталоном бесстрашия в нашем мире является младенец, а символом неподдельности – куча мусора.
Не всякое притворство одинаково полезно, но и не всякое притворство бессмысленно. Многое тут зависит от мотива. Притвориться знатоком лошадей, вин, женщин (мужчин) – даже в этом ряду имитаций прослеживаются существенные отличия. Слыть знатоком определенного предмета и слыть человеком мудрым означает претендовать на разные экзистенциальные и психологические ниши.
Скажем, обольститель, дамский угодник, всегда готов использовать свой притворный опыт, чтобы действительно обольстить. Мнимый знаток вин охотно попробовал бы все якобы известные ему марки, будь у него такая возможность. «Знаток» лошадей тоже, хотя здесь возможны некоторые нюансы. А вот преуспевающий имитатор философского знания, скорее всего, не согласился бы тратить время на добровольное самообразование – ведь подобную возможность у него никто никогда не отнимал. Значит ли это, что философское притворство содержит в себе большую степень цинизма? Не исключено, хотя допустим и другой вывод: знатоком философии можно только притвориться. Кажется, именно его имел в виду Сократ, когда говорил: «Я знаю только то, что я ничего не знаю». Товарная форма мудрости складывается из элементов притворства; среди множества этих элементов найдутся и педагогические приемы, и софистические уловки – причем отличить их друг от друга иногда попросту невозможно. И если в теории со времен Платона и Аристотеля философия пытается четко разграничить истинное знание (episteme) и мнение (doxa), то на практике важнее другое различие – между искусной имитацией, которую способны предложить знатоки философии, и неумелой подделкой, непременно имеющей хождение в какой-нибудь, пусть даже самой невнимательной к словам, среде.
Современное философствование распадается на множество уровней имитации – и философия как академическая дисциплина отнюдь не исключена из этого списка. Внутри каждого уровня существуют свои эталоны, образцы мудрости, успешно выполняющие функцию коллективного самосознания. Важно иметь в виду, что уровни почти не конкурируют друг с другом, «национальные» валюты мышления не конвертируемы в единую общезначимую валюту мудрости. Чужая валюта в своем кругу всегда вызывает подозрение в подделке, но взаимное недоверие уровней философствования – это простая данность, которая не должна смущать любознательного путешественника.
Как известно, на дверях платоновской Академии было написано: «Не знающий геометрии, да не войдет». Странствующему софисту, как и любому другому страннику, попадается множество подобных предупреждений, чаще всего подразумеваемых. Кружки, салоны, сложившиеся компании предстают перед ним как пещеры из арабских сказок. Вход в каждую из пещер контролируется предъявлением определенного пароля: беспрепятственно входит только свой. Мудрость софиста, в отличие от знаний кабинетного философа, включает в себя умение в нужном месте воспроизвести вещую формулу: «Сезам, откройся!» И, поскольку общего вида для такой формулы не существует, веселая мудрость странника требует быстрого выбора подходящей отмычки из имеющегося набора (боекомплекта). А доведение отмычки до персонального сезама в режиме реального времени – это высший пилотаж. Правда, необходимо еще и влечение к подобного рода занятиям, но ведь странствующий мудрец находится в пути – и, стало быть, его влечет этим влечением.
2. Территория здравого смысла
Для начала уместно описать рельеф местности. С высоты птичьего полета (а именно такую высоту и зарезервировала за собой профессиональная философия) провинция здравого смысла или «обыденного рассудка» представляется сплошной равниной. Известно также, что территория не обустроена, усеяна кочками, многочисленными предрассудками, о которых здравый смысл то и дело спотыкается. Что касается растительности – опять же сплошное редколесье: периодически попадаются какие-нибудь три сосны, и в них пожизненно блуждают несчастные обитатели провинции. Философы давали аборигенам разные имена, по большей части обидные – но вот Гилберт Честертон предложил свое определение: просто люди. Люди, не привыкшие вставать на цыпочки даже тогда, когда им приходится по-своему мудрствовать.
Вообще, критика здравого смысла является отдельной философской дисциплиной, со времен Гераклита ей отдавали должное почти все заметные мыслители европейской традиции. Тональность критики варьировалась: преобладало, пожалуй, негодование, но встречались и язвительность (ее концентрация особенно велика в немецкой классической философии), и нотки грусти и сожаления. За последнее столетие карта описываемой страны существенно изменилась; некоторые области получили независимость и обрели иной статус, как правило, куда более высокий. Это относится к так называемому (называвшемуся так ранее) примитивному мышлению. Теперь оно, благодаря структурализму, почитается формой неподдельной мудрости, недоступной европейцам. Бинарные оппозиции индейцев бороро котируются нынче не ниже гегелевской диалектики, да и тотемизм догонов расценивается восторженными антропологами как «вторичная моделирующая система большой мощности, способная вместить весь доступный нам универсум знаний» (Ц. Тодоров).
Попробовал бы сегодня какой-нибудь современный Кант (написавший в свое время: «негры, резвые как дети, не испытывают нужды в рефлексии») снисходительно отозваться о носителях пралогического мышления – коллеги просто перестали бы с ним здороваться.
Таким образом, после произошедших революционных перемен, вызвавших переоценку ценностей, территория здравого смысла несколько сузилась и превратилась в местность, где живут и мыслят соседи. Соседям повезло куда меньше, чем догонам и бороро. Их по-прежнему именуют бюргерами, мещанами или обывателями (за исключением периодов предвыборной лести), и статус их обобщений в глазах собственно философии по-прежнему предельно низок. Самосознание соседей-обывателей, как в своей бесхитростности, так и, в особенности, в своих наивных хитростях, в лучшем случае удостаивается имени житейской мудрости; обычно же оно просто определяется как полюс, противоположный философии.
Между тем непримиримое отношение академической философии к здравому смыслу отнюдь не сводится к одному лишь презрению. Враждебность включает в себя компоненты обиды и страха. Во-первых, компания соседей отнюдь не спешит признать в кабинетном философе человека мудрого или хотя бы знатока. Скорее такого считают чудаком, своеобразным юродивым, достойным снисходительного отношения. Вовсе не восхищение, а жалость обеспечивает приют, предоставляемый самодостаточной дружеской компанией философским притязаниям какого-нибудь гиганта мысли, одинокого мыслителя.
Во-вторых, обыденный рассудок не имеет претензий, характерных для более продвинутых промежуточных (и потому лишенных самодостаточности) интеллектуальных кругов; он даже и не пытается имитировать построения, имеющие хождение в дисциплинарной философии. Пренебрежение к книжному знанию, отсутствие потребности произносить слова, которые сам не понимаешь, делают здравый смысл практически неуязвимым по отношению к провокациям возвышенного разума. Конечно, философом становится (если становится) лишь тот, кто покидает прибежище обыденного сознания, но вовсе не обязательно покидать компанию соседей с обидой и затаенной неблагодарностью.
Здесь, пожалуй, следует вспомнить слова Конфуция, полезные для всех, пребывающих в интеллектуальном странствии, но особенно для посетителей провинции здравого смысла. Конфуций сказал: «Человек ничтожный и низкий постоянно ссорится со своими ближними, но во всем следует им. Муж благородный со своими близкими прекрасно ладит – но не следует им ни в чем».
3. Философствование в круге первом
Итак, стремление здравого смысла пофилософствовать представляет собой «обыкновенное человеческое», оно благополучно реализуется среди повседневных нужд, прекрасно уживаясь с зарабатыванием денег, с регулярными порциями необходимой ругани, с проявлениями либидо и даже с самой могучей силой из числа правящих миром – с силой инерции будней. Гость из иных миров вполне может и позабыть свое родство с компанией соседей, но легкая концентрация внимания позволяет восстановить контуры житейского философствования. Единственное усилие, которое следует в этом случае предпринять, – усилие сохранения присутствия. Ибо даже самая чуткая и внимательная душа странника обычно испытывает идиосинкразию к некоторым ключевым словам. Как только в разговоре начинают мелькать «шурин», «деверь», «свояк», «Серега с Малой Бронной и Мишка с Моховой», сигнальный огонек внимания отключается, автоматически выбиваются пробки, обеспечивающие режим присутствия. Здесь и требуется некоторое усилие самоконтроля, без него не удастся сойти за своего.
Хорошим внешним подспорьем в данном случае является доза алкоголя, которая прежде всего выключает выключатели – сторожевые посты сознания, реагирующие на повтор, на банальность и на упоминавшиеся ключевые слова. Алкоголь, самый универсальный химический медиатор, удобен здесь еще и потому, что философствование здравого смысла разворачивается именно на кромке измененного состояния сознания. Для мира, в котором обитают шурины и свояки как главные источники авторитета, «выпить» и «пофилософствовать» суть смежные состояния, практически неотделимые друг от друга. Обыденное сознание вообще характеризуется совпадением противоположностей, далеко превосходящим построения диалектического разума. В частности, в обывательском кругу чтение как раз и есть развлечение, час потехи, наступающий после того, как время отдано делу. Пришельцы из вышележащих интеллектуальных пространств могут обладать другой установкой: чтение для них сопряжено, наоборот, с максимальной концентрацией присутствия, оно есть занятие, в сущности – работа.
Зачастую простейшие моменты взаимного непонимания не дают путешественнику возможности погостить в провинции здравого смысла в свое удовольствие. Действительно, философия не может быть здесь самостоятельным времяпрепровождением, ее роль – служить острой приправой к основному блюду, к проживанию и проговариванию оставшейся жизни. Но и такое бытование философии выдвигает своих собственных знатоков, испытывающих порой моменты триумфа, не зависящие напрямую от степени образованности.
Некоторые характерные привычки здравого смыла в сфере философствования (а с ними приходится считаться любому, претендующему на роль своего) выявил еще Гегель в знаменитой статье «Кто мыслит абстрактно». Образ философии, доступный обыденному сознанию, как раз и сводится к обмену абстрактными утверждениями, каждое из которых имеет вид вселенского обобщения:
«Все женщины легкомысленны (легковерны, коварны, любят ушами и т. д.)».
«Все мужчины думают только о себе (о своем мужском достоинстве, о том, как бы соблазнить невинную девушку, о деньгах-футболе-рыбалке и т. д.)».
Место женщин и мужчин в семимильных обобщениях легко занимают евреи, ирландцы, немцы, врачи, политики, генералы и вообще «другие».
Особняком стоят зодиакальные объяснения (все Львы, Скорпионы, Раки…). Их можно было бы назвать зодиаманиакальными, поскольку они, во-первых, оттесняют на периферию другие причинные ряды, а во-вторых, зодиаманиакальность выходит далеко за пределы провинции здравого смысла.
Как бы там ни было, семимильные обощения осуществляются с необыкновенной легкостью и с той же легкостью сменяют друг друга. На этом фоне формация науки отличается осторожностью, некоторой даже робостью в обобщениях, что вызывает неизменное раздражение философствующих соседей.
Как уже было сказано, к противоречиям абстрактных тезисов обыденное сознание совершенно нечувствительно, поэтому приводить контрпримеры с целью опровержения нет никакого смысла. Аборигенами подобные уточнения воспринимаются как мелочность, своего рода нехватка философского воображения. Главной отличительной чертой компании философствующих соседей является именно семимильность суждений, принципиальное отсутствие вкуса к нюансам, полутонам и тонким различиям. Опытный путешественник из братства вольных софистов никогда и не станет пытаться привить чуждые критерии к практике философствования здравого смысла – в этом случае он неизбежно получит искаженную картину. Путешественник понимает, что одно дело – мышление в пределах собственной компетенции и совсем другое – интеллектуальные прогулки, увеселительные вылазки, предпринимаемые в часы досуга. Тот же Гегель тонко заметил, что интерес, иногда проявляемый здравым смыслом к философии, объясняется единственной причиной – «желанием здравого смысла хоть раз в жизни постоять на голове». В житейских вопросах, в пределах собственной компетенции, здравый смысл безусловно обладает необходимым набором тонких различий (иначе он не был бы «здравым») – во всех же прочих случаях он беззаботно кувыркается и стоит на голове.
4. Принципы соседской мудрости
Философствующий здравый смысл не подчиняется формально-логическому закону исключенного третьего, зато он подчиняется закону исключения присутствующих и, разумеется, себя любимого.
В умозаключениях типа «все женщины легкомысленны» (воспользуемся таким эвфемизмом) или «мужчины сплошь эгоисты» для присутствующих рядом кокеток и эгоистов делается исключение, которое, как правило, специально не оговаривается. Правда, говорящий может заявить: «Я не имею в виду присутствующих», но тем самым он скорее делает ситуацию двусмысленной. Одно и то же свойство в зависимости от того, приписывается ли оно своим или чужим, оценивается прямо противоположным образом. Точную расшифровку подобных философем здравого смысла дает Ролан Барт в своем знаменитом различении эротики и порнографии: «Эротика – это то, что возбуждает меня, а порнография – то, что возбуждает другого». Таким же незамысловатым способом в компании философствующих соседей проводится различие между упорством и упрямством, бережливостью и скаредностью, находчивостью и наглостью, влюбчивостью и готовностью к измене.
Гостю, наблюдающему за философскими кульбитами обыденного рассудка, полезно знать следующее. Не надо бояться обидеть присутствующих невольным обобщением – к обидам такого рода компания философствующих соседей практически не чувствительна. Зато попытка оправдания любой ограниченности, обнаруженной на территории здравого смысла, вполне может оказаться обидной. Интеллектуальная услуга по поиску обоснований весьма скромного места в мире, занимаемого участником философствующей компании, скорее всего будет с негодованием отвергнута. Перед нами разновидность «ложной помощи», одна из самых типичных ошибок, совершаемых сознанием сострадающей интеллигенции.
В середине XIX века с соответствующим недоразумением постоянно сталкивались народники. Выражая, к примеру, солидарность с проститутками, революционеры-демократы всячески доказывали их невиновность в собственном незавидном положении, обличали несправедливо устроенное общество, вынуждающее беззащитных женщин торговать своим телом. Степень сочувствия доходила до того, что вынужденная проституция представала чуть ли не в качестве образца добродетели. Ответом им было недоумение и неожиданная (разумеется, только на первый взгляд) враждебность «сочувствуемых».
Дело в том, что каждая в отдельности взятая проститутка отнюдь не собиралась отождествлять себя с сообществом. В ее самосознании проститутками являются другие – и поэтому она искренне осуждает проституцию как явление. Сама же она есть абсолютное исключение, не имеющее с явлением ничего общего, например, жертва несчастного случая. На уровне житейской мудрости (т. е. в пределах безусловной компетенции здравого смысла) сочувствуемая соблюдает все цеховые предосторожности, она спокойно обсуждает деловые вопросы в компетентном разговоре с подругами, но в социально-философских обоснованиях и оправданиях явления проституции невинная жертва себя все равно не узнает. Зато она легко узнает себя в благородной героине латиноамериканского сериала или женского романа.
Женщины, прибегающие к абортам, могут всей душой осуждать их как явление. Моральное ханжество им и сподручнее и ближе, чем цинизм или философская привычка делать действительное разумным. Их собственная принадлежность к осуждаемой группе извне может быть совершенно очевидной, но изнутри эта принадлежность в упор невидима. Поэтому нет и необходимости ее как-то оправдывать. В этом и других подобных случаях срабатывает предохранительное слепое пятно, которое Жак Лакан назвал «meconnaisanse» («неузнавание»). Обилие слепых пятен всегда подскажет бывалому путешественнику, на какой территории он находится. Здесь, почти не зная исключений, действует принцип, сформулированный даосским философом Ян Чжу: «Каждый думает, что он не каждый». Здравомыслящий сосед не просто так думает, но и наивно выдает себя в первой же попытке философствования. «Несчастное сознание» не принимает участия в суждениях здравого смысла, что, собственно, и позволяет скрасить несчастное бытие. Слепое пятно наилучшим образом выполняет функцию защиты от житейских неурядиц, и только незваный гость, начисто лишенный понимания происходящего, может приставать со своими назойливыми, никому не нужными прозрениями.
В книге «Бытие и ничто» Сартр описывает официанта. Движения официанта отшлифованы до блеска, его приветливость и, одновременно, незаметность создают оптимальную степень комфорта для посетителей. Может даже показаться, что официант наслаждается своей вышколенностью и профессионализмом, гордится полным слиянием с ожиданиями клиентов. На самом деле, согласно Сартру, официант наслаждается чем-то прямо противоположным, а именно: пропастью между унизительной ролью прислуживающего и сокровенной душевной глубиной, которую он безошибочно распознает в себе.
Посетителям и в голову не приходит, с кем они в действительности имеют дело: они попросту одурачены хорошим актером, и в этом дополнительный источник наслаждения для него. Такова позиция обыденного рассудка – впрочем, напрямую не обсуждаемая на философских посиделках. Эта позиция помогает официанту успешно справляться с работой. Если бы бедняга вдруг «прозрел» и увидел ничтожность занимаемого им места в мире, он, конечно, сделал бы шаг в сторону собственно философии. Но при этом оказался бы на промежуточной территории несчастного сознания, потерял бы свою уверенность, а вместе с ней и профессиональный лоск. Обретенное прозрение продвигает на шаг, но при этом воистину умножает скорбь, поскольку переводит из четного состояния сознания с собственной самодостаточностью в промежуточное «нечетное», а следующий уровень самодостаточности расположен далеко и добраться до него суждено заведомо немногим.
В принципе, архипелаг одиночных сознаний, независимо от того, в каком океане он находится, всегда влечет к себе странствующего философа. Но знаток-ценитель, обладающий вкусом к путешествиям, найдет для себя немало интересного и в тщательном исследовании провинции здравого смысла. При этом правильная форма любопытства будет щедро вознаграждена. Если не останавливаться на уровне презрения – а это предельная степень дистанцирования для сартровского официанта, – можно добиться более глубокого понимания. Следующая за презрением степень дистанцирования – умиление. Оно является интегральным впечатлением от попыток здравого смысла заниматься философией.
Вот старушка, моя соседка по коммунальной квартире, роется в чулане. Она ищет веревку, чтобы развесить выстиранное белье. При этом она бормочет про себя какие-то слова – в них стоит вслушаться.
– И куда это подевалась моя веревочка? Ведь только что был моток, сама давеча сматывала… И куда же он делся? Не иначе как бесы попрятали. Вишь, нечистая сила как разгулялась.
Разве не восхитительна эта непоколебимая уверенность старушки в том, что ее заваленный барахлом чулан является вполне подходящей мишенью для нападения космических сил зла и искушения? Бесам и прочим порождениям ада больше нечего делать, кроме как прятать моток веревки…
Данный пример характеризует очень важное свойство повседневности, имеющее самое непосредственное отношение к попыткам философствования на уровне шурина и деверя. Свойство это можно назвать естественной манией величия, предшествующей «разумному эгоизму» Гельвеция. Нашим соседям не требуется никаких дополнительных усилий, чтобы ощущать себя центром Вселенной. Им вовсе нет нужды оправдывать свою убогость, столь явственно видимую со стороны. Нет нужды примиряться с ничтожностью или снисходительностью других к этой ничтожности. Сотни томов, преисполненных сострадания к сирым и убогим, к труженикам, в поте лица добывающим хлеб свой, к угнетенному пролетариату, не интересуют компанию соседей в качестве темы для философствования. В своем политическом сознании (в той мере, в какой оно входит в компетенцию здравого смысла) обитатели этой провинции, конечно, поддержат тех, кто им больше посулит, но философские заискивания бьют мимо цели: я тут совершенно ни при чем. Иное дело расположение созвездий и небесных светил – в них как-то просматриваются контуры моей судьбы и предзнаменования относительно предстоящего важного дела (например, покупки коровы, как сказал бы Гегель). Астрология в форме зодиаманиакальности является прямой производной естественной мании величия и в силу этого бессмертна – независимо от изменчивости ее исторического статуса.
Разумеется, в основных своих проявлениях философские выкладки здравого смысла вполне прогнозируемы и трудность соучастия в них для гостя в немалой степени объясняется быстро наступающим самопроизвольным оскучнением (что и вызывает уже упоминавшееся автоматическое отключение внимания). Тем не менее, если любопытство и благосклонность не покидают исследователя, возможность неожиданной находки сохраняется. Попадаются и настоящие жемчужины житейской мудрости.
Вспоминается случай, связанный с периодом службы в советской армии. Мы, призывники из города Фрунзе, попадаем в учебку, где предстоит пройти курс молодого бойца. Нас около десятка человек, мы идем по длинному коридору, ведомые бравым сержантом. Время от времени навстречу попадаются дембеля, ободряющие нас традиционным приветствием: «Салаги, вешайтесь!» Один из них интересуется, откуда призыв.
– Откуда-то из Казахстана, – отвечает сержант.
Заинтересовавшийся вдруг дембель останавливается и уточняет у моего спутника:
– Слушай, друг, ты не из Кустаная?
В его голосе смесь нетерпения, надежды и авансированной доброжелательности. Это не удивительно, ибо в армии существует поверье, что тебя отпустят домой, как только придет замена – земляк, призывник из твоего города или района.
Сосед останавливается и начинает оправдываться:
– Я, знаешь ли, из Фрунзе, я…
Но дембель мгновенно теряет интерес. Он дает салаге назидательный подзатыльник и разочарованно удаляется, произнося на ходу незабываемую философскую сентенцию:
– Чтоб в следующий раз был из Кустаная…
В этой реплике сконцентрированы все особенности здравого смысла, проявляющиеся в попытках философствования. Отношение ко всему запредельному, будь то книги, звезды или полеты птиц, определяются системой координат, в центре которой находится эмпирическое Я.
Впрочем, «высокая философия» отличается от обыденного рассудка (если иметь в виду данный конкретный параметр) прежде всего большей осторожностью, так сказать, метафизической конспирацией. На смену эмпирическому «неграмотному» Я приходит его облагороженный «легендой» образ: трансцендентальное Я (Фихте), самосознание и самость (Гегель), личность, опирающаяся на законы истории (Маркс). Но именно наивность здравого смысла и придает ему в глазах путешественника некоторый философский шарм.
Путешественник, которому нередко приходится быть шпионом (хотя бы на уровне хорошего этнографа) в компании философствующих соседей, может пополнить свое досье данными, не подлежащими фальсификации. К ним мы сейчас и обратимся.
Но прежде следует заметить, что естественная мания величия является гарантией здравого житейского рассудка. Как раз ее отсутствие приводит к компенсирующему образованию (заместителю, эрзацу), известному в психиатрии как собственно мания величия.
В тот момент, когда центральное положение в мире собственного Я перестает быть чем-то очевидным, появляется нужда в яркой опознавательной вывеске: отождествление себя с Наполеоном, Христом или Эйнштейном есть результат утраты уверенности в том, что твой чулан (или твоя судьба) может быть точкой вмешательства сверхъестественных сил. Присвоение имени и биографии исторической или мифической личности представляет собой отчаянную попытку найти себя, скрыть растерянность и мучительную неопределенность за фасадом чего-то общеизвестного. Патологическая мания величия – это просто попытка защиты от прогрессирующей утраты своих господствующих высот во Вселенной, а психическое расстройство в том и состоит, что отчаянная защита лишь усугубляет то, от чего она призвана защищать.
5. Фиксы
Единственный уровень философской оригинальности, доступный здравому смыслу, располагается в сфере сверхценных идей. В психиатрии их принято называть идеями fixe, и поскольку россыпи таких идей в изобилии встречаются в житейском море, мы для удобства будем называть их просто фиксами. В отличие от психопатологического симптома, фиксы не подчиняют себе полностью поведение индивида, а занимают место (как и философствование в целом) где-то на периферии ежедневной занятости. Тем не менее их место можно считать достаточно важным: каждый доморощенный философ (т. е. практически любой из наших соседей) холит и лелеет свой фикс; при случае он готов навязывать его первому встречному и отстаивать во что бы то ни стало. Таким образом, помимо бредовости содержания, предъявление фикса можно распознать по особому блеску в глазах и эмоциональному подъему, выпадающему из тональности беседы.
Коллекционирование фиксов – достойное и окупающее себя занятие для любознательного путешественника. Единой обобщающей формулы для фиксов не существует, возможна лишь самая приблизительная классификация. Пожалуй, наиболее распространены псевдокаббалистические фиксы, основывающиеся на произвольных расшифровках и этимологических спекуляциях. Вот в беседу вступает Алексей Д., отставной майор:
– Не все цвета в мире равноправны. Есть избранные цвета, а остальные им подчиняются или их искажают.
– Как это?
– Очень просто. Расшифруй слово «Бог».
– В каком смысле?
– Подсказываю. БОГ – белый, оранжевый, голубой.
Далее бывший майор приводит подтверждающие примеры и вкратце излагает свою теорию мироустройства, согласно которой мир избавился бы от своих несовершенств, если бы умело пользовался божественной расцветкой.
Во всем остальном Алексей человек вполне нормальный, комфортно пребывающий в реальном времени. Как только наступает час любимого сериала, А.Д. забывает про свои фиксы и утыкается в телевизор.
Кстати, профаническая расшифровка имени божьего – весьма популярная игра, практикуемая на самых разных уровнях. Кембриджские генетики предложили расшифровку слова GOD как «Generator Of Diversity» («Генератор Разнообразия), что стало для них важным знаковым подтверждением собственных эволюционных теорий.
В профанической каббалистике часто используется метод перестановки букв. Как-то мне удалось услышать весьма любопытное доказательство сатанинской сущности Карла Маркса. Доказательство звучало так:
– Поменяем буквы местами. У нас получится: Клар Мракс. Улавливаешь?
– Нет.
– Напрасно. «Клар» (clare) по-латыни «ясный», «очевидный». А Мракс он и есть «мрак». То есть, очевидный мрак. А это, в свою очередь, расшифровка имени Люцифера. По-латыни Lucifer и значит «Уносящий свет»…
На компанию философствующих соседей фиксы, как правило, производят надлежащее воздействие и помогают созданию репутации «мудреца» или «философа». Правда, псевдокаббалистические фиксы тут играют не самую важную роль. Более популярно другое искусство, которое в иудаистской традиции называется «гематрия» (метод поэтапного сопоставления священного текста с ритуальной или житейской ситуацией). Помню, с каким удовольствием я поместил в свою коллекцию фиксов одного доморощенного философского авторитета, по совместительству целителя и экстрасенса (очень типичное сочетание).
– Артриты, отложения солей, да и большинство хворей – это наказание за невежество, за неправедную жизнь. Все это написано в Библии, надо только внимательно читать. Вот, например, история про жену Лота: кто помнит, в чем там дело?
Собеседники припоминают, что супруга праведника нарушила Божий наказ, оглянулась на истребляемые Содом и Гоморру и в результате превратилась в соляной столп.
– Правильно. А теперь нужно немножко додумать. Откуда берутся отложения солей, например, в позвоночнике? Как раз когда мы не по делу оглядываемся назад, бессмысленно переживаем наши прошлые неудачи. Вот вам и соляной столп.
Далее следовали сопоставления того же рода с разной степенью натяжки. Слова Монтеня «Нет в мире такой глупости, которую хоть кто-нибудь не считал бы истиной» в полной мере относятся к сфере хождения фиксов. Следует лишь предостеречь от пренебрежительного отношения к россыпям сверхценных идей. Если их изъять из контекста чрезмерной серьезности (возможно, освободив тем самым и невольных пленников-носителей от навязчивой власти фиксаций), фиксы могут стать украшением любой беседы. Или неповторимыми блестками в художественном тексте. Это прекрасно понимают писатели: многие из них являются настоящими охотниками за фиксами. Ряд знатоков-коллекционеров простирается от Достоевского до Кортасара, а роман Олдоса Хаксли «Контрапункт» вообще можно назвать миниатюрным музеем фиксов. Чего стоят надувные штаны, открывающие экспозицию романа, – к ним, кстати, стоит приглядеться внимательнее. Вспомним: герой-изобретатель гордится своим детищем и при каждом удобном случае расписывает достоинства изобретения. В самом деле – никаких проблем с жесткими сиденьями: открыл клапан и воздушный мешок на заднице обеспечит комфорт и безопасность… А подстраховка падений, а удобство морских путешествий…
Абсолютное большинство фиксов за пределами их чар, околдовывающих только изобретателя и, возможно, его ближайших слушателей, являются аналогами надувной задницы. Именно поэтому, благодаря своей маргинальной природе, они легко входят в контекст литературы и даже профессиональной философии. И тут есть свои мастера – например, Жак Деррида, несомненный специалист по метафизическому облагораживанию фиксов. Взять его известную идею о том, что письмо предшествует речи («О грамматологии»): при всей тщательности философской инкрустации, в ней остается очарование подлинной идеи фикс, которую невозможно подделать. Причина уже упоминалась: подобно мусору, фиксы не имеют эйдосов, они не могут находиться ближе или дальше от истины и вследствие этого неопровержимы.
Опыт Деррида (о применяемом им способе философского синтеза еще пойдет речь в дальнейшем) свидетельствует об интеллектуальной ценности фиксов, правильно извлеченных, подобно драгоценным камешкам, из пустой породы доморощенного философствования. Полевые исследования среды обитания философствующих соседей на предмет обнаружения фиксов тем более привлекательны, что здесь, в отличие от вышележащих слоев, практически не распространен вирус авторствования. Шурины, девери и свояки не испытывают жгучей потребности в писании текстов, поэтому некоторые жемчужины могут и затеряться.
Но и непосредственная полевая работа вполне может доставить знатоку удовольствие. Толика терпения и внимания, готовности вслушиваться, отбрасывая пустую породу, и фиксы непременно будут предъявлены. Ведь это совпадает с сокровенным желанием их владельцев, во всем остальном весьма далеких от эксгибиционизма.
Но вот сверхидея наконец выслушана путешественником, принята с благосклонностью или хотя бы принята к сведению. Наступает возможность ответного хода – возможность, которой не грех воспользоваться для лучшего знакомства с устройством компании философствующих соседей.
В свое время журнал «Знание – сила» в рубрике АВН (Академия Веселых Наук) печатал разные приколы, стилизованные под научные открытия. Некоторые из них могут быть использованы в качестве симулякров – в данном случае предъявлены в обмен на фиксы. Я чаще всего прибегал к двум коротеньким историям.
1. Жирафы. Пресловутая длинная шея жирафа есть не что иное, как оптическая иллюзия, своеобразный мираж. Ибо, во-первых, как доказано учеными, ни одно млекопитающее не может иметь такой длинной шеи (оно просто не выдержит динамической перегрузки), а во-вторых, в саваннах, где водятся жирафы, миражи – обычное явление. (Любопытно, что в следующем номере журнала было опубликовано письмо возмущенного читателя, который, оказывается, специально ходил с женой в зоопарк и простоял у клетки жирафа два часа. «Никакой оптической иллюзии в данном случае не существует, – утверждал скептик, – а вашим ученым нужно почаще выбираться из кабинета».)
2. Грецкие орехи. Ученые установили, что грецкие орехи являются нашими меньшими братьями по разуму. Они лишены способности передвигаться и говорить, но не лишены дара мысли. Вовсе не случайно содержимое ореха так похоже на полушария головного мозга – перед нами первая, растительная форма разумной жизни. Статья заканчивалась призывом «отказаться от гнусного обычая поедания братьев по разуму» (впрочем, сама идея восходит еще к натурфилософам Милетской школы).
Важно отметить, что не спровоцированное предъявление сообщений (контрольные эксперименты) сопровождалось совершенно адекватной реакцией: воспринималось как розыгрыш. Это вполне характерно для формации здравого смысла – во всем, что лежит за пределами собственной сверхценной идеи, доморощенный философ абсолютно нормален. Ведь и саму философию практический разум склонен рассматривать как «сдвиг по фазе». И философия, оказываясь за границами своей компетенции (например, совершая попытку переубедить здравый смысл), попадает в смешное положение. Поэтому пытливый исследователь (номад) должен учитывать не только принципы имманентной философии, но и превратности многообразных форм ее инобытия.
Все случаи, когда розыгрыш принимался за чистую монету, связаны с ситуацией ответного хода. Тогда доверие к грецким разумным орехам (точнее говоря, воздержание от скептицизма) явно рассматривалось как эквивалентная плата за внимательное отношение к собственному фиксу. Но надо отдать должное: игра эквивалентами для здравого смысла в целом не характерна. Она вовсю разворачивается уже на соседних территориях промежуточной образованности. Житейский рассудок, при всей его философской некомпетентности, как правило, сохраняет свои благородные родовые черты – пренебрежение к дымовой завесе ссылок, цитат, многозначительных имен, невменяемость ко всякого рода «библиографии» (ибо эта позиция уже занята свояками, племянниками и различными соседями по даче). Мудрствующему в час потехи соседу в принципе все равно, где базируются источники аргументации его оппонентов (равно как и собственные) – в систематическом курсе лекций, в «Философии искусства» Шеллинга или в «такой зеленой книжке с бородатым мужиком на обложке». Павлиний хвост эрудиции не производит на него особого впечатления и в лучшем случае воспринимается в рамках игры, правила которой выразил Достоевский: «Дай немного солгать ближнему твоему – и даже много дай солгать. Он будет тебе за это благодарен и воздаст сторицей».
6. Из коллекции фиксов
Ниже приводится несколько примеров из обширного собрания автора. При наличии осознанной установки читатель легко сможет припомнить собственные случаи знакомства с фиксами.
Ад как прачечная. Адом распоряжается Бог, а вовсе не дьявол. Не зря же ад называется чистилищем – там души подвергаются страданию, которое очищает. Если человек настрадался при жизни, ему в аду нечего делать, у него душа чистая. Ну а кто не испытал страданий, тому без чистилища не обойтись, ведь его нечистая душа не годится для дальнейших воплощений.
Вот Бог и поступает с такими душами примерно как хозяйка с грязным бельем. Хозяйка кипятит и отмачивает белье в баке, после чего им снова можно пользоваться. Господь отмучивает души в аду, они становятся чистыми и ими можно пользоваться дальше.
Сага о сале. Все знают, как хохлы любят сало. Но я утверждаю, что это не случайно. Их научили, а точнее сказать, заставили полюбить сало. Дело в том, что в степях испокон веков занимались овцеводством, и Украина тут не исключение. Но крымские татары и другие кочевники постоянно совершали набеги и угоняли отары. А свиней мусульмане не трогали, свинья для них нечистое животное. Вот и перешли на Украине к исключительному разведению свиней, чтобы не умереть от голода. Отсюда и любовь к салу.
Раздельный зачет. Во многих видах спорта существуют разные весовые категории, и это правильно. Например, человек весит 60 килограммов, а штангу поднимает в три раза больше своего веса. Другой весит 200 и поднимает свой вес. За что же его считать чемпионом? Раздельный зачет как раз и помогает установить истину.
Я уверен, что человечество много теряет оттого, что не применяет этот принцип и в других сферах жизни. Вот, к примеру, писатель – он, может быть, не ахти какой писатель. А теперь, допустим, все писатели выпивают по стакану водки и садятся писать текст. И среди них наш средненький писатель оказывается первым! А после двух стаканов водки чемпионом может стать кто-нибудь еще – и разве справедливо, что никто его не знает? Ведь в этих, равных для всех условиях он самый лучший. То же самое применимо к скрипачам, актерам, философам – сколько людей могли бы получить шанс прославиться и стимул для творчества!
Одним словом, я предлагаю ввести раздельный зачет по спиртосодержанию творческих усилий. А победителям вручать, например, Менделеевскую премию.
(Присутствующие охотно соглашались, выражая уверенность, что в списке лауреатов Менделеевской премии русские занимали бы первую строчку.)
Дефлорация и цивилизация. Никто не задумывался, почему девственность обладает такой ценностью. Даже ваш Фрейд не задумывался. А ведь причина проста: если девушка теряет девственность слишком рано, ее развитие начинает идти по другому пути. Интеллект притупляется, а похоть благодаря новым гормонам возрастает. Или она становится машиной для продолжения рода, но это все равно сказывается на генофонде – количество одаренных потомков в следующих поколениях резко падает.
Для подтверждения теории использовались следующие тезисы:
1. Повсеместно изнасилование девочки является одним из самых страшных преступлений, приравниваемых к убийству. Тут сказывается охранительный инстинкт народа.
2. Мусульмане, выдающие девочек замуж в самом раннем возрасте, не сделали ничего выдающегося в интеллектуальном отношении. А про умственный уровень их женщин нечего и говорить.
3. Наоборот, выдающиеся успехи евреев во многом объясняются поздними браками. Да и по уму с еврейскими бабами мало кто сравнится.
(Помнится, изложение теории сопровождалось оживленной дискуссией. На мое замечание о практикующейся в некоторых штатах США хирургической дефлорации новорожденных девочек в соответствии с желанием их родителей автор открытия ответил: «Это как раз подтверждает мою теорию: ведь Америка – страна идиотов». Кто-то из присутствующих заметил, что, исходя из сказанного, еврейки должны быть менее похотливы, а это явно не так. Теоретика и это не смутило: «Они просто делают вид. И знаете почему? Потому что умные. А это, опять же, подтверждает мою теорию».)
Рецепт оригинальности. Философы любят писать длинные книжки и стараются впихнуть туда побольше рассуждений. Но из-за нагромождения слов ясности и оригинальности не прибавляется. К оригинальности ведет как раз другой путь – сокращение. Вот был брежневский тезис: экономика должна быть экономной. А потом какой-то юморист его сократил: экономика должна быть. Вот это был ход!
Теперь возьмем, к примеру, Аристотеля. Там у него «Метафизика» начинается: «Все люди от природы стремятся к знанию». Банальность! Отбросим последнее слово: «Все люди от природы стремятся» – уже интереснее получается. Теперь еще сократим: «Все люди – от природы». Тут есть над чем поразмышлять и о чем поспорить. Главное умело сократить, тогда обязательно получишь свежую мысль. Вот, к примеру: «Дорог не подарок, дорого внимание» – явная пошлость. Если применить мой метод, получаем: внимание не подарок. У меня таких результатов на три тома наберется.
7. Чумакование
Ближайшая область более или менее систематического философствования, обслуживающая регулярные потребности здравого смысла, населена экстрасенсами, целителями, магистрами оккультизма и прочими персонажами, сумевшими адаптироваться к древней экологической нише. Вообще-то, с базисными экзистенциальными потребностями, образующими в совокупности экзистенциальный заказ (чаяние бессмертия, надежда на спасение, желание жить в осмысленном мире) имеет дело религия. Но какая-то часть запроса остается неудовлетворенной – на ней-то и паразитируют экстрасенсы.
Успех практики экстрасенсов полностью определяется правильно отгаданными ожиданиями, поэтому вариаций здесь не так много, как может показаться. В самом прозрачном, неприкрытом виде схема деятельности представлена в опытах популярного телешарлатана Алана Чумака, и в честь этой классической версии камлания практику такого рода можно назвать чумакованием. Помимо разрозненных архаических элементов контагиозной и симпатической магии (куда относится и пресловутая подзарядка воды), чумакование включает в себя и теоретическую составляющую: она-то нас в первую очередь и интересует.
Каковы же отличительные черты чумакования в его философской ипостаси? Они, прежде всего, определяются правилами выживания в той экологической нише, где деятельность чумакователей разворачивается и приносит определенный доход. При всей пестроте терминологической обертки и бросающейся в глаза разнице в объеме эрудиции (от Штайнера и Блаватской до кармического йога Анатолия Иванова) легко прослеживаются очертания общего архетипа. Так, концепция мироздания, какую бы она ни содержала комбинаторику стихий, своей другой стороной обязательно повернута к язвам и болячкам простого смертного. Та или иная космическая сила, соучаствуя в поддержании порядка Вселенной, заодно оказывается пригодной для нормализации стула и устранения бельма на глазу. Именно по характерному сочетанию всепроникающего атмана и нормализующегося стула можно безошибочно отличить чумакование от космологических построений чистой спекулятивной философии.
– Ваша прана ничтожна, в упор не вижу – непререкаемым тоном заявляет чумакователь и, потирая подслеповатый третий глаз клиента, обещает ему открыть нужную чакру. Смертный, разумеется, понимает, что такое благодеяние требует благодарности. Кстати, вопреки расхожему мнению, деньги отнюдь не являются единственной формой приемлемой благодарности. Чумакователь охотно принимает плату волнами священного трепета пред своей мудростью; порой довольно и простого почтения. Но консументы профессионалы, доминирующие хищники в данной экологической нише, собирают обильную жатву и в материальном исчислении.
Понятно, что философствующие экстрасенсы должны считаться с естественной манией величия как с силой земного тяготения. Но главной задачей для процветания чумакователя является расширение того очага беспокойства, на устранении которого он мог бы заработать материальное и моральное вознаграждение. Здесь в полной мере применимы слова Ницше о священниках, искушенных в исцелении ран, которые они предварительно наносят и отравляют, чтобы обеспечить себе надежный фронт работ. Ведь сосед-обыватель, как уже было отмечено, не склонен тратить драгоценное время на пустое философствование, уместное в час досуга (на досужую мудрость); да и расстаться с деньгами он готов лишь для приобретения нужного товара или услуги. Следовательно, в какое мудрствование ни впадал бы чумакующий, он непременно должен связать его с житейскими проблемами: со здоровьем (диетология, опирающаяся на устройство космоса, есть главная теоретическая составляющая системы), с умением «влиять на людей» (тут безусловный приоритет принадлежит американским чумакователям), с сохранением потенции (простатология для простаков), с успехами в бизнесе и т. п. При этом важно не только обозначить проблему потенциального клиента, но и сопроводить угрозой отказ от исцеления. Популярный в Москве лет тридцать назад экстрасенс-целитель Ходжаев располагал единственной, но зато весьма эффективной философской максимой: «Космос в порошок сотрет». Этой мудрости было довольно, чтобы долгое время удерживать доминирующее положение в соответствующей экологической нише. Вообще, любознательный путешественник, посещающий царство целителей, после непродолжительных наблюдений может сделать вывод, что само слово «целитель» происходит от глагола «целиться». Кто умеет точно прицелиться в правильно выбранную мишень, тот и искусный целитель.
Терминология, используемая магистрами эзотерических академий для описания мироздания и для прочих философских обобщений, по-своему весьма любопытна. В ней можно выделить три источника и три составные части:
1) Термины, восходящие к древнейшим текстам традиции – Гермесу Трисмегисту и Аполлонию Тианскому, но, как правило, заимствованные из вторых и третьих рук. Сюда относятся и некоторые космологические понятия, использовавшиеся гностиками (эманация, плерома, демиург), и бо́льшая часть астрологической терминологии. Теософские и антропософские понятия Сведенборга, Штайнера и Блаватской тоже представлены (хотя и пунктирно) в теоретическом багаже чумакователей. При этом напрочь отсутствует чувствительность к разнородности исторических пластов, к логическим противоречиям и к каким-либо критериям вкуса.
2) Термины восточной эзотерики, смешанные в невообразимый винегрет: карма, прана, чакра, тантра, сатори и т. п. В эти красивые слова может вкладываться какой угодно смысл или вообще не вкладываться никакого. В любом случае проникнутые восточной мистикой слова прекрасно выполняют свою роль, способствуя благородной эзотеризации какой-нибудь ахинеи вроде «космос в порошок сотрет».
3) Научные и наукообразные понятия – информация, биополе, сенсорика, сканирование, программирование – список можно продолжать достаточно долго. Хотя сама наука и, прежде всего, естествознание отвергается неооккультизмом как профанное знание (к тому же требующее систематического изучения), свойственный научности авторитет упускать было бы неразумно. Ведь уверение «наука доказала» способно воздействовать не хуже любой магической формулы, поэтому ссылки на науку встречаются достаточно часто. Подобно тому как произведение искусства характеризует «целесообразность без цели» (в соответствии с изящным определением Канта), мудрствование экстрасенсов представляет собой наукообразие без науки.
Разобраться с языковыми хитросплетениями чумакования не составляет особого труда. Куда более интересен и поучителен эффект запаздывания: существует своеобразный «период полураспада», в течение которого научные и философские понятия утрачивают актуальность в пределах собственной компетенции, перекочевывают в научно-популярную литературу, затем в школьные учебники и наконец опускаются в тезаурус чумакователей. Во времена Блаватской были исключительно популярны электричество и телефония; телефон, изобретение Белла и Уотсона, прочили на роль медиума, посредника в переговорах с потусторонним миром.
Затем электричество было вытеснено радиацией; революция в физике начала ХХ века обновила и багаж экстрасенсов – в каком-то смысле это можно считать исключительной формой признания заслуг Бора и Эйнштейна. Радиоактивность успешно играла свою роль в объяснении «загадок психики», уже став вполне рутинным физическим явлением. Облучение из космоса и излучение каких-нибудь пси-лучей и по сей день используется для описания «проблем» пациента, равно как и способов их устранения.
Последней по времени терминологической волной, накрывшей доморощенную эзотерику, стала кибернетика. Информация, энтропия, обратная связь вошли в лексикон чумакователей лет через 10–15 после того, как концепции Винера и Шеннона вышли из моды. Термины кибернетики получили самый радушный прием за пределами своей компетенции, где к ним присоединились конструкции из бионики и биофизики – «биополе», «сенсорика» и т. д. В соответствии с прослеживаемой логикой можно прогнозировать, что рано или поздно чумакователи подберут заброшенные к тому времени термины современного постструктурализма: «дискурс», «означаемое», «дифферанс», может быть и пресловутый «симулякр». Донашивать вышедшие из моды обноски – неизбежный удел дешевого, но амбициозного философствования.
Смесь французского с нижегородским, господствующая в данной нише, образует тем не менее свой язык, требующий знания правил от всякого, желающего общаться на нем. Вопреки ожиданиям правила эти легкими не назовешь. Следует считаться с расплывчатостью терминов, бесконечным употреблением всуе сакральных понятий всех времен и народов. Кроме того, основная смысловая нагрузка и, так сказать, максимальный эффект воздействия могут приходиться не на содержательную часть (которая, по большому счету, вообще факультативна), а на простенький с виду речитатив, что-нибудь вроде «космос в порошок сотрет».
Поскольку чумакование берет начало в эзотерических практиках и представляет собой результат их вырождения, очень важной является педагогическая составляющая, воспроизводящая архаическую оппозицию учитель – ученик. Практикующий экстрасенс, исполняя роль наставника, понимает, что следует всячески воздерживаться от поспешности, проявлений нетерпения и забегания вперед. В данном случае слово «педагог» отсылает к своему греческому значению – ведущий (точнее, «ведущий детей»). Ведущий должен идти рядом или на шаг впереди; опережение на два шага было бы уже ошибкой. Поэтому адаптированный к своей нише экстрасенс терпелив, не обременен лишними знаниями и полностью погружен в естественную манию величия. Особенность, отличающая чумакователя от философствующего соседа, состоит в том, что «час потехи», который здравый смысл уделяет философии, является для него делом. Чумакователь ответствен за свою сферу услуг так же, как банщик за свою – правда, и тому и другому случается порой запарить клиента.
Для путешественника, как проходящего стороной, так и решившего присмотреться к обычаям декоративной Шамбалы, главной проблемой является скука, исходящая от предсказуемых и однообразных камланий. Конечно, может вызвать досаду и несоразмерное вознаграждение, выплачиваемое (как в денежном эквиваленте, так и в облаке фимиама) продавцам столь дешевого товара. Но скука является все же более существенным препятствием для детального ознакомления с обычаями. Что же касается доходов, то достаются они не столь легко, как может показаться. Следует учесть, что конкуренция в среде чумакователей не меньше, чем в сфере академической или салонной философии, да и враждебность со стороны религии (особенно традиционных конфессий) создает дополнительные трудности.
Кроме того, во всякой духовной деятельности, даже если она является замещающей функцией простого невежества, возникает простор для стилизаций, способных очаровать самого взыскательного читателя. Можно вспомнить Кастанеду и Берроуза, использующих эзотерику в качестве исходного сырого материала. Рецептура этих книг берет в принципе те же компоненты, что и доморощенные экстрасенсы, включая бессистемные заимствования из магических практик древности. Однако круг востребованности отличается большей широтой и разнообразием, и причина состоит в привнесении точных эстетических критериев. Решающее отличие Кастанеды от той же Блаватской состоит в том, что в первом случае перед нами настоящий писатель, умеющий извлекать магию из пыльных кактусов и прочитанных в юности брошюр по оккультизму, а во втором – просто графоман, слишком серьезно и театрально встающий в позу мудрости. Тексты по «эзотерической тематике», безусловно, способны выдержать проверку временем, но эта проверка определяется соответствием инстанции вкуса, а не тем, помогают ли они избавиться от бельма на глазу. Впервые критерий эстетической вменяемости был сформулирован еще принцессой Сэй-Сёнагон в ее книге «Записки у изголовья». Гадатель раскладывает свои принадлежности и приступает к процедуре предсказания судьбы. Но движения его резки и угловаты, дышит он слишком шумно… Как результат внимание принцессы и ее спутниц рассеивается, никого уже не интересует, что он там такое рассказал. Самопроизвольное оскучнение оказывается главным препятствием в расширении влияния торговцев магическими услугами.
С тех пор мало что изменилось: именно пренебрежение эстетической выразительностью делает экстрасенсов и прочих примкнувших к ним уфологов «невыездными», т. е. как бы не присутствующими в публичной культурной жизни. С одной стороны, им нет доступа в науку – там властвуют рациональные законы, требующие кропотливого изучения и потому пренебрежительно отвергаемые. С другой стороны, недоступной оказывается и сфера искусства, как раз потому, что критерий вкуса есть нечто совершенно неразличимое для уфологов и им подобных. Тем не менее «философия», используемая чумакователями, оказывается ровно такой, какая и требуется для удержания отвоеванной экологической ниши; она, стало быть, относится к пределам собственной компетенции, а не к приправам для досуга, как это происходит в компании философствующих соседей.
Внимательный номад-этнограф, несомненно, заметит в энтузиазме самозваных мистиков некое противоречие или даже парадокс, задуматься над которым аборигенам не приходит в голову. Речь идет об относительной и абсолютной ценности паранормальных способностей.
Допустим, что существует великий экстрасенс, не склонный к шарлатанству и не пытающийся заряжать своей драгоценной энергетикой стаканы телезрителей. Стакан воды ему нужен для другого – для посрамления неверующих позитивистов. И вот экстрасенс на десять лет удаляется от мирской суеты (не обязательно даже идти в пустыню и питаться акридами). По истечении этого срока он возвращается, чтобы доказать маловерам, на что способен человек. Величайший из экстрасенсов наливает воду в стакан, ставит его посреди стола и садится напротив. Минуту-другую он пристально смотрит на стакан, и тот начинает медленно ползти навстречу требовательному взгляду.
Маловеры выглядят посрамленными, однако главный скептик отваживается задать наивный вопрос: «Скажите, уважаемый, а зачем вы потратили двадцать лет на то, что любой человек может сделать за минуту? Ведь стоит сказать: „Дайте мне стакан воды“, и вы его получите, особенно если снабдить обращение самым действенным магическим словом „пожалуйста“».
Наивный вопрос оказывается роковым и в принципе неразрешимым для идеологии современного оккультизма. Вопрос вскрывает главную фигуру умолчания: эффективность обыкновенного слова на порядок превышает любое применение паранормальных способностей, даже если оно не сводится к телекинезу кухонной утвари. Тем самым подтверждается правота Декарта, полагавшего, что истинная философия есть искусство правильного удивления. И правота Бахтина, утверждавшего, что тайна ясного сознания намного таинственнее всех загадок бессознательного, вместе взятых. А загадка правильного порядка слов, создающая вещую силу искусства, – ясно ведь, что разгадать ее гораздо важнее, чем решить проблему подслеповатости третьего глаза.
Погостив совсем недолго, путник сделает вывод: беда экстрасенсов в том, что мир состоит для них из одних пустяков. Состязаясь в проницательности, они умудряются в упор не видеть самых удивительных вещей. Тут чумакователи чем-то похожи на презираемых ими ученых-позитивистов – те тоже со священным трепетом изучают всю жизнь воздействие гамма-излучения на бледно-розовые ноготки…
Покидая не слишком гостеприимную провинцию, путешественник может завершит свой отчет следующими словами: «Зацикливание на роли паранормальных способностей является своеобразным корпоративным фиксом, неким „пунктиком“ оккультных самозванцев. Увы, пополнить коллекцию практически нечем, ибо здесь отсутствует даже минимальная квота оригинальности, свойственная философствующим соседям».
8. В греческом зале, в греческом зале…
Покинув территорию экстрасенсов-чумакователей, номад вступает на земли, где обитают стражи духовности. Живущие здесь учителя, инженеры, библиотекари, музейные работники принадлежат к корпусу интеллигенции. Строго говоря, они и суть интеллигенция по преимуществу, за вычетом, может быть, творческой верхушки, которая тем не менее вынуждена считаться с их вердиктами.
Стражи духовности считают, что охраняют культуру, они ощущают себя бойцами невидимого фронта, противостоящими натиску варваров и мещан. На деле они защищают только архив, сумму сведений, не имеющих даже той внутренней связи, которой соединены друг с другом представления здравого смысла. Современные стражи духовности – это жрецы библиотечных алтарей, загипнотизированные в свое время учительской указкой и пребывающие в убеждении, что их продолжающийся сомнамбулизм и есть та самая духовность, дающая жизнь новым произведениям культуры. Гость, попавший в эту страну, вскоре начинает легко распознавать ее подданных даже по внешним антропометрическим признакам.
Тут и привычка произносить некоторые слова с придыханием: соборность, софийность, Пушкин, Достоевский, в греческом зале, в греческом зале… И привычка к законопослушному почитанию всех канонизированных авторов, причисленных к статусу классика. С должным почтением стражи духовности относятся и к философии (в отличие от чумакователей и философствующих соседей), но степень искажения образа философии от этого не становится меньше. Философия – один из самых драгоценных экспонатов, расположенных в греческом зале, и поэтому к нему лучше не прикасаться, а ходить вокруг да около, осторожно сдувая пыль веков и ее же благоговейно вдыхая. Выдержки метафизического характера складываются в стереотипную мозаику, состоящую из общеизвестных цитат и унылых однообразных рефренов:
Поиски смысла жизни… Единство истины, добра и красоты… Умом Россию не понять… Категорический императив… Звездное небо надо мной и моральный закон во мне… История повторяется дважды – одним словом, в греческом зале, в греческом зале. Вся эта манная каша подается как философский десерт, которым принято потчевать друг друга и жмуриться от удовольствия. Природа удовольствия вполне понятна: ведь речь идет о приобщении к признанной мудрости, и как тут не радоваться, если это приобщение ценится стражами духовности еще дороже, чем вежливость, а обходится еще дешевле.
Впрочем, поскольку набор философских максим столь незатейлив, чрезвычайно важная роль принадлежит антуражу – декорациям, на фоне которых и разворачивается философствование. В отличие от носителей здравого смысла, стражи духовности реагируют на позу мудрости как на блесну. Глубокомысленный вид, искусство держать паузу, скорбное бесчувствие по поводу людского невежества, привычка периодически с задумчивым видом отключаться от общей беседы – вот самые расхожие аксессуары, декорирующие позу мудрости в кулуарах греческого зала. Смотрители музея зачарованы фигурой роденовского «Мыслителя», они охотно наделяют одухотворенностью всякое приближение к первообразцу. Поэтому даже тот, кто понимает, что вхождение в состояние творческого мышления изнутри не имеет ничего общего со статуарностью, все же охотно прибегает к имитации – хотя бы для извлечения причитающихся дивидендов. Впрочем, помимо основного роденовского варианта, существуют и другие разновидности позы мудрости, имеющие хождение в греческом зале, – образы Диогена, Сократа и даже грустного ослика Иа-Иа.
Скорость распространения интеллектуальных новаций здесь примерно та же, что и в среде экстрасенсов, однако объем памяти существенно выше. Священный трепет перед архивом воспитывает, по крайней мере, знание единиц хранения, и если на предшествующих территориях библиография ровным счетом ничего не значила, здесь библиографическое измерение является самым значимым. Образованность стражей духовности носит принципиально мнемотехнический характер, ее устройство формально тождественно архаическим системам архивирования, например, коллективной памяти индейцев бороро, описанной Леви-Строссом. Бороро располагают точным аналогом нашей интеллигенции – это старики, архивирующие достаточно обширный объем сведений с помощью разветвленных структур родства. Они используют около двухсот соотносимых друг с другом терминов, успешно выполняющих, помимо всего прочего, роль библиографических ссылок.
Этнограф греческих залов обнаружит примерно столько же терминов, представляющих имена богов-авторитетов (т. е. признанных классиков), только родственные связи между ними заменены связями влияния и цитирования (впрочем, стражи духовности уверены, что все классики находятся между собой в духовном родстве). Смотрители архива располагают собственным Пантеоном, который может начинаться, например, с Фалеса, а заканчиваться последними советскими мучениками – скажем, Ахматовой, Лосевым и Бродским. Стражи духовности пользуются теми же принципами, что и хранители мифов: содержательные характеристики единицы хранения сводятся к минимуму, а за каждым из персонажей закрепляется устойчивый набор атрибутов. Есть, конечно, различия в деталях: вместо Зевса-громовержца фигурирует Диоген-фонарщик, а вместо владыки морей Посейдона – хранитель одной-единственной слезинки ребенка Достоевский.
Обитатели Пантеона ведут себя подобно героям диснеевских мультфильмов, строго соответствуя ожиданиям поклонников. Диоген, выбираясь из бочки, зажигает свой неизменный фонарь. Акушер Сократ присутствует при родовых муках истины, откликаясь на каждый вызов (как правило, ложный). Гераклит с грустным видом бродит по мелководью, забывая, где уже был, а где нет. Эпикур эпикурействует. Галилей подчиняется инквизиции, восклицая время от времени: «А все-таки она вертится!», Декарт сомневается и существует по вполне уважительным причинам. Глядя на него, Спиноза шлифует свои увеличительные стекла, а Лейбниц коротает время в комнате без окон без дверей. Ньютон потирает ушибленную макушку и не измышляет гипотез. Вольтер, сидя в кресле, призывает раздавить гадину, а Руссо хочет на лоно природы, но всякий раз попадает не в то лоно. Категоричный и звездолюбивый Кант прогуливается по Кенигсбергу на радость скуповатым бюргерам, экономящим на ремонте часов. Его вещь в себе очень не нравится Гегелю, такому разумному и действительному. Марксу теперь слово дают редко, и бедняга страдает: «Умище-то куда девать?» И так далее, вплоть до скрипки Эйнштейна, только что полюбившего пиво «Пит».