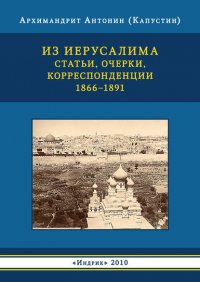
Читать онлайн Из Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонденции. 1866–1891 бесплатно
- Все книги автора: архимандрит Антонин Капустин
© Оформление, Издательство «Индрик», 2010
© Р.Б. Бутова, составление, комментарии, вступит, статья 2010
* * *
«Образ вечно-вещей Палестины»
Николаю Николаевичу Лисовому с неизменной любовью и благодарностью
Имя архимандрита Антонина (Капустина Андрея Ивановича; 1817–1894), выдающегося ученого, византиниста и востоковеда, археолога, археографа и нумизмата, входит в золотой фонд истории Русской Церкви, науки и культуры. Настоятель русских посольских церквей в Афинах и Константинополе, начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме – более сорока лет отдал он служению интересам Православия на Востоке.
В истории известны такие феноменальные случаи взаимодействия различных этнокультурных, хотя духовно близких традиций как великий русский иконописец Феофан Грек и великий русский духовный писатель Максим Грек. Уникальность явления заключается в том, что мы не знаем, стали бы они великими, продолжая работать на родине или в другом каком-либо месте. Их сделала великими Россия. Антонина великим сделал греческий православный Восток.
В известной степени Антонин был подготовлен к своему служению происхождением и воспитанием. Духовное сословие на Руси всегда отличалось «всеотзывчивостью»: связанные с землей и нередко с сохой, «поповские дети» выходили из средних и высших учебных заведений не только с хорошей богословской и церковно-практической подготовкой, но и с достаточным знанием истории, философии, античной и европейской культуры, языков. Пример Антонина показывает, что широта и способность вмещения чужих культур и влияний только и позволяет быть настоящим русским деятелем и подвижником.
В автобиографической записке для «Словаря русских писателей» о. Антонин говорил о себе так: «Родился я 12 августа 1817 года, в воскресный день утром. Родина моя: село Батурино, Пермской губернии, Шадринского уезда, в Зауралье; от чего считал и считаю себя сибиряком. Родитель мой, священник упомянутого села, тамошний уроженец тоже – сын священника Иоанн Леонтьевич Капустин, мать – Мария Григорьевна Варлакова, из села Мехойского, того же уезда – дочь священника»[1]. Андрей был вторым из 13 детей в семье. До конца дней о. Антонин с особым чувством вспоминал родительский «деревянный дом (на пригорке) с рябинным садиком и огородом при нем»[2].
Он прошел обычный путь духовного образования того времени. Вначале было Далматовское духовное училище (1825–1830). «Далматовская бурса, как и все ей подобные школы, – писал биограф Антонина архимандрит Киприан (Керн), – воспитывали характер, прививали смиренное послушание Церкви и иерархии, а главное – сообщали основательное знание не только чисто церковных предметов (устав, пение, славянский язык), но и общеобразовательных наук, а особливо древних языков. Поколения, прошедшие через такие бурсы и семинарии, обладали таким классическим образованием, которого никогда не могла дать светская школа»[3].
В 1830 г. Андрей поступил в Пермскую духовную семинарию. «Белокурокудрявый, бледный, длиннолицый, гнусавоголосый, тихий, застенчивый, боязливый, неряховатый, забывчивый, неловкий, рассеянный, набожный… слабый душой и телом», – так описывал свою внешность пятнадцатилетний семинарист[4]. Затем была Екатеринославская семинария (1836–1839), где Андрею, по настоянию дяди, ректора семинарии, архимандрита Ионы (Капустина), пришлось повторить курс последнего года в богословском классе. В результате он не попал, как планировал, в Московскую Духовную Академию, в которой учился в это время его старший брат Платон (впоследствии протоиерей, «известный московский математик» и настоятель церкви св. Петра и Павла на Басманной), а должен был поступить в Киевскую, которую и окончил в 1843 г. вторым по списку магистром.
В академические годы формируются будущие интересы Капустина к древностям Византии и Востока. По окончании КДА он был оставлен в ней бакалавром немецкого, а позже греческого языков. Преподавал на кафедрах нравственного богословия, библейской герменевтики и сравнительного богословия. В эти же годы начинает публиковать оригинальные и переводные статьи в журнале «Воскресное чтение», занимается исправлением русского перевода бесед Иоанна Златоуста на Евангелие от Иоанна.
На последнем курсе Академии Андрей впервые полюбил. Его избранницей стала Надежда Яковлевна Подгурская, дочь уманского протоиерея. Летом 1844 г. Андрей просил ее руки, но получил отказ. Конечно, это был сильнейший удар, который он стоически выдержал и даже, год спустя, был шафером на свадьбе своего друга Серафима Антоновича Серафимова и Н.Я. Подгурской (переписку с ними обоими о. Антонин вел на протяжении всей жизни).
7 ноября 1845 г. Андрей Капустин в Киево-Печерской Лавре был пострижен митрополитом Киевским Филаретом (Амфитеатровым) в монашество с именем Антонин, в честь мученика Антонина Анкирского, память которого празднуется в этот день. Несомненно, это был обдуманный и выстраданный шаг. Выходец из большой дружной священнической семьи, обладавший душой нежной и чувствительной, умевший быть романтичным и восторженным, он, казалось, не чувствовал особого призвания к аскетизму. Биографы по-разному пытались объяснить уход его из мира.
Хорошо знавший о. Антонина один из основателей Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) В.Н. Хитрово писал: «Поступление в монашество было для него, как кажется, делом случая, тем неисповедимым, непонятным для нас вождением Божиим, намечающим пути, по которым нам приходится идти, не будучи в состоянии отдать себе отчета, отчего именно мы пошли скорее по этой, чем по другой жизненной дороге. Монахом, в общеупотребительном значении этого слова, архимандрит Антонин никогда не был и на это он сам неоднократно указывал. Никогда не жил он в монастыре, никогда он не проходил никаких монашеских послушаний» (с. 447 наст. изд.). Однако в Русской Церкви синодального периода существовало целое сословие такого «немонастырского» или, как говорили, «ученого монашества», из которого пополнялись ряды академической профессуры, настоятелей монастырей и высшей церковной иерархии.
A.A. Дмитриевский, а вслед за ним и архимандрит Киприан, считали, что «ближайшим толчком к монашеству» послужило для Антонина пострижение его старшего друга и наставника, профессора философии Киевской Академии, архимандрита Феофана (Авсенева Петра Семеновича; 1811–1852). Несомненно, архимандрит Феофан оказал большое влияние на формирование личности и взглядов о. Антонина, которое можно проследить на протяжении всей его жизни – в статьях, письмах и особенно дневниках.
Когда они познакомились, Петр Семенович был уже известным и уважаемым профессором, основателем школы киевской психологии. Его звали в Киеве «смиренным философом». «Его имя долгое время во всех округах Духовного ведомства, после имени ФА. Голубинского, было синонимом Философа»[5]. При особом умении профессора Авсенева «передавать свои идеи со всеми признаками полного и искреннего убеждения в их истине», постоянном стремлении «сообщать своим мыслям поэтически-художественное выражение, произносить свои лекции с одушевлением, задушевным и льющимся в душу симпатическим голосом, всеми чертами лица выражая желание вступить со слушателями в полное духовное общение», неудивительно, что его лекции и общение с ним «производили на большую часть студентов Академии глубокое впечатление, многих восхищали и увлекали, и всех интересовали»[6].
Во всяком случае, не будем отбрасывать ни той, ни другой версии. Как часто бывает, и неудача в личной жизни, и пример старшего друга и наставника повлияли на выбор Антонином иноческого пути.
В 1850 г. при содействии свт. Иннокентия (Борисова), архиепископа Херсонского, иеромонах Антонин получает назначение в Афины настоятелем посольской церкви. Как писал о. Антонин Серафимову: «Полагаю, что стоустая молва уже донесла до слуха твоего весть о моем назначении в Афинскую миссию. Τι ειπείς και τι λαλήσεις[7]. Ну, вот, я и грек»[8].
Это назначение определило дальнейшую судьбу Антонина. Пребывание в Греции стало основой того редчайшего синтеза «родного и вселенского», который сделался его отличительной чертой и о котором так проникновенно писали архимандрит Киприан[9] и греческий исследователь Константин Папулидис[10]. И главным было, конечно, совершенное владение греческим языком, прекрасное знание греческой литературы, и не только церковной. Архимандрит Антонин признавался позже, что ловит себя на том, что и думает часто по-гречески. «Много раз, странствуя там и сям по Востоку, я нудился ставить себя в положение грека, – писал он, – чтобы живее и, так сказать, первобытнее были те впечатления, кои неслись на сердце от той или другой исторической местности, совсем иначе, конечно, говорящей в родной слух греческий, чем в слух туриста, даже исследователя-историка, даже отъявленного византиниста, но чужеплеменника»[11]. С 1856 г. он начал писать и публиковаться по-гречески[12]. Все это позволило ему сделаться со временем «больше греком, чем сами греки». Как говорил о нем Хитрово: «полтора грека»[13].
«Естественно думать, – признавал впоследствии Антонин, – что я увлекся Грецией и вслед за тем Греческой Церковью. В Грецию я переехал как бы на родину своих убеждений. А всматриваясь в подробности религиозной жизни греков, я нашел в ней столько еще похожего на то, чему учат нас Четии-Минеи и Пролог»[14].
Внедрение и углубление в Греческий Восток началось с буквального углубления в землю. Строительство русской церкви в Афинах и возникшие в связи с этим археологические задачи – стали для него «долговременной школой изучения христианских древностей»[15]. По указу греческого короля Оттона I от 4 марта 1847 г. в собственность России были переданы руины церкви св. Никодима (Ликодима) с единственным условием, чтобы восстановление стен было выполнено в стиле, характерном для древней постройки[16]. Как вспоминал Антонин, «в недальнем расстоянии от королевского дворца, почти близ самого сада королевского, долгое время виднелись развалины довольно обширной по Афинам церкви, казавшейся с первого раза соборною в сравнении с другими церквами города. <…> Четырехугольник стен, ровных и плоских, как четыре доски гроба, с едва выходящей из него шеею купола, наводил уныние на душу». Впрочем, «впечатление, производимое этим храмом даже на незнакомого вовсе с архитектурою, было всегда весьма сильное. Удивительная стройность и соразмерность всех частей здания пробивалась из-за всей грубой замазки и закраски невежества, бедности и крайности – всех исторических эпох жизни храма, и влекла к себе душу некоторым родственным сочувствием, звала к участию, к вспоможению»[17].
Несколько лет посвятил о. Антонин воссозданию замечательного памятника. Со всей присущей ему энергией и обстоятельностью он входит во все подробности своего первого храмостроительного проекта. Его отец, Иоанн Леонтьевич, видел в этом проявление родовой черты: «У нас, Капустиных, в 30-летнем возрасте страсть к постройкам не на шутку: дед мой в Батурине строил 2 дома, родитель мой большую половину жизни провел в постройках, я с молодых лет и до ныне, хотя уже и невольно, все еще мучусь с ними, и вот мы трое строили батуринские святые церкви: один построил деревянную, другой пристроил придел и заложил новую каменную, третьему суждено её достраивать, украшать и строить ограду. У вас, трех моих сыновей, заметил я уже охоту к постройкам»[18].
Археология вошла в его жизнь внезапно, буднично и просто, чтобы остаться в ней навсегда. Было бы преувеличением сказать, что о. Антонин, не имевший археологического образования, да и не занимавшийся ею никогда прежде, имел намерение осуществить в Афинах планомерные раскопки. Задача была совсем другой – возродить из руин древний храм. Когда при первом знакомстве его с храмом в 1851 г. он спрашивал, почему никто не пытался восстановить здание, ему отвечали, что «основания церкви найдены гнилыми». Действительно, «внутри церкви замечаема была постоянная сырость; нижние части ее казались пропитанными влагой до того, что на них часто показывалась зеленоватая плесень»[19]. В поисках источников сырости Антонин и прибегнул в 1852–1856 гг. к проведению в разных частях церкви археологических раскопок. В результате были выявлены и сохранены – водопровод эпохи Адриана, следы раннехристианских погребений (кимитирий), византийские мозаики и, самое главное, огромное подземное сооружение, назначение которого до сих пор не вполне ясно[20].
Не обладая в начале работы специальными навыками, Антонин, однако, подошел к делу вполне профессионально. Все выявленные разновременные фрагменты и находки были им бережно сохранены и умело приспособлены для осмотра и изучения. Неслучайно за эту работу он был удостоен Большой серебряной медали Русского Археологического общества.
5 апреля 1853 г. о. Антонин был возведен в сан архимандрита.
Время пребывания в Афинах – это и время знакомства с миром. В 1852 г. он совершил поездки в Рим и Неаполь («в опаленные Помпеи»), в 1857 г. в Иерусалим и Египет, в июле-октябре 1859 г. работал в древних библиотеках Афона. Там, в одном из монастырей, Антонин познакомился с другим замечательным русским византинистом и востоковедом, основателем Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандритом Порфирием (Успенским), с которым состоял потом в переписке. Не говорим уже о многочисленных поездках по Греции и плаваниях по Архипелагу.
В марте 1860 г. архимандрит Антонин был назначен настоятелем посольской церкви в Константинополе. Его отец писал своему брату, епископу Екатеринбургскому Ионе: «Антонин наш уведомил нас, что перевод его из Афин в Константинополь состоялся по рекомендации Высокопреосвященного митрополита Филарета Московского. 11 сентября, при отъезде из Афин, греческое правительство наградило его орденом Спасителя для ношения на шее. Командорский крест 3-й степени. Афины, говорит, жалели о моем отбытии, и это было мне наградою. 18 сентября прибыл в Константинополь, переезд медленный, но даровой. Жалованье дано тысячью побольше, но зато содержание подороже». О новом назначении читаем и в письме Платона Капустина: «Брат мой, о. архимандрит Антонин, двукратно уже писал мне из Константинополя. Он, по-видимому, очень доволен своим перемещением. Посольство там гораздо многочисленнее афинского и служение братца может быть более на виду у начальства, только помещение теснее афинского»[21].
Начинался новый плодотворный период углубленного изучения и накопления знаний, навыков, опыта жизни на православном Востоке. «Восток есть колыбель человечества. Довольно сказать это, – писал Антонин, – чтобы сделать мысленный поклон в ту сторону, "откуда свет истек". Человеку, любящему припоминать дни древние и помышлять о летах вечных, нет пригоднее места для этого, тоже в своем роде умного делания, как Византия, от которой и без того на русскую душу веет чем-то своим, близким, но таким давним, что теряются все различительные черты дорогого образа, и остается в душе одно общее представление чего-то неодолимо влекущего, как память о матери у человека, осиротевшего в детстве»[22].
Время служения в Константинополе (1860–1865) ознаменовано и новыми научными достижениями[23], и становлением о. Антонина как выдающегося церковного дипломата. Доверительные дружеские отношения связывали его с известным знатоком дел в Османской империи, российским послом в Константинополе графом Николаем Павловичем Игнатьевым. Их переписка сохранилась и частично опубликована[24]. В церковных вопросах Игнатьев охотно прислушивался к мнению Антонина. Граф ценил в архимандрите прежде всего его прирожденный дипломатический такт и гибкий проницательный ум. «Читая письмо ваше, я, – признавался он однажды своему конфиденту, – еще более убеждался в дипломатических способностях ваших. Убежден, что вы со всеми поладите и всех, простите за выражение, если нужно, около пальчика обведете»[25].
При этом, достойный представитель русского ученого монашества, Антонин на всех этапах своего служения много и плодотворно занимался научными изысканиями: библиография известных на сегодня его опубликованных трудов составляет более 140 наименований[26]. Первое место среди различных направлений его научной деятельности занимала византинистика, включая работы как церковно-исторического и археологического, так и литургического и агиологического характера.
Неутомимый археограф, о. Антонин составил в 1862 г. «Каталог рукописных книг, обретающихся в Патриаршей библиотеке Константинопольского Святогробского подворья», одним из украшений которого стало открытие знаменитого памятника «Учение 12-ти Апостолов» (Дидахи тон додека апостолон)[27]. В октябре-ноябре 1867 г. он изучал рукописи Патриаршей библиотеки в Иерусалиме, в июне 1868 г. описывал собрание Лавры св. Саввы Освященного[28], в 1870 г. составил свой самый известный каталог – Синайского монастыря, с описанием 1310 греческих рукописных книг[29].
К сожалению, ни один из подготовленных о. Антонином каталогов, доныне не утративших своего научного значения, не опубликован. Именно поэтому стал возможен «казус Гардтгаузена»[30], издавшего «свой» каталог синайских рукописей, «в большей части tacite воспользовавшись целиком трудом своего предшественника»[31]. Архимандрит и сам был немало удивлен, «перечитывая», как явствует из записи в дневнике от 19 апреля 1887 г., «Синайский каталог рукописей некоего Gardthausen'a, воспользовавшегося моим трудом безыменно, слепо следовавшего установленному мною порядку и оставившего рукописям данную им мною нумерацию»[32].
Язык и литературная образованность для Антонина были средством проникновения и восхождения от национальных и этнических особенностей к общему Православному Наследию: он становится редким в Русской Церкви носителем и поборником подлинно вселенского православного сознания. Об этом свидетельствует, к примеру, его знаменитое письмо митрополиту Московскому Филарету (Дроздову) от 10 января 1861 г., являющееся своеобразным итогом десяти лет аттических трудов и размышлений. «Я убежден, что призван сделать что-то, что именно не знаю и предвидеть не могу. Но если бы даже и только то, чтобы увидеть первому исходящий от престола Мироправителя новый свет благоволения Его к месту избрания и вместе с тысячами других рук простереть свои слабые руки к разорванным звеньям византийской истории, сцепить их снова и начать новую историю Церкви Христианской, исходящую по-прежнему из Византии как из своего сердца повсюду, но уже не к раздроблению Тела Христова по странам, по народам, по языкам, по правительственным системам, по школам, по страстям, по нуждам, а к воссоединению всех в совокупную жизнь духа, любви, мира, радости о Духе Святе»[33]. Антонин был первым, кто открыто отстаивал перед священноначалием необходимость отмены нововведений синодального периода и решительно заявлял, что Русской Церкви есть чему поучиться у Греческой, отложив свой провинциальный «поместный» патриотизм.
В июне 1863 г., получив отпуск, единственный раз за более чем 40-летнее пребывание на Востоке, Антонин побывал на родине, в Батурино. В мае-июне 1865 г. он отправился в научную поездку по балканским провинциям Османской империи (Македония, Фессалия, Эпир), из которой его вызвала телеграмма посла Игнатьева. Его ждало новое назначение – в Иерусалим.
Еще в юношеских мечтах, собираясь только в Киевскую Духовную Академию, он «думал о Киеве, как о счастии другого мира, ему казалось, что за Печерскою картиною скрывается другая, и не одна, – далее ее, лучше ее, таинственнее, – что Киев есть только перепутье в Иерусалим – в рай»[34]. Однако Иерусалим того времени был мало похож на эдемский сад.
Руководство русскими учреждениями в Палестине в середине XIX в. осуществлялось параллельно и не всегда согласованно двумя различными ведомствами – Министерством иностранных дел и Святейшим Синодом. Приезду архимандрита Антонина в сентябре 1865 г. предшествовала целая серия склок, скандалов, нестроений в отношениях между Миссией, консульством и Палестинской Комиссией. Весной 1864 г. Иерусалим покинул в результате затяжного конфликта с консульством глава Русской Духовной Миссии епископ Кирилл (Наумов) – доктор богословия, бывший профессор и инспектор Петербургской Духовной Академии. И постарался об этом консул А.Н. Карцов – замечательный дипломат, которого все – и в Министерстве, и, особенно, посол Игнатьев, считали человеком способным и перспективным. Столкновение интересов Церкви и интересов светски ориентированного дипломата было неизбежно. Карцов не нашел другого применения своим дипломатическим талантам, как интриговать против… Русской Духовной Миссии и ее начальника, добиваясь того, чтобы епископа Кирилла отозвали из Иерусалима. Менее чем через год (в 1865 г.) вынужден был оставить свой пост и присланный на замену епископу Кириллу архимандрит Леонид (Кавелин) – тоже не случайное лицо в истории русского монашества, гвардейский офицер, постриженник знаменитой Оптиной пустыни, церковный историк и писатель, позже настоятель Новоиерусалимского Воскресенского монастыря и наместник Троице-Сергиевой Лавры. А выслан из Палестины как персона поп grata он был по настоянию Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Кирилла, по проискам того же Карцова.
В Св. Синоде всерьез задумались, как быть дальше с РДМ. И решили послать туда – в качестве последней меры – архимандрита Антонина. Так, почти случайно, по игре ведомственных амбиций и личных честолюбий, в Святой Земле появился один из главных деятелей Русской Церкви на Востоке и основатель Русской Палестины.
Но хотя приезжает он в Иерусалим как лицо, удобное для обеих противоборствующих сторон – МИДа и Св. Синода, протеже графа Игнатьева, с одной стороны, и митр. Филарета – с другой, в противостоянии сторон мало что изменилось. В истории почти 30-летнего служения его в Иерусалиме трудно найти хоть один продолжительный период затишья и покоя. В 1870-х гг. неоднократно ставился вопрос о закрытии Миссии и перемещении архимандрита Антонина – в том числе «на повышение», с возведением в сан епископа в Сан-Франциско. Процитируем страницу из дневника:
«Воскресенье. 29 марта 1870 г. Телеграмма гласила так: Petersbourg № 3691. Слов 30. День отправки 8 (марта н. с), час 5-й вечера. Ну те-с? Далее следует чушь: A etat intieur. После чуши сушь: Archimandrite Russe Antonin. Jérusalem. После суши глушь: Le Synode vous destine une chaise diocesaire en Amérique. Avez vous des causes legales de refuser? Réponse pour vingt mots payée. George Tolstoy[35]. Потомок! Можешь представить мое озлобление! En AMERIQUE!!! Это ведь подалее Камчатки, которою я когда-то пугал маменьку, желавшую видеть меня владыкой. Ту же минуту отправился к консулу. Нашел его в биллиардной с пашой и испанским консулом. При помощи его послал тогда же ответ такого рода: St. Pétérsbourg. Saint-Synode. Comte Tolstoï. «Je solliate la faveur de rester ici pour cause de santé! Antonin»[36]. Кавас понес ответ, а я пошел домой, полный яростных чувств и самых горьких размышлений о силе, ломящей солому. Вот прошло уже 5 часов с получения телеграммы. Ярость сменилась похабным подсмеиванием над самим собою. А! Ты сцепился своими гнилыми зубенками с великоименитою Пал<естин>скою Комиссиею и много(по)ведным Азиатским Департаментом. Вот же тебе на зубы une chaise en Amérique. Это будет подальше даже Азии. О читатель XX столетия! Всмотрись в черты лица моего, и ты увидишь, что они дышат злорадованием. Если бы: en Sibérie, и то было бы уже очень едко. А то: en Amérique. Vicisti Galilaee![37]»[38].
И, однако, Антонин «пересидел» в Иерусалиме пятерых консулов и четырех Иерусалимских Патриархов – «вдали от родины, среди не только чуждых, но постоянно враждебных элементов, где приходилось не только взвешивать каждое слово, но… даже самую потаенную, задушевную мысль»[39]. Он одолел «систему», потому что противопоставил ей не политику и не интриги, а дела серьезные и беспроигрышные: изучал библейские древности, покупал участки земли, связанные с теми или иными ветхозаветными или новозаветными преданиями, строил странноприимные дома и церкви. Им были приобретены участки в Хевроне (с Мамврийским Дубом, 1868; ныне – принадлежащее РДМ подворье в честь Святых Праотцев), в Яффе (1869; ныне – подворье праведной Тавифы), в Айн-Кареме (1871; ныне – Горненский Свято-Казанский женский монастырь), на Елеоне (1871; ныне – Русский Вознесенский монастырь), в деревне Силоам («Могила дочери фараона», 1873), в Иерихоне (1874; подворье св. Иоанна Предтечи) и др.[40].
Создание Русской Палестины – целой инфраструктуры храмов, монастырей, паломнических приютов и земельных участков – стало главным подвигом жизни Антонина. «Только ему одному, его твердости, его настойчивости Православная Россия обязана тем, что стала твердою ногою у Святого Гроба»[41]. Это помогло не только спасти Миссию и укрепить ее положение, но и расширить влияние России в Святой Земле. Антонин оказался в очень удобном положении – нашел средство противостоять и МИДу, и Синоду: когда на него давил Синод, он жаловался в МИД и наоборот. И каждый раз главным аргументом становилась Русская Палестина – реальный фактор, с которым чиновники в Петербурге не могли не считаться[42].
Не нужно думать, будто Антонин покупал без разбору выставленные на продажу участки. Более того, речь шла не просто о памятниках, представляющих интерес для археолога. В Иерусалиме о. Антонин встретился с редким, может быть, единственным на земле напластованием сакральных пространств – ветхозаветного «Города Царей», римской языческой Элии Капитолины, византийского города Константина и Елены, храмового комплекса Гроба Господня крестоносцев, Via Dolorosa францисканцев. И ему посчастливилось не только удачно вписаться в процесс палестинского «сакрального проектирования», но и поставить своеобразные авторские «точки»: открыв (почти назначив) Порог Судных Врат на Крестном пути, увидев во сне, а затем построив Русскую Свечу на Елеоне, сделав русской собственностью Дуб Мамврийский в Хевроне, устроив «приют Закхея» в Иерихоне, дом праведной Тавифы – в Яффе, православный «Горний Град Иудов» – в Айн-Кареме.
В большом и многообразном литературном наследии архимандрита Антонина, наряду со специальными работами (гомилетическими, библеис-тическими, церковно-историческими, археологическими и археографическими), совершенно особое место занимает цикл статей и корреспонденции, опубликованных за годы пребывания в Палестине и объединенных нами общей рубрикой «Из Иерусалима». Они появлялись в разных периодических изданиях: «Душеполезное чтение», «Церковная летопись «Духовной Беседы», «Христианское чтение», «Херсонские епархиальные ведомости», «Труды Киевской Духовной Академии», «Гражданин», «Церковный вестник»; в разных городах – Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Одессе.
При некоторых жанровых различиях эти работы представляют собой живую летопись Иерусалима за четверть века. Есть среди них очерки о выдающихся лицах и событиях, есть серьезные аналитические исследования. Особняком стоят некрологи и надгробные слова, которые всегда очень проникновенно говорил архимандрит Антонин.
Публикации различаются авторскими подписями. Антонин не только был многолик и разносторонен, даже его монашеское имя расслаивается в «многоцветном Антонине» – «сегодня "Благочестивом", завтра "Философе", послезавтра "Каракалле"»[43]. Изобретателен и необычен был он в своих криптонимах и псевдонимах, почти никогда не подписывался собственным именем. Из 52 корреспонденции лишь несколько, имеющих принципиальный и официальный характер, помечены: «От начальника нашей Иерусалимской Миссии».
Как сказал он однажды в дневнике, «жаль мне до смерти всего прошедшего, а потому и вчерашнее маленькое событие тоже стало какой-то запятой, отсекшей у меня безвозвратно нечто, бывшее дотоле настоящим и радовавшее меня. Одной заботой меньше, это правда, но зато ведь и одним застенком от приближающегося грозного облика смерти тоже меньше. Когда я научусь быть космополитом бытия и перестану хвататься за былинки жизненной дороги, чтобы как можно замедлить путь свой? О, Андрей, Андрей! Не выживешь тебя никак из Антонина». Этими «былинками» были для Антонина обозначения, связанные с родиной – «А. и Б.» («Андрей из Батурины»), Солодянский – по речке Солодянке, то же в латинском написании Sol., Отшибихин – по хутору Отшибиха рядом с Батурином и др.
Чем объяснить нежелание о. Антонина подписывать свои работы? В первую очередь, тем, что Св. Синод и другие российские власти весьма сдержанно относились к публичности того или иного должностного лица. Это относилось не только к лицам духовного звания, но и чиновникам МИДа. Конечно, в Св. Синоде, в МИДе, в редакциях газет и журналов знали подлинное имя автора. Тем не менее о. Антонин называет себя в корреспонденциях «Из Иерусалима» исключительно в третьем лице, иногда пишет от имени случайного якобы русского паломника «Хаджи», подписывается псевдонимами, – но говорит то, что считает нужным сказать. Не боясь отстаивать свое мнение ни перед обер-прокурорами Св. Синода, ни перед митрополитом Филаретом, архимандрит Антонин как бы «исполнял некоторый долг своего бытия на земле»[44] и всегда дорожил этой, пусть и ограниченной свободой. При том, что в работах о. архимандрита нередко содержатся весьма нелицеприятные высказывания и суждения[45], его скрашенное игрой псевдонимов публицистическое творчество в условиях жесткой гражданской и церковной цензуры может быть оценено сегодня как церковный и гражданский подвиг.
Что касается объема литературного наследия, его пытался фиксировать при жизни еще сам архимандрит Антонин. Например, 10 августа 1876 г. он записывает в дневнике: «Каталогизирование всех отпечатанных мною с 1843 г. статей больших и малых… Набирается больших и малых до 80»[46]. В списке публикаций Антонина, который напечатал в год смерти автора (1894) известный библиограф СИ. Пономарев, значилось 105 работ[47]. Степан Иванович учел только те работы, которые ему в свое время показал или позже прислал в оттисках автор. В переизданном нами, исправленном и уточненном, варианте пономаревской библиографии их было 107[48]. При подготовке настоящего издания мы смогли пополнить список прижизненных публикаций до 144 работ, причем оказалось, что за некоторые годы их число в 2–4 раза превышает цифру, указанную первым библиографом Антонина.
Тем не менее, есть основание думать, что и сегодня нами выявлены не все публикации о. Антонина. Это касается, в первую очередь, его ранних работ: статей и переводов, опубликованных без подписи в киевском академическом журнале «Воскресное чтение» в 1843–1850 гг. Во-вторых, сам Антонин неоднократно говорил о нескольких своих публикациях на греческом языке в афинской печати (известна только одна). В-третьих, есть сведения, что Антонин посылал какие-то свои работы для издания в Германии. Словом, библиографам еще предстоит потрудиться.
Кроме того, не все работы, подготовленные им для печати, были опубликованы. В архиве Русской Духовной Миссии в Иерусалиме среди документов и рукописей архимандрита нами были найдены две его неопубликованные статьи, видимо, не прошедшие цензуру. Одна из них «О Духовной Миссии в Иерусалиме», отправленная в 1879 г. в редакцию «Гражданина» и возвращенная автору, впервые публикуется в настоящем сборнике.
Среди многочисленных писателей, дипломатов, путешественников, паломников, оставивших свои произведения о Святой Земле, архимандрит Антонин занимает совершенно особое место. В Иерусалиме, на этом многовековом перекрестке вер, этносов, культур и традиций, русский человек в его лице и произведениях высвечивается с особой яркостью и выразительностью. Это придает всему написанному рукой Антонина уникальную личностную окраску. Невольно ощущаешь, что имеешь здесь дело с редким феноменом, равного которому в русской культуре и найти сложно. Это, если можно так выразиться, русский человек в иерусалимском, т. е. совершенно особом, важном и высоком – измерении.
В зависимости от содержания корреспонденции о. Антонина из Иерусалима можно разделить на несколько больших групп.
Летопись церковной жизни Палестины. Хроника богослужений, канонических перемещений, избрание новых Патриархов и смерть или низложение прежних – Поместной Иерусалимской Церкви. Несколько статей посвящено Патриарху Кириллу: рассказ о его низложении, сопоставительная характеристика Патриархов Кирилла, Прокопия и Иерофея. Даже некролог или надгробное слово нередко становятся под пером Антонина церковно-исто-рическим исследованием. Примером может служить некролог, посвященный Мелетию, митрополиту Петры Аравийской, которого «русские люди, особенно из простого народа, называли коротко и просто «Святый Петр»[49].
Жизнь в Палестине давала уникальную возможность не только видеть, но и участвовать в праздновании Крещения на Иордане, Рождества в Вифлееме, Успения Божией Матери в Гефсимании, – все это создавало особое настроение у автора и передавало далеким читателям в России ощущение личного присутствия. Интересны и содержательны историко-литургические наблюдения ученого архимандрита. В первые годы жизни в Палестине его корреспонденции полны описаний греческих служб, их отличий и местных особенностей по сравнению с русскими. При этом архимандрит при всей своей любви к греческому Востоку всегда достаточно критичен.
Антонин внимательно следит за литургическими, богословскими и даже бытовыми особенностями жизни различных конфессий, что тоже выделяет его среди многих других русских публицистов, почти или совсем не интересовавшихся спецификой религиозной жизни и быта местного населения. Вполне уважительно описание о. Антонином латинского Патриарха в Иерусалиме Иосифа Валерги как «человека высокого роста, с смелым открытым лицом и большой седой бородой»; доброжелателен пересказ католической службы, заканчивающейся «трогательным напевом погребальным, восполнившим собою все, что могло казаться недостатком в богатом материальной обстановкой богослужении»; серьезен и назидателен вывод – «Церковь, которая умеет держать себя в таком строжайшем чине и знает окружать себя таким ослепительным блеском, конечно, простоит долго!»[50].
Интерес о. Антонина к инославным был продиктован в первую очередь тем, что он рассматривал русскую жизнь в Иерусалиме и русское присутствие в Палестине в контексте Вселенского православного делания и шире – христианского присутствия в мире. Хорошо известны слова архимандрита о неизбежном «разочаровании» русского паломника в Святой Земле, которое, однако, «приготовляет поклонника к выходу из той исключительности, в которую его невольно поставила его привычка видеть одно и то же у себя на родине, – оно расширит его большею частью ограниченный круг зрения на предметы знания и веры и если не тотчас, то мало-помалу приучит его к умеренности и терпимости, столь нужной тому, кто решился принесть на Гроб Господень дань и своей признательной души вместе с тысячами других, подобных ему пришельцев, часто не похожих на него ничем, кроме одного образа человеческого и имени христианского»[51].
История Русской Палестины. О. Антонина можно по праву назвать историком Русской Палестины. Из его статей и корреспонденции читатель в России впервые узнавал, что Дуб Мамврийский стал русским, что делается на Елеоне и продвигается ли там строительство русской церкви, что куплен русский участок в Иерихоне и заложен новый дом для паломников, что происходит в Горней и как постепенно складывается монастырь.
Великая заслуга о. Антонина, его умение и особый талант состояли в том, что он умел привлечь к своим замыслам самых разных людей. Он много работал с благотворителями, такими как, например, бывший министр П.П. Мельников, «некогда паломник, один из самых видных и усердных споспешников нашего дела в Палестине, хлопотами и отчасти великодушным пожертвованием которого мы сделались владельцами весьма обширного и ценного по своему значению участка земли, с поклонническим приютом и большим садом в упомянутой выше Горней, куда как бы нарочно какая-то благодеющая судьба занесла отличного человека лет 10 назад тому. Его усилиями собрано было более 20 000 рублей в течение двух-трех месяцев, чем мы и стали счастливыми собственниками дорогого и завидного евангельского места»[52]. Ездили в Иерусалим многие, но щедрых жертвователей среди благочестивых богомольцев было не так уж и много.
В очерках и корреспонденциях предстает перед нами Русская Духовная Миссия, ее служащие и деятели, среди которых было много достойных людей – игумен Вениамин, создатель Вениаминовского подворья, о. Александр Анисимов, несколько раз приезжавший в Иерусалим и читавший лекции для паломников и др. Русское консульство – дипломаты, служащие и их семьи. О. Антонин рассказывает о них с большим уважением, симпатией и интересом: «Простыми, всем доступными и ничуть не ходульными показались мне и члены нашего здешнего консульства. Так, в первый же день я видел, как наш консул, г. Кожевников, тихо и скромно, без всякого стука и тапажа, пришел в церковь на обедню вместе с своей женой, оба весьма почтенные и солидные люди, уже значительно пожилые, как благоговейно выстояли они всю службу и с тою же простотою и нецеремонностью возвращались по двору заведений домой»[53]. Служащие Палестинской Комиссии и Императорского Православного Палестинского Общества. В рассказах, касающихся организации русского паломничества и деятельности Палестинской Комиссии и «убогих деятелей» ее, Антонин впервые высказывает мысль о необходимости создания русского «Общества Святого Гроба» – будущего ИППО. И, конечно, это простые русские паломники, ради которых были созданы и Русская Духовная Миссия (1847), и Иерусалимское консульство (1858), и Палестинский Комитет (1859), преобразованный позже в Палестинскую Комиссию (1864), и Православное Палестинское Общество (1882). Не будь паломника, живой основы нашего присутствия в Иерусалиме – не нужны были бы ни Миссия, ни консульство, ни Комитет. С этой точки зрения о. Антонин обращается к защите интересов верующего народа и выступает его представителем.
История Иерусалима. О. Антонин активно и много сотрудничал с местным населением, особенно арабским и особенно православным, и писал о них – о совлечении в унию, о коптах и абиссинцах, следил, как последние на средства негуса строили свой квартал с прекрасным храмом. Помимо русских благотворителей в корреспонденциях говорится и о местных помощниках архимандрита, людях других наций и конфессий, без которых многие проекты и задумки остались бы нереализованными. Это, прежде всего, его помощники: Яков Егорович Халеби, который, познакомившись с о. Антонином сразу после его приезда в Иерусалим, стал настоящим другом, соратником и доверенным лицом. И, когда Антонин умер, именно Халеби пришел в консульство и составил полный перечень всех земельных приобретений арх. Антонина, о которых никто кроме него не мог знать. С течением времени вокруг Антонина сложился целый мир, но ведь кроме арабов были и другие – итальянцы, греки, немцы, австрийцы, евреи – помогавшие ему в финансовой и хозяйственной деятельности, строительстве и обеспечении паломнических приютов, археологии и нумизматике.
С большим вниманием и сочувствием Антонин относится к нуждам местного населения: переживает, когда зимой нет дождей и цистерны не наполняются водой, а летом засуха и неурожай; рассказывает про цены на основные продукты; сообщает фенологические подробности и местные обычаи[54].
Несколько слов о работе о. Антонина над своими статьями. В нашем распоряжении имеется уникальный источник о жизни и трудах о. Антонина – дневник, который он вел на протяжении почти 60 лет жизни. Из дневника мы узнаем процесс написания той или иной корреспонденции – можем определить, какого числа он начал работу над статьей, а когда закончил. И иногда получается, что работа над статьей занимала одну неделю, а ее переписывание две, а то и месяц. Можно представить, какой это был тяжелый труд. Приходится удивляться, как начальник Русской Духовной Миссии, обремененный массой различных обязанностей, успевал регулярно писать достаточно большие статьи. Его писательскую «лабораторию» мы узнаем из описаний очевидцев. Почти год проживший в 1873 г. рядом с ним СИ. Пономарев вспоминал: «Переношусь мысленно в Иерусалим, вижу Вас сидящего, по обычаю, за письменным столом с потухшим самоваром, с крепким застывшим чаем, окруженного хлебом, рассыпанными деньгами, нетронутыми газетами, грудою бумаг, которую Вы частенько взъерошиваете, отчего на столе царствует невообразимый беспорядок. Вижу, что Вы обложили себя по преимуществу археологической ветошью разноязычною и без остановки царапаете на бумаге "намеки тонкие на то, чего не ведает никто"»[55].
Труды архимандрита Антонина – свидетельство большого литературного дара, и эта сторона его личности далеко еще не изучена. Можно только сожалеть, что о. Антонин издал не так много книг[56]. Его литературный дар, по причине чрезвычайной занятости и многосторонности натуры, не был использован в полной мере. Иные и так осуждали его, упрекая, что он, мол, вместо того, чтобы заниматься своими непосредственными обязанностями, разбрасывается, ведет «светский» образ жизни, увлекается архитектурой, нумизматикой, археологией, наблюдает по ночам за звездами. Да, он разбрасывался, он в полном смысле был тот самый русский человек, о котором Ф.М. Достоевский сказал: «широк! я бы сузил». Но если сузить, то он перестанет быть тем феноменом мировой истории, с которым имя русского человека связано.
Потому литературный талант о. архимандрита наиболее раскрылся только в двух основных жанрах – корреспонденциях из Иерусалима и церковной проповеди (он каждый год говорил слово на Голгофе, на пассии, при обношений плащаницы, и ни разу не повторился). Находить всякий раз новые аспекты и затрагивать разные струны сердца человеческого – это чрезвычайный талант. Язык Антонина удивительно богат, ярок и выразителен. В виртуозном «плетении словес» он соединяет цитаты и использует лексику из самых разных областей, языков, жанров. Игры со стилем, игра словами из разных языков, цитаты иногда лирические, а иногда иронические, обороты и тексты церковнославянские, множество народных слов, которых мы уже давно не слышим, и неологизмов, которые Антонин придумывал сам… Говоря о языке о. Антонина, мы вплотную касаемся стихии, где наиболее ярко раскрывается душа нашего автора.
Церковный автор всегда связан каноном. А Антонин всегда писал так, как чувствовал и как понимал. Впрочем, если мы даже самым скрупулезным образом подойдем к его текстам с точки зрения канонических или богословских суждений, мы не найдем никаких отклонений от учения Святой Православной Церкви. Вся внутренняя свобода, энергия самовыражения, кипение творческой натуры – все укладывается в традиции русского православного богословствования, русской православной мысли, все есть самовыражение русского православного народа.
…Человек – это его стиль. Если попытаться назвать важнейшие особенности натуры и стиля Антонина, две стихии его внутренней жизни и творческой реализации – это ирония и нежность. Он всегда насмешлив и критичен по отношению ко всем: к себе, к сослуживцам, к начальству, к Патриархам Иерусалимским, что отнюдь не означает плохого к ним отношения. Многим виделась в этом не ирония, а раздраженность. Обер-прокурор Св. Синода К..П. Победоносцев однажды сказал, что у него – по корреспонденциям Антонина из Иерусалима – сложилось мнение, что это «человек желчный»[57]. На Антонина часто обижались, потому что принимали иронию за неприязненность и обозленность. И, пожалуй, у архимандрита были причины обижаться на жизнь – она была сложна. Но в глубине души Антонин был вовсе не таков, у него всегда находились лирические и восторженные ноты. И оценке Победоносцева, сдержанно отрицательной, уместно противопоставить совершенно иную оценку личности Антонина – слова святителя Феофана Затворника, великого нашего подвижника, создателя Русского Добротолюбия, который в одном из писем сказал: «О. архимандрит Антонин… нежный – известен мне, как отличный человек… он же и уч»[58].
Так глубоко разгадать Антонина мог только такой сердцеведец, каким был великий русский аскет и богослов святитель Феофан Затворник. Многие не понимали его. Потому «для внешних», как говорили святые отцы, характерна поляризация мнений и восприятий – для одних он был желчный человек, или, в лучшем случае, как сказал СИ. Пономарев, «бесподобный отец-заноза», для других – Антонин Нежный.
Время брало свое. 31 декабря 1890 г. Антонин записывает в дневнике, что год «перенял меня у своего предшественника… здоровым, далеко еще не совсем седым, не лысым, не безголосым, но глуховатым на правое ухо… Умом владею вполне без малейшего ущерба. Воля та же, но с прибавкой равнодушия и затем уступчивости, лености, бездейственности, увлечения первым попавшимся под руку предметом и духовной спячки, сопровождающей телесную дремоту. Память из рук вон плоха. Воображение подает в отставку. А сердце? Стало чем-то вроде духовной размазни. Готово пристать ко всему, что понравится»[59].
…На самой макушке Елеона высится 64-метровая четырехъярусная колокольня, которую в Иерусалиме называют «Русская Свеча». С площадки верхнего, четвертого, яруса ясно видна на востоке блестящая синь Мертвого моря. По преданию, одной сажени не хватило Антонину, чтобы на западе можно было увидеть Средиземное. Еще в 1886 г. архимандрит записал в дневнике: «Долго сидел там на своей высокой колокольне (только-только начинал возводиться второй ярус. – Авт.) и раздумывал о временах далеко-будущих. Роды родов будут подниматься на высоту, где я сижу, а о чем будут думать они?.. Верно, не о том, кто доставил им случай полюбоваться на целокупный образ вечно-вещей Палестины»[60].
Опорные столпы созданного Антонином сакрального пространства Русской Палестины четко определились по сторонам света. Кана Галилейская и Тивериада на севере, Хеврон с Дубом Мамврийским на юге, Яффа с храмом апостола Петра и гробницей праведной Тавифы на западе, Иерихон с Галгалским камнем и приютом Закхея на востоке – вот КРЕСТ, которым осенил о. Антонин Святую Землю. В средокрестии – Иерусалим с Порогом Судных Врат, с Горней по левую и Елеоном по правую руку.
Р.Б. Бутова
I
Церковная жизнь святого града
1866
Праздник Рождества Христова в Вифлееме
В нынешнем (1865) году Святая Земля имела утешение праздновать Рождество Христово вместе с своим Патриархом. Блаженнейший Кирилл (2-й сего имени и 128-й в числе Патриархов Иерусалимских)[61], большею частью проживающий в Константинополе, почти весь истекающий год провел во Святом Граде. Заранее еще стало известно в Иерусалиме, что на праздник Рождества Христова он сам будет служить в Вифлееме.
Наш малый Иерусалим – русский – не только был уведомлен об этом, но и некоторым образом приглашен к празднику. Около 600 поклонников и поклонниц русских с нетерпением ожидали радостного дня. Весь этот месяц был для них временем беспрерывных малых тревог. В ноябре задумано было весьма трудное – или и прямо почитавшееся невозможным – дело доставки из Яффы в Иерусалим трех русских колоколов, пожертвованных ко Гробу Господнему и уже пятый год лежавших на пристани яффской. К чести русского имени, предприятие это увенчалось полным успехом. Колокола были доставлены на свое место русскими руками. Потрудившиеся в этом деле всю жизнь с отрадой будут припоминать, как они дружным обществом в 60–70 человек, мужчин и женщин, тащили по горам Иудейским колокол во Святой Град, не видевший, конечно, еще никогда такой редкости от времен Давида и Соломона.
Этот колокол 24 числа (декабря), в 10 часов утра, возвестил Иерусалиму, что первосвященник Святого Града выезжает из города. По обычаю, толпа народа собралась в тесной улице Патриархии – провожать доброго владыку. Стук копыт 15–20 лошадей по мостовой заглушал самый звон. Патриарх, как обыкновенно, отправился с немалою свитою, в числе которой были два архиерея, несколько архимандритов, иеродиаконы и проч. К сожалению, целую неделю пред тем радовавшая нас хорошая погода в ночь под 24 число вдруг изменилась в холодную и дождливую. Довольное число из наших избыли неприятностей дурного времени, ушедши в Вифлеем еще в четверток. Мы же, пожелавшие видеть праздник во всей его полноте и целости и для сего примкнувшие к кортежу патриаршему, почти от самого Иерусалима и до Вифлеема были под дождем и пронзительным ветром. Ехали все ускоренным шагом и редко рысцой. Патриарх сидел на своей, известной всему городу, белой лошади, поддерживаемый с обеих сторон прислугой. Архиереи следовали непосредственно за ним. Впереди Его Блаженства ехал патриарший кавас[62] с поднятой, по обычаю, булавой. Еще далее впереди из толпы всадников раздавались глухие и тупые звуки какого-то кимвала или тимпана местного произведения[63], дававшего две переменяющиеся ноты и ударяемого под такт лошадиного шага.
Менее, чем в час, пройдено было расстояние от Иерусалима до высоты, разделяющей горизонты иерусалимский и вифлеемский и занятой монастырем святого пророка Илии[64]. Весь поезд остановился под стенами обители и всадники сошли с коней для кратковременного отдыха. Его Блаженство отказался войти в монастырь и с обычною ему простотою и невзыскательностью поместился в пустом придорожном малом строении, служащем, по-видимому, для корма или загона монастырского скота. Достойное священной памяти Богоприемного Вертепа помещение! Игумен монастыря, с своей (весьма немногочисленной) братией, немедленно занялись угощением путников вареньем, водкой и кофе, по местному обыкновению. Сырая погода и труд пути представляемы были угощающими в извинение раннего вкушения, или «подкрепления» по отзыву некоторых угощаемых, в день, определенный для строгого воздержания с утра до вечера[65].
Во время угощения подъехал из города и наш архимандрит[66] в сопровождении каваса с булавою. Затем прибыла депутация старшин вифлеемских для поднесения поздравления Патриарху. Уже минут 20 длился отдых. Мне сказали, что поджидают нашего консула[67], в первый раз еще принимающего официальное участие в Вифлеемском празднестве, по-видимому, весьма ценимое Его Блаженством; вопреки своей нелюбви к внешним украшениям, он имел на себе тогда орденскую звезду св. Александра Невского. Напрасно также ожидали, что и небо, может быть, прояснится к полудню. Ветер усиливался и, врываясь в бездверный приют гостей, поднимал сбитую на полу солому, грозя ею застлать глаза искавшим защиты от него. Наконец, Патриарх сказал: «как бы не запоздать нам», и пошел к своему сивке. Все последовали его примеру. Тем же порядком поехали далее. Депутация увеличила поезд. У памятника Рахили[68] нагнал нас и ожидаемый наш г. консул с драгоманом[69] и двумя кавасами. Было и еще несколько лиц, приставших к поезду, так что весь он растянулся более, нежели на 1/2 версты и представлял бы из себя нечто действительно торжественное, если бы не жестокая непогода, заставлявшая забыть не только о великолепии, но даже и о простом порядке.
От монастыря пророческого дорога идет косогором, сначала опускаясь, а потом поднимаясь к высям Вифлеема, стоящего почти на одном уровне с монастырем. Вся дорога проложена по камню и была скользка и грязна теперь от лившего столько времени дождя. Вифлеем еще скрывался за горою, но звон колоколов долетал уже из него до нас и веселил сердце. Наконец, мы достигли высоты, с которой открылся нам и пророчественный дом хлеба небесного[70], едва, впрочем, различаемого сквозь густой дождь. Мы спустились в единственную улицу его, узкую, кривую и весьма неровную. В дверях и окнах нас приветствовали то криком, то смехом, то немым дивлением кучки детей, за непогодою, вероятно, оставшихся дома, а может быть, и не принадлежащих к Православной Церкви, имеющей и здесь соперничествующую себе пропаганду римскую. Улица окончилась, и мы выехали на большую площадь, прямо в лице древнейшему и величайшему в Палестине христианскому храму[71]. Толпа народа была здесь непроходимая. Пред самым храмом стояли в два ряда солдаты[72], образуя собой дорогу к нему. Не доезжая до них, все сошли с лошадей и направились к низкой и узкой дверце западной стены храма, приобретшей такую громкую и всесветную известность по вопросу, возбудившему последнюю Восточную войну[73]. Пролезши сквозь нее, мы очутились в темном притворе, из которого другою, большею, дверью вступили в так называемую «колоннаду», т. е. западную половину древней базилики, уже во время нашего древнейшего паломника Даниила отделявшуюся, как видно, стеной от восточной половины, или точнее – третьей части всего здания[74].
При вступлении во храм Его Блаженство облачился в патриаршую мантию (фиолетовую с парчовыми скрижалями и источниками из широкого золотого галуна) и с пением вышел чрез третьи двери в перекрестную часть храма, собственно называемую теперь церковью, и, благословив здесь народ, стал на свою кафедру у правого столба солеи, поставив рядом с собой и нашего консула. Против него на левой стороне, также у столба, занял место его второй наместник, митрополит Газский[75]. Третий архиерей ушел в алтарь.
Немедленно началось служение часов. Патриарх, по обычаю, сам начал чтение первого часа и сам же, в конце всякого часа, читал положенные молитвы. Псалмы читались скоро, но тропари петы были с нарочитым тщанием и длились в сложности не менее 20 минут. Первый из них пел сам Патриарх. Евангелие первого часа прочитано было также Патриархом с его кафедры. По окончании его Патриарх кадил всю церковь и Святой Вертеп. На третьем часе, по предложению Его Блаженства, Евангелие читал наш архимандрит по-славянски, стоя в царских дверях лицом к народу, как это делается у нас в пасхальную вечерню, и также, по прочтении, кадил всю церковь и Святой Вертеп. На шестом часе читал Евангелие Преосвященный Фаворский Агапий[76] по-гречески, стоя также в царских вратах и накинув на себя один омофор. Каждение вместо него производил один из священников. На девятом часе читал Евангелие по-арабски чередный священник. В конце часов один из иеродиаконов говорил проповедь, длившуюся около 1/4 часа.
Вслед за богослужением часов началась вечерня. Служащим был один из священников. Патриарх сам читал предначинательный псалом[77], продолжая стоять на своей кафедре. Во время пения стихир вечерних (на Господи воззвах)[78] начали выходить из алтаря северной дверью священники, имевшие принять участие во входе, для принятия патриаршего благословения на облачение.
Первый вышел наш о. архимандрит в сопровождении двух диаконов[79]. Дело происходит так: берущий благословение выходит и становится на средине солеи, по линии патриаршей и наместничей кафедр. Положив земной поклон пред алтарем, обращается к патриаршей кафедре и делает такой же поклон Патриарху, затем подходит к Патриарху, целует его руку и, отступивши мало, вторично кланяется ему в землю и отправляется в алтарь южной дверью. Священники выходили попарно. Треть или четверть их были арабы, вместо камилавок имевшие на голове своей чалмы черного цвета. Особенно один из них обращал на себя внимание всех, черный, высокого роста, из заиорданского селения Салт, в национальной одежде бедуинов и едва-едва не совершенно босой. На входе шли старшие вперед и становились полукругом, первый у самой патриаршей кафедры с левой стороны, а последний почти уже у иконостаса. Архидиакон стал с Евангелием не к алтарю лицом, а к Патриарху. После возглашения: Премудрость, прости, Его Блаженство первый начал петь: Свете тихий… Престранное пение это, к которому нет никакой возможности подладиться тому, кто не хочет или не умеет петь в общий унисон, продолжалось 10 минут. На словах: Достоит ecu… священники делали легкий поклон Патриарху и уходили в алтарь, но не разоблачались там, в ожидании имевшей наступить вскорости литии[80].
Паремии[81] были прочитаны скорее, чем это делается у нас. Их читают, как бы рассказывая, без малейшей интонации или растяжки голоса. Тотчас по окончании их начали петь славник[82] литийный: Веселися Иерусалиме… и прежним порядком стали выходить из алтаря, прямо из Царских врат, священники, становясь по-прежнему полукругом и имея в средине столик с хлебами, коих было более 10 на самом блюде, и кроме того еще большая корзина с ними стояла позади столика. Хлебы большие, плоские, имеющие каждый на верхней стороне своей рельефное изображение Рождества Христова. По окончании пения стихиры Патриарх прочитал: Ныне отпущаеши. За возгласом: Яко Твое есть царство… следовало однократное пение тропаря: Рождество Твое… причем служащий священник крестообразно, тоже однажды, кадил хлебы. Затем архидиакон снял стоявший на верхнем хлебе серебряный, искусной работы, в виде деревца с плодами (чашечками для вина и елея и пр.), подсвечник, и стал с ним за столик лицом к Патриарху, а служащий священник взял в обе руки верхний хлеб и, подняв его, держал, обратившись лицом к алтарю. Патриарх с кафедры своей прочел молитву благословения. На словах: Яко Ты ecu благословляли… священник сделал держимым им хлебом крест над прочими хлебами, и затем поднес его к Патриарху, который, облобызав изображение Рождества Христова, передал хлеб нашему консулу. Священники вошли в алтарь, а народ бросился к патриаршей кафедре за другими хлебами, которые Его Блаженство раздавал целыми. По обычаю, самые ревностные в этом деле были мы, русские, в особенности же наши поклонницы. Они так натиснули на кафедру и на самого раздавателя крупиц трапезы церковной, что сломали его дорогой посох (патериссу). Огорчившись этим, Блаженнейший перестал раздавать хлебы и несколько времени, видимо, был не в духе. Взамен сломанного, ему принесли из ризницы другой посох простой работы. Между тем, после малой ектений, стали петь Трисвятое, и пошла своим порядком литургия Василия Великого, продолжавшаяся около часа.
Во время вечернего богослужения многократно перестававший и возобновлявшийся дождь не обещал и на самый праздник хорошей погоды. Вышед из церкви, народ укрывался от непогоды на галереях монастыря, не вмещаясь в странноприимных кельях его. Трудная и беспокойная ночь ожидала стольких пришельцев, не имевших ни чем утолить голод, ни где приклонить голову! Усердия игумена и немалой прислуги обители едва ставало на то, чтобы удовлетворить нуждам наиболее почетных гостей. В такую сырую погоду и при такой усталости чашка чаю была бы неоцененным утешением, и многие из «товарок» наших с глубоким жалением воспоминали свой приютский чай; но не до чаю было в такую позднюю пору и в такое ненастье, когда нельзя было найти и хлеба; кто мог, утешал себя мыслью, что в Вифлееме не только нам, но и Сыну Божию не нашлось более удобного места, кроме Вертепа. Счастием несравненным можно уже было считать и то, что мы несем тесноту у самого сего Вертепа, и, без сомнения, до конца жизни своей будем с умилением вспоминать эту «рождественскую ночь». Благодарение Богу и за то, что нам позволено было сидеть ночью в самой церкви и даже в самом Священном Вертепе. Чего-то не передумаешь на таком избранном ночлеге, и каких и как и о ком не вознесешь молитв к почившему здесь некогда Чаянию языков[83]!
В 6 часов по восточному счету, т. е. в 7 часов от захождения солнца и, следовательно, около полуночи, колокол церковный благовествовал Вифлеему час утреннего славословия. Храм был освещен множеством разноцветных лампадок, развешенных гирляндами от стены до стены и производивших чудное впечатление на глаз и на сердце. Подобно вчерашней, происходила встреча Патриарха. Благословив народ, Его Блаженство стал на свою кафедру, а равно и его наместник занял свое место. Служба началась полунощницей[84]. После 50-го псалма долго происходило распевание стихир на литии и на стиховне, оставленных вчера на вечернем благословении хлебов. За ними следовали трисвятое, тропарь праздника и отпуст по уставу полунощницы. Видя, что вслед за тем начинается утреня, я спросил одного, говорившего по-русски, грека: Когда же будет повечерие[85]? На это он отвечал не без иронии, как казалось: Когда повечерие, то значит после вечерни. Я дерзнул заметить: Зачем же литию пели на полунощнице, тогда как благословение хлебов было на вечерне? Мне отвечали, что благословение хлебов само по себе, а лития сама по себе.
Утреня[86] началась чтением «царских» псалмов с ектенией, по уставу ежедневной службы[87]. Шестопсалмие читал сам Патриарх. Чтение кафизм было непрерывное, разделяемое на Славы, в число которых включены были и псалмы полиелея. Затем следовало протяжное пение седалъных, длившееся опять не малое время. Во время сего пения, снова все священники выходили попарно из алтаря северной дверью принимать благословение у Патриарха на участие в церемонии полиелея, составляющей самую торжественную часть всего праздничного богослужения. За священниками, точно таким же порядком, взяли благословение у Его Блаженства и оба архиерея, делая ему низкий (но не в землю) поклон и целуя его руку. По окончании этого поклонения и сам Патриарх сошел с своей кафедры и, вошед Царскими вратами в алтарь, облачился в полную архиерейскую одежду. Три архиерея, до 20 священников и 7 или 8 иеродиаконов, все с зажженными свечами, окружили Св<ятой> Престол в ожидании окончания седалъных. Когда пение в церкви умолкло, первый сам Патриарх начал петь умиленным голосом, и ему немедленно стали вторить в алтаре и церкви седален по полиелеи: Приидите, видим, вернии, где родися Христос… Я позавидовал в эту все-торжественную минуту всякому греку, которого пение на родном языке слов, имеющих такой разительный смысл, должно было приводить в совершенный восторг. Поя, выходили все свещеносцы из Царских врат попарно и медленно направлялись к южному спуску в Богоприемный Вертеп. У самого входа в священную пещеру пропели: слава и ныне, и идя по ступеням пещеры, еще раз возглашали: Приидите, видим и пр.
О, как хотелось, чтобы это вторичное пение седалъна, так отлично приспособленного ко дню и месту, было на славянском языке! Неизъяснимо трогательно было, в самом деле, внимать словам священной песни и подходить к месту, идеже родися Христос. Вертеп одет был по стенам (временно) шелковой желтой с синими крестами материей русского изделия и, вероятно, жертвования, а самое место Рождества завешено было белым флером, сквозь который таинственно разливался свет многих лампад, и слегка очертывалась, не менее оной дверцы знаменитая, звезда с латинской надписью[88]. Патриарх с архиереями стали у самой ниши Рождества, лицом к народу. Перед ними полукругом расстановились диаконы. Большая часть священников, по тесноте места, вышла северным сходом Вертепа наверх в церковь. Певцы пели степенны 4-го гласа. Затем Патриарх прочел положенное по уставу Евангелие, обратившись по-прежнему лицом на запад. Не нужно говорить, как это евангельское повествование, что мое на самом месте события, в самый день и, может быть, час его, должно было действовать на сердце христианина-слышателя, и, прибавим опять, – разуметеля слов Евангелиста. Что делать? На земле нет одного общего языка, и неизбежно в подобных случаях одному кому-нибудь только внимать, а другому – внимать и понимать.
По прочтении Евангелия, певцы пели: Всяческая днесь…, а Патриарх приложился к месту рождения Христова, обозначенному звездой, пригласив сделать то же и нашего консула. Никто другой не удостоился сей чести. Затем архидиакон возгласил ектению: Спаси, Боже, люди Твоя, к которой потом присоединены были и другие прошения из последования литии. Особенно вознесены были одним из иеродиаконов (вчерашним проповедником) ко Господу Богу моления на славянском языке – о Государе Императоре[89], Государыне Императрице[90] и Государе Наследнике[91]. По особенному приказанию Его Блаженства, к ним присовокуплены были еще два отдельные прошения о великом князе Константине Николаевиче[92] и о великом князе Михаиле Николаевиче[93]. Затем такие же прошения, но уже на греческом языке, возглашены были о рабах Божиих поклонниках: Андрее (нашем консуле)[94], Николае (нашем посланнике в Константинополе)[95] и иеромонахе Антонине (нашем архимандрите здешнем[96]). Потом еще несколько избранных имен помянуты были отдельными прошениями.
Наконец последовало общее прошение о милости, жизни и пр. рабов Божиих. При сем все диаконы в одно и то же время начали читать – каждый свой, мелко исписанный, лист имен. За ними и все присутствовавшие также произносили тихомолком имена своих близких. Гул сего поминовения также имел в себе нечто весьма торжественное. Довольный тем, что был одним из поминающих, я однако же жалел о том, что не мог слышать сего молитвенного гудения, износящегося из-под земли, в самом храме. Пусть будет это минута, в которую Бог Слово в первый раз приклонил так близко ухо свое к мольбам человеческим, Сам быв плоть, Сам слух и язык, по всему уподобився братии, искушен быв, да может и искушаемым помощи! Полиелей заключился обыкновенным возгласом: милостью и щедротами… и все стали выходить северной лестницей в храм с пением: Христос рождается, славите[97]
Поднявшись наверх, начали троекратное обхождение всего храма через боковые двери поперечной стены и через галереи колоннады. Впереди шли с большим крестом и рипидами[98] (прекрасное русское пожертвование) дети, одетые в стихарики с перекрещенным орарем[99]. За ними – кучка певцов-арабов, потом длинный ряд священников, шедших попарно. Потом певцы-греки. За ними – диаконы, за диаконами архиереи и, наконец, сам Патриарх. Пока совершали троекратное обхождение, пение канона достигло кондака 6-й песни. Оба хора пели в один и тот же тон, одними и теми же нотами, и настолько имели расстояния между собою, что разноголосицы не было. А она неизбежно была бы, если бы, кроме греков и арабов, еще запели мы своим отдельным хором, – чего весьма многим из наших от всей души желалось. Прошедши в третий раз северную галерею колоннады, процессия не направилась к южной, чтобы ею возвратиться в церковь, а пошла срединою храма. Достигнув средоточного места ее, означенного в помосте особенным мраморным украшением, Патриарх остановился, и еще раз возглашена была по-славянски сугубая ектения о Царствующем Доме России, всех благодетелях и посетителях вифлеемской святыни и всех, участвующих в нарочитом сем празднестве. Затем, продолжая идти к средней двери поперечной стены, пели великий прокимен: Кто Бог велий, яко Бог наш. По уставу, его должно было петь сегодня вечером, если бы праздник не случился в субботу. Теперь же место ему было на вчерашней вечерне. Не знаю, вследствие чего он пет был на утрени и притом во время канона. Возвратившись в церковь, духовенство вошло в алтарь и разоблачилось там.
Было около 3-х часов утра. Патриарх опять стал на свою кафедру, а наместник против него. Девятую песнь и светилен пели эти высшие духовные сановники сами, чередуясь. Арабского пения уже не было более слышно. Зато из-за деревянной стенки, с левой стороны алтаря, начали раздаваться нестройные звуки коптского пения, перед которым и греческое казалось уже как бы симфонией.
С началом пения стихир хвалитных Патриарх вышел на некоторое время из церкви, между тем колокол еще раз стал сзывать верующих к литургии, и еще раз была сделана встреча Патриарху, прервавшая на несколько минут пение стихир. И опять стали выходить попарно из алтаря священники, для принятия благословения от Патриарха, обычным порядком. Когда они кончили свое дело, Патриарх сам сошел с кафедры на средину солеи и стал читать входные молитвы. Приложившись, по обыкновению, к местным иконам и благословив народ, он отошел в глубь церкви, где поставлено было для него кресло. Певцы запели великое славословие, а диаконы возгласили: священницы изыдите! Священники, уже успевшие облачиться, стали выходить из алтаря Царскими дверьми попарно, старшие вперед, каждый неся с собою на блюде или просто в руках какую-нибудь из принадлежностей патриаршего облачения. Нашему архимандриту досталось нести и держать патриаршие панагии с наперсным крестом. Чуть установились на свои места священнослужители, из Царских дверей вышли оба архиерея и взяли и себе у Его Блаженства благословение сказанным уже порядком. Патриарх не только давал им для лобзания свою руку, но и прямо благословлял их. Владыки ушли в алтарь облачаться, а среди церкви началось патриаршее облачение. Два диакона, стоя впереди, возглашали – один приличный стих псалма, а другой общее ко всем им заключение: всегда, ныне и присно… При сем я заметил, что слова Писания приводятся ими неизменно, например: да возрадуется душа моя, облече бо мя[100] и пр., зато вместо: священницы Твои облекутся, возглашено было: архиереи Твои[101]… Последний стих, при возложении митры, повторен был диаконами трижды. Между тем пение великого славословия было кончено. Пропет был и тропарь праздника. Тем утреня и завершилась.
Архидиакон, обратившись к алтарю, возгласил: архиереи изыдите. Оба архиерея, «в камилавках под крепом», каждый держа под мышкой свой служебник, вышли из Царских дверей, и, поклонившись слегка Патриарху, стали по сторонам его, в ряду священников, имея каждый позади себя кресло, как и Патриарх. Архидиакон, став перед Патриарха, произнес напряженным голосом: рече Господь: тако да просветится свет ваш и пр. Затем архиереи стали молиться. Наш архимандрит, еще раз взяв благословение у Патриарха (без земных поклонов), вошел Царскими вратами в алтарь.
Началась божественная литургия, около 4 1/2 часов утра. Первая екте-ния говорена была, естественно, по-гречески, вторая – по-славянски, третья – по-арабски. Во время антифонов архиереи садились, хотя и на самое малое время. На малом входе не было пето ни приидите поклонимся… ни Рождество Твое, Христе Боже наш…, а вместо того пропет был входной стих: Из чрева прежде денницы родих Тя и пр., к которому присоединен был обыкновенный припев: спаси ны, Сыне Божий, рождейся от Девы и пр. Так, мне сказали, надобно петь и на все Господские праздники, заменяя: Приидите поклонимся входным стихом. По окончании тропаря и кондака было обычное многолетствование Патриарха, возглашенное сперва в алтаре архиереями на арабском и на греческом языке, а потом в церкви архидиаконом и певцами, причем Его Блаженство величаем был «Блаженнейшим, Божественнейшим и Всесвятейшим». Помянуты были при сем поименно и прочие Восточные Патриархи архидиаконом.
Апостол читан был по-гречески, по-славянски и по-арабски. Чтение Евангелия имело пасхальную торжественность. Как в день светлого Воскресения Христова на литургии (по здешнему обычаю – на вечерне), оно читано было по отделам, оканчивавшимся словами: поклонимся ему… Вифлееме иудейстем… поклонюся ему… во страну свою… Первый читал у престола, обратившись лицом к народу Патриарх по-гречески. За ним, стоя в Царских вратах, наш архимандрит по-славянски. За ним, у патриаршего места, один из священников по-арабски. Потом, у наместничьей кафедры, один иеродиакон, поклонник из Бессарабии, по-валахски[102]. Наконец, с возвышенного амвона в глубине церкви, иеродиакон опять по-гречески. К начатию каждого нового чтения ударяем был по три раза большой звонец, держимый диаконами поблизости Патриарха и извещавший – кого касалось дело – о наступлении его очереди. По окончании всех чтений минуты две продолжалось звенение, производившееся под некоторого рода такт, пока все благовестники возвратились в алтарь, неся при персях своих торжественно проповеданный ими языкам велерадостный глагол спасения.
На великом входе, по обычаю, Патриарх, прежде чем принять от архидиакона священный дискос, прочел разрешительную молитву над живыми, причем помянул много разных имен отсутствующих и присутствующих лиц. Взяв же священный дискос, поминал августейшие имена Царствующего Дома нашего. Таким же образом, прежде принятия св<ятой> чаши, прочел разрешительную молитву усопшим, помянул притом ближайших предместников своих и многих других архиереев и мирян. Взяв же чашу, возгласил имена во блаженней памяти преставившихся Императора Николая I[103], Императрицы Александры <Федоровны>[104] и великого князя Николая <Александровича>[105]. Литургия окончилась на рассвете. Патриарх с полчаса оставался еще в церкви, раздавая народу антидор.
Тот же неприветливый и неумолимый дождь встретил нас по выходе из церкви. Он вдруг положил конец нашему празднику. При хорошей погоде целый день остаются в Вифлееме гости Иерусалима. Сам Патриарх (в отсутствие его, его наместник) обыкновенно ездит после обеда в долину Пастырей, совершая там в пещерной церкви приличное молитвословие[106]. На сей раз он имел намерение ночевать в Вифлееме и на следующий день служить в соседнем селении Бетжала[107]. Непогода заставила его, вскоре после обеда, возвратиться в Иерусалим, не посетивши и долины Пастырей. Его примеру последовали и мы.
Еще не доезжая Иерусалима, услышали мы веселый и неперестающий звон в своих «заведениях»[108]. Тогда только вспомнили мы, что великое и любезное отечество наше празднует, в день явления на земле Примирителя языков, победоносное изгнание из пределов его двадесяти враждебных ему языков[109].
Посетитель Вифлеема
Иерусалим. 30 декабря 1865 г.
Печатается по публикации: Церковная летопись «Духовной беседы» 1866. № 9. С. 126–136; № 10. С. 141–146.
Латинское богослужение последней недели Великого поста в Иерусалиме
К счастью тех поклонников, которые, кроме целей чисто духовных, ищут в Иерусалиме и удовлетворения своей любознательности, на сей год Пасха Христова праздновалась отдельно двумя половинами христианства: восточной (православные, армяне, копты, сириане) и западной (латины, протестанты), так что русскому поклоннику можно было высмотреть богослужение Великой седмицы различных вероисповеданий с полной подробностью и полным спокойствием духа. Само собою разумеется, что после своего богослужения (т. е. греческого, представляющего множество особенностей от нашего русского) меня всего более занимало латинское, которое в первый раз доводилось мне увидеть и – что всего дороже – на самых местах евангельских событий.
Мне сказали, что самые любопытные в этом отношении дни Страстной седмицы суть: Вербное воскресение, Великий Четверток и Великий Пяток. Я поставил себе долгом не пропустить их.
В латинскую Неделю пальм (нашу шестую Великого поста)[110] мы ночевали в храме. Вероятно, во избежание совпадения двух богослужений, греки в тот день служили свою праздничную литургию не в церкви Воскресения, где она совершается обыкновенно утром на восходе солнца, а в самом Гробе Господнем, и след<овательно>, в полночь, по неизменному правилу. Служил сам Патриарх с тремя священниками, из коих один был русский. По обычаю, нередко слышалось при сем родное слово. Диакон не раз говорил ектению ломаным славянским языком. В подобных случаях обыкновенно те же греческие певцы поют: Господи помилуй по возможности близким к русскому напевом. Но на этот раз из нас как-то неожиданно составился многолюдный хор и мы огласили своды святилища полным русским (конечно, не отличным) пением. Даже Символ веры пропет был нами при этом, вопреки местному обычаю. Едва успели перебить нас греческие певцы на: Тебе поем.
Служба кончилась к 3-м часам утра. Не зная определенно, когда начнется латинское богослужение, я остался дожидаться его в храме. С восходом солнца стали набираться в храм празднующие латинцы и между ними немалое число духовных лиц. Место между греческим собором и часовней Гроба Господня, приуроченное для «хора» при всяком совершении латинской литургии на Гробе, оставлено было и теперь свободным[111]. Сбоку его, на южной стороне, помещена была временная епископская кафедра под балдахином. Пришел отряд турецких солдат и окружил все место священнодействия. С большим шумом прибыл латинский епископ (титулуемый в Риме Патриархом Иерусалимским) Иосиф Валерга, человек высокого роста, с смелым открытым лицом и большой седой бородой[112]. Все духовенство, прибывая в храм, немедленно удалялось в латинскую капеллу, пристроенную к северной стороне гробовой Ротонды49. Около 7 часов открылась процессия из этой капеллы в Ротонду. По два в ряд шло человек 40 духовных – младшие вперед, – из коих почти на ½ были священники-пилигримы, отличавшиеся черными, выпускными воротничками на груди. Позади всех шел, с огромным жезлом и в митре из золотого глазета, архиерей. Он стал на своей кафедре, лицом на север, а все духовенство в два ряда от перегородки греческого собора до самого входа в часовню. Начались пение и чтение. Я не мог хорошо рассмотреть из-за народа, что именно совершалось и где. Кажется, внутри Святого Гроба один из священников правил литургию. Орган молчал. По окончании службы архиерей вошел внутрь часовни и вышел оттуда с большой пальмовой ветвью, украшенной цветами. За ним туда же отправлялись один за другим – старшие вперед – и все духовные лица. Вскоре все пространство, отгороженное солдатами, покрылось вайями от финик. Мне сказали, что больше смотреть нечего, и я поспешил домой, давно уже одолеваемый сном.
В четверток (17-го марта) я опоздал к латинской обедне, бывшей, как и в минувшее воскресение, утром, и долго ждал в запертом храме начала вечерни. Около полудня стали приготовлять место для имевшего быть обряда умовения ног. Им служила та же площадка между греческим собором и часовней Гроба. Во всю длину ее расставлены были, в несколько рядов, скамьи, а в глубине их, у самой перегородки греческой церкви, стояло, на малой возвышенности, архиерейское кресло. Сзади скамеек, на северной стороне, виделась флейт-армоника, долженствовавшая заменить собою сегодня орган. Вскоре вынесен был старинной фигуры серебряный таз, наполненный водой. Его поставили прямо на пол перед первой (от востока) скамейкой южной стороны. Было уже около 2-х часов пополудни. Обряд не начинался, как говорили, потому, что ждали французского консула[113]. Шум у врат храма возвестил нам прибытие[114] представителя «старшего сына церкви»[115], которого церковные права почтенный чиновник отстаивает с такой скрупулезной ревностью, что для посторонних это кажется весьма забавным, а для епископа, как слышно, очень тягостным.
Большая толпа народа ввалила в храм и хлынула к месту, назначенному для священнодействия. Ворота опять затворились и мы волей-неволей сделались заключенниками до самой ночи. Вскоре открылась процессия из латинской капеллы. Впереди всего двигались два подсвечника с зажженными свечами. За ними, на двух блюдах, несены были полотенца и небольшие кресты из масличного дерева с перламутровой инкрустацией. Потом, попарно, шло духовенство в белых полотняных стихирах (род рубашки, окаймленной кружевом). Последний шел епископ в ризе и митре. Обряд начался каждением и чтением Евангелия, содержащего в себе повествование об умовении ног Иисусом Христом апостолам. Немедленно после сего сидевшие с южной стороны на первой скамейке 12 человек – все духовные по-видимому, но без облачений – стали разуваться. Епископ снял с себя ризу и остался в длинном белом подризнике. К первому, сидящему на скамье, придвинули таз и возле него положили на пол подушку. Епископ стал обоими коленами на подушку и начал мыть спущенную в воду ногу… По обеим сторонам его, также коленопреклоненные, стояли два священника, частью поддерживая епископа, частью подавая ему полотенца и передвигая таз и подушку. Омытую ногу тщательно вытирал архиерей и отерши целовал с заметным волнением духа. Затем он давал измытому в руки крест, который тот принимал еще с большим смущением, целуя в свою очередь подающую руку. Так переходил, или точнее передвигался епископ от одного из сидевших к другому, омыв правую ногу 12-ти человек, по числу апостолов. Последние трое были в монашеской одежде. Не у кого было мне спросить, все ли 12 были пришельцы и все ли священники? Кончив священный обряд, епископ сам умыл себе руки над другим блюдом и возвратился на свою кафедру. Надев ризу, он прочел краткую молитву, начинавшуюся словами: Pater noster <Отче наш>… Произнесши эти слова, он, от глубокого, как казалось, умиления, долго не мог читать далее. Вслед за молитвою все молча ушли в капеллу.
Через четверть часа началось приготовление к утреннему богослужению Великого пятка, известному вообще под именем Плача Иеремиина[116]. Мне говорили, что сам епископ в этот вечер поет и играет на фортепиано перед Гробом Господним. Действительно, на прямой линии от архиерейской кафедры к двери Гроба была поставлена флейт-армоника большого размера в 7 октав. За нею, ближе к Гробу, по той же линии стоял аналой с большой книгой, на развернутом листе которой можно было издали читать: in Parasceve ad Matutinum[117]. Далее, по той же линии стоял еще один аналой с богослужебной книгой без нот. По обеим сторонам преддверия часовни поставлены были по 2 подсвечника с зажженными свечами, и кроме того, с северной стороны, у самой часовни, возвышался пятнадцатисвечник, имевший фигуру нашего могильного креста, с 15 зажженными свечами, из коих одну за другой надлежало тушить в продолжение службы. Весь промежуток времени между двумя службами длился около получаса. По-прежнему показалась процессия из латинского придела. Впереди всех шли дети, в числе 11-ти, одетые в красные кафтаны с такого же цвета бархатными воротниками, откинутыми на белую рубашку, носимую, по римско-католическому обычаю, клириками сверх домашней одежды, и заменяющую наш малый фелонь причетнический, уже вышедший из употребления. У всех в руках были латинские книжки. За ними в черных сутанах и тоже белых рубашках шли попарно человек 20 питомцев Бетжальской семинарии, с остриженными волосами и выбритым на маковке кружком, величиной в полтинник. Они также все наделены были книжками. Потом следовало духовенство, замыкаемое епископом, одетым в красную мантию, подбитую горностаем, и с таким же кукулем на голове.
Владыка сел на свое кресло к самой перегородке греческого собора лицом к Святому Гробу. По правую руку его уселись на скамьях его капитул[118] со всем приезжим духовенством. Ближайшие к часовне скамьи этой стороны были заняты семинаристами, из коих некоторые, за неимением места, вошли в самый придел Ангела. По левую руку сидело братство францисканского монастыря55, коему продолжением служили дети, расположившиеся vis-à-vis с семинаристами. Составились также два хора: правый и левый. Немедленно началось антифонное пение Плача важным и трогательным напевом, прерывавшееся по временам дуэтом басов, подходивших с обеих сторон к нотной книге и певших по ней тяжелым (вроде нашего столбового) напевом короткие стихи.
Около часа длилась такого рода служба. Затем из капеллы пришел, с кипой нотных тетрадей, сгорбленный малого роста монах-францисканец, пожилых лет, знаменитый здешний органист. Поклонившись, боком и как бы мимоходом, архиерею, он присел к армонике: по сторонам его стали Basso и Soprano, а сзади регент – тоже монах – с камертоном в руке. Начался дуэт, аккомпанируемый инструментом. Около 1/2 часа длилось это несколько странное пение, напоминавшее не раз мотивы русских песен. Потом подошли к певшим еще один Basso, один Alto и двое Tenori. Открылось полное хоровое пение. Голоса все легкие и чистые. Альт весьма сильный, но, по латинской манере пения, несколько крикливый. Это, видимо, любимец хора. Басы сравнительно казались слабыми. Новое это пение длилось с полчаса и служило приятным развлечением молящимся, если только можно было предполагать таковых. Кажется, весь этот антифонный «плач», с его изящной, искусственной обстановкой, служил скорее к утишению, нежели к возбуждению молитвенного чувства.
Окончив свою пьесу, певчие удалились и снова стал слышаться величественный напев плача или псалма, не знаю, чего именно. К сожалению, я не имел при себе Breviarium[119] и не мог следить, с полной отчетливостью, за ходом богослужения. Отселе, впрочем, изменился порядок его. На безмолвный, вызывный поклон архидиакона стали поочередно подходить ко второму аналою почетнейшие из духовных лиц, преимущественно приезжих, и читали что-то нараспев. Между чтениями прежним порядком продолжалось антифонное пение обеих сторон, а также и дуэт басов у нотной книги возобновлялся не раз. Иногда на поклон архидиакона лицо вызываемое произносило только несколько слов с своего места, вероятно, начальных какого-нибудь чтения. Когда пришла очередь говорить подобным образом епископу, все присутствующие встали с своих мест. Было ли это сделано из уважения к архиерею, или того требовал устав службы, неизвестно.
Свечи на треугольном подсвечнике тушились одна за другою. Закатавшееся в облаках солнце то посылало яркую струю света сквозь разодранный свод купола[120], то оставляло внутренность Ротонды почти в полном мраке. Становилось уже утомительным однообразие латинской службы. Часам к 6-ти вечера поставлены были две свечи на музыкальный инструмент. Мне сказали, что будут петь полный концерт. Вскоре действительно вышел опять тот же самый органист и с ним – прежние теноры и басы и трое или четверо мальчиков. Все окружили инструмент и ждали мановения регента, который, в свою очередь, ожидал прибытия славного своим прошлым басовым голосом хориста – монаха, потерявшего не так давно зрение. Слепца подвели. Это был пожилой человек, высокого роста, худощавый, как и все братство здешнее св. Франциска. Вскоре стало ясно, что для предшествовавшего пения недоставало именно надлежащего басового голоса… Пришлось вспомнить мне наши двухорные концерты, петые в старые времена. Инструмент почти совершенно заглушался. Из поемого нельзя было различить ни одного слова. Достигла ли служба ad laudes[121], или уже стояла на: Benedictus[122], нельзя было узнать.
За неразумением поемого, поневоле внимание отбегало от пения к поющим. Слезящиеся мутные глаза печального слепца и бойкая, одушевленная физиономия альта, переклинивавшихся друг с другом, своим контрастом занимали и терзали душу. Конечно, и первый был некогда таким же «ангелочком», как отзывалась о последнем одна русская дама, и Господь знает, чем будет некогда последний!.. Концерт длился около 20 минут и, несмотря на свои музыкальные красоты, заставлял пожелать услышать еще раз простое антифонное пение Плача. Но оно уже не возобновилось. Вместо того, архиерей встал с своего седалища и перешел на другой конец площадки к самой часовне <Гроба Господня>, сопровождаемый всем старейшим духовенством. Там он стал на колена, поник лицом в подушку складного стула и молился мысленно, сложив по обычаю латинскому пальцы рук. После двух-трех минут глубокого молчания, он произнес краткую молитву перед затворенной на тот раз нарочно дверью часовни, продолжая стоять на коленах. Вдруг, совершенно неожиданно, раздался по всей площадке стук ручной или ножной, fragor et strepitus[123], о котором столько говорят и толкуют наши туристы, бывавшие в Риме на богослужении нынешнего дня. В ту же минуту растворилась дверь Гроба Господня и в приделе Ангела показалась тушимая кем-то последняя свеча, снятая предварительно с 15-свечника.
В безмолвии уходило духовенство в свою капеллу, а мы выходили из храма, выступая из мрака в сумрак и из погребной сырости на теплый весенний воздух.
Самое блестящее богослужение Римской Церкви есть вечерняя или всенощная служба Великого пятка. Из описаний путешественников мы знаем, что в некоторых странах Европы и Южной Америки она совершается с немыслимой для нас торжественностью и невыносимой для благочестивого чувства пластичностью и театральностью. На месте самого страдания Господня богослужение этого дня отправляется у латинов довольно скромно. Оно все состоит из одной продолжительной литании или процессии внутри храма Воскресения Христова, делающей круг по течению солнца от латинского придела[124], за алтарем греческого собора, через Голгофу, мимо Камня Помазания, внутрь Святого Гроба и оттуда обратно в сказанный придел.
Мы осведомились, что служба начнется около 8 часов вечера. Ранее этого времени мы были уже во храме, который не затворялся сегодня на все продолжение службы. Солдаты, поставив в козлы ружья, расхаживали по площади перед храмом, ожидая приказания занять урочные места в церкви и быть невольными участниками чужой молитвы.
В самом храме народа оказалось менее, чем можно было ожидать. И то большая часть его, по обычаю, были наши поклонники, в особенности же поклонницы, радующиеся всякому случаю побыть у Гроба Господня, а на сей раз пришедшие, конечно, без всякой мысли о латинской Великой пятнице. Десятка два или три их столпились за алтарем собора, в приделе Колонны[125], слушая, вероятно, правило, читаемое одною из их же среды. Обходя галерею, мы остановились в виду их и мой переводчик – из греков – сказал, что землячки мои превосходят всякую меру хвалы и что не только греки, но все вообще, живущие и бывающие в Иерусалиме, не надивятся их глубочайшему благочестию и величайшему терпению. Сидеть и лежать на каменном полу, вокруг Гроба Господня, в течение дня и ночи, для них (говорил собеседник) не только не тяжко, но просто до восторга желанно и радостно. В соседнем приделе Разделения риз[126] стояло несколько дам с зажженными свечами, – видимо, поклонниц запада. Они не напоминали собою ни в каком случае столпленного стада, но и ни малейшего повода не подавали к заключению, чтобы, хотя одна из них, хотя одну минуту, решилась посидеть на голом каменном полу.
К 9 часам вся галерея была очищена от народа. Оба придела равно опустели. Из латинской капеллы стали выноситься звуки жалобного пения. Показались 14 мальчиков, одетых так же как вчера, шедших в два ряда со свечами и тетрадками. За ними вышли бет-жальские питомцы, тоже со свечами и тетрадками, потом – монахи и священники – все без исключения в белых камизах[127] с свечами и книжками. Затем два клирика, вероятно – диаконы, в черных с золотым шитьем стихирах, несли по серебряному пузырьку. Вослед им шли другие два, так же одетые, несшие большей величины серебряные же сосуды, имевшие фигуру ананаса с крестом на одном и двуглавым орлом на другом из них. Сосуды эти, конечно, вмещали в себе ароматы для мнимого умащения мнимого Мертвого или только предназначались к тому. За ними несли два подсвечника, и среди их высокий крест с резным из дерева Распятым, склонившим голову, осененную непомерно большим терновым венцом. Следом за Распятием шли два священника в полном богатом облачении из черного бархата с золотым шитьем, и наконец – сам епископ, тоже в полном облачении, такого же цвета и свойства, в митре и с жезлом. За епископом несли его складное кресло. Непосредственно за креслом шел, знаменитый уже по делу о куполе Гроба Господня, г. де Баррер, французский консул[128], за которым также несли его «императорское» кресло. Наконец, двигалась толпа народа со свечами.
Процессия направилась к востоку и медленно огибала греческий алтарь, наполняя галерею трогательными звуками поистине похоронного пения. Она, не останавливаясь, минула придел Лонгина Сотника[129] и достигла подобного же придела Разделения риз, находящегося в самой крайней восточной точке храма. Здесь все остановились. Держащие крест, сосуды и подсвечники стали рядом, лицом к приделу и спиной к греческому алтарю. Епископ сел с левой стороны их в свое походное кресло. За ним то же сделал ревнивый к своему достоинству консул. Прочее духовенство стояло, где кого застигла минута, бетжальцы и дети уселись на ступеньках приделов. Пение прекратилось. На высоком помосте придела Разделения риз, между двумя колоннами, показался священник, одетый, как и все другие, но с епитрахилем на шее. Громким, но сиплым голосом он сделал обращение к епископу и всему собранию частью по-итальянски, частью по-гречески. Переводчик мой встрепенулся, услышав слова родного языка, и сказал: «А! опять ты, приятель. Ну, потолчи еще раз ту же воду».
Проповедник избрал темой для своего поучения слова: распеншии Его разделиша ризы Его, вергше жребия (Мф. 27, 35), и стал доказывать, что разделение одежды Господней было последним и самым тяжким мучением для Господа; ибо оно было предвестием разделения не только одеяния, но и самого таинственного тела Его, т. е. Церкви. Став раз на эту точку зрения, проповедник все, что мог, привел в доказательство того, что еретики и схизматики раздробили на части единую Католическую Церковь и до сих пор продолжают мучить Распятого. Оратор не в первый раз уже проповедует в этот день на святых местах. Он родом с острова Тино, потомок греков, олатинившихся еще во время франкских владений в Архипелаге. Подобно всем своим единоплеменникам, он отличался при сем такою живостью, свободою и как бы фамильярностью со всеми, что в глазах нас, русских, поистине заслуживал удивления не меньшего, чем дивление грека труду и подвигу наших поклонниц.
Слово его лилось, можно сказать, не задерживаясь ни на одну секунду. Он делал беспрерывные движения руками и головой, многократно снимал скуфейку, перебегал от колонны к колонне и многократно, казалось, грозил кулаком воображаемому перед собой схизматику (надобно знать, что по всему пространству галереи стояли только в два ряда одни духовные, участвовавшие в процессии, а перед глазами оратора была алтарная стена собора). В обличение схизмы или «так называемого православия» он приводил свидетельства святых отцов: Афанасия Великого, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, Кирилла Александрийского, Иринея, Киприана, Иеронима, Августина, присовокупив, что все вообще отцы Церкви считали Римский престол средоточием Христовой Церкви, – упрекал схизму тем, что в ней есть «народные» церкви, тогда как в истинной католической церкви все народы составляют одно нераздельное целое и не именуются. (Переводчик: «A "sanctam Ecclesiam Romanam"? A "Ecclesia Gallicana?" – не именуются[130]!! Потерянный (χαμένε)[131]!) «И это православие?» – восклицал проповедник не раз, на что переводчик мой отвечал язвительно: «Не нравится преисподнему волку[132] наше православие!» После долгой и страстной филиппики проповедник неожиданно остановился и, как бы сам про себя, сказал: «Но кому я говорю? Я знаю, что разделившие Церковь останутся глухи к словам моим. У них только Фотий да Кируларий, больше сего они знать ничего не хотят. В этом все их православие! Армянин верит своим Евтихию и Диоскору, о кафоличестве же Церкви и не думает. Русский знает только своего Императора да Синод, а до первоверховного (апостола Петра) ему нет никакого дела. Лютеранин держится за своего Лютера да Кальвина»…
Перебрав всех раздирателей тела Христова, строгий обличитель указал на то, что осталось от него цело и неприкосновенно, т. е. на Церковь, которая одна, согласно с Никейским Символом веры, не называется ни восточною, ни русскою, ни всякою другою частною, а именно католическою церковью (Переводчик: «О лукавец! Прибавь: ни западною, ни римскою»..). В заключение вопиющий в пустыне стал грозить всем врагам «Святого Стула»[133] тем, что Христос оставит их и уйдет от них… С полчаса длилось живое и одушевленное, но видимо заученное, слово бойкого сына Еллады, занимающегося праотеческим ремеслом продажи душ человеческих (Иез. 27, 13) на берегах Сирии. Говорил он языком простонародным, вовсе не слышимым теперь на церковной кафедре, и во многих местах мог бы вызвать самый веселый смех в слушателях, если бы таковые были. Такого мнения, по крайней мере, был мой классически-ученый переводчик. Удар в ладоши дал знать голове процессии, что проповедь кончилась и что надобно петь. Возобновившийся умилительный мотив погребальный заставил скоро забыть и даже простить неистовство грека, поносившего Церковь отцов своих их родным языком.
Через 10–12 шагов процессия снова остановилась перед приделом Колонны. На помосте его, под среднею аркою, стоял уже францисканец средних лет, смиренной наружности, в одном одеянии своего ордена. Ровно, спокойно и как бы бездушно начал он свое слово обращением к Распятию. Я долго не мог понять, что за наречие то, на котором он говорил. Между множеством неразумеемых слов неожиданно попадались звуки родного языка. Оказалось, что смиренный проповедник гласил смиренным наречием болгарским. Не зная по-болгарски, я не могу сказать, в какой степени здесь, у нерушимого и неизменного памятника страданий Божественного Учителя истины, к чистому христианскому назиданию примешивались в учительном слове нечистые струи пропагандической системы заблуждения и обольщения. Не мог также я решить и того, к какой народности принадлежал сам проповедник. Преобладающая интонация предпоследнего слога как бы давала разуметь, что болгарство тут было подставное и что францисканец-оратор мог принадлежать к другой ветви славянства, посылающей свои отребья зарабатывать кусок хлеба в «свободной и гостеприимной» империи, под знаменем либо серебряной луны, либо золотых ключей[134]. «Неверные» полки казаков и иезуитов не внушают опасения раздирающемуся по швам царству, почивающему на вере в предопределение[135]! Во всяком случае, приятно было видеть, что славянин-папист был несравненно умереннее паписта-грека, распинавшегося за чуждое ему латинство. Не знаю только, кто из них глубже верил тому, что говорил… Но тут неизбежен вопрос особенного рода: для кого говорилась та и другая проповедь? Еще можно было предполагать, что в пролетах греческого алтаря скрываются, может быть, два-три слушателя грека, которых приятно было поразить невозбранным словом мщения. Но для кого предназначалась болгарская проповедь? Для слушателей in partibus?[136]…
И опять потянулась процессия. Печальный аккорд то детских, то возрастных голосов оглашал попеременно пустые пространства, отдаваясь под сводами и вылетая по временам сквозь то или другое отверстие стены в разные части неисходимого здания. Вдруг голоса послышались где-то на высоте и как бы в отдалении и как бы не прямо идущие к слуху, а отраженные. Это значило, что процессия достигла уже Голгофы. Над священным холмом устроено четырехчастное здание с крестовидными сводами, опирающимися на один центральный столб, разделяемое по длине на две половины, южную и северную, – латинскую и греческую. В последней находится самое место водружения Креста, а к первой приурочивается местность распинания Богочеловека. Процессия заняла сперва латинскую половину. Мне не видно было, кто, где и как расположился там. Думать надобно, что крестоносец с ассистентами стали у престола, лицом на запад, а прямо против них сел на своем переносном седалище архиерей, за ним непременно то же сделал консул и пр. Пение прекратилось. Началась третья проповедь на немецком языке, громкая и одушевленная, но несколько монотонная. Чаще всего слышались слова: Liebe и Leiden[137]. Проповедника мне не было видно. Проповедь длилась несколько более 1/4 часа.
Затем процессия переместилась в греческий отдел Голгофы. Распятие было унесено за престол. Туда же стали и сопутствующие ему клирики.
Епископ сел по обычаю на кресло и пр. На приступке у греческого жертвенника показалась фигура седовласого священника с выпускными черными воротничками. Старческий, но громкий и смелый голос нового проповедника заставил вмиг умолкнуть переговаривавшуюся толпу. С живостью, которой нельзя было ожидать от старца, произнесено было по-французски обращение к епископу, ко всему братству и к публике. Он поистине тронул всех, разумевших его слово, когда, протянув на воздух руки, спросил, точно ли это Голгофа и точно ли он стоит на месте такого безмерного значения. Но здесь и окончился весь эффект вдохновенной, казалось, речи. Проповедник немедленно стал рассказывать, что он миссионер, был далеко, видел много, скорбел над распространяющимся между христианами неверием, с отрадой останавливался взором и сердцем на своем отечестве и затем вдался в такие заявления своего национального чувства, что всякому, не французу, это должно было показаться, по меньшей мере, странным. От Марселя до берегов Палестины ему везде виделась его дорогая Франция. На Святой Земле он также повсюду встречает дух, дела великой нации, так что он не обинуясь может назвать императора французов императором Иерусалима. Но, восхваляя одну власть, ловкий миссионер в то же время не забыл превознесть и другую, еще более важную и священную. По его словам, Пий IX оказывается не только главою христианства, но и прямо le chef du monde entier[138]. Нашел возможным как-то приклеить и новый догмат о непорочном зачатии[139] и множество других вещей. Я и Франция слышались в проповеди беспрестанно, а о Христе Иисусе не было более и помину. Достигши крайнего предела своеобразного красноречия и напряжения голоса, оратор вдруг пробормотал скороговоркой и почти шепотом несколько невнятных слов и тем закончил свою проповедь.
После проповеди одним, также французским, священником прочитано было Евангелие: Во утрий день и пр. Затем двое монахов (Иосиф и Никодим) перевязали полотенцем фигуру Распятого, сняли с головы Его терновый венец и осторожно, с немалым (видимым или действительным) усилием, вынули гвозди из обеих рук, которые опустились с легким скрипом[140]. Фигура держалась потом на полотенце. Когда вынут был ножный гвоздь, Иосиф подставил под спину изображения свою правую руку и, прихватив левою грудь его, положил воображаемое тело на простертую по престолу простыню, лицом кверху. Затем оба погребателя, взяв за 4 конца простыню, понесли изображение с Голгофы. Весь обряд снятия совершался в глубоком молчании: слышались по временам только удары молотка. Весьма тяжко для чувства, конечно, было бы, если бы отподобление Распятого имело естественную величину человеческого тела; ибо и на 2/3 уменьшенная фигура Его, несомая в простыне над землею, тяготила душу, не производя в ней ни сожаления, ни благоговения.
Передовое пение слышалось уже нанизу. Мало-помалу и вся процессия спустилась к камню Помазания, а по переводу с греческого: Снятия со Креста, на который и была положена свернутая простыня. За толпой я не мог видеть, производилось ли помазание Мертвого. Произнесена была 5-я проповедь на арабском языке. Проповедник стоял на возвышенности близ главных дверей храма. Слово его было живо, до крикливости громко и непомерно долго. Не знаю, зачем оно прерывалось пением почти на одной трети своего протяжения. Содержание его мне осталось неизвестно.
Последняя, шестая, остановка была перед часовней Святого Гроба, внутрь которого внесена была и положена на смертное ложе Господне плащаница. У самого входа во Гроб произнесена была шестая проповедь на испанском языке, также одним из братства св. Франциска. По живости она уступала всем другим, кроме славянской, и наводила скуку своей однообразной, как бы механической, жестировкой. Содержание ее также для меня осталось тайной. После проповеди полным хором было пропето: Miserere[141], не уступавшее вчерашнему концерту. Затем коленопреклоненный епископ прочитал малую молитву. Погребатели вышли с Погребенным из Гроба и вся процессия молча направилась к латинскому приделу. Было уже за полночь.
Что осталось в памяти и сердце от виденного мною в самые торжественные дни латинского богослужения на святых местах? Умиленный епископ, целующий ноги меньших братии. Преисподний волк, своими яростными движениями за перегородкой придела действительно походивший на зверя, запертого в клетку. L'Empereur de Jerusalem[142]. Скрип упадающей руки жалкого подобия Христова. Благоговейные лица мироносцев, блестящие темные глаза скорбного певца и всего более – трогательный напев погребальный, восполнивший собою все, что могло казаться недостатком в богатом материальной обстановкой богослужении.
Поклонник
Иерусалим. 5 апреля 1866 года
Печатается по публикации: Христианское чтение. 1866. № 23. С. 469–488.
Посвящение латинского епископа в Иерусалиме
(Из письма поклонника п. Г. П-ни)
На 6-й неделе после Пасхи, по григорианскому календарю, усердные чтите-ли и воители «Святого Стула» постарались распространить по Иерусалиму радостную весть, что в наступающее воскресение (Exaudi[143], 13 мая по новому стилю), т. е. в нашу неделю о Слепом, будет совершена перед Гробом Господним Messa Pontificale[144], причем произойдет и посвящение в епископа. Весть эта благовременно достигла и нашего приюта[145]. В малом числе поклонников, оставшихся в Иерусалиме до Троицына дня, нашлись охотники видеть редкое и любопытное зрелище. Я был одним из них.
Итак, 1-го числа мая месяца, около 8-ми часов утра, по окончании своей литургии в церкви Дух<овной> Миссии[146], мы отправились в храм Воскресения Христова. Согласно с официальным объявлением Латинской Патриархии, мы нашли, что все место coram Sancto Sepulchro[147] было занято латинским духовенством. Служба уже началась, по кр<айней> мере громко разносились по всей Ротонде Гроба Господня звуки органа. Достав себе видное – я мог бы сказать – завидное, место, я увидел, что к самой почти часовне Гроба, заграждая даже вход в нее, приставлен был большой престол, богато украшенный, с Распятием, подсвечниками и нужными для богослужения книгами. Другой, меньший, престол стоял впереди его сбоку, на северной стороне у стены, образующей входную арку в греческий собор[148]. На нем, кроме Распятия, подсвечников и книг, лежала еще священническая (она же и архиерейская) риза, над которою высилась золотая с каменьями митра латинского покроя. Поблизости обоих престолов находились принадлежащие им пономарские столики (credentia) со всем, что требовалось для предстоящего богослужения. Креденция большого престола окружена была толпою молодых аколуфов[149] или прислужников Патриарха, все питомцев устроенной им вблизи Иерусалима семинарии[150]. За малою креденцией сидели двое из францискан, сакристалы[151] латинской капеллы храма. Прямо против малого престола, на противоположной стороне, поставлена была кафедра патриаршая под балдахином, возвышенная над помостом церковным на две ступени. На линии от малого престола к кафедре стояли три круглых табурета, другие 4 табурета стояли по бокам их к большому престолу, по два на каждой стороне; заднее пространство от табуретов до перегородки греческого собора занято было по сторонам скамейками, а в средине духовым музыкальным инструментом.
Мы нашли Патриарха сидящим на своей кафедре. Два крайние из средних табуретов были заняты двумя архиереями, нарочно откуда-то вызванными для церемонии. Один из них, иерархически старейший, был армяно-католик[152], еще молодой человек, а другой, младший по чину или месту, был глубокий старец, совершенно седой. Оба архиерея были в полном облачении и имели на головах серебряные глазетовые митры. Армяно-католик, кроме того, сверх казулы[153] (ризы) имел на себе и омофор, что, конечно, сделано было не без расчета. На среднем табурете сидел избранный в епископа, в полном священническом облачении и с биргтом[154] (род четырехугольной камилавки) на голове. Это был человек лет 30–35, худощавый, с угловатыми чертами лица и малою бородою. (Вообще все латинское духовенство Иерусалима считает правилом отпускать бороду, а сам Патриарх даже славится ею на весь католический мир.) На боковых табуретах сидели диаконы в богатых далматиках[155]. Возле Патриарха сидел его капеллан[156]. При армянине тоже был его собственный капеллан, но ему не предложено было стула. На скамьях сидели 7 одетых в ризы священников – кажется, все из братства св. Франциска, и прочие духовные лица. Инструмент окружали 7 мальчиков, под председательством монаха-музыканта. Такова была обстановка возвещенного с таким торжеством «понтификального» служения.
Началось облачение Патриарха. Семинаристы столпились у кафедры, каждый держа в руках какую-нибудь принадлежность архиерейского облачения. Молодые люди эти, говорят, глубоко преданы своему попечителю и покровителю, в свою очередь, совершенно отечески призирающему на них. Их набирают со всего поморья сирийского, с путей и распутий, и из жалких бедняков без хлеба и одежды делают хорошо образованными людьми и, разумеется, ревностными пропагандистами в желаемом пресловутой Курии духе. Сбросив с себя длинную красную мантию с капюшоном, Патриарх остался в одной альбе[157], опоясанный веревочным пояском. Прежде всего, на него надеты были две из красной тафты, весьма одна на другую похожие, как бы рубашки, нижнюю с длинными и верхнюю с короткими рукавами, вероятно тунику и далматику, как бы наши: подризник и стихарь. Не видел я, когда и поверх чего возложена была на него стола (орарь[158] и вместе епитрахиль): развлекшись на минуту посторонним предметом, я увидел владыку уже в фелони (casula, она же и planeta) и в митре. Ему надевали на руки красные перчатки (chirothecae) с перстнем (annulus). Последнее, чем украшен был важный сановник, был наперсный крест с дорогими камнями.
Наконец, – не в пример другим архиереям – с особенною торжественностью ему поднесен был лежавший дотоле на престоле паллий (pallium) или омофор[159], из которого «Святой Стул» сделал особенную, высшую награду для лиц епископского сана[160]. По окончании облачения на средину к большому престолу поставлено было богато убранное кресло (faldistorium[161]) прямо против среднего из табуретов. Патриарх сел в оное лицом к лицу с посвящаемым. Последний немедленно встал и сделал низкий поклон Патриарху, сняв при этом с головы своей бирет; после чего опять сел. С полминуты продолжалось молчание. Оба епископа-ассистента встали затем с своих мест и, снявши митры, остались в одних скуфейках. Встал вместе с ними и избранный во епископа. Армяно-католик, по праву старшинства, обратился к Патриарху с речью, требуя от него, именем Церкви, посвящения во епископа «сего присутствующего»[162] пресвитера; Патриарх спросил его на это: есть ли у вас приказ апостольский (папский). – Тот отвечал: «Есть». – «Да будет прочтен»[163], – произнес Патриарх тоном не в меру торжественным и как бы вызывающим, точно он не доверял существованию документа, который сам и получил из Рима, и сам же передал, конечно, ассистенту, может быть, за несколько минут перед тем! Документ был передан патриаршему нотарию[164]. Тот развернул его. Оказалось, что это был большой пергаментный лист, написанный по одной стороне впоперек длины его, и как заметно, нечетко; потому что, читая его, нотарий не раз останавливался и повторял одно и то же слово на разные способы чтения. Писано было все по-латыни. В конце говорилось, что дано в Риме, в апреле месяце. Это одно, что я мог различить вполне явственно. «Богу благодарение!» – произнес Патриарх, когда чтение было окончено. «Есть за что поблагодарить, – сказал сбоку меня стоявший такой же зритель, как я, – можно было думать, что он, не дочитавши, станет». Между тем нотариус, конечно, есть один из наиболее ученых людей капитула.
Тот же сосед мой, знакомый, как оказалось, не только с языком, но и с ходом священнодействия, уведомил меня, что сейчас начнется экзамен ставленнику. Точно: все архиереи раскрыли свои служебники или чиновники, как у нас называют подобные книги. Патриарх, не вставая, начал читать громко и раздельно что-то о заповеди апостольской: руки скоро не возлагать ни на кого же, а испытывать поставляемого и пр… Он предложил потом своему поставляемому 9 вопросов, начинавшихся словами: хочешь ли?.. На все их, конечно, тот отвечал прямо и незазорно: хочу, причем поднимался со стула и снимал камилавку. Всенародным: аминь отделялась первая часть испытания от второй. Испытуемому предложены были новые 9 вопросов, начинавшихся уже словами: веруешь ли? на которые тот так же легко и с тою же церемониею отвечал: верую. Раз только пришлось ему сказать: анафематствую. В конце вопросов опять следовало общее подтверждение словом: amen, после коего испытанный подведен был ассистентами к испытателю для коленопреклонного лобызания руки его, что открыло ему место возле самого Патриарха, с левой стороны его, у престола.