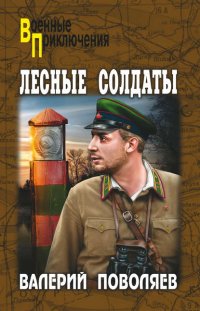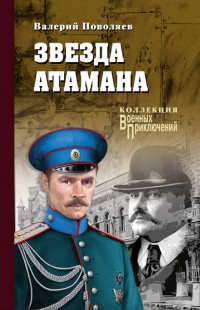Читать онлайн Вопреки всему бесплатно
- Все книги автора: Валерий Поволяев
© Поволяев В.Д., 2023
© ООО «Издательство «Вече», оформление, 2023
Вопреки всему
(Повесть)
Солдатам Великой Отечественной войны, обделенным наградами, посвящается
Февраль сорок третьего года под Смоленском был морозным, ветреным, темным настолько, что казалось: такая роскошная небесная кривулина, как солнце, всегда приносившая радость детям, а иногда и взрослому народу, перестала существовать вообще… Нет солнца! Пропало оно… Вот кривулина несчастная! Есть только серая шевелящаяся над головой мга, схожая с огромным стогом мерзлой ваты, есть свистящий ветер, способный выковырнуть зубы изо рта, а человека обратить в стылый камень, да еще… еще есть несметь фрицев, не желающих возвращать русский город частям Красной армии.
Наступление наше немцы все-таки остановили, бойцам пришлось спешно зарываться в землю, работая не только лопатами, но и ломами, выстраивая длинные линии окопов, стрелковых и пулеметных ячеек, ниш и ходов сообщения…
Очень не хотелось думать о том, что пластинка эта может оказаться долгоиграющей, просто в это не верилось – слишком долго сидели бойцы 173‐го стрелкового полка в окопах, все оборонялись и оборонялись, считали каждый патрон, на гранаты же, особенно если это были лимонки, даже молились.
Недаром фронтовые журналисты прозвали гранаты карманной артиллерией – это и есть настоящая артиллерия, если она находится за пазухой или заткнута за пояс, совсем не нужно, чтобы за спиной окопников находились пушки, готовые в любой миг открыть огонь и прикрыть «царицу полей»…
Когда пошли в наступление, жизнь у окопников изменилась, они сделались бывшими окопниками. Даже питаться они стали по-другому, – не то ведь в обороне очень здорово надоела вареная шрапнель: и утром, и днем, и вечером было одно и то же – шрапнель. Сегодня шрапнель, завтра шрапнель, послезавтра и послепослезавтра – все шрапнель, крупа, которую как ни готовь, все будет хрустеть на зубах, словно речной песок.
А в пору наступления жизнь красноармейцев изменилась, в руки теперь часто попадала совсем иная еда. Трофейная. Немцы, идя в атаку, тащили с собой и еду – за спиной, в телячьих ранцах. А в ранцах, как в продуктовых кошелках, находилась разная заморская еда: французская консервированная ветчина, марокканские сардины, компот, сваренный в африканском Занзибаре из сказочных фруктов под названием манго, швейцарский шоколад, итальянский сыр и много чего другого… Окопники при такой еде мигом переставали ощущать себя окопниками, это были другие люди.
Полк, в составе которого воевал командир пулеметного расчета Василий Куликов, был остановлен на краю изломанного, в некоторых местах вообще поднятого вверх кореньями леса, командир полка, поняв, что дальше не продвинуться, приказал немедленно окапываться.
В ход пошло все, не только лопаты и ломы, – даже обычные железки: обломленное крыло от «зиса», которым работать было не совсем удобно, это не лопата; кронштейн, оторванный от немецкого бронетранспортера; обрезок бочки, очень прочный – в бочке хранили горючее для полуторки, обслуживавшей комендантскую роту… В общем, в дело пустили даже найденный где-то железный щит с надписью «Берегите лес от пожара». Как оказалось, им тоже можно было копать родную планету.
Спешили очень. В любую минуту, не говоря уже об отрезках времени побольше, немцы могли пойти в контратаку, а до этого обязательно надо было вырыть хотя бы небольшую яму для собственных нужд, куда можно будет сунуть голову. Не еловыми же лапами прикрываться от фрицевского огня… С другой стороны, прикрыться можно было и лопатой.
Но главное в предстоящем бою, конечно, не лопата, а пулемет. Старый надежный пулемет «максим», знакомый по фильмам о Гражданской войне, по схваткам на Халхин-Голе и озере Хасан, по финской баталии, воспетый в песнях и стихах, выставленный в разных музеях, но, как считал Куликов, очень капризный.
Сколько ни заливай в кожух, в систему охлаждения пулемета воды, он все равно будет греться. В раскаленном стволе пули начинают болтаться свободно, в какую сторону они полетят, когда их выплюнет из своего нутра ствол, никому не известно.
В горячем стволе, в казенной части, происходят перекосы патронов – то самое, что всегда вызывает у Куликова боль, схожую с ожогом, он даже губы себе прикусывал, а второй номер, Коля Блинов, тот бледнел сильно, словно бы на перекосе патрона кончался белый свет, пальцами начинал перебирать воздух, будто искал опору, стенку, за которой можно было бы укрыться… Первый номер глядел на него укоризненно и качал головой.
Брать землю саперной лопаткой в полулежачем состоянии, выбрасывать ее из-под себя было делом нелегким… Не то чтобы мышцы рвались от напряжения или земля была слишком мерзлая, нет – просто было неудобно очень, хоть зубами скрипи. Но все-таки приходилось совершать кривые движения и одновременно слушать пространство: не просвистит ли над головой пуля немецкого снайпера?
Вот так, аккуратно, хотя и поспешно, Куликов вырыл под собой ровик, оказавшийся вместительным – сюда и пулемет спустил, и сам рядом с ним улегся, примерился специально, и пару цинков с патронами разместил. Коля Блинов хрипел, пристукивал зубами рядом, выплевывал изо рта мерзлый снег – оборудовал свою позицию…
Попробовал Куликов выровнять сбитое дыхание, закашлялся, в горле у него возникла какая-то твердая пробка, встала поперек – ни туда, ни сюда. Куликов ткнулся головой в холодную землю – надо было отдышаться, – повозил зубами из стороны в сторону, стараясь избавиться от пробки, и в конце концов одолел ее. Сквозь неплотно сжатые зубы втянул в себя воздух.
Через несколько минут вновь взялся за шанцевый инструмент – отодвигать от себя лопату было нельзя. Недоделанные дела он не любил оставлять – это непорядок. В родной деревне Башево Пятинского сельсовета, что на ивановской земле, от таких привычек старались отучать всякого, кто появлялся в округе, кто был виноват, старый или малый, свой или чужой… Куликов торопился, все, кто находился рядом с ним, тоже торопились – в любую минуту из тумана могли показаться размытые тени немцев.
Хорошо, что хоть на фрицев их дивизия надавила крепко, у немчуры даже кишки из ноздрей полезли, выдохлись они донельзя… Впрочем, родной 173‐й стрелковый полк тоже выдохся… И что плохо – сильно поредел.
Куликов огляделся, ничего хорошего не увидел и занялся обустройством защитного бруствера для «максима».
Тут около него появились два солдата и сержант из саперной роты; сержанта – маленького, всегда насупленного, сердитого, Куликов знал – приходилось иметь с ним дело раньше.
– Здорово, пулеметчик, – сержант сунул руку Куликову, привалился плечом к куче выкопанной земли. – Как тут? Горячо?
– Пока не очень. Но ждем… Ждем-с! – как говаривал Александр Сергеевич Пушкин. А тебя чего принесло на нашу кухню?
– Да мины собираемся поставить. Но, я смотрю, вряд ли удастся – еще светло очень.
– И снайпер, зараза, работает. Двадцать минут назад соседа подстрелил.
– Какого соседа? – не понял сержант, нервно подергал уголком рта. – По окопу, что ли?
– По окопу, по окопу, – Куликов провел ладонью по лицу, стирая пот, оставил на щеке глиняный след. – Пулеметчика из соседней роты. Очень толковый мужик был. Как и ты, в сержантском звании.
Откуда-то сверху, с макушек деревьев, утяжеляя и без того тяжелое, взбаламученное пространство, сполз клочкастый туман, приволок сырой холод. Сапер приподнялся над кучей земли, улыбнулся довольно:
– Это то, что нам трэба, как говорит командир нашего взвода лейтенант Мануйленко, – сержант разгладил несуществующие усы и кликнул своих помощников: – Ко мне!
Хлопцы находились рядом – так же как и сержант, небольшие, широкогрудые, с крепкими руками. Саперы, словом. Работяги!
Через десять минут они уползли в туман, через сорок пять минут вернулись, потные, хрипящие от напряжения, испачканные землей и грязным снегом.
– Три противотанковые мины поставили перед твоей позицией, несколько штук – по сторонам, вразброс, – сообщил сапер Куликову, – так что радуйся, когда фрицы будут жариться.
– Противопехотки тоже поставил?
– Нет, эти коробки из-под гуталина ставить не стал. Во-первых, если пойдут танки, они легко передавят их, никакого проку не будет, а во-вторых, если ты со своим пулеметом неожиданно получишь приказ пойти в атаку? Подорвешься.
– За заботу спасибо, – Куликов притиснул ладонь к промокшей, измазанной глиной, с прилипшими еловыми иглами телогрейке, поклонился саперу. Ничего шутовского в этом не было: противопехотные мины в данном разе – это и благо и вред. Все будет зависеть от того, как развернутся события, как поведут себя немцы.
Выложив перед гнездом земляной бруствер, Куликов постарался сделать его массивнее, чтобы пуля увязала в земле, отполз немного от окопа в сторону и работой остался доволен: бруствер получился плотным, и в высоту был хорош, и в ширину, – в общем, немецкие пули будет ловить пачками. Это важно.
Прошло еще минут двадцать, туман зашевелился, заерзал, словно бы кто-то попытался сдвинуть его в сторону, от общей плоти отделялись отдельные снопы, медленно отплывали в сторону и растворялись в сером пространстве, словно в дыму. Куликов быстро сообразил, что это означает, поспешно прыгнул к пулемету, скомандовал второму номеру:
– Коля, ленту!
Заправить ленту было делом привычным, если не плевым, Куликов мог сделать это даже во сне, не просыпаясь, действуя машинально… Вслушался в пространство, – ему показалось, что он засек звук работающего двигателя.
Нет, это не показалось, он услышал низкий хрипловатый стук, по земле пробежала едва приметная дрожь, и он эту дрожь засек. Расстегнул воротник гимнастерки, внезапно начавший давить на горло, – все, сейчас начнется. От предчувствия боя, от близости его во рту даже сделалось солоно. Так иногда бывает, но ничего страшного в этом нет.
Жаль, что к пулемету он ложится грязный, и под самим пулеметчиком тоже грязь, просачивается снизу, из-под земли, откуда-то изнутри… Жаль, что подстелить под себя нечего… Ладно, очень скоро появится какая-нибудь немецкая шинелишка – обязательно появится, всплывет, содранная с плеч неведомого дохляка из Эльзаса или Рура, а пока ничего нет.
Слякоть мартовская – штука противная, это с одной стороны, а с другой – вызывает хвори, простуду, весенняя сырость может накрыть так, что кашлять, хрюкать, захлебываться насморочной жидкостью будешь до самого лета…
В плотной серой вате что-то шевельнулось неловко, громоздко, в следующий миг исчезло, и Куликов, наклонившись к пулемету, сделал небольшую поправку, малость подвернул ствол – понял, куда надо бить. В следующий миг из тумана неожиданно вытаяла страшноватая, белая, со светящейся, как у гоголевского мертвеца физиономией, в нахлобученной на глаза каске, пролаяла что-то, и Куликов не замедлил нажать на гашетку.
Короткая, с оглушающим звуком очередь вбила светящуюся физиономию обратно в туман. Серая ватная скирда нехорошо задрожала, задергалась и сдвинулась с места. Куликов подумал, что сейчас из тумана вновь высунется могильный жилец, захлопает глазами, но ничего этого не произошло.
Под животом, пропитывая телогрейку влагой, задрожала земля, и Куликов понял: «Танки!» Спасибо мастерам минирования, они поставили на танковом пути несколько зарядов, глядишь, сюрпризы эти и проявят себя.
Ждать долго не пришлось. Земля затряслась сильнее, гул танковых моторов сделался четче, стало слышно даже звяканье траков – ну будто специально железом стучали о железо. Куликов стиснул зубы, пробуя угадать, из какой прорехи вылезет первый танк, двинул стволом «максима» в одну сторону, словно бы хотел прощупать туман в этом направлении, потом двинул в другую…
Пусто. Нет танков… Хотя звук их сделался сильнее, и земля начала трястись сильнее, от тряски этой тупо и как-то обреченно заныли мышцы рук.
Он дождался нужного мига и услышал то, чего хотел услышать – звук сильного удара, почувствовал, что земля из-под его тела рванулась куда-то вбок, рванулась яростно, словно бы хотела опрокинуться, тяжелый пулемет завалился на одну сторону, огромная копна тумана подпрыгнула, будто была живая, – сделала это на удивление ловко, проворно… Ну словно бы чего-то опасалась.
А ей и впрямь было чего опасаться.
Немецкий танк, наползавший гусеницами на свежие русские позиции, внезапно возникшие на краю горелого, основательно раскуроченного леса, наехал одной гусеницей на железную тарелку, оставленную сержантом-сапером, окутался пламенем и дымом, мигом растерял разную хозяйственную мелочь, прикрученную к броне, в воздух взвились и проворно размотались два железных троса, несколько звеньев начавшей ржаветь плоской гусеницы, бочка с искусственным, сладко пахнущим горючим, популярным в германской армии, два запечатанных гвоздями ящика…
Непонятно, что было в ящиках – то ли патроны, то ли что-то нужное в танковом хозяйстве – те же гвозди, скобы, болты и гайки или, допустим, мыло.
Через несколько минут подорвался второй танк – саперы поработали отлично, точно все рассчитали, угадали, по каким колеям поползут танки, как поняли и другое: по лесным увалам, рытвинам, медвежьим ямам и провалам аккуратисты-немцы не пойдут вообще – не в их это характере…
В результате счет, как в хорошем футболе в родной Ивановской области, обозначился достойный: два – ноль. А в футбол перед войной начали играть, кажется, все, – кроме, может быть, тянь-шаньских пастухов, проводивших летние сезоны (время футбола) на высокогорных пастбищах в окружении овечьих стад, да присоединившихся к Советскому Союзу молдаван, занятых заготовкой кукурузных початков – иначе зимой можно остаться без любимой мамалыги…
Большой молодец сержант-сапер – точно впечатал минные коробки в землю, под снег – ай, какой молодец! Молодца!
После второго взрыва туманная скирда зашевелилась недовольно и начала понемногу провисать. А может, это и не туман был вовсе, а обычный дым? От случайного снаряда загорелась какая-нибудь старая конюшня, набитая сухим навозом, задымилась азартно, вот туманные клубы и поволоклись от нее к окопам.
Раз скирда начала провисать – значит, немцы решили отступить.
В этот момент Куликов засек то, чего не засекли другие, – по внезапному перемещению копен тумана (ну словно бы их фрицы передвигали внутри сырой серой скирды) определил перегруппировку немцев, переставил пулемет и вновь открыл стрельбу.
Очередь была длинной, рыжего цвета, она легко развалила пространство. Немцы не успели уйти – Куликов положил треть их, стрелял до тех пор, пока не кончилась лента – горячая, извивающаяся, она безвольно распласталась на грязном, пропитанном водой и мартовским холодом снегу.
– Коля, ленту! – громко прокричал Куликов, и напарник, матерясь, выплевывая слова куда-то в сторону, словно бы навсегда избавляясь от них, засуетился около «максима», застучал крышкой коробки, засипел, прикусывая себе дыхание.
Не подготовился к бою парень, за это надо хорошенько настучать по шапке.
– Готово! – голос второго номера донесся до него словно бы издалека, будто по дороге застрял, увяз где-то, в чем-то, вызвал у первого номера досаду, и досада эта остро сжала Куликову горло.
Стараясь понять, где немцы находятся именно в эти миги, Куликов вхолостую провел стволом «максима» по шевелящемуся лохматому краю тумана, послушал пространство, показавшееся ему на этот раз мертвым, – ни лязганья, ни криков, ни стрельбы, нич-чего, словом, – надавил сразу на обе гашетки. Пулемет словно бы наткнулся на что-то невидимое, рявкнул зло, умолк…
Ветер содрал с ближайшего дерева – старой, заваливающейся на один бок осины – скрутку мерзлой коры, размял, превращая добычу в мелкую крошку и швырнул горстью в людей. Жесткая мерзлая кора попала Куликову в рот и оказалась такой горькой, что у пулеметчика на глазах проступили слезы.
– Ну, где вы, гитлерюги? – просипел он надорванно. – Вылезайте! – Добавил несколько крепких матерных слов.
Туман шевелился недобро, мерцающими серыми кучками переплывал с места на место, никто в нем не возникал, похоже, что в этой страшноватой скирде сделалось пусто. Только ветер едва приметно начал пошумливать среди деревьев, но это совсем не означало, что в лесу кто-то есть… Мертво все, в воздухе пахнет уже не дымом подорвавшихся танков, а сырой могилой, по коже ползет нервная дрожь…
Неожиданно справа от себя Куликов увидел двух солдат, появились они только что и теперь, помогая себе саперной лопаткой, одной на двоих, устраивались на закраине окопа с длинным средневековым ружьем. Деловые были ребята. Куликов не удержался от вопроса:
– А вы здесь откуда?
– Прислали для усиления танкоопасного направления, – ответил один из них. Грамотно, по-газетному четко. Явно паренек у себя во взводе обязанности агитатора исполняет – судя по речи, да и больно уж сообразительный. Был он невысок ростом, крепок, при очках. Очки, чтобы случаем не потерять, он зацепил дужками за прочную крученую бечевку, бечевку узелком завязал на затылке, завязку прикрыл шапкой. В общем, все тип-топ, сносно все.
Знал Куликов, что в полку их есть несколько взводов ПТР – противотанковых ружей, но с бойцами-пэтээровцами столкнулся впервые. Высказался боец о цели своего появления на передовой вполне определенно, так что нужный мужичок обозначился с напарником в соседях.
– Как тебя зовут? – спросил Куликов. – Как обращаться-то?
– Деев, – отозвался мужичок.
– А по имени как?
– Называй по фамилии – не ошибешься.
А мужичок-то – с характером. Сразу видно – в колхозе, как Васька Куликов не работал, не убирал на полях рожь с ячменем, скорее всего – единоличник, специализировавшийся на приколачивании подметок к сапогам богатых граждан либо член артели, обслуживавшей городские бани… В общем, он мог быть кем угодно и при этом, что Куликов вполне допускал, состоял в комсомоле.
Характером упертый, командные нотки в голосе его появились еще в утробе матери, – правда, кричать там он не мог, душно было и сыро, но когда вылез наружу, сразу начал покрикивать. Начальник, одним словом. Вполне возможно, что он даже родился в очках.
– Ну, Геев так Геев, – согласно проговорил Куликов и, отерев ладонью лицо, вгляделся в шевелящийся туман – старался понять, есть там фрицы или все уже выколупнулись из копны и убрались на свои позиции?
– Не Геев, а Деев, – поправил его боец в очках.
– Ну, Деев, – согласился и с этим Куликов.
Было тихо. И стрельба неожиданно угасла, и рявканья танковых моторов уже не было слышно, и командного немецкого лая не стало. Хорошо сделалось в туманном лесу… Всегда бы так! Но всегда быть так не могло – не получалось, и это рождало внутри ощущение досады, чего-то сырого, болезненного.
Напарник приподнялся над пулеметным щитком, вслушался в пространство: ну чего там, в этом чертовом тумане? Что слышно? Ушли немцы или не ушли? Вообще-то они не любят, когда атака срывается, могут затаиться, переждать, схимичить, а потом снова вывалиться из пространства, вытаять, словно белена-нечисть, из тумана.
Туман по-прежнему стоял плотный, от позиций красноармейских не отползал, и вообще уходить не хотел, Блинов недовольно покрутил головой, потом глянул на крохотные трофейные часики, украшавшие запястье его левой руки, – сколько там на изящном женском хронометре настукало?
А настукало столько, что время обеда уже ушло. Время ушло, а старшина с обедом так и не «пришло» – застрял где-то кормилец. Ладно бы не пострадал, жив был бы, а то ведь все могло случиться, даже самое худшее… И в ту же пору всегда надо помнить, что смерть – это не самое худшее из того, что может стрястись на фронте.
Послушал Блинов пространство, потеребил его в мыслях, помял, проверяя, ничего опасного вроде бы не нашел и сдвинул на нос свою мятую поношенную шапчонку, украшенную блестящей рубиновой звездочкой – командирской, между прочим, ушлый второй номер умудрился где-то ее достать, не сплоховал… Очень шла звездочка к его шапке, возвышала Кольку в глазах других.
– Палыч, желудок прилип к спине уже совсем, – пожаловался он своему начальнику, – от костяшек, от позвонков самих уже не оторвать.
Вздохнул первый номер сочувственно, он сам находился в таком же состоянии, желудок тоже приклепался к позвоночнику, неплохо бы отведать кулеша из батальонного бака, но старшина с поваром где-то застряли – ни кулеша не было, ни чая, даже обычного черствого хлеба, и того не было… Ни одного кусочка. Первый номер поскреб негнущимися холодными пальцами себе затылок, помолчал немного и разрешающе махнул рукой:
– Давай, Коля! – голос у него был невнятный, усталый. – Действуй!
Блинов выдернул из-за голенища сапога нож, приладил его к ладони так, чтобы нож был продолжением пальцев и вообще всей руки, воткнул острие в бруствер и в одно мгновение выбросил себя из пулеметного гнезда.
Через несколько мгновений он ввинтился в туман, словно в огромную копну, раздвинул обрывки пластов, плотно спекшиеся лохмотья отгреб в сторону, сбил их в несколько липких серых охапок и исчез в образовавшейся норе.
Первый номер, вытянув голову, также послушал пространство – что там происходит? В лесу, на дороге, проложенной между изувеченными ободранными деревьями, за крутым ее изгибом, заминированным саперами?
Тихо было, очень тихо. Хоть бы какое-нибудь железное звяканье раздалось, крики донеслись либо говор – наш или немецкий…
Нет, ничего этого не было. Опустело пространство. Очкастый петеэровец, лежавший рядом с пулеметной ячейкой, поднял голову, покрутил шеей – ему не все тут нравилось, что-то происходило не так, как должно происходить.
Прибежал ветер, потревожил макушки нескольких сосен, этого не было видно, но было хорошо слышно, обломал слабые ветки, посбрасывал их на землю и озадаченно поволокся дальше.
Тяжелый слой тумана как прилип к земле, так и продолжал на ней лежать, только что-то внутри у него подрагивало, шевелилось, передвигалось с места на место, словно бы стремилось занять выгодную позицию… Ну, совсем как в жизни людей, у тех же пулеметчиков, когда они находятся на передовой, в окопе и ждут вражеского наступления. И стремятся выбрать позицию получше, угадать ее, чтобы скосить врагов побольше, самим же – уцелеть. А это дело очень даже непростое.
В любой атаке на противника прежде всего стараются выбивать пулеметчиков, это цель номер один.
Пулеметное гнездо стараются выкосить все, даже артиллеристы, находящиеся от линии фронта на четырех- или пятикилометровом удалении – ориентируясь на карту, плотно бьют по квадрату и не прекращают бить, пока не поразят цель, – не говоря уже о «трубачах»-минометчиках, снайперах, саперах и прочих окопных специалистах. И это очень часто удается.
В тиши этой неестественной, расползшейся по здешней земле, невольно вспомнилась родная деревня, довоенная – шумная, говорливая, по праздникам, особенно престольным, пьяная, певучая – голосов толковых в деревнях их Пятинского сельсовета, и прежде всего в Башеве, было много. Почти в каждом дворе имелся свой доморощенный голос. Так что жизнь у башевских было певучая, душу грела.
Но началась война, мужчины ушли на фронт – загребли их широкой лопатой, ровно бы в военкомате знали, что здешний народ еще при Иване Грозном ходил на татарскую Казань и проявил себя геройски.
Основная масса ушла на войну летом и осенью сорок первого года, а в сорок втором, под призыв пошел и молодняк, в том числе и Васька Куликов, его забрали в Гороховецкие лагеря, где научили играть на хорошем музыкальном инструменте – пулемете «максим».
И выучили, толково выучили – чтобы голова у фрицев болела и никакие таблетки им не помогали…
Куликов поежился, вздохнул – ноги в просторных сапогах мерзли, внутри хлюпала мокреть. Вечером и ночью хоть и подмораживало, случалось, что мороз начинал прижимать и днем, а было сыро, очень сыро, влажный холод пробивал тело насквозь, обволакивал каждую косточку, до онемения сжимал руки и ноги ледяными пальцами.
Влага до земли, насквозь пропитывала снег, вода обязательно возникала на дне окопов, забиралась в закрытые углы, превращала глину в вязкую грязь, способную залезть даже под кожух пулемета… Ну, а в сапоги проникала всегда. Справиться с влагой не мог никто.
Куликов выглянул из окопа – туман, похоже, сделался еще сильнее, набилось его между деревьями уже столько, что скоро, кажется, эту студенистую противную массу придется отскребать от стволов лопатами, и вообще, она способна примерзать к коре и сама становиться древесной плотью.
Свой «музыкальный инструмент» – пулемет «максим» – Куликов изучил в Гороховецких лагерях до мелочей, он стал для него родным, от общения с пулеметом боец получал удовольствие… Хотелось бы знать, какое удовольствие получают от общения с «максимом» фрицы, но «музыкант», однажды спросив себя об этом, больше к данному вопросу не возвращался… Даже думать о нем не хотел.
Хотя ежу понятно было: чем больше фрицев попадет под «музыкальную» струю, тем будет лучше. Для всех, кого Куликов знает, будет лучше, где бы народ этот ни находился – состоял при вилах и лопате в башевском колхозе или колол дрова на кухне Гороховецких лагерей… Либо там же катался по тщательно прибранной учебной территории на популярном гимнастическом снаряде – деревянном коне, обшитом кожей.
При воспоминании об учебном лагере лицо у Куликова распустилось, сделалось мягким, глаза заблестели – хорошо когда-то было на гороховецких просторах, и еще более преображались глаза и лицо пулеметчика, когда он думал о деревне Башево, льняной вотчине, полной голосистых синеоких девчат. При виде землячек своих Куликов всегда бледнел, даже коленки начинали трястись, во рту становилось то ли сладко, то ли слезно, не понять… А вообще-то делалось страшно, и он хорошо понимал и состояние свое и самого себя.
Туман тем временем зашевелился нервно, заерзало там что-то, задрожало, Куликов немедленно переместился к пулемету – мало ли что может вылезти из бесовский плоти… Поправил влажную ленту, вползающую в отверстие патроноприемника.
Неожиданно из неряшливых клубов тумана, как из некого хранилища, выкатился новенький немецкий ранец с обрезанными плечными ремнями. Понятно стало – добытчик Коля Блинов возвращался с «кухни». Молодец второй номер, надо полагать, с ним будет сытой вся рота, не только пулеметный расчет.
Следом за первым ранцем на бруствер шлепнулся второй, он был тяжелее первого, чуть не развалил бруствер.
– Тише ты! – крикнул в шевелящийся туман Куликов. – Разломаешь инженерное сооружение – отвечать перед трибуналом придется.
– Не боись, ВеПе, – просипел из тумана голос, отдаленно похожий на голос Блинова, – авось уцелеет окоп!
Второй рюкзак был измазан кровью, надо полагать – вражеской. Через несколько секунд из тумана вывалился и сам Блинов, испачканный грязью и пороховой копотью, с перекошенным на животе ремнем – наверное, обследовал подбитый танк. Пахло от Блинова горелым, очень дурно пахло… Куликов не сдержался, поморщился – а ведь точно второй номер лазил в подорвавшийся на мине танк, больше лихую вонь эту подхватить было негде.
Перевалившись через бруствер, Блинов сполз в окоп головой вниз, отдышался с надсаженным хрипом.
– Там, в тумане, – немцы, – наконец сумел произнести он, слова соскреб с языка с трудом. – Живые!
– Об этом надо немедленно доложить ротному, – сказал Куликов, – чтобы охранение выставил…
– Доложи, ВеПе, а! У меня сил никаких нету. Ни капли просто… Полез в танк, смотрю – недалеко фрицы копошатся, у меня внутри все так и сжалось. Хорошо, что это взял у командира танка, – Блинов оттопырил борт телогрейки, показал первому номеру рукоять пистолета.
«Парабеллум, – определил Куликов, – толковая машинка… Вовремя Колька ею обзавелся. Похоже, мы завязнем в этих окопах, легкий ствол тут никогда не помешает».
– Давай к пулемету, – сказал он Блинову, – а я к старлею смотаюсь, сообщу ему о немцах.
Старший лейтенант Бекетов был командиром их нынешней роты, собранной поначалу из остатков трех рот и получившейся вроде бы укомплектованной, но после недели наступательных боев поредевшей на две трети. Был Бекетов толковым заводским инженером, хорошо работал, получал премии и не думал о войне, но война пришла в его дом и призвала в пехотные части.
Мужиком он был справедливым, доброжелательным, отличался этим от целого ряда строевых командиров, кроме каптерки в казарме и места на утоптанном плацу ничего не знающих, но зато умеющих громко подавать команды и даже гавкать на общих построениях и заменять собою горластый радиорепродуктор. Если надо – они легко могли послать какого-нибудь бедолагу на десятикилометровую дистанцию при полной выкладке, с тройкой кирпичей в рюкзаке, могли дать и в зубы. Бекетов таким не был.
Он сидел в командирском окопе на перевернутом вверх дном дырявом ведре, изучал карту-многоверстовку, старался поставить себя на место немцев и понять, как они будут действовать дальше.
Куликов доложился, как положено, по форме, сказал, что фрицы обживают туман, могут напасть на позиции роты – судя по всему, есть у них такое намерение.
– Я знаю, – со вздохом проговорил ротный, – то, что можно и нужно сделать, я уже сделал, выставил три группы боевого охранения перед нашими окопами… Больше не могу. На большее у меня нет ни людей, ни боеприпасов. – Голос у ротного сделался хриплым и печальным – он ходил под тем же топором, что и Куликов с Блиновым, делил не только кулеш, который старшина с напарником приносил с батальонной кухни, но и землю, куда ему придется лечь вместе со своими солдатами. – Спасибо за сообщение… Следите внимательно за всем, засекайте все звуки, контролируйте этот чертов туман… Вдруг там объявится какая-нибудь эсэсовская группа? Не пропустите!
– Постараемся не пропустить, товарищ старший лейтенант, – Куликов вытянулся, приложил пальцы к своей шапке. – А там… В общем, сами понимаете, товарищ командир.
Видать, немцы решили сделать передышку, физиономии эсэсовские в тумане не организовались, но передышки фрицы устраивают не для того, чтобы попить кофию, совсем для другого – перетасовывают огневые средства и людей, словно карты в какой-нибудь затяжной игре, в «рамсе» или «секе», так что физиономии, конечно, возникнут, но совсем в другом месте, может быть, даже совсем невероятном, непредсказуемом – среди веток деревьев или в водоотводной канаве за проселочной дорогой, уныло тянувшейся вдоль окопов их стрелковой роты.
Коля Блинов в поте лица потрудился над немецкими ранцами, тщательно обмел и обтер их еловыми лапами, нашел немного чистого, хотя и жесткого снега – выудил его из глубины просевшего сугроба, брезгливо морщась, счистил багровые немецкие сопли, потом снова обтер, так что ранцы сделались ухоженными, даже нарядными.
Один ранец Блинов перекинул своему шефу:
– Держи!
Счастливы фрицы, коли у них такое питание, ни в еде, ни в кофие начальство их не обижает, разнообразие такое, что брови у Куликова подпрыгнули до самого затылка – чего только в этом ранце не было, даже свежий французский багет, упакованный в хрустящую бумагу, плотно втиснутый в ранец сверху, оттого помятый, а затем насквозь просеченный пулей.
Сам след, оставшийся от пули, Куликов из багета вырезал, словно бы боялся чем-то заразиться: не дай Бог, в багет попали капли фрицевской крови, тогда вонь на весь ранец может образоваться, – белые мягкие крошки отшвырнул в сторону; ночью, когда будет тихо, какие-нибудь лесные зверушки уволокут их к себе домой, в нору или в дупло, подкрепятся там… Полез в ранец дальше.
Нашел сыр, две разных коробочки, помеченные яркими, поблескивающими от лака надписями. На одной коробке, треугольной, было написано «Чеддер свисс», словно бы сыр этот изготовлен по технологии свиста: сунул два пальца в рот и свистнул посильнее – в результате получился сыр. Только вкусный ли он?
Вторая коробка была круглая, склеенная из картона, на ней написано «Пармезан дольче». Что за диво заморское «пармезан дольче», чем его запивают, Куликов не знал. Небось, если употреблять всухую, без воды, к зубам прилипнет – не отдерешь…
Если прилипнет – придется какой-нибудь деревяшкой, заточенной под лопатку, соскребать. А вдруг не получится, вдруг сыр прилипнет, как старый клей, мертво, да еще срастется с зубами, что тогда делать, а? Куликов понюхал одну коробку с сыром, потом другую, ничего вкусного не почувствовал – коробки пахли землей, машинным маслом, падалью, коровьим навозом, еще чем-то, совершенно незнакомым, что только в Германии, при Гитлере и могут производить… Но ведь это же несъедобно!
Вздохнул пулеметчик, отложил коробки в сторону: когда голодуха подопрет окончательно, то и это изделие в еду сгодится.
Нашлись в ранце и галеты, которые Куликову не понравились совсем – пресные, как фанера, и такие же жесткие, остатки зубов легко можно потерять в борьбе с окаменевшим невкусным продуктом.
Под галетами пулеметчик нащупал небольшую банку, из которой крохотными каплями вытекало масло, а внутри находились крохотные, обработанные ароматным дымом рыбки с отрубленными хвостами и головами.
– Что это? – недоуменно спросил он у Блинова.
Тот неопределенно приподнял одно плечо.
– Если б я знал, если б я ведал… Похоже на наживку для окуня. Копченые пескари.
– Наживку в масле не держат, – заметил Куликов тоном опытного рыбака, – я хорошо знаю, чего любят крупные окуни.
Неделю назад пулеметчику также достались трофейные консервы, тоже рыбные – извлекли из брезентового ранца пленного немецкого егеря… Рыбки там тоже были безголовые и бесхвостые, каждая очень аккуратно, ровно обтяпана с двух сторон. Ничем копченым они не пахли. Как потом объяснил ротный знаток заморской еды, помогавший старшине таскать бидоны с обедами, это были анчоусы, доставленные гитлеровцами на Восточный фронт из Франции. Еда, конечно, чепуховая, но побаловаться, пощекотать себе язык можно – и не более того. Насытиться же крохотными рыбешками, наесться до отвала, чтобы потом целый день не отходить от «максима», было невозможно.
Каша с американской тушенкой – куда более верный и надежный продукт. И не надо учить Куликова, как насаживать на крючок червяка. Он отложил банку с копчеными рыбками в сторону.
В немецком ранце нашелся и серебряный пакетик, который откровенно растрогал Куликова – в нем оказались очищенные орехи. Обыкновенные деревенские орехи, орешки, лещина, в его родном Башеве они растут в каждом дворе. В других деревнях Пятинского сельсовета также растут, народ собирает орехи и делает заначки на черный день, очень сытная пища – орехи русской лещины.
Оказывается, у немцев они тоже растут.
Другой ореховый кулек, оказавшийся в трофейном ранце, также растрогал Куликова, хотя и меньше – наверное, из-за того, что орехи были незнакомые, вкусные, присыпанные солью, на кульке было напечатано типографским методом «Чака». Что такое «Чака», Куликов не знал. Название орехов? Или местности, где эти орехи произрастают? Чье-то имя? Что-то еще? Вот только что? Ребус.
Для того чтобы разгадать этот ребус, надо было знать какой-нибудь язык, – кроме того, колхозно-матерного, который был в ходу в Башеве, – например, французский или английский. Единственный язык, который не хотел знать пулеметчик, – немецкий, и всякому однополчанину хорошо понятно, почему он не желал этого.
Если на этой войне Куликов останется жив, то из дома выбросит все книги, все предметы и железки, связанные с Германией. Наелся он всего немецкого под самую макушку, а напился еще больше. Даже думать об этом не хочется.
Блинов тем временем нашел в своем ранце круглую плошку, похожую на парафиновую, с белесой полупрозрачной плотью.
– ВеПе, что это такое? – спросил он у Куликова, картинно повертел плошку пальцами. – Не спирт ли?
– Он.
На лице Блинова мигом вскинулись брови, чуть не залезли в волосы, – могли вообще передислоцироваться на затылок.
– Как спирт? – голос у Блинова мгновенно сделался сиплым.
– А так. Спирт. Только технический. Для разогрева кофия в окопе. Прямо на передовой. Так что не вздумай растворить эту гадость в воде и выпить – желудок себе сваришь, понял, Коля? Вместо желудка будет большая дырка. Одна. Во все пузо, – Куликов подмигнул напарнику, потянулся за банкой, набитой золотыми безголовыми рыбками, ножом легко сковырнул крышку.
Понюхал содержимое.
– Ну и как, ВеПе? – спросил у него напарник.
– Класс! Перший сорт. Судя по внешнему виду, царская еда. Копченые пескари, говоришь? Никогда не пробовал таких.
Блинов, прищурив один глаз, присмотрелся к надписи, начертанной на коробке, попробовал ее прочитать, но с задачей не справился. Это были шпроты. Напарник изучением надписи на коробке не ограничился, принюхался к содержимому. Копченые рыбешки пахли не то чтобы вкусно, а очень вкусно: дымком, жженой мякотью ароматного дерева, восточными приправами, словно бы были вынуты из сборника сказок про «тысячу и одну ночь», корицей, вином, перцем и каким-то очень легким маслом.
– М-м-м, – восхищенно помотал головой Блинов, – мне такая еда не попалась.
– А ты поищи получше в ранце, – посоветовал Куликов, – у немцев быть такого не может, чтобы одному они дали мармеладку с сыром, а другому – фигу. Они все делят ровно, по принципу: тебе блин и мине блин, все одинаково, больше получит только тот, у кого лычек на погоне больше… Понял, Коля?
– Однако, – Блинов, находясь в неком недоумении, сморщился.
– Ищи! Ежели не найдешь копченых пескарей – поделим моих.
Хоть и голодны были бойцы, и слюнки пускали при виде еды, добытой Блиновым за бруствером окопа, а воспользоваться трофейной закусью не успели (да они и не спешили) – зашевелился, загудел, задрожал студенисто гигантский ворох тумана, откуда-то из-под земли наверх полез возродившийся из ничего танковый рев, и немецкие ранцы с едой пришлось откинуть в сторону.
– Коля, приготовь противотанковые гранаты, пару штук, – на всякий случай приказал второму номеру Куликов.
Неожиданно где-то высоко, над серой ватой тумана запалилось яркое желтое пятно – это обозначило себя солнце, и сразу сделалось легче дышать, хотя свет солнца не растекся по всей плоти тумана, по пространству, а устремился вниз узким снопом, как луч большого электрического фонаря.
Очень уж необычным было появление светила, Куликов с таким никогда не встречался, покачал головой: а не примета ли это, не знак ли, поданный сверху?
Если знак, то – недобрый.
– А еще лучше – три гранаты, – сказал он напарнику, продолжая пристально вглядываться в туманные вороха.
Хорошо хоть, что их снабдили противотанковыми гранатами, не то ведь еловыми дубинами от налетчиков не отобьешься – задавят; на пулеметный расчет выдали шесть гранат.
В тумане что-то шевельнулось, Куликову показалось – человеческая фигура… Вот возникла еще одна, он четко разглядел автомат, ножом воткнувшийся в шевелящуюся серую плоть и, нырнув за щиток «максима», дал короткую очередь.
Фигуры исчезли. От танков немцы старались не отрываться, за стальную громыхающую массу ведь всегда можно спрятаться, избежать встречи с красноармейским свинцом.
– Чего там, ВеПе? – внезапно севшим, сделавшимся хриплым, каким-то чужим голосом спросил Блинов.
– Да ничего нового, – пробурчал Куликов. – Все то же – фрицы.
– Попал?
– Не знаю.
– Мне кажется – попал.
– На том свете, когда отчитываться за свои дела будем, нам сообщат точные данные.
– Типун тебе на язык, Палыч, – недовольно проговорил Блинов. – На том свете, на том свете… Не спеши!
Куликов тем временем вновь засек в сером лохматом пространстве фигуру, похожую на человеческую, с автоматом в руках-щупальцах, и не стал ждать, когда автомат пальнет огнем в его сторону, дал еще одну очередь.
В этот миг тяжелый удар приподнял скирду тумана, оторвал от земли и сдвинул в сторону, Куликов увидел танк, медленно ворочавший короткой, с широкой воронкой, навинченной на горло пушкой.
«Сейчас влепит плюху, – мелькнула в голове жгучая мысль, – мы с Блиновым костей не соберем… Разнесет нас по воздуху. Но ведь танк подорвался… Или это не он подорвался?»
Танк не выстрелил, человек, сидевший за рычагами его, увидел свободное пространство, возникшее впереди, а совсем недалеко, рукой подать, – утолщенный, взятый в железный кожух ствол пулемета, очень уж сильно цель влекла к себе, манила, ее словно бы специально установили здесь, на пути машины, механик выкрикнул что-то гортанно и дал газ… Сделал это резко, тяжелая машина чуть не прыгнула вперед, но не прыгнула.
Напрасно фрицы считали, что русские за какой-то коротенький час сумеют по глотку врыться в землю, сгородить себе ячейки и окопы с брустверами и поставить едва ли не целое минное поле. Это невозможно. Механик считал, что мин тут уже нет, – все! Было две штуки, но они сработали.
В следующий миг из-под носа танка выхлестнул яркий сноп пламени – сработал очередной подарок сержанта-сапера, вовремя сработал, Куликов ощутил, как от благодарности к сержанту, от того, что тот так ловко прикрыл его, остановил атакующего фрица, в виски даже наползло тепло.
– Спасибо тебе, сержант, спасибо, друг, – проговорил Куликов.
Впрочем, самого себя он не слышал.
Взрыву мины танк не смог противостоять, он вроде бы даже мягким сделался, как показалось пулеметчику, броня из прочного, твердого материала, из стали высшего сорта обратилась в вареный мокрый картон, ударом кулака в ней можно было сделать дырку.
Танк приподнялся всей своей немалой тяжестью, внутри что-то громыхнуло, взвизгнуло, следом раздался еще один взрыв – скорее всего, рванул снаряд, заранее подготовленный к подаче в ствол, хобот пушки безвольно сполз вниз и воткнулся в землю широким, похожим на большую консервную банку пламегасителем.
А может, это и не пламегаситель был, а глушитель, либо колпак для точного наведения снаряда на цель или что-нибудь еще, этого Куликов не знал.
От танка отделилась рыжая простынь, хлопая краями, гудя, стремительно понеслась на пулеметный окоп, но, хотя ее и подбивал попутный ветер, тащил на своей спине, долго не продержалась, сморщилась и, потемнев устало, угасла. До пулеметчиков доплыл только резкий, с примесью угарной химической вони запах. Куликов выглянул из-за пулеметного щитка.
Танк горел, но Куликов уже не обращал на него внимания, главными уже были автоматчики, а не танк, – очень важно было не подпустить их к окопам.
– Коля, как ты? – не поворачивая головы, выкрикнул Куликов. – Цел?
– Вроде бы цел, – подрагивающим, словно бы опаленным огнем голосом отозвался второй номер.
– Так нам с тобою, Коля, даже пообедать не дадут.
– Ничего, мы свое все равно возьмем, – Коля попробовал повысить голос, но что-то в нем осеклось, совсем не то, что было день назад, противная дрожь появилась. С этим надо было бороться.
Черный, наполненный ошмотьями жирного пепла дым полз в сторону пулеметного гнезда, быстро накрыл и расчет «максима», и бойцов с противотанковыми ружьями, и грязную, сочившуюся промозглыми насморочными ручейками линию окопов, в которой находилась рота Бекетова.
– Тьфу, пепел в рот залез, – Куликов брезгливо отплюнулся, – ну словно бы кусок собачьего дерьма на языке очутился, Гитлером пахнет… Весь аппетит из-за этой вони пропадет.
Ругался Куликов, как обычный колхозник, и напарник его ругался точно так же, без вымысла и вывертов, которыми иногда блистали мастера этого дела, – а мастера изобретательной ругани тоже служили в доблестной Красной армии, их призывали, как и всех остальных, вместе с рабочим классом, вместе с уголовниками и даже вместе с теми, кто находился на севере в исправительных лагерях, – различия, как казалось Куликову, не было.
Пулеметчик продолжал пристально вглядываться в начавшую вновь сгущаться стенку тумана, смаргивал с глаз прилипшие соринки, пшено, стаявшее откуда-то сверху и приклеившееся к щекам, к ресницам, застрявшее в полуспаленных бровях, – где немцы, куда подевались?
Похоже, автоматчики из этого шевелящегося марева выветрились, отступили. Может быть, уже где-нибудь около Смоленска находятся.
Смоленск красноармейским частям еще предстояло взять, и жизней, душ крестьянских и рабочих, как разумел Куликов, сгорит в этом костре немало.
Неужели туман стал пустым? Он протер потщательнее глаза, вгляделся в шевелящийся перед ним дымный ворох, готовый проглотить окоп пулеметчиков совсем… Вместе с людьми, с «максимом», с немецкими ранцами, содержимое которых они до сих пор не тронули, хотя желудки к хребтам у боевого расчета прилипли так, что их от костей не отскрести. Есть хотелось очень.
И чего уж говорить о том, что в ранцах – деликатесы, которых в деревне Башево не то чтобы никогда не видели, о них даже никогда не слышали, вот ведь как.
Вдруг Куликов поспешно нырнул вниз, в тень металлического щитка, потянул на себя рукояти «максима». Раздалась короткая гулкая очередь, и из тумана, как из неряшливого облака, вывалилась фигура в немецкой форме, с автоматом, отделившимся от солдата, как нечто ненужное, и отлетевшим далеко в сторону. Куликов тут же подсек немца второй очередью, и фигура повалилась спиной назад в туман, утопая в нем, словно бы в пене, и исчезла.
В тумане вновь завозилась, загрохотала грозно железная громадина, заскрежетала гусеницами. Чуть в стороне от пулеметного окопа на переднюю линию выполз ослепленный туманом немецкий танк, замер на несколько мгновений, пытаясь сориентироваться, настороженное пушечное дуло у него двинулось в одну сторону, потом в другую – танкисты выбирали цель, но и на этот раз выбрать не успели.
Расчет противотанкового ружья оказался проворнее танкового экипажа – ухнул выстрел, тяжелое ружье приподнялось над окопом вместе с расчетом, такая была у ПТР отдача, заряд всадился в броню, точнее – в стальную выемку, расположенную ниже башни, взбил густой сноп электрической пороши, едва сноп отлетел в сторону, как из-под башни повалил маслянистый, с крупными клейкими хлопьями дым.
– Попа-ал! – что было силы закричал петеэровец в очках, Деев была его фамилия, насколько удалось ее запомнить Куликову.
Это была удача: чтобы с первого раза из длинноствольного ружья поразить танк, надо иметь большое везение. ПТР – это не снайперская винтовка, из которой за полкилометра можно срезать оловянную пуговицу с мундира захватчика – первой пулей, а второй пулей, взяв чуть выше, расковырять фрицу ненасытную глотку. ПТР – оружие совсем другое.
Танк дернулся в одну сторону, в другую, содрал гусеницами пласт земли вместе со льдом и снегом, заюзил, втискиваясь задницей в туман и растворился в сером шевелящемся пространстве.
Вот незадача! Колдовство какое-то!
Слишком густой, норовистый туман наполз на смоленскую землю, не в здешних краях был рожден… Вон как стремится потрафить фрицам, укрывает их от окончательной расплаты, от второй пули… Явно чужой туман, специально рожден где-нибудь в климатических лабораториях вермахта.
Сделалось тихо. Лишь ветер сипел где-то вверху, среди сосновых веток, цеплялся на расщепленных стволах за заусенцы, пытался родить новый звук и сконфуженно стихал – был он слишком слаб, чтобы что-то сделать. Пытался даже потеснить туман, обнажить обгорелую, с растаявшим снегом плешь, но сумел оторвать всего несколько неровных, с оборванными кудрями лохмотьев – и ничего больше сделать не смог. Только из сил выбился, последнее, что было у него, израсходовал, и все – ни дыхания в нем не осталось, ни стремления двигаться дальше.
Немцы чего-то замышляли, но опасались действовать вслепую, Куликов втянул сквозь зубы в себя воздух, огляделся и ногой придвинул трофейный ранец поближе.
– Коля, – позвал он напарника, и когда тот отозвался, проговорил голосом укоризненным, наполненным жалобными нотками, словно бы искал пропавшую справедливость, но особо не надеялся, что она найдется, так что ответы на вопросы, скопившиеся в нем, он вряд ли получит: – У тебя кишка кишке фигу еще показывает или уже спеклась?
– Спеклась, ВеПе, – сказал Блинов и тоже подтянул к себе немецкий ранец, сделал это, как и первый номер, ногой, только не так ловко – подцепил комок грязи, испачкал нарядную немецкую амуницию.
– Тогда приступим к расправе над немецкой едой, – проговорил Куликов, будто команду подал, – не отходя от станка. – Пулемет «максим» он назвал на заводской лад станком и имел на это право, да и слово «станок» было хорошее. – Начинай!
– Ты старший, Палыч, ты и начинай. Так положено.
Засунув руку в ранец, Куликов вслепую пошарил в нем пальцами и достал квадратную коробку с нарисованным на ней быком. Про шпроты он уже забыл. Морда у быка была добродушная, с прищуренными глазками хитрована, решившего сыграть в какую-нибудь картежную игру с сильными мира сего и завладеть их кошельками; рядом с мордой быка красовалась добродушная мордашка розовой, хорошо вымытой (явно с мылом) хрюшки, глядевшей на едока томно и призывно, – значит, в коробке были либо колбаски, либо сосиски, смесь говядины со свининой, либо…
В общем, еда такая Куликову подходила, все мясное он любил, хотя подобное блюдо попадалось ему нечасто – за все время войны раз восемь, не больше…
Из-за голенища сапога он вытащил нож, привезенный в сорок втором году с гражданки, из деревни, – отбитый вручную на наковальне, обработанный на точильном круге и закаленный в районной кузнице на ремонтно-тракторной базе, – нож этот был даже попрочнее некоторых немецких армейских ножей, да и в руке лежал лучше.
Коваль, командовавший кузницей в районе, – дядя Бородай, заросший густым седым волосом настолько, что видны были только глаза, да в глубоком провале рта – два крепких, опасно крупных зуба, знал некие секреты закалки железа и никому не выдавал их.
Никто не ведал: Бородай – это имя или фамилия коваля, откуда этот мастер взялся и где его родина? Дядя Бородай появился в районе в период коллективизации, когда люди выли от обид, от того, что оказались по «самое то самое», почти по коленки в нищете, хотя раньше имели и коров, и коней, и поросят с курами… Но после коллективизации у них осталось всего по паре кур на нос и все.
Вот и запрягай этих кур, крестьянин, в оглобли, накидывай на них хомут и ставь в борозду, чтобы вспахать собственное поле.
Да и плуг, тот тоже отдан в общественное пользование, его надо теперь брать в колхозе, так же соответственно и разживаться семенами… Вспомнил Куликов деревню свою, вспомнил райцентр и дядю Бородая, вздохнул – завидовал самому себе, тому Ваське Куликову, который остался там, в прошлом…
Коваль просверлил ему в рукоятке ножа два отверстия, потом добавил третье, чтобы можно было просунуть в них заклепки, спросил:
– Ручку сам изладить сумеешь? Или помочь?
– Сумею, – уверенно отозвался Куликов, он уже прикидывал, какая будет у ножа ручка, из какого материала…
Красивые, конечно, бывают ручки у финок, которые делают зэки в лагерях, за проволокой, набирают из цветного плексиглаза, потом обтачивают на станке – получается диво, которое только с радугой и можно сравнить, но плексиглаза, да тем более цветного, он не достанет… Нет в деревне Башево таких возможностей, а вот дерево – скажем, дубовый чурбачок или пара ореховых дощечек – это очень даже может быть.
– Тогда дуй, – сказал ему районный коваль, – чего задумался?
А Куликов и верно задумался, вспоминать всякие истории из своей молодости начал. Совсем не к месту это.
– Благодарствую, дядя Бородай, – сказал он ковалю и покинул кузницу.
Дуб на ручку не пошел – слишком тяжелый и твердый материал, древесину дуба обычными зубами, даже если на них будут надеты коронки, не возьмешь, а вот орех можно взять, орех – мягче, лучше…
Но и орех тоже не пошел – надо было добывать две безукоризненные, совершенно одинаковые половинки и сажать их на металл рукояти, сбивать в единое целое клепками, но нож тогда будет напоминать кухонный, которым чистят картошку и крошат капусту, поэтому Куликов пошел по третьему пути… В районе жил охотник по фамилии Новохижин (хорошая актерская фамилия), так у него Вася Куликов увидел нож с рукояткой довольно необычной, как и в лагерных финках, наборной, – очень удобной и красиво выглядевшей.
Рукоятка была набрана из коры березы, обработана мелкой наждачной шкуркой, хорошо подогнана к руке. Это был прекрасный охотничий нож. Упав в воду, он не тонул – кора, пробковая прослойка ее держала нож на плаву, в морозную пору, когда наборный плексиглаз может впаяться в кожу ладони, кора этого не делала, она сама была теплой, поскольку привыкла греть сам ствол березы… Лезвие при таком раскладе было тяжелее рукояти, и если человек делал ножом бросок, лезвие всегда оказывалось впереди ручки и поражало цель.
В общем, сделал себе Куликов ножик, взял его с собою на фронт и очень берег, несколько раз ему предлагали обменять самоделку на немецкий кинжал – он отказывался, считая красивый, богато оформленный клинок рядовой безделушкой. Самодельный нож был, на его взгляд, штукой более серьезной, хотя и не такой изящной, как нарядное украшение офицеров-эсэсовцев…
Куликов понюхал упаковку с изображением быка и хрюшки.
– Это надо же, в коробок из-под зубного порошка целый бык вместился, – неверяще проговорил он, – или это не бык, а какая-нибудь немецкая химия? И поросюшка эта свинячья – тоже химия… А?
– Химией это никак не может быть, – убежденно произнес Блинов, – немцы химию не едят – желудок не переваривает. Вообще-то они не дураки, в отличие от нас.
– Тс-с-с, – остановил его Куликов, – а если особист услышит?
– Особистов в окопах нет. Не принято.
– Самих-то нет, а помощники их есть, и сколько их, добровольцев этих гребаных, никто из нас не знает.
Второй номер закашлялся, будто бы поперхнулся чем. Выбил кашель в кулак.
– Ты прав, ВеПе, – наконец произнес он. – Но если бы мы знали их хотя бы с затылка или с задницы, в окопах они долго бы не продержались.
Легким движением ножа Куликов вспорол у коробки верх и восхищенно покрутил носом: очень уж вкусно пахло содержимое консервной упаковки… Запах был такой аппетитный, такой влекущий, что… в общем, он пробрал пулеметчика до самого, извините, желудка. Куликов извлек из коробки одну толстую симпатичную колбаску и мгновенно проглотил ее – даже не ощутил, как она очутилась в глотке, на короткий миг задержалась, словно бы раздумывая о своем будущем, потом проворно нырнула вниз и исчезла.
Ну словно бы этой немецкой сосиски не было вовсе. Куликов поспешно, будто бы боясь, что вторая колбаска выпрыгнет из коробки и скроется в ближайшем, источающем грязные слезы сугробе, схватил ее… В эту минуту в тумане громыхнул выстрел.
Громкий был выстрел, орудийный, плотная, спекшаяся в несколько слоев масса тумана дернулась, – видать, на исходную позицию с немецкой стороны, кроме танков, выползла штука покрупнее – штурмовое орудие, оно и выпалило почти в упор по нашим позициям.
Снаряд разорвался далеко за спиной, окопы не зацепил никак, но вред все-таки причинил: из пространства с гнусавым свистом принесся маленький неровный осколок и очень метко зацепил сосиску – срезал большую часть ее… Тьфу! Куликов выматерился. В руке у него осталась лишь пятая часть трофейной добычи, самый корешок.
Еще не осознав того, что несколько мгновений назад осколок мог отправить его в братскую могилу, не поняв, что сейчас он уже должен быть мертвым, Куликов машинально нырнул вниз, за щиток «максима» и только минут через пять понял, что произошло.
– Ну, фрицы! – угрожающе проговорил он, хотел повторить фразу, но во второй раз не сумел одолеть ее, она словно бы прилипла к языку, к нёбу, к зубам, не отодрать и все тут. Непонятно даже, что случилось и вообще каким образом произошло это преображение? Похоже, он онемел на несколько минут.
Огромная масса тумана шевельнулась вновь, прозвучал второй выстрел. На этот раз снаряд, просверлив пространство, ушел еще дальше, взрыв раздался по ту сторону земли, дальше не бывает. Был он совсем тихий и никаких опасений не вызывал.
– Хлебнем мы здесь, Палыч, на этой передовой по полной, под завязку, – удрученно проговорил Блинов и, сдвинув каску на нос, поскреб пальцами затылок. – М-да, под завязку, даже шнурков не будет видно.
Это Куликов ощущал и сам, без всяких подсказок со стороны второго номера.
– Хлебнем, – согласно пробормотал он, – но ночных атак не будет, немцы не любят их, – затем так же, как и второй номер, почесал затылок. – Не умеют они ночью ходить по земле, – добавил он, – спотыкаются… Ноги могут себе сломать, а это, брат Блинов, сам понимаешь, что такое… Ботинки ладные, модные, потом ведь не всегда сумеют купить себе в магазине.
– А зачем им ботинки? Сломанные ноги никакие ботинки не украсят, дорогой ВеПе.
Третий снаряд, прилетевший из тумана, лег уже близко, один осколок даже скребнул по щитку «максима», звук оказался слабым, поскольку осколок был на излете, а вот горсть осколков потяжелее и повреднее, посильнее одинокой дольки зазубренного металла, всадилась в трофейный ранец, лежавший на бруствере, и вывернула из него всю требуху. Не ожидал Куликов такой пакости в своей фронтовой судьбе, не ожидал… Он чуть не взвыл. Но все-таки сдержался, помотал протестующе головой и проговорил сипло, со злостью:
– С-суки!
В тумане раздались ноющие, с каким-то кошачьим подвывом звуки мотора, – пулеметчик знал этот голос, успел познакомиться с ним ранее… «Пантера» это, новый танк, который поступил к фрицам на вооружение совсем недавно. Услышав неприятный вой, будто в моторе вот-вот сгорит стартер (хотя какой стартер может быть в дизеле), Куликов забеспокоился:
– Коля, давай снимем пулемет с бруствера, не то эта гадина сметет его, – они быстро и ловко стащили пулемет вниз, но оказалось, это и не нужно было, «пантера» развернулась в тумане и ушла, побоялась здесь оставаться, словно бы место это было заговоренное, опасное для нее.
Двигатель вражеской машины завыл, заревел оглашенно, с веток ближайших деревьев, измученных осколками, сыростью, огнем, пулями немецкими и нашими, посыпались куски намокшего обледенелого снега – крепкая все-таки была глотка у механизма, луженая.
«Пантера» отодвинулась в глубину своих позиций, за спешно вырытые гитлеровской пехотой окопы, и затихла.
– Уж лучше бы подошла поближе, гранатой бы взяли, – проворчал Куликов, – а так… Тьфу!
Приближалась ночь.
Линия противостояния, проложенная по кромке леса, укрепилась, вгрызлась в землю – ни туда ни сюда; ни немцы не смогли потеснить наших, ни наши немцев.
Очень уж не хотел Гитлер сдавать Смоленск, бросил на оборону города все, что у него было под рукой, вплоть до солдат, которые в банях мыли шайки, чинили в походных мастерских рваные шинели и заведовали навозом у артиллерийских битюгов.
Наши тоже не могли продвинуться ни на метр – также иссякли силы, требовалось время для накопления их, так что арифметика получалась простая: Смоленск достанется тем, у кого дыхание окажется крепче.
Пулеметному расчету Куликова так и не удалось уснуть до самого утра, ночь была тревожная, с минометными обстрелами и слепой артиллерийской стрельбой, одиночной, до которой фрицы оказались очень охочими… Стреляли по квадратам, на авось, и имели успех – попали в неудачно передислоцировавшийся штаб, управлявший минометным подразделением, и сожгли две машины из отдельного автомобильного батальона, приданного для усиления их дивизии. Об этом Куликов узнал утром от командира роты.
В общем, фрицы сами не спали и другим не давали.
К утру туман сдвинулся, приподнялся над землей. Поскольку он был едок, как кислота, то снега стало меньше; если вчера в лесу почти не было темных проплешин со слипшейся сопревшей травой, то сегодня весь лес был украшен этими неровными, недобро вытаявшими и остро пахнущими гнилью кусками земли.
Похоже, весна решила утвердиться окончательно, раз пошло такое таяние, но, с другой стороны, в России еще при царе Горохе Втором была в ходу пословица: «Пришел марток – надевай трое порток», иногда холод начинал жарить такой, что и трех порток могло не хватить.
Выглянув из пулеметной ячейки, Коля Блинов недовольно поморщился: немцы за ночь, под прикрытием темноты и тумана, уволокли всех своих покойников, а заодно прихватили и их ранцы, набитые едой.
Досадно. Насчет еды надо было бы подсуетиться вчера, а пулеметчики зевнули.
– М-да-а, – протянул Блинов недовольно и выругался. От досады тут не только ругаться будешь, но и локти себе грызть и вьюшку сплевывать себе под ноги. – Лопухи мы.
Куликов хорошо понимал напарника, поэтому проговорил примиряюще:
– Ничего, Коля. Фрицы снова пойдут в атаку и опять нам чего-нибудь принесут. Вот увидишь.
– Уж лучше бы нам старшина приволок бачок с борщом. Все сытнее гитлеровских поросячьих колбасок с завязками.
– Верно, – Куликов не выдержал, вздохнул, – кто на чем воспитан, тот на том и держится. Немцы на колбасках, а мы на борще и хорошей гречневой каше.
– Каждому свое.
– Помолчи, Коля! – Куликов понизил голос. – Говорят, эти слова сам Гитлер придумал. Тьфу!
– Свернуть бы их в трубочку и засунуть ему в задницу.
– Дело толковое. Вопрос только в том, как его исполнить. Возьмись за это дело, а, Коля? Орден получишь.
– Не нужно мне никакого ордена, Палыч, – Блинов нахмурился.
Куликов понял, что зацепил больную точку в его душе: у напарника не было ни одной награды, даже значка какого-нибудь завалящего, и того не было – ни «Ворошиловского стрелка», ни популярного спортивного знака «Готов к труду и обороне».
Впрочем, у самого Куликова тоже ничего не было, хотя он повоевал побольше, и к наградам достойным его представляли – к ордену Красной Звезды, к медали «За отвагу». Но поскольку Куликов числился не штабным работником, а окопным, то его как представляли к награде, так благополучно и отставляли. Отодвигали в сторону, чтобы не мешал.
Вот если бы он был штабным писакой, то тогда другое дело – уже медали три как минимум побрякивали бы у него на гимнастерке.
– Ордена нужны, Коля, – не согласился с точкой зрения напарника Куликов. – Хотя бы для того, чтобы каждый из нас мог рассмотреть их повнимательнее, держа в руке, – как они выглядят? А насчет носить… Можно и не носить.
Утром, перед тем как зашевелились напившиеся кофию с кренделями фрицы, в окопах, занимаемых ротой Бекетова, появились две девушки с брезентовыми сумками, висящими на ремнях. Откидные клапаны сумок были украшены красными крестами, нанесенными по трафарету масляной краской. Девушки были санинструкторами.
У солдат бекетовской роты от удивления глаза чуть наружу не вылезли. А вообще могли бы и на кончик носа скатиться, у каждого воина это индивидуально… Это надо же, до чего дошла забота начальства – полевых медиков прислали! Про такие дела хоть песни пой!
Песен Куликов знал много, а ежели на пару со вторым номером, то в два раза больше. Но петь пулеметчикам почему-то не хотелось. Даже при виде двух ладных девчонок-санинструкторш… Когда Куликов, очень молодой, в общем-то, мужик, смотрел на них, у него в груди начинало немедленно что-то таять, будто там образовывалась некая сладкая пустота, яма – петь надо было бы, но не хотелось.
Да и холодно, промозгло было в окопе, днем из всех щелей, из срезов земли, из-под каждой ледышки сочилась вода – несмотря на серую погоду, частые туманы и тяжелые, пропитанные мокретью, облака накрывали окопы полностью, делали это так плотно, что даже дышать становилось трудно. К вечеру капель переставала звенеть, вода исчезала из-под сапог, начинал прижимать мороз. Сырость пропадала совсем, стенки окопов твердели и, будто кровеносными сосудами, покрывались ледяными жилками, а бойцы сплошь да рядом начинали кашлять.
Вот по этой-то весенней простудной причине в роте Бекетова и появились две санинструкторши. И у одной, и у другой на плечах телогреек красовались свеженькие полевые погоны с медицинскими эмблемами и тремя красными сержантскими лычками. Погоны ввели совсем недавно, поэтому для большинства солдатского люда они были в новинку.
Хотя некоторые умельцы очень быстро сориентировались и, чтобы выглядеть по-гусарски лихо, вырезали из фанеры пластинки, загоняли их в погоны, внутрь, тогда знаки отличия делались нарядными, здорово отличались от тех мятых тряпок, что в большинстве своем пришивали к своим телогрейкам и шинелям старички, почти не обращавшие внимания на свою внешность.
Привести себя в порядок в окопе вряд ли сумеет даже очень опрятный, опытный солдат, для этого его надо на пару недель отвести в тыл на отдых… Вот на отдыхе он и подворотнички свои постирает, и к гимнастерке свежий белый лоскуток подошьет, и дырки на штанах заштопает, и окостеневшую грязь от рукавов шинели ототрет.
Пулеметчикам приятно было смотреть на звонкоголосых румяных медичек, даже при мимолетном взгляде на них приходило понимание, что кроме войны существует такое покойное, почти безмятежное состояние, как мир, о котором думают, грезят почти все, кроме, наверное, Гитлера… Тьфу!
Девчонки были свои же, сельские, одна из Брянской области, другая из Кировской, одну звали Машей, вторую Клавой. Маша была брянская, Клава – кировская.
– Вот и разобрались, – довольно воскликнул Блинов и потер руки.
– А тебя мы знаем, – сказала старшая из группы медичек, Маша, ткнула пальцем в телогрейку Куликова, – ты знаменитый в нашей дивизии человек.
– Это как же? – недоуменно спросил Куликов.
– Знаменитый, знаменитый… Ты – Вася-пулеметчик. Верно?
– Верно, – воскликнул взбодренный словами санинструкторши Куликов.
– А тебя не знаем, – сказала Блинову Клава, вторая санинструкторша. – Ты такой известности еще не достиг.
Второму номеру такое суждение приятной медички настроение не испортило совершенно, – ну просто никак не испортило.
– У меня все еще впереди, – уверенно проговорил Блинов.
– Да? – брови на Клавином лице взлетели вверх.
– Ага.
– Кашель есть? – озабоченно спросила Клава.
Блинов не выдержал, рассмеялся: что такое кашель здесь, на передовой линии фронта, в промозглых расползающихся окопах, когда каждый день совсем рядом, в нескольких метрах от пулеметного гнезда бойцам отрывает руки, ноги, головы, осколки вспарывают животы, выворачивают внутренности, разбрасывают во все стороны кишки, отонки, требуху, переваренную еду, когда в человеке притупляется, исчезает все, что в нем оставалось человеческого…
Тут даже о том, чтобы тебе, когда погибнешь, вырыли могилу поглубже, не с кем переговорить… А кашель… кашель – это тьфу, переваренный компот из крыжовника в детском саду, дрисня разволновавшегося младенца.
– Разве я спросила о чем-то смешном? – сведя вместе брови и проложив между ними неглубокую складку, поинтересовалась Клава, голос у нее сделался строгим от множества металлических ноток, возникших в нем. – Или я выгляжу смешно?
– Выглядите вы великолепно, товарищ сержант, – Блинов начал поспешно отрабатывать задний ход, – если бы не война, если бы рядом находился загс, я бы на вас женился… Мы бы тут же расписались.
– Ого! – удивленно воскликнула старшая инструкторша, Маша, покачала головой. – На ходу срезает подметки товарищ…
– Не боится боец, что ему пропишем клизму и поставим прямо в окопе. На первый раз клизму щадящую, на полведра, а дальше… дальше – с увеличением. Чем дальше, тем больше, – сказала Клава, язык у нее, так же как и у напарницы, был беспощадным, на этот кол лучше не садиться.
– По вашему велению, да из ваших рук готов и клизму… Хоть на полтора ведра с первого захода, – не замедлил высказаться Блинов. – С удовольствием!
В результате Куликов получил из Машиных рук пакетик с противопростудным порошком.
– Это наше изобретение, в санчасти приготовили, – пояснила Маша потеплевшим голосом, видать, имела к противопростудному средству самое прямое отношение, – тут смесь двух трав, аспирина, еще… в общем, с добавлением стрептоцида… Так что, Вася-пулеметчик, пей и будь всегда здоров.
– Понял, – сказал Куликов, качнул головой благодаря медработников, внутри у него возникло что-то теплое – отвыкли они здесь, на фронте, от общения с женским полом…
Да, собственно, у себя дома, в деревне Башево, он тоже не часто общался с женским полом, более того – даже побаивался тамошних девчонок – готовы ведь обсмеять в любой удобный момент и дорого за это не взять… Но от страха и смущения Куликов голову в песок не засовывал, не прятался, старался вести себя достойно.
– Молодец, что понял, – одобрительно произнесла Маша и поправила шапку на голове пулеметчика, у Куликова от этого простого движения даже под сердцем что-то защемило, зашлось, а на душе сделалось сладко, будто его наградили орденом – например, Красной Звезды. – Так что поправляйся, Вася-пулеметчик, – добавила Маша и вновь поправила шапку на голове Куликова. – Через пару дней нагрянем снова. Нашему начальству не нравится, что ваша рота – в соплях… целиком в соплях, вплоть до командира.
– Ну, Маша… так уж получилось, – Куликов озадаченно приподнял одно плечо, ему самому это не нравилось, – командир тоже человек и, как всякий человек, уязвим.
– Человек, человек… Уязвим, – недовольно проговорила Маша, – конечно уязвим… Но о себе тоже надо думать, не только о наступлении на окопы противника. Если мы о себе не будем думать, можем Гитлера и не одолеть.
Куликов оглянулся и приложил палец к губам.
– Типун тебе на язык, товарищ сержант медицинской службы, – он медленно, словно бы старался поглубже вникнуть в слова санинструкторши, покачал головой. – Как это так – можем не одолеть эту тварь? Такого быть просто не может, Гитлера мы одолеем, даже если он всего себя, целиком, закует в металл, зальет бетоном…
– Молодец, Вася-пулеметчик, – улыбнулась Маша и знакомым жестом снова поправила на голове Куликова шапку.
– Ну, как вы тут, девчата? – раздался из длинной окопной выемки голос ротного, в следующий миг показался и он сам: в старой телогрейке без ворота, подпоясанный ремнем, на котором болталась тяжелая кобура с пистолетом ТТ, рядом за пояс был засунут второй пистолет, трофейный парабеллум – машинка, которую очень хвалили разведчики.
– Да вот, пулеметчикам неплохо бы посидеть над кастрюлькой с кипящей картошкой, подышать горячим паром, товарищ старший лейтенант, – неожиданно насмешливо проговорила Маша, – только вот как это сделать, не знаем…
– Ну, если вы их вместе с пулеметом заберете в санчасть, то, наверное, можно и посидеть над кастрюлькой…
– Мы бы рады забрать, да вы вряд ли отпустите. Тем более – вместе с пулеметом.
– Не отпущу, – подтвердил Бекетов, – и вас отсюда выпровожу, дорогие девушки… Пора.
– Мы еще не во всех взводах побывали! – Маша повысила голос.
– Немцы зашевелились, скоро попрут, – в голосе Бекетова послышались озабоченные нотки. – У них порядок такой – после завтрака и обеда обязательно сходить в атаку.
– А потом снова дернуть кофейку, так, товарищ командир?
– Наверное. Те, которые останутся живы, те и дернут, – у Бекетова внезапно запрыгал уголок рта, левый, со стороны сердца – след контузии, – обветренные губы сморщились. – Те и дернут, – повторил он. – Приказывать вам не имею права, дорогие девушки, но через десять минут здесь может быть жарко. Очень не хотелось, чтобы кого-нибудь из вас зацепила фашистская пуля, так что, дорогие мои, – ротный не закончил фразу: в недалекой глуби пространства ударил орудийный выстрел, заглушил его слова. Через несколько секунд над окопами прогудел снаряд, ушел в наш тыл. Вместо слов Бекетов сделал рукой выразительный жест.
Лишние люди на передовой ему действительно не были нужны – за них могли спросить. Вот если бы у него в роте было медотделение с двумя санинструкторами, тогда другое дело…
Он снял с пояса прицепленную за ремешок каску и натянул себе на голову. Застегнул под подбородком пряжку.
– Все, перерыв закончился.
Через две минуты здесь уже ни Маши, ни Клавы не было. Блинов подтянул к ячейке и распечатал новенькую коробку с заряженной заводской лентой – пришла помощь из тыла, это было хорошо, рождало внутри тепло, и Куликов не выдержал и растянул губы в улыбке. А уж что касается самого Блинова, то улыбка у него почти все лицо опечатала, размахнулась от уха до уха.
Сдавать Смоленск немцы не хотели, очень не хотели, держались за город изо всех сил, зубами, и старались образовать брешь в воинской цепи, теснившей их, бросали в молотилку все новые и новые части, перегруппировывали танковые колонны.
Перед гнездом пулеметчиков выросло целое поле из мертвых немцев. Вытянутые руки, растопыренные, окаменевшие на холоде пальцы, немые черные рты, худые заросшие подбородки – у фрицев, даже у мертвых, на лицах росла щетина, было в этом что-то колдовское, недоброе, таинственное, рождавшее внутри испуг, хотя ни Куликов, ни Блинов уже ничего не боялись – перестали бояться.
Атаки немецкие шли одна за другой, почти без перерыва, каждый день, пулеметчики потеряли им счет, страшный покров из убитых врагов, выросший перед их позицией, рос и рос. Пока было холодно, сыро, гнилыми немцами еще не пахло, но что будет, когда войдет в свои права весна? Тогда от вони задохнутся все, и русские, и фрицы. И еще каким-нибудь вепсам или чукчам, живущим далеко на севере, тоже достанется, гнилой дух доплывет и до них.
И что еще рождало нехороший озноб на коже – убитые немцы, наслоившиеся в несколько рядов перед позицией пулеметчиков, лежали сплошь с вытянутыми руками, как в нацистском приветствии, тянули пальцы к гнезду, в котором сидели Куликов с напарником.
Тянуть-то тянули, да только кишка была тонка, чтобы дотянуться, совсем немного не хватило ее – фрицев остановил пулемет. Даже бруствер не нужно было поправлять, немцы, лежавшие друг на друге, заменили его. А руки были вскинуты в немом крике «Хайль Гитлер!».
Впрочем, второй номер, Коля Блинов, совсем не думал о том, что товар может протухнуть и завонять: чем больше тут валялось фрицев с вытянутыми руками, тем было лучше.
В атаку немцы шли упакованные от макушки до задницы, в ранцах у них и шоколад имелся, и сыр с галетами, и сухие хлебцы, и тюбики со сладкой французской горчицей, и мягкие булочки в промасленной либо в пропарафиненной бумаге, позволявшей хлебу долго сохранять мягкость, и чесночные колбаски в серебряной упаковке… В общем, никаких кухонь не нужно было – достаточно срезать ранец с какого-нибудь пехотинца в мышиной форме.
Правда, за изобилие это, будь оно неладно, приходилось расплачиваться. У Блинова под каской красовалась бинтовая нашлепка с мазью – немецкая пуля срезала ему с головы кусок кожи и надкусила кончик уха. Колю хотели отправить в тыл, подлечить немного, но он не захотел.
– Вот возьмем Смоленск, тогда и в тыл – немного отдохнуть, а заодно и подлечиться… А так – нет, увольте, да и не могу я здесь напарника оставить одного. В одиночку справляться с пулеметом трудно.
Тут, конечно, Коля перегибал палку, это он без напарника с пулеметом не справится, а Куликов в одиночку очень даже справится, одолеет без всяких сложностей. Хотя по части снабжения телячьими котомками, срезанными со спин мертвых фрицев, дело будет обстоять хуже, Блинов преуспел именно по этой части, за успехи по добыче выпивки и съедобных боеприпасов ему можно на погоны лычки старшины цеплять – заслужил.
За несколько дней расчет Куликова несколько раз сменил позицию и в конце концов обосновался на высотке, прикрытой молодыми, на удивление целыми, не посеченными осколками елями.
– Ох, и надоело же копать лопатой землю, до скрипа в костях надоело, – пожаловался как-то Блинов.
– Где конкретно скрипит?
– Да везде. И в голове, и в спине, и в сапогах, куда ни сунься – везде скрипит… Ледяная крошка, мерзлый снег, песок, тертый камешник, земля… Тьфу!
– Если хочешь остаться в живых, закапывайся, – на зубах у Куликова тоже скрипел песок, но он не обращал на него внимания, только размеренно помахивал лопатой, выкапывая гнездо для любимого «максима». – Другого способа нет, только этот.
– От лопаты мозоли везде, – прежним жалобным тоном произнес напарник, – даже на заднице.
– Что-то я не видел, чтобы ты задницей копал окопы, – Куликов, сомневаясь, похмыкал в кулак, и Коля прекратил разговор, не стал его продолжать.
Пулеметная позиция была выбрана грамотно, с чувством и с толком. Высотка хоть и выглядела мизерной, всего на пару вершков приподнялась над землей, а видно с нее было далеко, и взять ее в несколько прыжков гитлеровцы никак не могли, под ноги атакующим обязательно попадалось какое-нибудь препятствие: яма, пара пней, утяжеленных минами, или же что-то еще, какой-нибудь сюрприз с подарками – набор гостинцев тут был обширный, на целую роту могло хватить.
Небо утреннее, сырое и грузное, пропитанное мерзлым снегом, тающим льдом, исторгающее холодную сырость, неожиданно приподнялось, раздвинулось. И словно бы свет откуда-то пролился, сделалось ясно, будто где-то недалеко проклюнулось солнце, протерло заспанные глаза, с еловых веток засочилась капель. Стало легче дышать.
Блинов заулыбался обрадованно, перемена в погоде ему понравилась; Куликов, напротив, нахмурился, втянул голову в плечи, будто собирался залезть куда-нибудь под землю, в укромную щель.
– Готовь брезент! – приказал он напарнику. У шоферов они добыли клок брезента и при воздушных налетах немцев накрывали им пулемет, чтобы его не замусорило, не забило комьями земли, камнями, не привело в негодность.
– Зачем? – спросил Блинов, а поскольку напарник не ответил, переспросил напористо: – Зачем брезент-то?
– Скоро узнаешь, – уклончиво отозвался Куликов.
За несколько минут небо расчистилось еще больше, с недалекого поля, изувеченного снарядами, пусто глядящего в небо свежими воронками, принесся сиплый, довольно сильный ветер, вновь сдвинул облака, стало еще светлее. Прошло совсем немного времени, и вдалеке, почти у самого горизонта, послышался плотный негромкий гул, словно бы в небе шла колонна грузовиков.
– Ну вот и дождались, – мрачно проговорил Куликов, – даже пятнадцати минут не прошло.
Ясное дело – как только в небе появились голубые пятна, летчики-фрицы побросали свои недокуренные сигареты в пепельницы, отодвинули от себя недопитые чашки с кофе и понеслись к самолетам запускать моторы. Прошло еще немного времени, и они уже загундосили в небе, скоро будут здесь. Очень неплохо было бы, если б сюда подоспели ястребки с красными звездами на крыльях и хотя бы чуть прикрыли нашу пехоту на переднем крае.
Блинов засуетился, разворачивая брезент, вдвоем они сняли из выемки в бруствере пулемет, опустили его вниз, и раскинули истертое, сделавшееся кое-где совсем тонким полотно. Толковая ткань – брезент. Для всего годится – и на непромокаемый плащ пойдет, и на сапоги с баретками, и для того, чтобы смастерить прочную палатку, и уж тем более – защитный кокон для пулемета… Универсальный материал.
Тяжеловатый, правда, удельный вес высок, – если таскать на своем горбу – очень скоро язык сам по себе изо рта вывалится, но у Куликова крутилась в голове толковая мысль – договориться с батальонными хозяйственниками, чтобы при перемещениях они брали брезент в свои телеги, и он эту мысль выхаживал уже не первый день…
Впрочем, Блинов относился к этой мысли с недоверием: хозяйственники – люди сложные, поскольку все время подле начальства пребывают, на штабном крыльце вместе с ним трутся, с разными писарчуками знакомы, часто видят живьем комбата майора Трофименко, – так что не возьмут они грязный, заношенный, пахнущий бензином, но такой нужный на передовой лоскут брезента, поглядят на пулеметчиков, как на чумных, у которых с головой что-то не в порядке, и откажут… Как пить дать – откажут.
Куликов глянул на наручные часы с чистым, хорошо отшлифованным стеклом, засек положение стрелок – сколько еще времени им с Колей дышать свободно осталось?
Минут через семь на позицию их роты, по-бабски растопырив колеса шасси и по-бабски же истерично воя, уже заходил первый «юнкерс». Через несколько мгновений он уже выпустил из своего брюха целую цепочку тяжелых карандашных огрызков, – снизу бомбы были похожи именно на карандашные огрызки…
Огрызки были опасны – запросто могли стереть, превратить высотку в низину, годную для озера, в котором укроется вся рота Бекетова. Блинов поспешно ткнулся головой вниз, притиснулся шапкой к щитку пулемета, словно бы хотел спрятаться под брезентом… Куликов привалился к пулемету рядом с ним. Летящие к земле огрызки завыли нервно.
Их вой был не такой ужасающий, как, допустим, у пустых бочек, которые немцы для устрашения также иногда сбрасывали со своих «юнкерсов». Взрываться бочки не могли, если, конечно, не были заряжены какой-нибудь взрывчаткой, снабженной ударным механизмом, но вот вой, издаваемый дырявой бочкой в полете, мог загнать в сумасшедший дом кого угодно, даже роту боевых танков. Куликов не выдержал и, вспомнив, что он не натянул на шапку каску, прикрыл голову рукой. Рука, конечно, не каска, не из металла сотворена, но все равно так надежнее.
Одна из бомб легла в землю совсем недалеко от пулеметного гнезда, взбила высокий рыхлый столб ледяного крошева, рваных корней, дерна, подцепила несколько небольших сосенок и загнала их под самые облака, но особого вреда не принесла, лишь встряхнула линию окопов, другая бомба вонзилась в землю и замерла, выставив напоказ темный погнутый стабилизатор.
Невольно подумалось, что неплохо было бы, если б все бомбы вели себя так, – спасибо неведомым друзьям, которые работают на заводах где-нибудь во Франции либо в Чехии…
После первого отбомбившегося «юнкерса» высотку накрыл своими стокилограммовками второй самолет, затем третий. Одна из бомб влетела в окоп, точнее, в бруствер окопа, разметала его по пространству… В железный вой, в скрежетанье металла врезался истошный крик:
– Санитары, сюда!
Его поддержал другой испуганный крик, также требующий санитаров.
«Все, началось, – невольно отметил Куликов, – сметут бомбами роту, кто тогда окажет фрицам сопротивление?»
Не смели, бойцы удержались, но рота Бекетова на четырех убитых и четырех раненых сделалась меньше. «Юнкерсы» ушли. Пахло резкой кислятиной, гарью, рвущей ноздри, дымом и, как часто бывает на войне, – кровью. Когда пуля обжигает солдата, обязательно пахнет горелым мясом, пахнет сильно и остро, запах этот крутой может вышибить из человека слезы, родить в глотке спазмы, прочно перекрывающие дыхание.
– Ну, как, цел? – спросил Куликов у напарника.
– Слава те, пронесло, – надсаженным голосом отозвался тот.
– Снимаем с пулемета накидку, – скомандовал первый номер. Быстро и ловко они сдернули с «максима» брезент, стряхнули с него землю, крошки льда, принесенную взрывами грязь, ветки, поставили пулемет в нишу, искривленную ударной волной. – Сейчас попрут… Увидишь, Коля, – попрут… Надавят так, что кишки из носа полезут.
– Верно, – хмыкнул Блинов глухо, – какой дурак захочет оставлять Смоленск? Они сейчас сделают все, чтобы отогнать нас обратно к Москве.
– Захотеть-то они захотят, только вот им! – Куликов выбросил перед собой внушительную фигу, испачканную грязью, картинно повертел ею из стороны в сторону. – Вот!
В этом Блинов поддерживал своего напарника. Выдернул из кармана телогрейки тряпку, протер казенную часть пулемета, похвалил, будто дело имел с домашней собакой:
– Хорошая машинка, хорошая, – и погладил ласково, как погладил бы дома, в своей деревне, любимого дворового пса.
Не знал еще Коля Блинов, не догадывался и не чувствовал, что через несколько дней крупный осколок танкового снаряда снесет ему ровно половину головы и запузырит вместе с каской так далеко в лес, что черепушку Колину даже не удастся найти.
Но пока он был жив, жи-ив, находился в настроении, в форме, нацелен был трепать фашистов до той славной минуты, пока те, топая копытами, как лошади, не понесутся на запад, к себе в фатерлянд, насвистывал в телогрейку, в теплый проем горла какой-то сельский мотивчик – наверное, из тех, под который на деревенской мотане вели хороводы и пели частушки. Хотя одно с другим совсем не было сопоставимо…
Земля в длинном ротном окопе начала мелко, очень противно подрагивать, из стенок, словно бы ожив внезапно, засочилась вода. Под ногами тоже появилась вода – весенний месяц март брал свое. Понятно было – шли танки, отстаивались они в недалеком лесочке, кучерявившемся слева, по которому пролегала проселочная дорога, там с лёту брали небольшую, промерзшую зимой до дна речку с игривым старинным названием, которое выскочило у Куликова из головы, не захотело задерживаться, – и оказывались на искромсанном, вывернутом, как драная шуба наизнанку, поле перед самой высоткой.
Блинов подтянул к «максиму» железную коробку с патронами, подрагивающими руками заправил ленту, Куликов проверил его работу… Несмотря на неприятно дрожавшие пальцы, Коля заправил ленту точно. Вот оно, мастерство, которое не пропьешь. А Коля Блинов был мастером, он, надо полагать, еще в сопливом детстве знал, что будет толковым вторым номером в пулеметном расчете.
Куликов не выдержал, растянул губы в улыбке, хлопнул напарника рукой по плечу.
– Эх, Коля, Коля… – негромко проговорил он.
– Чего?
– Хороший ты человек, вот чего.
– Ну, не всегда хороший. Иногда, конечно, когда сплю зубами к стенке, с палкой можно пройти мимо, а так… Не мне это определять, ВеПе, хороший я или не очень… Это ты должен определить, либо… – Блинов оглянулся, увидел ротного, который согнувшись шел по окопу к пулеметной ячейке. – Либо вон, товарищ старший лейтенант, он тоже может дать квалифицированное заключение. А я… – Блинов развел руки в стороны, – что я?
Он вздохнул, ткнулся в землю рядом с пулеметом и, пошарив в нише, вырытой специально на уровне сапог, вытащил из нее две противотанковые гранаты, положил на бруствер.
А земля, безжалостно перемалываемая танковыми гусеницами, стала трястись сильнее.
– Рота, приготовиться к атаке немцев! – услышали пулеметчики голос Бекетова у себя за спиной. Вот ротный командир добрался и до них, выполняя комиссарские обязанности, подбадривает народ, ищет теплые слова, чтобы ущипнуть людей за душу, поддержать их. – Ну, как вы тут, дорогие господа пулеметчики?
– У нас все тип-топ, товарищ старший лейтенант, – покладисто отозвался Блинов, Куликов промолчал – при начальстве, даже небольшом, надо стараться говорить как можно меньше, и он этого правила придерживался… Хотя не всегда и не везде это получалось.
– Тип-топ – это хорошо, – одобрил ответ второго номера ротный, глянул через щиток «максима» в пространство, поморщился при виде мертвых немцев с вытянутыми окаменевшими руками, будто они выполняли одну команду (наверное, так оно и было), и перед тем как двинуться дальше, проговорил недовольно: – А ведь завоняют скоро – тогда нас отсюда без всяких танков выкурят… Тьфу!
– Что ж, вполне возможно, и завоняют, тогда придется из штаба дивизии каких-нибудь химиков вызывать. Или похоронную команду.
– Тихо! Тихо, мужики! Вон внизу, совсем недалеко, в лощинке показался первый танк, какой-то плоский, серый, с прикрученным к броне железным скарбом – видать, издалека пришел, раз столько манаток с собою приволок, – суматошный…
Выгребся в лощину и то ли не найдя с первого раза линию обороны, то ли от усталости став суетливым, прокрутился вокруг одной гусеницы, пустил в пространство струю вонючей гари, замер на несколько мгновений и жахнул по высотке выстрелом.
Снаряд пронесся над окопом роты Бекетова низко, очень низко, но вреда не причинил и ушел в тыл. Взорвался не очень далеко – в лесу.
За первым танком в лощину выскочил второй, более решительный и резвый, взревел двигателем и попер прямиком на высотку.
За танком, словно бы из ниоткуда, из воздуха, либо из-под земли взявшись, побежали серые фигурки автоматчиков. Бежали автоматчики умело, оглядываясь и оберегая себя, прикрываясь корпусом шустро шлепающей гусеницами стальной громадины. За вторым танком на простор вымахнул третий, замолотил бешено траками по жесткому насту, взбивая высоко вверх куски льда, черной, как порох земли, пластины твердого одеревеневшего снега, невесть откуда взявшиеся в травяной низине камни. Часть этого добра опустилась на фрицев, бежавших за танком.
– Правильно, – одобрил действия немецких танкистов Куликов, – хотя наш «максим» мог бы угостить получше, – он похлопал рукой по кожуху пулемета. – Много лучше.
Цепь окопов, занятых ротой Бекетова, молчала – стремилась сэкономить патроны (когда еще будет очередной подвоз боеприпасов, кто знает), подпустить немцев поближе и ударить в упор, в лоб, чтобы мало кто сумел уйти. Куликов, вывернув голову, оглядел часть окопной линии, которая была ему видна. Никакой суеты, никакого беспокойства, люди словно бы застыли, превратившись в металл, из которого были сделаны их автоматы и винтовки, внимательно следили за всем, что происходило под высоткой, и были спокойны.
Хотя перед всяким боем что-то напрягалось и на земле, и в небе, так казалось Куликову, воздух начинал натянуто звенеть, – в нем действительно что-то натягивалось, обретало невидимую плоть, на душе делалось тревожно… Тревогу эту можно было одолеть только собственным спокойствием. Или, говоря иначе, самообладанием. Куликов специально запомнил это слово, его часто произносил политрук роты Петрунин, находившийся сейчас в госпитале.
Перед тем как взлететь на высотку, танки прибавили скорость, оторвались от своих солдат, в результате автоматчики лишились прикрытия, прикрывал их теперь только воздух, и Куликов не замедлил воспользоваться этим, дав по немецкой цепи длинную очередь.
Цепь повалилась на землю. Кто из нее и как определился, навсегда или на время, и главное, куда, было непонятно… А вот Куликов обозначил себя рано, танки теперь сосредоточили свое внимание не на высотке, а на пулеметном гнезде, один из них остановился и, как показалось пулеметчикам, по-собачьи присев на задницу, ударил из пушки.
Снаряд прошел низко, легко чиркнул по гребню окопа и унесся в лес, разорвался в паре сотен метров от пулеметного гнезда.
– Однако! – выкрикнул Блинов и замолчал.
Танк заворочался, угодив одной гусеницей в яму, второй размолол труп немца, только обрывки шинели с кусками рваного мяса полетели в сторону окопной линии, и в ту же секунду вспыхнул – машину подбили бронебойщики. Попали толково, очень точно, – хороший стрелок нажал на спусковой крючок противотанкового ружья, – угодили в моторную часть, и по броне танка, по прилипшей к ней кускам льда, снега, по железному хламу, прикрученному к крюкам, задвигались, забегали суматошные языки огня.
Взвыв на высокой ноте, танк отполз назад метров на пятнадцать и застыл – заклинило, как понял Куликов, двигатель. Откинулся верхний люк, в проеме возникла черная фигура, нырнула вниз, на снег, но Куликов не дал танкисту уползти, подсек короткой очередью, вогнал его в землю. Двух других завоевателей, вылезших из танка, он не видел, они выбрались через боковой люк, – у некоторых моделей немецких танков имелись боковые люки, их впору было сравнивать с дверями, – впрочем, пулеметчик в этом не разбирался и в детали не вдавался.
Через несколько минут был подбит второй танк, заполыхал, задымился – его вместе с башней окутало черное маслянистое облако, накрыло жаркой кудрявой тканью, как маскировочной накидкой, третий танк поспешил дать задний ход.
Откатившись метров на сто, он трижды харкнул длинным рыжим огнем – сделал три выстрела по позициям роты Бекетова и, взревев двигателем, поводя из стороны в сторону стволом пушки, исчез. Пара неприцельных хлопков петеэровцев, совершенных вдогонку из противотанкового ружья, вреда ему не причинили.
Оставшись без поддержки, автоматчики также покатились назад – кто бегом, кто ползком, кто на четвереньках, Куликову пришлось их цеплять на мушку по одному и бить короткими очередями. Всех он, конечно, не достал – при пулеметной стрельбе издали много не наработаешь, но кое-кому из захватчиков уже вряд ли удастся вернуться на реку Рейн в Висбаден или в старый рассохшийся городишко Магдебург. Уже одно это поддерживало в Куликове хорошее настроение целых полдня.
А Блинов, тот вообще улыбался, как майское солнышко, насвистывал под нос известную лагерную песенку про задумчивого зэка – «Не для меня весна придет» – и был очень доволен своими окопными успехами.
День выдался сырой. Собственно, в марте в здешних краях редко бывают сухие дни, рядом с лесами дышат болота, их тут так же много, как и различных сосновых рощ и березовых колков, может быть, даже больше, чем хвойных боров и смешанных клинов, примыкающих к этим борам; мокреть, наполнявшая воздух, пробирала до костей.
На родине у Куликова, в Ивановской губернии, такой сырости нет, там много суше, хотя есть места также болотистые, болот, может быть, даже больше, чем здесь, а мокрети меньше. Интересный казус природы. Если же не казус, то тогда что еще?
После двенадцати дня немцы снова полезли в атаку, автоматчиков, как и утром, поддерживали танки, число их удвоилось, танков было шесть; бойцы бекетовской роты тоже не остались без усиления – прибыли артиллеристы, выкатили на прямую наводку три пушки-сорокапятки.
Сорокапятка – пушчонка хоть и маленькая, на вид неказистая, солдаты ее на руках катают, а подкалиберным снарядом пробивает у хваленых немецких танков лобовую броню. «Тигра», может, и не возьмет, но «тигров» на их участке фронта еще не было ни одного, и Куликов никогда не видел их, но фрицевскую броню в танках прежних выпусков сорокапятка прошивала насквозь. Хоть и невелика была калибром прибывшая артиллерия, и неказиста внешне, а почувствовали себя с ней пехотинцы лучше.
Плюс к сорокапяткам имелись еще бронебойщики со своими длинными ружьями, а это тоже сила, так что красноармейцы чувствовали себя еще увереннее. Воевать можно было.
Впрочем, когда Куликов прильнул к пулемету, то уже ни сорокапяток, ни расчетов противотанковых ружей не замечал, он окунулся в свое варево боя, в самую середину, сам выбирал для себя цель и старался поразить ее.
Только отмечал боковым, каким-то вспомогательным зрением – вот зачадил черным маслянистым дымом под высоткой один танк, следом за ним загорелся другой, это родило в пулеметчиках победное, сладкое чувство, разбавленное злорадными нотками: нечего было приходить на чужую землю, господа иноверцы, вас никто сюда не звал…
Один из танковых снарядов всадился точно в ротный окоп, обвалил его с обеих сторон, похоронив под землей сразу трех человек, одному сержанту отрубил по плечо руку, второго бойца, совсем еще юного новобранца, явно приписавшего себе на призывном пункте пару лет, густо нашпиговал осколками… Так густо начинил железом, что сделалось понятно – парень не дотянет до первой перевязки. Третьему разорвало живот.
Этот парень лежал на дне окопа, бледный до прозрачной синевы, и торопливо шарил пальцами вокруг, подбирал свои кишки, перемешанные с мусором, с грязью и земляным крошевом, засовывал к себе в живот и умолял двух бойцов, склонившихся над ним:
– Мужики, вы помогите, пожалуйста, мое добро собрать, засуньте обратно… Я хочу еще немного пожить, а без требухи, понимаете, это не очень получится. Не поленитесь, мужики, не побрезгуйте… А?
По губам у него текла кровь, скатывалась на шею, телогрейка была располосована, среди намокших кровью, слежавшихся пластов ваты что-то билось, трепыхало, а что именно это было, бойцы – жители деревенские – особо и не понимали.
Кишки раненому собрали, запихнули в живот – в медсанбате врачи разберутся, рассортируют, что годится, а что нет, и поставят бойца на ноги, живот прикрыли, чтобы парень не видел его, не расстраивался, но через десять минут красноармейца не стало.
Лицо его обмякло, посветлело, губы задрожали обиженно – ведь грех умирать в таком возрасте, ему еще и девятнадцати лет не было, голова откинулась в сторону. Из-под век выкатились две крупные светлые слезы.
В общем, попробовали немцы сколупнуть с высотки роту Бекетова, да не сколупнули…
Через пару дней беда накрыла и пулеметный расчет Куликова – на упрямо сопротивляющуюся высоту налетело полтора десятка бомбардировщиков «дорнье». Двухмоторные, с короткими хвостами, тяжело просевшие в воздухе, они под самую завязку были набиты бомбами. Двигатели их ревели надсаженно, дымили в воздухе, будто танки на бензиновом ходу, заправленные некачественным горючим, – страх, а не самолеты.
Блинов вывернул голову, пригляделся и сплюнул прямо на бруствер:
– Зениточку бы сюда, от вас бы тогда только одна копоть и осталась бы… Разжужжались тут! Тьфу!
Лучше бы Коля не произносил слов насчет зениток и копоти, все наши высказывания часто накладываются на вещую основу, обязательно отзываются и имеют продолжение, вот ведь как.
Немцы сделали всего два захода на наши позиции, один прикидочный, а за ним второй, уже точный, с учетом поправок, внесенных в карту после первого захода, и открыли бомбовые люки.
Одна из бомб «дорнье» всадилась в бруствер в нескольких метрах от пулеметного гнезда, взбила высокий столб грязи, «максим» подняла в воздух, как обычную деревяшку, и отбросила метров на пятнадцать в глубину нашей территории, за спины бойцов… Вот неумолимая сила!
Куликова бомба оглушила, тем и ограничилась, а вот Коле Блинову не повезло, очень не повезло – осколок, острый, как лезвие косы, всадился ему в лицо и срезал половину головы. Черепушка унеслась в пространство так далеко, что трое солдат из пополнения, прибывшего в роту Бекетова, искали эту важную часть Колиного естества целых два часа… Бесполезно.
Явились новобранцы к Бекетову, показали, что им удалось найти, в том числе и шапку второго номера с погнутой звездочкой, покрытой треснувшей эмалью, – Куликов подтвердил, что это Колина шапка, – а вот черепушки и след простыл. Закинуло ее, наверное, куда-нибудь в город Ржев или в Калинин, либо вообще в Подмосковье, в Истру или в Снегири, где, как знал Куликов, находился большой госпиталь. Он там лежал после ранения.
Шапку эту нахлобучили поглубже на остатки Колиной головы, так, что был виден только небритый костлявый подбородок, черный от засохшей крови, тело отнесли на небольшой погост, возникший на ротных задворках, в удобной тихой низине за окопами, где уже лежало два десятка человек, и опустили на землю около могилы.
Оглушенный Куликов мало чего соображал – не мог вытряхнуть из ушей пронзительный свиристящий звон, прочно ввинтившийся в голову, поэтому могилу пришлось запечатывать все тем же новобранцам. Поисковики эти начали осваивать фронтовую жизнь не с той стороны, с какой надо, могильное дело можно было познавать и в последнюю очередь, но получилось то, что получилось.
Колю завернули в родную шинель, которую он очень берег, рассчитывая после какого-нибудь героического боя получить отпуск и съездить домой, в деревню, но судьба не позволила, под голову положили издырявленный вещевой мешок с изрубленными в лапшу портянками и бритвенными принадлежностями (вдруг на том свете Коле понадобится привести себя в порядок, побриться, так у него все будет под руками) и зарыли могилу.
Куликов пришел в себя, получилось это у него быстро, – на четвереньках подгребся к Колиной могиле. Некоторое время сидел молча, не шевелясь, с неподвижным, словно бы одеревеневшим лицом, одно только жило на его потной, испачканной грязью личине – глаза. На глаза Куликова нельзя было смотреть, они источали не то чтобы боль, а нечто большее, чем просто боль, обжигали, перекрывали дыхание.
Из глаз катились слезы. Страшные немые слезы, способные утопить в своей разящей горечи половину оккупированной Смоленской области…
Новобранцы ушли, Куликов остался один, сгорбился, поник, мял пальцами горло и не мог справиться с собой. В ушах стоял сильный звон, такой звон был способен свалить человека с ног.
Пришел ротный, так же, как и пулеметчик, потрепанный, усталый, с красными слезящимися глазами – кроме усталости Бекетова еще трепала простуда… Жахнуть бы ему сейчас кружку спирта да накрыться шинелью где-нибудь в тихом месте и хорошенько выспаться, – тогда бы все простуды отлепились от него и был бы он здоровый и крепкий, как доброкачественный огурчик, но вряд ли это было возможно.
– Держись, Куликов, – проговорил ротный надсаженно, – крепись. Когда уходит человек, все слова, все речи делаются пустыми, но тем не менее мы их произносим, иначе нельзя. – Старший лейтенант сжал руку пулеметчика. – И что плохо – я никого не могу дать тебе сейчас в напарники, – голос Бекетова сделался виноватым. – Пока не могу… Справляться с пулеметом тебе придется в одиночку, Куликов, выхода нету. Сможешь?
– Смогу, – глухо, едва слышно ответил Куликов.
– Прислали двадцать человек новых, а они все необученные, – пожаловался ротный, – только в кусты ходить умеют. Да и то провожатого надо давать: не ровен час – заблудятся и окажутся в расположении немцев.
Вздохнул Куликов, наклонил голову и произнес по-прежнему едва слышно:
– Понимаю.
Ротный тоже понимал его, он сам был точно так же уязвим, как и все подчиненные ему бойцы, состоял из той же ткани и тех же мышц, из тех же забот, горестей и желания выжить, что и солдаты. Он положил руку на плечо Куликова, произнес прежним надсаженным голосом:
– Еще раз прошу – держись. – Потом, словно бы обдумав что-то, добавил: – Нам всем надо держаться – всем надо, поскольку помощи толковой пока не обещают, – он закашлялся, долго выбухивал в кулак свою боль, остатки дыхания, крутил головой. Щеки его от натуги наливались тяжелым багровым цветом… Наконец ротный справился с собой. – Я пойду, – проговорил он неожиданно просяще, как-то по-свойски, и Куликов в ответ кивнул: можете идти.
Очнулся Куликов от того, что рядом зазвучали звонкие, какие-то очень уж беззаботные голоса – это было совсем не к месту, пулеметчик поморщился от слезной боли, полоснувшей его по груди, ощутил, как задрожали губы, и поднял голову.