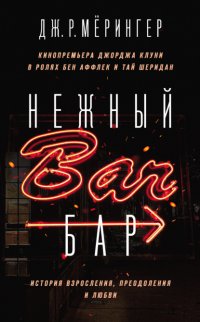
Читать онлайн Нежный бар. История взросления, преодоления и любви бесплатно
- Все книги автора: Дж. Р. Мёрингер
John Moehringer
The Tender Bar: A Memoir
© 2006 J. R. Moehringer
© Голыбина И. Д., перевод на русский язык, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022
Посвящается моей матери
Пролог
Где моря нет, там воды сердца
На берег набегают.
Дилан Томас. «Свет пробивается туда, где солнца нет»
Один из многих
Мы приходили туда и получали все, в чем нуждались. Приходили, когда мучились жаждой – а как иначе? – и когда были голодные, и когда до смерти уставали. Приходили счастливые, чтобы праздновать, и грустные, чтобы скорбеть. Приходили после свадеб и похорон, чтобы успокоить нервы, и перед ними – чтобы набраться храбрости. Приходили, когда не знали, что нам нужно, в надежде, что кто-нибудь нам это скажет. Приходили в поисках любви, или секса, или неприятностей, или человека, который куда-то пропал, потому что рано или поздно все оказывались там. А еще приходили, когда хотели, чтобы кто-то нашел нас.
Мой личный список нужд был длинным. Единственный ребенок, брошенный отцом, я нуждался в семье, в доме, в мужчинах. Особенно в мужчинах. Они были нужны мне как наставники, герои, образцы для подражания и как маскулинный противовес моей маме, бабушке, тетке и пяти двоюродным сестрам, с которыми я жил в одном доме. Бар дал мне всех мужчин, в которых я испытывал потребность, и одного или двух, в которых не испытывал.
Задолго до того, как мне было позволено официально употреблять спиртное, бар меня спас. Он вернул мне веру, когда я был мальчишкой, поддержал в подростковом возрасте, а в юношестве принял в свои объятия. Хоть мне и кажется, что нас притягивают те, кто может нас бросить, и, по-видимому, бросит очень скоро, я, тем не менее, уверен, что определяют нас те, кто нас принимает. Я принял бар всей душой, но однажды вечером он отвернулся от меня, и тот финальный разрыв с баром спас мне жизнь.
Бар всегда находился на том углу, под тем или иным названием, с начала времен, точнее, с отмены сухого закона, которые считались одной и той же датой в моем весьма пьющем родном городе – Манхассете, Лонг-Айленд. В 1930-х в бар заглядывали кинозвезды по пути в близлежащий яхт-клуб и на роскошные прибрежные курорты. В 1940-х бар стал раем для солдат, возвращавшихся с войны. В 1950-х там собирались стиляги и их подружки в пышных юбках. Но настоящей достопримечательностью, землей обетованной, он стал в 1970-м, когда Стив купил это место и переименовал в «Диккенс». Над дверью появился силуэт Чарльза Диккенса, а выше вывеска старым английским шрифтом: Dickens. Столь явственная отсылка к англофильству пришлась не по вкусу местным Кевинам Флиннам и Майклам Галлахерам. Они не стали ей противиться только потому, что горячо одобряли Главное Правило Бара, установленное Стивом: каждый третий напиток бесплатно. К тому же Стив нанял обслуживать столики семь или восемь представителей клана О’Мэлли[1] и постарался придать интерьеру «Диккенса» такой вид, будто его по кирпичику доставили прямиком из графства Донегол[2].
Стив хотел, чтобы его бар был европейским внешне, но американским по духу – настоящим домом для всех его клиентов. Клиентов Стива. В сердце Манхассета, пасторального пригорода с восьмитысячным населением, в семнадцати милях к востоку от Манхэттена, Стив постарался создать надежное прибежище для своих соседей, друзей и собутыльников, а особенно для товарищей по старшей школе, возвращающихся домой из Вьетнама, где они могли бы в полной мере насладиться ощущением безопасности. За что бы Стив ни брался, он всегда был уверен в успехе – уверенность была его самой привлекательной чертой и самым трагическим недостатком, – но «Диккенс» превзошел его самые смелые ожидания. Очень скоро бар Стива стал для жителей Манхассета баром. Точно так же, как мы говорили Сити, имея в виду Нью-Йорк-Сити, или Стрит, имея в виду Уолл-стрит, мы называли Баром только одно место, и ни у кого не возникало вопроса, о чем идет речь. Постепенно «Диккенс» стал даже больше, чем Баром. Он превратился в Место, любимое укрытие от любых житейских бурь. В 1979-м, когда взорвался ядерный реактор на Три-Майл-Айленде[3] и весь северо-восток охватил ужас перед надвигающимся апокалипсисом, жители Манхассета звонили Стиву, бронируя себе места в подвале под его баром. Естественно, подвалы имелись и у них дома. Но в «Диккенсе» было нечто особое. При любой угрозе люди вспоминали в первую очередь о нем.
Бар не только давал укрытие, но и учил особому роду демократии – алкогольному плюрализму. За его стойкой можно было видеть мужчин и женщин из всех слоев общества, которые то ли поучали, то ли принижали друг друга. Какой-нибудь городской нищий запросто мог обсуждать «волатильность рынка» с президентом Нью-Йоркской фондовой биржи, а библиотекарь наставлять прославленного игрока «Янкиз» насчет правильного захвата биты. Слабоумный грузчик мог внезапно высказать нечто столь невероятное и одновременно мудрое, что университетский профессор философии кидался записывать его изречение на салфетке, которую потом заталкивал в карман. А бармены – параллельно делая ставки и смешивая «Розовых белок» – рассуждали, как античные цари.
Стив считал, что бар на углу должен быть самым эгалитарным из всех общественных мест в Америке, и знал, что американцы всегда обожествляли свои бары, таверны и салуны – одно из его любимых выражений. Знал, что они наделяют бары особенным смыслом и приходят туда за чем угодно, от роскоши до убожества, а прежде всего за забвением, которого заставляет их искать главная болезнь современности – одиночество. Он понятия не имел, что пуритане, высадившись в Новом Свете, построили бар даже раньше, чем церковь. Не знал, что американские бары происходят напрямую от средневековых таверн из «Кентерберийских рассказов» Чосера, а те – от саксонских пивных, которые, в свою очередь, являются порождением tabernae, стоявших у дорог в Древнем Риме. Генеалогия бара Стива восходила к первобытным пещерам с наскальными росписями в Западной Европе, где старцы каменного века наставляли молодежь чуть ли не пятнадцать тысяч лет назад. Хоть Стив и не знал всех этих вещей, они были у него в крови и заставляли поступать так, как он поступал. Стив сильней остальных ощущал важность определенного места для человека и, основываясь на этом принципе, сумел создать бар столь странный, причудливый, обожаемый и соответствующий клиентам по духу, что тот прославился далеко за пределами Манхассета.
Мой родной город славился двумя вещами – лакроссом[4] и выпивкой. Год за годом в нем прибывало как потрясающих игроков в лакросс, так и случаев цирроза печени. Некоторые знали Манхассет еще и как место действия «Великого Гэтсби». Фрэнсис Скотт Фицджеральд писал свой роман, сидя на прохладной террасе в Грейт-Нек и глядя через бухту на наш городок, который превратил в вымышленный Уэст-Эгг, отчего местные боулинг и пиццерия обрели некоторое археологическое величие. Каждый день мы проходили по заброшенным декорациям из книги Фицджеральда. Крутили романы на их руинах. То было и стимулом, и настоящей честью. Но, как и бар Стива, эти декорации меркли перед любовью Манхассета к спиртному. Любой, кто бывал там, сразу понимал, почему в романах Фицджеральда выпивка течет, как Миссисипи по равнинам. Мужчины и женщины закатывают грандиозные вечеринки и пьют, пока не свалятся с ног или не собьют кого-нибудь на машине? Да это же обычный вечер вторника на Манхассете!
Манхассет, где располагался самый большой супермаркет алкоголя в штате Нью-Йорк, был единственным городом Лонг-Айленда, в честь которого называли коктейль («Манхассет» – это «Манхэттен», только крепче). Главная улица Манхассета, длиной в полмили, Плэндом-роуд, была улицей мечты любого пьяницы – сплошь бары, бары и бары. Многие в Манхассете сравнивали Плэндом-роуд с вымышленным графством в Ирландии, где люди ходят по улицам, доверху налившись виски, исполненные веселья. Бары на Плэндом-роуд могли соперничать по количеству со звездами на Голливудской аллее славы, и мы гордились этим, упрямо и восторженно. Когда владелец одного из баров на Плэндом-роуд поджег свою собственность, чтобы получить страховку, полицейские обнаружили его в другом баре, по соседству, и сказали, что увозят на допрос. Мужчина прижал руку к сердцу, словно священник, обвиненный в сожжении креста.
– Да как бы я осмелился, – воскликнул он, – как бы любой человек осмелился поджечь бар?
Со своим причудливым разделением на высший класс и рабочих, этническим смешением ирландцев с итальянцами и изобилием представителей богатейших семейств Соединенных Штатов, Манхассет всегда испытывал проблемы с самоопределением. То был город, где чумазые пьянчуги собирались на стадионе «Мемориал» поиграть в «вело-поло»; где соседи прятались друг от друга за идеально подстриженными живыми изгородями, но при этом тщательно следили за всеми жизненными перипетиями по ту сторону; откуда все отправлялись поутру на электричках на Манхэттен, но никто не уезжал навсегда – разве что в сосновом ящике. Хотя Манхассет и напоминал городок в сельской местности, а агенты по недвижимости называли его «спальным районом», мы все придерживались мнения, что это «район баров». Бары помогали нам составить представление о себе и служили неизменным местом встречи. Детская лига, софтбольная лига, лига боулинга и юношеская лига не просто устраивали в баре Стива свои собрания – частенько они встречались в один и тот же вечер.
«Медный пони», «Купол», «Лампа», «Килмид», «Джоан и Эд», «Пробка», «1860», «Ржавое корыто», «Метка» – названия манхассетских баров мы знали лучше, чем названия его улиц и имена отцов-основателей. Периоды существования баров напоминали смены династий: мы измеряли по ним время и находили своеобразное утешение в сознании того, что, стоит одному закрыться, как на его месте тут же возникнет следующий. Бабушка как-то мне сказала, что Манхассет – одно из редких мест, оправдывающих банальную поговорку: кто пьет дома, тот уже алкоголик. До тех пор, пока ты пьешь на людях, не втихаря, ты не пьяница. Поэтому – бары. Много-много баров.
Конечно, многие бары в Манхассете, как и везде, были просто притонами, где люди мариновались в собственном раскаянии. Стив хотел, чтобы его бар был другим. Хотел сделать его утонченным. Представлял себе место, способное удовлетворять запросам самых разных персонажей. В одну минуту – уютный паб, а в следующую – разгульный ночной клуб. Семейный ресторан в начале вечера, а под утро – распутная таверна, где мужчины и женщины врут друг другу в глаза и пьют до упаду. Но главный замысел Стива заключался в том, что «Диккенс» должен быть противоположностью окружающего мира. Прохладный в жару и теплый от первых заморозков до прихода весны. Всегда чистый и светлый, словно жилище идеальной семьи, в существование которой мы верим, хоть на самом деле таких не бывает. Чтобы каждый клиент чувствовал себя особенным, но при этом никто не выделялся. Моей самой любимой историей о баре Стива была та, в которой один сумасшедший заявился туда, сбежав из ближайшей психушки. Никто не посмотрел на него косо. Никто не спросил, кто он такой, или почему он в пижаме, или почему у него так странно поблескивают глаза. Его просто приняли в общий круг, стали развлекать забавными историями и весь день угощали выпивкой. Единственная причина, по которой беднягу в конце концов попросили уйти, заключалась в том, что он ни с того ни с сего спустил с себя штаны. Но даже тогда бармены лишь ласково его пожурили, использовав свое обычное: «Ну-ну, не надо так!»
Как любовные связи, бары зависят от сочетания многих тонкостей: правильно выбранного времени, химии, освещения, удачи и – наверное, в первую очередь, – щедрости. С самого начала Стив объявил, что в «Диккенсе» все будет на широкую ногу. Бургеры – с филе-миньон толщиной в три дюйма, время закрытия – обсуждаемое, вне зависимости от того, что говорит закон, а бокалы – полные до краев. Стандартный напиток в «Диккенсе» – как в других заведениях, двойной. Двойной такой, чтобы глаза лезли на лоб. А тройной, чтобы «ум зашел за разум», по выражению младшего брата моей матери, моего дяди Чарли, первого бармена, которого нанял Стив.
Настоящее дитя Манхассета, Стив веровал в алкоголь. Был обязан ему всем, что имеет. Его отец, дистрибьютор «Хайнекена», после смерти оставил Стиву небольшое состояние. Дочь Стива звали Бренди, а его лодку – Запой, его лицо, после многих лет гомерического пьянства, приобрело характерный алый оттенок. Он видел в себе заклинателя зеленого змия, и жители Манхассета, все как один, повиновались ему. С течением времени у него появилась собственная паства, легион преданных последователей. Этакая секта Стива.
У каждого есть собственное священное место, прибежище, где на сердце становится легче и очищается разум, где чувствуешь себя ближе к Господу, или к любви, или к истине – иными словами, к объекту своего поклонения. Для меня прибежищем был бар Стива. И поскольку я обрел его ребенком, бар стал для меня святыней еще и благодаря ореолу особого почитания, которое дети испытывают к тем местам, где они в безопасности. Для кого-то это может быть классная комната или игровая площадка, театр или церковь, лаборатория, или библиотека, или стадион. Даже собственный дом. Но ничто из вышеперечисленного меня не привлекало. Мы поклоняемся тому, что видим ежедневно. Если бы я вырос на берегу реки или океана, природного источника утешения и отдохновения, возможно, они приобрели бы для меня мифологический смысл. Вместо этого я жил в 142 шагах от потрясающего американского салуна, и это все решило.
Я проводил там отнюдь не все свое время. Я выходил в большой мир, работал, терпел неудачи, влюблялся, бывал одурачен, оставался с разбитым сердцем и открывал новые горизонты. Но благодаря бару Стива каждый новый мой шаг был связан с последующим и с предыдущим. То же самое касалось людей, с которыми меня сводила судьба. Первые двадцать пять лет моей жизни все, кого я знал, либо посылали меня в бар, либо подвозили туда, либо шли со мной вместе. Спасали меня из бара, сидели там, когда я приходил, словно дожидаясь моего появления с того момента, как я родился. К последним относились Стив с парнями.
Я часто говорю, что в баре Стива нашел отцов, в которых нуждался, но это не совсем верно. В какой-то момент бар сам стал мне отцом, а десятки мужчин слились в один гигантский мужской глаз, заглядывающий мне через плечо и обеспечивающий противовес моей матери, игрек-хромосому к ее иксу. Мама понятия не имела, что соперничает с парнями из бара, а парни не знали, что уравновешивают ее. И ей, и им казалось, что они на одном положении, потому что разделяют старые добрые представления о мужественности. И мама, и парни из бара считали, что быть хорошим мужчиной – это искусство, а быть плохим – трагедия, как для мира, так и для людей, которые зависят от тебя плохого. Хотя познакомила меня с этим кодексом мама, в баре Стива его положения подтверждались ежедневно. Бар Стива привлекал и женщин, причем самых разных, но мальчишкой я видел в нем только удивительную выборку мужчин, плохих и хороших. Свободно циркулируя в этом уникальном братстве альфа-самцов, слушая рассказы солдат и бейсболистов, поэтов и полицейских, миллионеров и книжных червей, актеров и бродяг, собиравшихся по вечерам за барной стойкой, я раз за разом слышал одно: различия между нами велики, но причины, по которым так сложилось, самые пустяковые.
Совет, жест, байку, философию, мнение – что-то я заимствовал у каждого из парней в баре. Я мастерски «крал личности», когда это еще не было преступлением. Я мог быть язвительным, как Спортсмен, пафосным, как дядя Чарли, суровым, как Джоуи Ди. Пытался держаться с достоинством, как Боб-Коп, высокомерно, как Кольт, и оправдывать приступы злобы, говоря себе, что им все равно далеко до Вонючкиного праведного гнева. Постепенно я начал применять навыки мимикрии, приобретенные в «Диккенсе», за пределами бара – с друзьями, любовницами, родителями, начальством, даже незнакомцами. Бар научил меня видеть в каждом человеке, с которым нас сводит судьба, своего наставника, или любопытного персонажа, и я благодарен бару, и одновременно виню его за то, что стал отражением – или преломлением – всех этих людей.
Каждый завсегдатай бара Стива был кладезем житейской мудрости. Один пожилой поклонник бурбона сказал мне, что жизнь любого мужчины – это череда гор и пещер. На горы мы взбираемся, а в пещерах прячемся, когда боимся гор. Для меня бар был и тем и другим. Самой уютной пещерой и самой опасной горой. А парни – пещерные люди в душе – стали моими проводниками. Я любил их всей душой, и думаю, они это знали. Пусть им многое пришлось пережить – войны и любовь, позор и славу, богатство и разорение, – вряд ли когда-нибудь другой мальчишка смотрел на них такими же блестящими, влюбленными глазами. Мое поклонение было им в новинку, и поэтому, наверное, они похитили меня в мои одиннадцать лет. Мне кажется, я до сих пор слышу их голоса. Оу, пацан, что-то тебя понесло.
Стив, думаю, выразился бы так: я влюбился в бар, и любовь оказалась взаимной, поэтому тот роман оказал влияние на все последующие. В нежном возрасте, стоя посреди «Диккенса», я решил, что жизнь – это череда романов, и каждый новый является реакцией на предыдущий. Один из многих романтиков в баре Стива, я пришел к этому заключению и поверил в цепную реакцию любви. И эта вера, как сам бар, объединяли нас. Благодаря им моя повесть – всего лишь нить в толстом канате, которым перевита наша общая история любви.
Часть первая
В каждом мужчине дремлет бесконечное множество скрытых потенциалов, которые не стоит будить без нужды. Поскольку это ужасно, когда мужчина так и остается эхом, не превращаясь в настоящий голос.
Элиас Канетти. «Записки из Хэмпстеда»
Глава 1. Мужчины
Не каждый мужчина может досконально проследить свою эволюцию от маленького мальчика до завсегдатая бара, но моя началась жаркой летней ночью 1972 года. Мне было семь, и мы с мамой ехали по Манхассету, когда я, выглянув в окно, заметил девятерых парней в оранжевой форме для софтбола, бегающих по стадиону «Мемориал», с профилями Чарльза Диккенса, отпечатанными на груди.
– Кто это? – спросил я маму.
– Парни из «Диккенса», – ответила она. – Видишь, вон твой дядя Чарли. И его босс, Стив.
– А нам можно посмотреть?
Она остановила машину, и мы расположились на трибуне.
Солнце садилось, и мужчины отбрасывали на землю длинные тени, такие же черные, как профили у них на груди. Футболки, надетые поверх защитных доспехов, растянулись так, что профили выглядели кляксами, образовавшимися, когда игроки ступали в собственную тень. Они казались нереальными, словно персонажи мультфильма. С прилипшими к голове волосами, в гигантских ботинках, непропорционально раздутые выше талии, эти парни были похожи на Блуто и Попая или Элмера Фадда, наевшегося стероидов, за исключением моего тощего дядюшки Чарли, который патрулировал инфилд, словно фламинго с больными коленями. Помню, что Стив размахивал деревянной битой размером с телеграфный столб, и при каждом хоум-ране, который он делал, мяч зависал в небе подобно второй Луне.
Стоя на позиции отбивающего, этот Бейб Рут[5] пивной лиги зарывался ногами в землю и хрипло орал на питчера, чтобы тот послал ему такой мяч, который можно разнести в пыль. Питчеру было одновременно и страшно и весело, потому что Стив, даже крича на него, продолжал улыбаться. Его улыбка напоминала луч света от маяка, в котором каждый чувствует себя в безопасности. А еще это был приказ – всем улыбаться тоже. Ему невозможно было противиться, и не только тем, кто находился рядом. Стив и сам никак не мог перестать скалить зубы. И он, и остальные парни из «Диккенса» обожали соревноваться, но никогда бы не допустили, чтобы игра помешала их главной цели в жизни – веселью. Вне зависимости от счета, они не прекращали хохотать, и болельщики на трибунах тоже. Я смеялся сильнее всех, хоть и не понимал их шуток. Смеялся просто потому, что смеялись все вокруг, смеялся над ходом игры и тем, как они меняли время, когда им требовалось, увеличивая его чуть ли не вдвое.
– Почему они все ведут себя так глупо? – спросил я маму.
– Ну, просто они… счастливы.
– Из-за чего?
– Это пиво, дорогой. Они счастливы из-за пива.
Каждый раз, когда мужчины пробегали мимо, в воздухе повисал шлейф ароматов. Пиво. Лосьон после бритья. Кожа. Табак. Тоник для волос. Я глубоко вдыхал, стараясь его запомнить – эту квинтэссенцию мужества. С тех пор, стоило мне поднести к носу флакон «Шаффера», бутылку «Аква Вельвы», смазанную «Сполдингом» бейсбольную перчатку, пачку «Лаки Страйка» или бутылку «Виталиса», я снова переносился туда, на трибуну, где мы с мамой сидели, наблюдая за пивными гигантами, топчущимися по ромбу площадки.
Тот софтбольный матч стал для меня началом многих вещей, но прежде всего отсчета времени. Воспоминания до него обрывочные и фрагментарные, а после текут плавно и непрерывно, одной лентой. Возможно, мне требовалось обрести свой бар, один из организующих принципов моей жизни, прежде чем я смогу рассматривать ее как целостный и достоверный нарратив. Я помню, как обернулся ко второму организующему принципу моей жизни и сказал ей, что хотел бы смотреть на этих мужчин вечно. Но мы не можем, детка, ответила она, игра уже закончилась. Что? Я в панике подскочил с места. Мужчины уходили с поля, обнимая друг друга за плечи. Когда они скрылись за живой изгородью из сумаха вокруг стадиона, выкрикивая на ходу «увидимся в «Диккенсе», я начал плакать. Мне хотелось пойти за ними.
– Но зачем? – спросила мама.
– Посмотреть, что там такого.
– Нет, мы не пойдем в бар, – ответила она. – Мы идем… домой.
Она всегда спотыкалась на этом слове.
Мы с мамой жили в доме моего деда, настоящей достопримечательности Манхассета, почти столь же знаменитой, как бар Стива. Люди часто указывали на дом пальцем, проезжая мимо, а однажды я услышал, как прохожие шутили, что он пострадал от «какой-то тяжелой архитектурной болезни». На самом деле дом страдал лишь от сравнений. На фоне элегантных викторианских пряничных домиков и изысканных особняков в голландском колониальном стиле, дедов обветшалый «Кейп-Код» выглядел отталкивающе. Дед утверждал, что не может себе позволить ремонт, но на самом деле ему было просто все равно. С некоторым пренебрежением и извращенной гордостью он называл его Говноприютом и нисколько не обеспокоился, когда крыша начала проседать, словно шатер бродячего цирка. Он не обращал внимания, когда от дома отваливались куски штукатурки размером с игральную карту. Дед накричал на бабушку, когда она показала ему змеистую трещину на подъездной дорожке, похожую на след от молнии – кстати, молния туда действительно попадала. Мои двоюродные братья своими глазами видели, как огненная плеть хлестнула по дорожке, едва не ударив в навес. Даже Господь, подумал я, тычет пальцем в дедушкин дом.
Под этой проседающей крышей мы с мамой жили в компании деда, бабушки, маминых взрослых брата и сестры – дяди Чарли и тети Рут – и шестерых детей тети Рут, пяти дочек и одного сына. «Народные массы, не желающие платить за жилье», – называл нас дед. Бар Стива по адресу 550, Плэндом-роуд, был пристанищем для всех беспокойных душ, а дедушкин дом, номер 646 – ночлежкой.
Дед тоже мог бы вывесить над дверью профиль Чарльза Диккенса, потому что условия в его жилище сильно напоминали работный дом диккенсовских времен. В нем ютилось двенадцать обитателей, а функционирующая ванная была всего одна, так что ждать приходилось невесть сколько, и выгребная яма все время переливалась (Говноприют порой становился не просто остроумным сравнением). Горячая вода по утрам заканчивалась посередине Душа Номер Два, возвращалась ненадолго во время Душа Номер Три, а потом дразнила и жестоко обманывала того, кто принимал Душ Номер Четыре. Мебель, большая часть которой относилась к третьему президентскому сроку Франклина Рузвельта, держалась на скотче… и еще скотче. Единственными новыми предметами домашнего обихода были пивные стаканы, «одолженные» в «Диккенсе», и диван из «Сирс» в гостиной, обитый тканью с психоделическим узором из колоколов, американских орлов и портретов отцов-основателей. Мы называли его «двухсотлетним диваном». Конечно, мы прибавляли тут пару лет, но дед говорил, что название очень подходящее, потому что диван выглядит так, будто Джордж Вашингтон переправлялся на нем через реку Делавэр.
Хуже всего в дедовом доме был бесконечный шум – двадцатичетырехчасовая череда ругани, плача и драк, криков дяди Чарли, что он хочет выспаться, и тирад тети Рут в адрес ее шестерых детей, больше похожих на душераздирающие вопли голодной чайки. Ритм этой какофонии задавал равномерный перестук, поначалу слабый, а потом становящийся все более назойливым, словно сердцебиение в глубинах Дома Ашеров[6]. В Доме деда вместо сердца стучала входная дверь, которая открывалась и закрывалась, когда кто-то приходил и уходил – скрип-стук-скрип-стук, – а еще шаги всех домочадцев, которые топали каблуками, словно полк пехотинцев. Наслушавшись криков и стука дверей, ругани и топота, к вечеру ты сам начинал лаять и визжать, как собака, которая сбегала при малейшей возможности. На закате наступало крещендо – это был самый громкий и нервный момент за день, потому что мы садились ужинать.
Усевшись вокруг колченогого стола в столовой, мы все говорили одновременно, пытаясь отвлечься от еды. Бабушка готовила отвратительно, а дед практически не давал ей денег на продукты, поэтому содержимое надтреснутых мисок, подававшихся из кухни, казалось одновременно и страшным и забавным. Приготовление спагетти с фрикадельками по бабушкиному рецепту подразумевало, что она разваривает пасту в кастрюле до состояния клея, выливает туда банку консервированного томатного супа, а сверху выкладывает куски сырых сосисок. Соль и перец по вкусу. Однако несварение у нас вызывала не ее стряпня, а дед. Угрюмый человеконенавистник, заика и скупердяй, он каждую ночь возвышался во главе стола над своими двенадцатью непрошеными гостями, включая собаку. Этакий ирландский вариант Тайной вечери. В его взгляде так и читалось: «каждый из вас предаст меня». Надо отдать ему должное, дед никого не прогонял. Но и рад никому не был, и часто заявлял во всеуслышание, что нам «пора убираться отсюда к чертовой матери».
Мы с мамой убрались бы с удовольствием, но нам некуда было идти. Зарабатывала она очень мало, а отец, обзаведшийся новой семьей, не давал ей ни копейки. Он был крепким орешком, мой папаша, взрывной смесью обаяния и гнева, и у мамы не осталось другого выбора, кроме как бросить его, когда мне исполнилось семь месяцев. В качестве ответной меры он просто исчез – лишив ее какой-либо помощи.
Поскольку на момент его исчезновения я был слишком мал, то не запомнил, как выглядит мой отец. Я знал только его голос, и очень хорошо. Популярный диск-жокей, отец каждый день обращался ко мне в микрофон откуда-то из Нью-Йорк-Сити: его сочный баритон пролетал по Хадсон-ривер, через бухту Манхассет, вдоль Плэндом-роуд и миллисекунду спустя вырывался из оливкового цвета динамика дедова радиоприемника на кухонном столе. Голос у отца был такой глубокий и зычный, что от него звенели столовые приборы, а ребра начинали зудеть.
Все взрослые в доме деда старались защитить меня, делая вид, что моего отца не существует. (Бабушка даже не упоминала его имя – Джонни Майклз, – а называла просто Голосом.) Они хватались за рукоятку всякий раз, заслышав его, и даже прятали от меня приемник, что приводило к бурным рыданиям. Окруженный женщинами и всего двумя мужчинами, державшимися крайне отстраненно, я расценивал Голос как свою единственную связь с мужским миром. Кроме того, он был для меня единственным способом заглушить остальные раздраженные голоса в доме. Голос, каждый вечер устраивавший в зеленой коробочке вечеринки со Стиви Уандером, Ван Моррисоном и «Битлз», служил противоядием от хаоса, царившего вокруг. Когда бабушка с дедом воевали из-за денег на продукты или тетя Рут от ярости что-то швыряла о стену, я прижимался ухом к динамику, и Голос рассказывал мне что-нибудь забавное или ставил песенку «Пепперминт Рейнбоу». Я внимал ему так самозабвенно и так старательно игнорировал остальные голоса, что стал настоящим мастером избирательного слушания, которое считал даром свыше, пока оно не оказалось проклятием. Жизнь – всегда выбор между тем, какие голоса ты слушаешь, а какие нет, и этот урок я усвоил гораздо раньше остальных, но мне потребовалось немало времени, чтобы правильно пользоваться своим знанием.
Помню, как-то раз мне было особенно одиноко, и я поймал отцовское шоу. Первой он поставил песню «Фор Сизонс», «Стремлюсь обратно к тебе», а потом сказал своим самым бархатным, самым шелковым тоном, с улыбкой в голосе: «Я стремлюсь обратно к тебе, мама – но придется потерпеть, потому что зарабатываю я пока только развозом газет». Я закрыл глаза, засмеявшись его шутке, и на несколько мгновений позабыл, кто я и где нахожусь.
Глава 2. Голос
Мой отец обладал множеством талантов, но главный его талант был исчезать. Без предупреждения он менял время выхода в эфир и радиоволну. Я выносил приемник на крыльцо, где радио ловилось лучше. Поставив его на колени, я вращал антенну и медленно поворачивал рукоятку, чувствуя себя совсем потерянным, пока Голос не возникал снова. Однажды мама поймала меня за этим занятием.
– Что ты делаешь? – спросила она.
– Ищу отца.
Мама нахмурилась, потом развернулась и пошла назад в дом.
Я знал, что на маму Голос не оказывает столь же успокаивающего действия. Для нее голос отца «звенел деньгами» – как писал Фицджеральд про другой беззаботный голос из Манхассета. Когда отцовский баритон гремел из динамика, маме было не до его шуток и обаяния. Она слышала лишь пропущенные платежи по алиментам, которых он не высылал. Проведя весь день за радиоприемником, слушая Голос, я нередко видел, как мама перебирает почту в поисках чека от него. Бросая на стол стопку конвертов, она поворачивалась ко мне с пустым лицом. Ничего. Опять.
Ради мамы я старался не включать радио громко. Пытался вообще больше не слушать Голос, но ничего не мог с собой поделать. В дедовом доме за всеми водились грехи – выпивка, сигареты, азартные игры, ложь, сквернословие, распутство. Голос был моим грехом. Моя зависимость от него росла, а с ней и прощение, и вскоре просто слушать стало для меня недостаточно. Я начал разговаривать с ним. Рассказывал Голосу о школе, детской лиге, о маминых проблемах со здоровьем. Говорил, что каждый вечер она возвращается домой совсем без сил и я постоянно за нее беспокоюсь. Если мне удавалось правильно подгадать с паузами – слушать, когда Голос говорит, и говорить, когда он замолкает, – у нас выходила настоящая беседа.
Наконец мама застала меня.
– С кем ты говоришь? – спросила она.
– Ни с кем.
Потрясенная, она поднесла руку ко рту. Я приглушил звук.
Как-то вечером, когда Голос вышел из эфира, в дедовой гостиной раздался телефонный звонок.
– Ответь, – сказала мама каким-то странным тоном.
Я взял трубку.
– Алло?
– Алло, – сказал Голос.
Я судорожно сглотнул.
– Папа?
Я ни разу не произносил этого слова раньше. Мне показалось, что внутри у меня что-то взорвалось, словно пробка выстрелила из бутылки. Он спросил, как у меня дела. В каком я классе? Правда, уже? Хорошие у нас учителя? Он не спрашивал про маму, которая потихоньку организовала этот звонок, когда услышала мои разговоры с отцом по радио. Не объяснял, почему никогда меня не навещает. Просто болтал со мной, словно со старым армейским приятелем. Потом я услышал, как он глубоко затянулся сигаретой и выдохнул с такой силой, что мне показалось, струя дыма вот-вот вырвется из телефонной трубки. Я слышал этот дым в его голосе, и сам этот голос был дымом. Именно так я представлял себе отца – как говорящий дым.
– Ну, – сказал он, – как насчет того, чтобы сходить на бейсбол со своим стариком?
– Ух ты! Серьезно?
– Конечно.
– На «Метс» или «Янки»?
– «Метс», «Янки», все равно.
– Дядя Чарли говорит, «Метс» заходили в «Диккенс» пару дней назад.
– Как, кстати, у него дела? И что там в баре?
– Завтра вечером они играют с «Брейвз».
– Кто?
– «Метс».
– О! Понятно.
Я услышал перезвон кубиков льда в бокале.
– Отлично, – сказал он. – Завтра вечером. Заеду за тобой к деду. В половине седьмого.
– Буду ждать.
В половине пятого я был уже полностью готов. Сидя на крыльце в бейсболке «Метс», в митенках с Дэйвом Кэшем[7], я провожал глазами каждую машину, проезжавшую мимо. Я ждал отца, но даже не знал, что это означает. Мама не сохранила его фотографий, и я еще не бывал в Нью-Йорке, где его лицо красовалось на рекламных щитах и бортах автобусов. Мой отец мог запросто оказаться одноглазым, в парике и с золотыми зубами. Я не ткнул бы в него на опознании в полиции – кстати, бабушка не раз говорила, что рано или поздно это его ждет.
В пять бабушка вышла из дверей.
– Я думала, вы договорились на половину седьмого, – сказала она.
– Я решил подождать тут. Вдруг он приедет раньше.
– Твой отец? Раньше? – она причмокнула языком.
– Мама звонила с работы. Сказала напомнить тебе взять куртку.
– Сейчас слишком жарко.
Она снова чмокнула языком и ушла. Бабушка не любила моего отца – и не она одна. Вся семья бойкотировала свадьбу моих родителей, за исключением маминого брата-бунтаря, дяди Чарли, на четыре года младше, который вел ее к алтарю. Мне было стыдно, что я так радуюсь отцовскому визиту. Я знал, что это неправильно – встречать его, думать о нем, любить его. Как мужчине в семье и маминому защитнику мне следовало потребовать у отца деньги, как только он появится на пороге. Но я не хотел его отпугнуть. Я мечтал познакомиться с ним сильней, чем вживую увидеть своих обожаемых «Метс» первый раз в жизни.
Я чеканил резиновый мячик о крыльцо и пытался сосредоточиться на хороших вещах, которые знал об отце. Мама говорила мне, что до работы на радио он был стендап-комиком, и люди «животы надрывали от смеха» на его выступлениях.
– А что такое стендап? – спросил я.
– Это когда человек встает перед залом и всех смешит, – ответила она.
Мне стало интересно, будет ли отец стоять передо мной и смешить меня. Что, если он похож на моего любимого комика, Джонни Карсона? Хорошо бы! Я обещал Господу, что никогда больше ни о чем не стану просить, если мой отец будет похож на Джонни Карсона – с его хитрым прищуром и легкой улыбкой в уголках рта.
И тут ужасная мысль заставила меня отвлечься от мячика. Что, если мой отец, зная, что вся семья его ненавидит, не захотел свернуть к нам на подъездную дорожку? Вдруг он притормозил на Плэндом-роуд, посмотрел на меня издалека и уехал? Я кинулся к проезжей части. Теперь я смогу запрыгнуть к нему в окно, если он замедлит ход, и мы умчимся вдаль. Я склонился над дорогой, словно автостопщик, всматриваясь в мужчин за рулем и гадая, кто из них может быть моим отцом. Все они оглядывались, встревоженные и раздраженные, не понимая, с какой стати семилетний мальчишка так пристально разглядывает их.
В восемь вечера я вернулся на крыльцо и стал наблюдать за закатом. Горизонт был оранжевый, как форма «Диккенсов» для софтбола и буквы NY на бейсболках «Метс». Дядя Чарли отправился в бар. Он прошел через газон, низко опустив голову, и так увлеченно протирая салфеткой свои солнечные очки, что не заметил меня.
В половине девятого бабушка снова вышла из дома.
– Пойди съешь чего-нибудь, – сказала она.
– Нет.
– Но тебе надо поесть.
– Нет.
– Хоть кусочек.
– Мы поедим хот-догов на стадионе.
– Хм…
– Он просто опаздывает. Скоро приедет.
Я слышал, как дед включил трансляцию матча «Метс» на девятом канале. Обычно из-за плохого слуха и постоянного шума в доме он врубал звук телевизора на полную мощность. Но в тот вечер – ради меня, – приглушил его.
В девять я решил попробовать кое-что новенькое. Если я не буду высматривать следующую машину, подумал я, если просто гляну на водителя, то это наверняка окажется мой отец. Эту стратегию, в которой я был полностью уверен, я опробовал на тридцати машинах.
В половине десятого я сделал первый шаг к примирению с неизбежным. Снял бейсболку «Метс». Положил ловушку на крыльцо и сел на нее, как на подушку. Проглотил кусок бабушкиной жареной курицы.
В десять я заскочил в дом, чтобы пописать. Пробегая через холл, услышал рев толпы на стадионе «Шиа», когда кто-то из игроков сделал хоум-ран.
В одиннадцать игра закончилась. Я вернулся к себе, надел пижаму и залез под одеяло. Спустя несколько секунд после того, как я погасил свет, дедушка появился у изножья моей кровати. Даже будь это Линдон Джонсон, я и то удивился бы меньше.
– Мне жаль, – сказал он. – Насчет твоего отца.
– О! – ответил я вроде как равнодушно, изо всех сил цепляясь за спасительное одеяло.
– Я даже рад, что он не приехал. Мне все равно не нравились брюки, которые я надел сегодня.
Дед кивнул и вышел из комнаты.
Я лежал в темноте, слушая разговор деда с бабушкой на кухне – они говорили, что мой отец «даже Джей Ару навешал лапши». Но тут к дому подъехала машина, и оба замолчали. Гравий захрустел под колесами, потом водитель заглушил мотор. Папа! Я выскочил из постели и кинулся к дверям. В конце узкого коридора, ведущего к входу, стояла мама.
– О нет! – воскликнула она. – Что ты тут делаешь? Вы же должны были идти на матч!
Я покачал головой. Она быстро подошла ко мне, и я обхватил ее руками, потрясенный тем, насколько сильно люблю ее и как бесконечно в ней нуждаюсь. Прижавшись к ней, рыдая ей в колени, я думал о том, что она – все, что у меня есть, и если я не буду изо всех сил заботиться о ней, то останусь совсем один.
Глава 3. Спасительное одеяло
Когда я не сидел, скорчившись над радиоприемником и слушая Голос, то настраивался на мамину волну и следил за ее настроением. Я наблюдал за ней, анализировал ее, ходил за ней из комнаты в комнату. Это было больше, чем привязанность, больше, чем стремление защитить. По сути, я преследовал ее, потому что, сколько бы я ни смотрел и ни слушал, мама оставалась для меня загадкой.
В хорошем настроении, радостная и полная любви, мама могла быть на редкость громкой. Но когда ей было грустно или обидно, когда она боялась или беспокоилась о деньгах, то замолкала, а лицо ее становилось пустым. Некоторые люди воспринимали это как холодность. Но они ошибались. Даже в свои семь я понимал, что за маминым молчанием и равнодушным лицом таится настоящий фонтан эмоций. То, что выглядело отсутствием чувств, на самом деле было гейзером. Вулканом. Мама пряталась за маску притворного спокойствия из скромности, словно за ширму, когда переодеваешься.
Бабушка говорила, что в ней всегда было нечто необъяснимое, и как-то раз даже рассказала мне историю, которая наглядно это подтверждала. Когда мама училась во втором классе, учительница задала всем вопрос, и мама подняла руку. Она знала ответ, и ей не терпелось произнести его вслух. Но учительница спросила кого-то другого. Через пару минут учительница заметила, что мама так и сидит с поднятой рукой.
– Дороти, – сказала она, – опусти руку.
– Не могу, – ответила мама.
– Опусти руку сейчас же, – повторила учительница.
Мамины глаза наполнились слезами.
Учительница отослала маму к директору, а тот отправил к медсестре, которая заключила, что мама не притворяется. Ее рука действительно застыла в поднятом положении. Бабушку вызвали в школу, и она описала мне их долгий и странный путь обратно домой, когда мама шла за ней, по-прежнему держа руку в воздухе. Бабушка уложила маму в кровать – единственное, что она смогла придумать, – и наутро, когда горечь разочарования, видимо, отступила, мамина рука опустилась вниз.
Хотя мама была загадочной по своей природе, порой она использовала эту загадочность намеренно. Самый честный человек из всех, кого я знал, она одновременно была изощренной лгуньей. Чтобы не причинить другому боль, смягчить тяжесть плохих новостей, она искажала правду или просто выдумывала что-нибудь без всякого стеснения. Ее ложь была настолько тонкой и преподносилась так ловко, что мне ни разу не случалось в ней усомниться. В результате время от времени в своих детских воспоминаниях я натыкаюсь на одну из маминых выдумок, напоминающих причудливо раскрашенное пасхальное яйцо, которое пролежало спрятанным так долго, что о нем напрочь забыли.
Первая ее ложь, которую я помню, относится к нашему переезду в маленькую квартирку в пяти минутах от дедова дома. Наконец-то, сказала она, нам удалось сбежать. Она была безудержно, мятежно счастливой, пока ее не уволили с работы. Очень скоро я нашел у нее в сумочке продуктовые талоны.
– Что это такое? – спросил я.
– Купоны на скидку, – ответила мама жизнерадостно.
Она не хотела, чтобы я знал о нашем банкротстве. Не хотела, чтобы я беспокоился. По этой же причине она солгала, когда я спросил, почему мы не купим телевизор.
– Видишь ли, я и сама хотела его купить, – сказала мама, – вот только производители телевизоров устроили забастовку.
Неделями я спрашивал ее о забастовке на телевизионном заводе, и она с лету сочиняла захватывающие истории о пикетах на проходной и ходе переговоров с дирекцией. Когда ей удалось скопить достаточно, чтобы приобрести подержанный черно-белый «Зенит», она подошла ко мне и объявила, что дирекция пошла на уступки. Долгие годы я считал, что на Лонг-Айленде приостанавливалось производство телевизоров, пока не упомянул об этом на какой-то вечеринке и не обратил внимание, как странно все на меня смотрят.
В тех редких случаях, когда маму ловили на лжи, она держалась с очаровательной самоуверенностью. Холодно объясняла, что у нее «свои отношения» с правдой, и, как любые отношения, они требуют компромиссов. Солгать, по ее убеждению, было не большим грехом, чем приглушить звук радиоприемника, чтобы уберечь меня от Голоса. Она просто приглушала громкость правды.
Ее самая вдохновенная ложь стала водоразделом в наших отношениях, потому что касалась моей самой драгоценной собственности – спасительного одеяла. Одеяло из салатового сатина, простеганное толстыми белыми нитками, было моим вторым наваждением после Голоса. Я приходил в бешенство, если его куда-нибудь убирали. Я носил его как пончо, как юбку и шарф, а иногда и как шлейф на платье невесты. Я считал одеяло своим верным другом в жестоком мире, а мама – симптомом будущего психического расстройства. В семь лет никто не таскает за собой одеяло, говорила она, пытаясь меня урезонить, но когда здравому смыслу удавалось взять верх над патологической привязанностью? Она пыталась отнять у меня одеяло, но, стоило ей отцепить от него мои руки, как я ударялся в истерику. И вот однажды, проснувшись ночью, я увидел ее сидящей на краю постели.
– Что случилось? – спросил я.
– Ничего. Спи.
В следующие несколько недель я начал замечать, что одеяло уменьшается в размерах. Я спросил маму, и она ответила:
– Наверное, садится при стирке. Надо будет стирать холодной водой.
Много лет спустя я узнал, что мама по ночам пробиралась ко мне в комнату и ножницами отрезала от спасительного одеяла узкие полоски, пока оно не превратилось в спасительную шаль, потом в спасительный платок, а потом в спасительную заплатку. Со временем у меня появились новые спасительные одеяла – люди и мысли, и особенно места, к которым я болезненно привязывался. Но что бы ни случалось со мной в жизни, я никогда не забывал, как осторожно мама отобрала у меня самое первое.
Единственное, о чем у мамы не получалось лгать, это то, насколько дедов дом оскорблял ее. Она говорила, что на его фоне Амитивилль[8] кажется Тадж-Махалом. Что дедов дом надо спалить дотла, а землю засыпать солью. Что это манхассетская версия Алькатраса[9], только матрасы тут еще жестче, а манеры за столом еще отвратительней. В девятнадцать она сбежала – в буквальном смысле улетела, – поступив в «Юнайтед Эрлайнс» стюардессой, и порхала по всей стране в аквамариновой униформе с шапочкой. Пробовала и другие неожиданные работы, например, телефонисткой в «Кэпитол-Рекордс», где познакомилась с Натом Кингом Коулом и подслушала телефонный разговор босса с Фрэнком Синатрой. Сейчас, в тридцать три года, оставшись одна с ребенком и без гроша за душой, она вернулась в дедов дом, что было для нее горьким поражением и шагом назад. Она работала сразу в трех местах – секретаршей, официанткой и няней, – и откладывала деньги на наш «Следующий Большой Побег». Но ни один из этих побегов не удался. Месяцев через шесть-девять сбережения заканчивались, квартирная плата поднималась, и мы снова оказывались в Говноубежище. К моим семи годам мы сбегали от деда трижды, и трижды возвращались.
Хотя Говноубежище мне совсем не нравилось, я не испытывал к нему такой ненависти, как мама. Просевшая крыша, перемотанная скотчем мебель, переполняющаяся выгребная яма и двухсотлетний диван – все это казалось мне справедливой платой за возможность жить рядом с кузенами, которых я обожал. Мама это понимала, но дедов дом высасывал из нее силы до такой степени, что она не получала никакого удовольствия от того, какую компенсацию я имел. Я так устала, повторяла она. Так устала.
Больше, чем переезд к деду, больше, чем необходимость снова таскать вещи, маму убивало осознание того, что возврат неизбежен. Помню, я проснулся в очередной квартирке с одной спальней, вышел на кухню и увидел маму, сидящую над калькулятором. Судя по всему, она тыкала в кнопки с самого рассвета и выглядела так, будто это калькулятор тыкал в нее. Я давно подозревал, что она ведет с ним беседы, как я с радиоприемником, и в то утро застал ее с поличным.
– С кем ты разговаривала? – спросил я.
Она подняла глаза и уставилась на меня со своим равнодушным выражением.
– Мам?
Ничего. У меня на глазах она превратилась в ту самую школьницу, застывшую с поднятой рукой.
Каждый раз, когда мы возвращались к деду, мама настаивала, чтобы мы регулярно совершали «разгрузочные» вылазки. Воскресными вечерами мы садились в свой проржавевший «Т-Берд» 1963 года, который грохотал, как пушки времен Войны за независимость, и отправлялись прокатиться. Начинали с Шор-драйв, самой роскошной улицы Манхассета, где белоснежные особняки с колоннами превосходили размером городскую ратушу, а у некоторых были еще и яхтенные причалы.
– Только представь, каково жить в таком месте, – говорила мама.
Она останавливалась у самого большого дома, с золотисто-желтыми ставнями и террасой по всему периметру.
– Представь, лежишь себе в постели летним утром, – продолжала она, – а окна открыты, и ветерок с моря раздувает занавески.
Почему-то во время наших вылазок непременно шел мелкий дождик, и мы с мамой не выходили из машины, чтобы взглянуть поближе. Мы сидели, не заглушая мотор, чтобы работала печка, и дворники гоняли воду по стеклу взад-вперед. Мама разглядывала особняк, а я разглядывал маму. У нее были блестящие каштановые волосы до плеч и зеленовато-карие глаза, которые становились совсем зелеными, когда она улыбалась. Однако обычным выражением ее лица была сдержанная сосредоточенность, как у юной аристократки, позирующей для портрета в честь дебюта в свете. Это было выражение женщины, которая, конечно, нежная и хрупкая, но готова драться зубами и когтями за тех, кого любит. По некоторым фото моей мамы можно понять, что она сознавала эту свою способность – в суровые времена забывать о деликатности натуры и биться насмерть, – и гордилась ей. Камера ухватила эту гордость, а вот я, семилетний, ее не замечал. Единственное, что я тогда сумел разглядеть, это удовольствие, которое она находила в своем стиле. Хрупкая и миниатюрная, мама прекрасно знала, какая одежда будет выигрышно на ней смотреться. Даже когда мы сидели без денег, она умудрялась выглядеть классно, что обусловливалось, скорее, ее манерой держаться, нежели собственно одеждой.
Через некоторое время хозяева дома, услышав «Т-Берд», начинали выглядывать в окно. Мама трогалась, и мы поворачивали на юг по Плэндом-роуд, проезжая через коммерческий квартал, который начинался с «Диккенса» и заканчивался церковью Святой Марии. Мне нравилось, что Манхассет, словно скобки, замыкают два этих священных места – каждое со своей переменчивой паствой. За церковью мы поворачивали налево, на Северный бульвар, а потом направо, на Шелтер-Рок-роуд, проезжая мимо самого Шелтер-Рок, камня весом 1800 тонн, прокатившегося по территории штата тысячелетия назад. В миле оттуда, на стадионе начальной школы Шелтер-Рок, я играл в софтбол. О Шелтер-Роке ходили легенды. Столетиями под его крутым выступом, естественным навесом из камня, люди укрывались от дождя, диких зверей и своих врагов. Ему поклонялись индейцы, жившие на берегах бухты Манхассет, потом голландские фермеры, приплывшие в Америку в XVII веке, чтобы разбогатеть на разведении коров, потом – британцы, искавшие религиозной свободы в XVIII веке, а потом миллионеры, которые в XIX веке стали строить на Шелтер-Рок-роуд свои поместья. Если у деда станет совсем невыносимо, думал я, мы с мамой поселимся возле Шелтер-Рок. Будем спать под каменным навесом и готовить пищу на костре – хоть это и трудно, нам не привыкать.
После скалы мы проезжали череду пологих холмов, где стояли еще более роскошные особняки, чем у воды. Самые красивые дома в мире, говорила мама. Через каждые пару сотен ярдов, сквозь высокие кружевные кованые ворота мы видели очередной газон – еще больше и зеленее, чем поле на стадионе «Шиа», лежащий перед очередным сказочным замком из моих детских книг.
– Здесь живут Уитни, – говорила мама.
– А здесь – Пэйли. А тут – Пейсоны. Красота, правда?
Развернувшись за последним особняком, по пути назад к деду, мама непременно начинала петь. Она разогревалась на «У меня есть ты», потому что ей нравились слова, «говорят, что любовь за квартиру не платит, на ней не зарабатывают, а тратят». Дальше шла ее любимая, старая мелодия «Тин-Пэн-Элли»:
- Да, нет у нас бочонка с золотом,
- И сами мы смешны в своих обносках,
- Но едем мы вперед
- И песенку поем
- Вместе с тобой.
Она всегда пела во весь голос, но громкость не могла скрыть ее разочарования. Эти особняки терзали мою маму в той же мере, что чаровали, и я ее понимал. Я чувствовал то же самое. Прижавшись лбом к стеклу и глядя, как они проносятся мимо, я думал: В мире столько чудесных мест, но нам доступ туда закрыт. Определенно, секрет жизни заключается в том, как проникнуть внутрь. Почему мы с мамой не можем сообразить, как это делается? Мама заслуживает свой дом. Пускай не особняк, просто маленький коттедж, окруженный розами, с занавесками цвета сливок и мягкими коврами, ступая по которым босиком, чувствуешь, что они тебя словно целуют. Этого было бы достаточно. Меня злило, что у мамы нет красивых вещей, еще сильней злило, что я не могу их ей дать, и еще сильней – что ничего этого нельзя сказать вслух, потому что мама поет, чтобы хоть как-то держать себя в руках. Моя забота о ней заключалась в том, чтобы не подрывать этот хрупкий оптимизм, поэтому я прижимался лбом к стеклу изо всех сил, до боли, и старался смотреть не на особняки, а на свое отражение.
Да, я держал свои чувства внутри, но они бродили там, а потом прорывались на поверхность в форме разных причуд. Внезапно у меня появились навязчивости и неврозы. Я стал пытаться привести в порядок дедов дом – поправлял ковры, складывал стопками журналы, перематывал мебель новыми слоями скотча. Мои кузены смеялись надо мной и дразнили Феликсом, но дело было не в аккуратности – я сходил с ума. Мне не просто хотелось сделать дом приятней для мамы – я пытался упорядочить хаос, то есть по-своему преобразовать окружающую реальность.
Я стал видеть во всем одни только крайности. Раз Манхассет устроен так, значит, и весь мир тоже? В Манхассете ты за «Янки» или за «Метс», богат или беден, пьян или трезв, ходишь в церковь или в бар. «Или кельт, или чесночник», – сказал мне один мальчишка в школе, и я не посмел признаться ни ему, ни себе, что у меня, кроме ирландских, есть итальянские корни. Кругом сплошные противоположности, решил я, что доказывается ярким контрастом между Говноубежищем и особняком Уитни. Люди и вещи либо идеально ужасны, либо идеально прекрасны; и когда жизнь не подчинялась моим черно-белым правилам, когда люди или вещи оказывались сложными и противоречивыми, я это попросту игнорировал. Каждую проблему я превращал в катастрофу, каждую удачу – в эпический триумф, а людей делил на героев и злодеев. Не в силах мириться с неопределенностью, я возводил вокруг нее баррикады иллюзий.
Некоторые из моих иллюзий бросались в глаза и потому сильно беспокоили мою маму. Я стал до странности суеверным и коллекционировал фобии, как другие мальчишки бейсбольные карточки. Я избегал лестниц и черных кошек, сыпал соль через плечо, стучал по дереву, задерживал дыхание, проходя мимо кладбища. Чтобы не наступить на трещину – из страха, что мама упадет и сломает себе спину, – я петлял по подъездной дорожке, словно пьяный. Бормотал «волшебные» слова по три раза, чтобы отогнать опасность, следил за знаками и знамениями свыше. Слушая голос отца, я одновременно слушал глас Вселенной. Я разговаривал с камнями и деревьями, с неодушевленными предметами, особенно с нашим «Т-Бердом». Словно шаман, гладил его приборную доску и уговаривал продолжать ездить. Мне казалось, если «Т-Берд» сломается, мама этого не переживет. Меня переполняли иррациональные страхи, и худшим из них был страх не заснуть, когда все в доме уже спят. Если спали все, кроме меня, я ощущал невыносимое одиночество, а мои руки и ноги становились ледяными и неподвижными. Наверное, причина была в отсутствии голосов. Когда я рассказал свой секрет кузине Шерил, на пять лет старше, она обняла меня и сказала гениальную вещь:
– Даже если мы все спим, можешь быть уверен, что дядя Чарли и все остальные в «Диккенсе» не спят.
Мама надеялась, что я перерасту свои странности. Но вместо этого они только усилились, и когда я начал закатывать истерики, она повела меня к детскому психиатру.
– Как зовут мальчика? – спросил врач, когда мы с мамой уселись в кресла напротив него. Он делал какие-то записи в блокноте.
– Джей Ар, – ответила мама.
– Нет, его настоящее имя.
– Джей Ар.
– Но это не имя.
– Имя.
– Ладно, – психиатр отложил свой блокнот. – Вот вам и ответ.
– Прошу прощения? – сказала мама.
– У мальчика определенно кризис идентичности. У него нет собственного имени, что и вызывает гнев. Дайте ему имя – настоящее, — и истерики прекратятся.
Мама встала и сказала мне надевать куртку – мы уходим. Потом наградила психиатра таким взглядом, что мог бы расколоть Шелтер-Рок пополам, и очень сдержанно проинформировала его, что у семилетних детей кризисов идентичности не бывает. По дороге домой она крепко вцепилась в руль, а свой обычный репертуар пропела заметно быстрее. Потом вдруг замолчала и спросила, что я думаю про слова доктора. Мне не нравится мое имя? У меня правда кризис идентичности? Или есть еще что-то – или кто-то, – что вызывает у меня гнев?
Я оторвался от зрелища пролетающих мимо особняков, медленно развернулся к маме и продемонстрировал ей собственное пустое лицо.
Глава 4. Дед
Я понял это в одночасье. Осознал, что мою мать оскорбляет не столько дедов дом, сколько его хозяин. Поломки огорчали ее, потому что напоминали о человеке, который не хотел заниматься ремонтом. Видя, как она бросает взгляд на деда и сразу погружается в бездонную тоску, я это почувствовал, но по наивности предположил, что ее отношение к деду связано с его внешним видом.
Дед не заботился не только о доме, но и о себе. Носил штаны с заплатами и ботинки с дырами, рубашки в пятнах от слюны и остатков завтрака, мог по нескольку дней не расчесывать волосы, не чистить зубы и не принимать душ. Одноразовые бритвы он использовал так долго, что после них его щеки выглядели, словно расцарапанные дикой кошкой. Он был весь помятый, сморщенный, вонючий и – этого мама совсем уж не могла снести – ленивый. В молодости он утратил, или нарочно убил в себе все амбиции, какие имел. Когда его мечты стать профессиональным бейсболистом пошли прахом, он занялся страховым бизнесом и добился успеха, но это совсем его не порадовало. Как жестоко, думал он, преуспевать в деле, которое ты ненавидишь. И дед взял реванш над судьбой. Как только он скопил достаточно денег, чтобы обеспечить себе приемлемый доход на всю оставшуюся жизнь, то ушел с работы. С тех пор он лишь наблюдал за тем, как разваливается его дом, да внушал отвращение своему семейству.
Самым отвратительным было то, как он вел себя вне дома. Каждый вечер дед шел на вокзал, чтобы встретить поезд, прибывающий из центра. Пассажиры, выходя на платформу, выбрасывали прочитанные газеты, и дед нырял в мусорные баки, чтобы выловить свежие, лишь бы сэкономить пару центов. Увидев его ноги, торчащие из бака, никто из приезжающих ни за что бы не догадался, что старый бедолага собирается найти в газете текущие цены на свой внушительный портфель акций.
У деда была фотографическая память, потрясающе богатый язык и отличные знания греческого и латыни, но семья не могла насладиться его интеллектуальными богатствами, потому что он никогда не вступал с нами в нормальный разговор. Он держал родных на расстоянии с помощью телевизионных отбивок и рекламных слоганов. Мы рассказывали ему, как прошел наш день, а он в ответ кричал: «Это свободная страна!» Просили передать фасоль, и он говорил: «Лучший вкус настоящей сигареты». Предупреждали, что у собаки завелись блохи, и он откликался: «Никому не говори – это у тебя внутри». Этот его язык был чем-то вроде стены, которую дед возвел вокруг себя и которая выросла еще на пару сантиметров в тот день, когда он услышал, как моя двоюродная сестра уговаривает собаку, страдающую запором, «сделать ка-ка». Это стало его знаковой фразой. Минимум десять раз в день он говорил «сделай ка-ка», имея в виду что угодно от «доброе утро» до «пора обедать» или «Метс» проиграли» – а порой и ничего. Вполне возможно, так дед компенсировал заикание, ведь заученные фразы легче произносить. А возможно, он просто немного выжил из ума.
У деда было две страсти, одна тайная, одна – нет. Каждую субботу по утрам он спускался вниз причесанный, вставив зубные протезы, в безупречно выглаженном синем костюме в тонкую полоску. Из нагрудного кармана у него фонтанчиком вырывался уголок белоснежного кружевного платка. Не говоря ни слова, дед садился в свой «Форд Пинто» и уезжал. Возвращался он всегда поздно, иногда на следующий день. Никто не спрашивал, куда дед ездит. Его субботние рандеву были чем-то вроде выгребной ямы – таким очевидным безумством, что комментариев не требовалось.
Очевидной же дедовой страстью было слово. Он мог часами просиживать у себя в спальне, решая кроссворды, читая книги или изучая словарь через увеличительное стекло. Шекспира он считал величайшим из людей, «потому что он изобрел анг-анг-английский язык – если он не мог найти слово, то выдумывал его». Дед считал, что страсть к чтению поселили в нем преподаватели иезуитской школы, которые, когда не могли заставить его выучить слово, прибегали к телесным наказаниям. Хотя побои сработали, дед был уверен, что из-за них и начал заикаться. Священники внушили ему любовь к чтению и отвратили от разговоров. Первый в моей жизни пример жестокой иронии судьбы.
Один из редких моментов близости между мной и дедом тоже был связан со словом. Это случилось, когда он случайно ответил на телефонный звонок. Из-за заикания и плохого слуха дед избегал телефона, но тут как раз проходил мимо и поднял трубку. Наверное, рефлекторно. А может, дед заскучал. Не слыша, что говорит собеседник, он подозвал меня.
– Переводи, – скомандовал дед, передав мне трубку.
Оказалось, это опрос потребителей. Девушка на другом конце провода перечисляла товары, машины и продукты, которые дед никогда не покупал, не водил и не ел. Дед по каждому высказывал свое мнение, выдуманное от начала до конца.
– Итак, – сказала она под конец, – что самое лучшее в городе, где вы живете?
– Что самое лучшее в Манхассете? – перевел я.
Дед впал в задумчивость, словно давал интервью «Таймс».
– Близость к Манхэттену, – изрек он.
Я передал девушке его ответ.
– Очень хорошо, – ответила она. – И последнее, каков ваш годовой доход?
– Какой у тебя годовой доход? – перевел я.
– Вешай трубку.
– Но…
– Сейчас же.
Я положил трубку на рычаг. Дед сидел молча, с закрытыми глазами, а я стоял перед ним, потирая руки, как обычно, когда не знал, что сказать.
– А что такое близость? – спросил я.
Дед поднялся. Сунул руки в карманы и погремел в них мелочью.
– Теснота, – ответил он. – У м-м-меня вот, например, слишком большая близость с моей семьей.
Дед расхохотался. Сначала это был просто смех, потом яростный хохот, от которого я начал смеяться тоже. Оба мы так и заходились, пока дед не раскашлялся. Он вытащил из кармана носовой платок, сплюнул в него, а потом похлопал меня по макушке и удалился.
После того краткого мгновения я почувствовал доселе незнакомую эмоциональную близость к нему. Начал придумывать, как бы нам подружиться. Может, надо перестать обращать внимание на его недостатки и сфокусироваться на достоинствах – каковы бы они ни были. Надо как-то перебраться через языковой барьер, которым он себя окружил. Я написал про него стихотворение, которое торжественно подарил деду однажды утром в ванной. Дед намыливал щеки помазком из бобровой шерсти, напоминающим гигантский гриб. Он прочитал стих, вернул мне листок и поглядел на свое отражение в зеркале.
– Спасибо за пр-пр-пробку, – сказал он.
Чуть позже ко мне пришло прозрение. Что, если, подружившись с дедом, я предам мою маму? Надо было спросить у нее разрешение, прежде чем двигаться дальше, поэтому перед сном я позвал ее к себе и попросил еще раз рассказать, почему мы ненавидим деда. Она подоткнула мое скукожившееся спасительное одеяло и заговорила, тщательно подбирая слова. Мы не ненавидим деда, объясняла она. Вообще, она надеялась, что я смогу отыскать способ сблизиться с ним, пока мы живем под одной крышей. Мне надо продолжать разговаривать с дедом, сказала мама, хоть он и не отвечает. И не надо обращать внимания на то, что она сама с ним не говорит. Никогда.
– Но почему? – спросил я. – И почему ты всегда грустнеешь, когда смотришь на него?
Мама уставилась на оторванный клок обоев.
– Потому, – ответила она, – что дед – настоящий Скрудж, и не только в отношении денег.
Дед экономил на любви, объяснила мама, словно боялся, что однажды она закончится. Он игнорировал их с тетей Рут и дядей Чарли, пока они росли, не давая им ни тепла, ни внимания. Она рассказала, как однажды, когда ей было пять, вся семья поехала на пляж. Наблюдая за тем, как чудесно отец ее кузины Шарлин играет со своими детьми, мама попросила деда посадить ее на плечи, стоя в воде. Он так и сделал, но потом унес подальше от берега, и когда они были уже далеко и берег практически скрылся из вида, мама испугалась и попросила деда ее отпустить. И он бросил ее в воду. Мама сразу захлебнулась и пошла ко дну. Она отчаянно забилась, вынырнула на поверхность, хватая ртом воздух, и тут увидела отца – он смеялся. Ты же хотела, чтобы я тебя отпустил, сказал он, не обращая внимания на мамины слезы. Выбираясь на песок через волны, одна, мама осознала кое-что: ее отец – плохой человек. И с этим осознанием, сказала она, пришло освобождение. Она почувствовала себя независимой. Я спросил, что значит «независимой». «Свободной», – объяснила она. Потом еще раз посмотрела на отклеившиеся обои и повторила:
– Свободной.
Но была и другая вещь, которая обидела ее еще сильнее. Дед запретил маме и тете Рут поступать в колледж, а студенческих займов тогда еще не придумали, и они ничего не могли с этим поделать. То его решение, вдобавок к пренебрежению к дочерям, определило их будущую жизнь. Мама мечтала поступить в колледж, собиралась сделать блестящую карьеру, но дед лишил ее этого шанса. Девочки становятся женами и матерями, заявил он, а женам и матерям колледж не нужен. «Вот почему ты обязательно получишь образование, которого нет у нас, – сказала мама. – Пойдешь в Гарвард или в Йель, детка. Гарвард или Йель».
Невероятно было слышать такое от женщины, зарабатывавшей двадцать долларов в день. И она не собиралась останавливаться на этом. После колледжа, добавила мама, я поступлю в юридическую школу. Я не знал, чем занимаются адвокаты, наверняка какой-нибудь скучищей, и что-то пробормотал на этот счет. «Нет и нет, – повторила мама, – ты станешь адвокатом. И тогда я тебя найму, чтобы отсудить алименты у твоего отца. Вот так!» Она улыбалась, но мне показалось, что мама не шутит.
Я попытался представить себе свое будущее. Вот стану адвокатом, и мама сможет осуществить свою давнюю мечту – пойти в колледж. Мне бы этого так хотелось! Пусть даже придется выучиться на адвоката – я готов. А пока лучше забыть о том, чтобы подружиться с дедом.
Перевернувшись на бок, к маме спиной, я пообещал, что на первую же свою адвокатскую зарплату отправлю ее в колледж. До меня донесся вздох – а может, всхлип, – словно она опять барахталась в глубинах океана, а потом мама наклонилась и поцеловала меня в затылок.
Глава 5. Джуниор
За несколько дней до моего восьмилетия в дверь постучали, и до меня донесся Голос – им говорил мужчина, стоявший на пороге. Солнце, светившее у него из-за спины, слепило меня, и я не мог разглядеть черты его лица. Я видел только контуры торса, массивную груду мышц в обтягивающей белой футболке, опиравшуюся на две полусогнутые ноги. Голос был крепким малым.
– Ну же, обними своего старика, – приказал Голос мне.
Я потянулся и обхватил его руками, но плечи оказались слишком широки – я словно пытался обнять гараж.
– Куда это годится! – сказал он. – Обними по-настоящему!
Я затоптался на цыпочках, стискивая его изо всех сил.
– Крепче! – сказал он.
Но крепче я уже не мог. Я ненавидел себя за слабость. Если я не обниму отца как следует, если не удержу его в объятиях, он больше никогда не вернется.
После недолгого разговора с моей мамой, которая периодически бросала на меня встревоженные взгляды, отец сказал, что собирается повезти меня в город познакомить с семьей. По дороге он развлекал меня, пародируя разные акценты. Как оказалось, Голос был не единственным его голосом. Кроме стэндапа, сказал отец, он занимался еще «имитацией» – это слово было для меня чарующе новым. Он показал, что это значит: говорил то как фашистский генерал, то как французский шеф-повар. Потом как мафиози и британский дворецкий. Перескакивая с одного голоса на другой, он напоминал мне радио, на котором быстро вращаешь рукоятку: этот трюк меня всегда нервировал и смешил одновременно.
– Итак, – сказал он, прикуривая сигарету, – нравится тебе жить у деда?
– Да, – ответил я. – То есть нет.
– И то, и другое?
– Ага.
– Твой дед – классный мужик. Живет, как сам хочет. Мне в нем это всегда нравилось.
Я не нашелся, что ему ответить.
– Так что тебе не нравится в жизни у деда? – спросил отец.
– Мама все время грустная.
– А что нравится?
– Близость с мамой.
Отец резко развернулся ко мне, затянулся сигареткой и пристально вгляделся в глаза.
– Мама сказала, ты часто слушаешь своего старика по радио.
– Да.
– И что думаешь?
– Ты смешной.
– Хочешь стать диск-жокеем, когда вырастешь?
– Я буду адвокатом.
– Адвокатом? С чего бы? Почему?
Я не стал отвечать. Он выпустил на лобовое стекло облако дыма, и мы оба смотрели, как дым вскарабкался вверх и завернулся назад, словно гребень волны.
В тот день я плохо запомнил отцовское лицо. Я слишком нервничал, чтобы глядеть на него дольше, чем по секунде зараз, и был слишком зачарован его голосом. А еще я пытался сосредоточиться на речи, которую собирался произнести. Если я найду верные слова, если правильно их произнесу, то вернусь к маме с кучей денег, и мы сможем сбежать из дедова дома, а ей больше не придется петь от злости и тыкать в свой калькулятор. Я повторил про себя заготовленную тираду, сделал глубокий вдох и выпрямил спину. Ощущение было такое, словно собираешься прыгнуть с трамплина в городском бассейне. Я зажмурил глаза. Один. Два. Три.
Я не смог. Не захотел говорить то, что могло заставить Голос снова исчезнуть. Вместо этого я уставился в окно на трущобы, и винные магазины, и вороха бумаг, летавшие вдоль обочины дороги. Наверное, мы уже очень далеко от Манхассета, думал я, лениво гадая, что буду делать, если отец продолжит ехать и ехать и никогда не вернет меня назад. К моему стыду, такой сценарий вызывал у меня дрожь предвкушения.
Мы подъехали к какому-то кирпичному дому, пропахшему тушеными томатами и жареными колбасками. Меня усадили в кухне в уголок, где я только и мог, что наблюдать за перемещениями упитанных женских спин. Пятеро женщин, включая одну, которую звали тетушка Толстушка, толклись у плиты, готовя обед. Заглотав несколько тарелок запеченных баклажанов, приготовленных Толстушкой, отец повел меня в соседнюю квартиру, познакомить со «своей бандой». Снова меня усадили в угол и сказали развлекаться. Но вместо этого я наблюдал, как отец и еще три парочки расселись вокруг стола и стали играть в карты и пить. Вскоре они уже снимали с себя одежду.
– Да ты блефуешь! – воскликнул один из них.
– Уж конечно! Хорошо еще, на мне сегодня чистое белье.
– Хорошо, что на мне вообще есть белье, – отозвался отец под очередной взрыв смеха.
Отец сидел в трусах и одном черном носке. Потом проиграл носок тоже. Вгляделся в свои карты, изогнул бровь, и вся компания опять расхохоталась над его притворной паникой перед перспективой лишиться последнего предмета одежды.
– Джонни, – обратился кто-то к нему, – что у тебя?
– Что за вопрос – я же голый! Сам видишь, что у меня!
– У Джонни ничего нет.
– Вот черт, я не хочу смотреть на его причиндалы.
– Это точно! Поддерживаю! Джонни выбывает.
– Подождите! – воскликнул отец. – Мальчишка! Я ставлю мальчишку!
Он позвал меня, и я поднялся со стула.
– Взгляните на этого юного джентльмена. Думаю, вы предпочтете выиграть его, а не любоваться моим мужским достоинством, верно? Выберете плод моих чресл, а не сами чресла. Так что я повышаю ставку – на кону Джей Ар!
Отец проиграл. Его друзья чуть со стульев не попадали от хохота, когда решали, едва дыша, кто будет платить за мое образование, а кто объяснит ситуацию моей матери, когда отец не вернет меня домой.
Я ничего не помню дальше этого момента, который показался мне хуже, чем любые побои. Не помню, как отец протрезвел, оделся и отвез меня домой, и не помню, что рассказал маме про проездку. Знаю только, что правду я утаил.
Несколько недель спустя я сидел в обнимку с радиоприемником, дожидаясь начала отцовского шоу. Я хотел рассказать Голосу о тревожных слухах, будто «Метс» собираются продать моего кумира, Тома Сивера. Подтянутый и симпатичный, бывший морской пехотинец, настоящая звезда «Метс», Сивер при каждой подаче сначала складывал руки под подбородком, словно молился, а потом выносил свой мощный торс вперед и опускался на правое колено, словно делал отбивающему предложение. Страшно было даже помыслить, что «Метс» могут его кому-то уступить. Я гадал, что скажет Голос на этот счет. Но время шоу пришло, а Голос так и не появился. Отец опять поменялся сменами или перешел на другую станцию. Я вынес радио на крыльцо и стал медленно вращать рукоятку. Ничего. Я пошел к маме и спросил, не знает ли она, куда подевался Голос. Мама ничего не ответила. Я спросил еще раз. Пустое лицо. Я настаивал. Мама тяжело вздохнула и посмотрела на облака.
– Ты же в курсе, что я много лет просила твоего отца помогать нам, – сказала она. – Так ведь?
Я кивнул.
Она нанимала адвокатов, подавала заявления, обращалась в суд, но отец все равно не платил. Поэтому мама сделала последнюю попытку. Потребовала, чтобы отца арестовали. На следующий день двое копов надели на него наручники и вытащили из студии во время прямого эфира – пораженная аудитория слышала все от начала до конца. Когда на следующий день отца выпустили из тюрьмы, он был вне себя от злости. Выплатил малую долю того, что задолжал нам, и не явился на судебное заседание через неделю. Его адвокат заявил судье, что отец сбежал из штата.
Мама подождала, пока я переварю эту новость. Потом сказала, что сутки назад отец ей позвонил. Он не сказал, где находится, и угрожал, что, если она не перестанет преследовать его за неуплату алиментов, он меня похитит. Годы спустя я узнал, что еще отец угрожал нанять киллера, чтобы маму убили, и был при этом так убедителен, что она поверила – он не блефует. Несколько недель ей сложно было заводить «Т-Берд», потому что у мамы тряслись руки.
Мой отец не хотел меня видеть, но грозил украсть? Бессмыслица! Я поморгал, глядя на маму.
– Наверное, он просто думал меня испугать, – продолжала она. – Но если твой отец покажется в Шелтер-Роке или кто-то скажет, что отвезет тебя к нему, ни в коем случае не соглашайся.
Она взяла меня за плечи и развернула к себе.
– Ты понял?
– Да.
Я отстранился и пошел обратно на крыльцо, к своему радио. Возможно, мама ошибается. Возможно, отец перешел на другую станцию и говорит одним из своих забавных голосов, чтобы его не узнали. Я крутил рукоятку, дергал антенну, прислушивался к каждому голосу, но не один не походил на отцовский – ни один не был достаточно глубок, чтобы от него дрожали столовые приборы, а в ребрах зудело. Мама подошла и присела рядом со мной.
– Хочешь об этом поговорить? – спросила она.
– Нет.
– Ты никогда не говоришь, что чувствуешь.
– Ты тоже.
Она помрачнела. Я не хотел быть таким грубым. Слезы потекли у меня по щекам. Я думал, что мама рассказывает мне всю правду об отце, почему и терзался так, но, конечно, она многое умалчивала. В последующие годы она понемногу открывала мне новые факты, осторожно отрезая по лоскутку от моих иллюзий, связанных с Голосом. Но все равно, я навечно запомнил ее историю, рассказанную на крыльце пасмурным вечером, потому что тогда был отрезан первый лоскут.
Отец обладал невероятным набором привлекательных и отталкивающих качеств. Обаятельный и ненадежный, умный и отчаянный, забавный и несдержанный – и опасный, с самого начала. Прямо на их свадьбе он ввязался в драку. Напился, оттолкнул маму, а когда шафер с его стороны заметил, что с невестой так не поступают, набросился на него. Несколько гостей кинулись их разнимать, но когда приехали полицейские, отец уже бегал взад-вперед по улице и угрожал прохожим.
На медовый месяц отец повез маму в Шотландию. По возвращении она обнаружила, что путешествие на самом деле было главным призом в конкурсе, который отцовская радиостанция устраивала для слушателей. Отцу еще повезло, что его не арестовали. Все два года, что они были женаты, он постоянно ходил по острию бритвы – якшался с мафиози, отказывался платить таксистам и официантам, а раз даже избил своего босса. Постепенно его рукоприкладство распространилось и на семью. Когда мне было семь месяцев, отец бросил маму на кровать и попытался задушить подушкой. Она вырвалась. Две недели спустя он попробовал снова. Она опять вырвалась, но на этот раз он погнался за ней и, прижав к стене в ванной, поднес к горлу опасную бритву. Отец во всех подробностях описал, как сейчас будет резать ей лицо. Он готов был приступить к делу, но тут мой плач из соседней комнаты его отвлек. В тот день мы от него ушли. Переехали к деду, потому что нам некуда было больше податься.
– Почему ты вышла за него? – спросил я маму тогда на крыльце.
– Я была молодая, – ответила она, – и глупая.
Я не хотел, чтобы мама продолжала. Мне надо было только узнать ответ на последний вопрос, прежде чем навсегда закрыть эту тему.
– Почему у отца другая фамилия – не как у нас?
– На радио он пользуется псевдонимом.
– Что такое псевдоним?
– Выдуманное имя.
– А какое у него настоящее имя?
– Джон Джозеф Мёрингер.
– А меня зовут Джей Ар, – сказал я. – Почему?
– О! – мама нахмурилась. – Видишь ли, официально твое имя Джон Джозеф Мёрингер-младший. Но мне не нравится имя Джон, и я не хотела называть тебя Джозеф. Вот мы и сошлись на том, что тебя будут звать Джуниор – «младший». Джей Ар.
– То есть на самом деле у меня такое же имя, как у отца?
– Да.
– А кто еще знает?
– Ну… бабушка. И дед. И…
– А мы можем больше никому не говорить? Никогда? Чтобы все думали, что Джей Ар и есть мое настоящее имя? Пожалуйста!
Она посмотрела на меня с самым грустным выражением, какое я только видел у нее на лице.
– Конечно.
Мама обняла меня, и мы сцепили мизинцы. Наша первая общая ложь.
Глава 6. Песочный человек
Для того чтобы заместить Голос, многого не требовалось. Просто другой мужской образ, другой суррогат отца. Но все-таки я понимал, что даже суррогат будет лучше, если я смогу видеть его. Мужественность – это подражание. Чтобы стать мужчиной, мальчик должен видеть мужчину. Дед на эту роль не подходил. Соответственно, я обратился к другому мужчине в нашей семье, дяде Чарли – и тут правда было на что посмотреть.
Когда ему только исполнилось двадцать, волосы у дяди Чарли начали выпадать – сначала по одному, потом прядями, потом клоками, а за ними последовала растительность на груди, руках и ногах. В конце концов, даже брови, ресницы и волосы на лобке разлетелись, словно пух с одуванчика. Доктора диагностировали алопецию, редкую болезнь иммунной системы. Болезнь подкосила дядю Чарли – не столько снаружи, сколько изнутри. Обнажив его тело, она оставила нагой и его душу. Он стал патологически застенчив, не выходил из дому без кепки и темных очков – маскировка, которая делала его еще более подозрительным. Он был похож на Человека-невидимку.
Лично мне даже нравилось, как выглядит дядя Чарли. Задолго до того, как бритые головы вошли в моду – до Брюса Уиллиса, – дядя Чарли ходил лысый, и это было круто. Но бабушка сказала, что дядя Чарли ненавидит свою внешность и сторонится зеркал, словно в него оттуда целятся из пистолета.
Для меня главным в дяде Чарли было не то, как он выглядит, а как он говорит – на безумной смеси научных терминов и гангстерского сленга, словно гибрид оксфордского профессора с мафиози. Еще более странное впечатление производила его манера сыпать ругательствами, а потом извиняться за какое-нибудь наукообразное словечко, словно эрудиция – нечто более постыдное, чем невежество. «Ох, прости, я снова сказал «неправдоподобный», – извинялся он. «Тебя не смущает, что я говорю «всевидящее»?» Дядя Чарли унаследовал дедушкину любовь к словам, но, в отличие от дедушки, каждое из них он произносил отчетливо, упирая на дикцию. Иногда мне казалось, что дядя Чарли красуется, хочет утереть деду нос – он-то не заикается!
Сразу после того, как Голос исчез, я начал обращать больше внимания на дядю Чарли. Когда он приходил домой и садился ужинать, я сразу переставал жевать, ловя каждое его слово. Иногда он мог весь ужин молчать, но если говорил, то всегда на одну и ту же тему. Покончив с едой, он отталкивал от себя тарелку, прикуривал «Мальборо-Ред» и за десертом услаждал мой слух очередной байкой из «Диккенса». Например, как двое парней заключили пари «не на жизнь, а на смерть», садясь за партию армрестлинга: проигравший наденет кепку бостонских «Ред Сокс» и просидит в ней девять полных иннингов на стадионе «Янки». «Это был последний раз, когда мы видели того беднягу», – сказал дядя Чарли, прищелкнув языком. Или как Стив с парнями из бара угнали фургон кондитера: они выгрузили оттуда лотки с пирожными и устроили сражение на тротуаре перед баром, швыряясь эклерами и меренгами друг в друга и в прохожих на Плэндом-роуд. Пострадавшие вместо крови истекали алым желе. В другой раз Стив с приятелями закупили с десяток древних драндулетов и покрасили под гоночные машины. В багажники они залили бетон, дверцы заварили и расставили их по всей Плэндом-роуд. На следующий день планировалось устроить гонки на выживание, но они напились и решили долго не ждать. В три ночи парни расселись по машинам и покатили по дороге, ударяя друг в друга на полной скорости. Полицейским это не понравилось. Полицейским вообще редко нравилось то, что происходило в «Диккенсе», продолжал дядя Чарли. С одним из них у парней разгорелась целая война – тот коп, жуть какой дотошный, обычно дежурил в полицейской будке возле стадиона «Мемориал». Как-то ночью они организовали вылазку: обстреляли будку горящими стрелами, и та сгорела дотла.
Горящие стрелы? Гонки на выживание? Перестрелки пирожными? События, происходившие в «Диккенсе», казались одновременно увлекательными и пугающими, словно детский день рождения на пиратском корабле. Я хотел, чтобы мама как-нибудь сходила туда и сводила своих родителей, потому что им не помешало бы немного подурачиться. Но мама не пила совсем, а бабушка – только дайкири на свой день рождения. Дед за ужином выпивал по два стакана пива – не больше и не меньше. Он был слишком скуп, чтобы стать алкоголиком, говорила мама, хотя склонность у него имелась. По праздникам, после бокала «Джек Дэниэлса», дед начинал петь: «Садись в машину, и помчимся вдаль – впереди нас ждет Чикаго!» А потом отключался, развалившись на двухсотлетнем диване, и храпел громче, чем наш «Т-Берд».
С виду по дяде Чарли было и не сказать, что он участвует в подобных заварушках. Он выглядел таким меланхоличным и так тяжело вздыхал! Как моя мама, он был для меня загадкой. И чем больше я присматривался к нему, тем загадочней он мне казался.
Каждый вечер какой-то человек с голосом, похожим на шуршание бумаги, звонил и спрашивал его. «Чэс дома?» – говорил он быстро, словно за ним гнались. Большую часть дня дядя Чарли спал, и все дети в доме знали правило: если звонят из «Диккенса», надо записать сообщение. Но если звонит Песочный Человек – срочно буди дядю Чарли.
Обычно трубку брал я. Мне нравилось отвечать на звонки – вдруг позвонит Голос, – и когда оказывалось, что это Песочный Человек, я просил его подождать и бегом кидался по коридору к дядиной спальне. Тихонько постучав, приоткрывал дверь и говорил:
– Дядя Чарли? Тот человек звонит.
Из влажной темноты доносился скрип пружин. Потом стон и глубокий вздох.
– Скажи, я сейчас подойду.
К тому моменту, когда дядя Чарли добирался до телефона – в халате и с сигаретой, зажатой в зубах, – я уже сидел, скорчившись, за двухсотлетним диваном.
– Алло, – говорил дядя Чарли Песочному Человеку. – Да-да, поехали. Рио – Кливленд по пять. Тони – Миннесота по десять. Каждому Джетс, по пятнадцать. Сообщи про Медведей, с очками. Да, должно покрыть. Да. Восемь с половиной, верно? Хорошо. И что с Сониками? Двести? Угу. Тоже сообщи. Хорошо. Увидимся в «Диккенсе».
Мои старшие сестры говорили, что дядя Чарли «игрок», что он занимается чем-то незаконным, но мне так не казалось – подумаешь, это же все равно что переходить улицу не по светофору, – пока я не открыл для себя мир ставок и не познакомился с тем особым родом слепоты, которая там царит. Это произошло, когда я пришел как-то раз к своему приятелю Питеру. Его мама открыла мне дверь.
– Думаю, тебе нельзя больше это носить, – сказала она, указывая на мою футболку.
Я опустил глаза. На футболке было написано: «ЧЕМПИОНЫ МИРА, НЬЮ-ЙОРКСКИЕ НИКС», – и я любил ее почти так же, как свое спасительное одеяло.
– Почему? – спросил я, обеспокоенный.
– «Никсы» вчера проиграли. Они больше не чемпионы.
Я ударился в слезы. Побежал домой и вломился на кухню через заднюю дверь. Потом бросился в комнату дяди Чарли, в святая святых, хоть Песочный Человек и не ждал на телефоне. Дядя Чарли подхватился в постели.
– Кто тут? – воскликнул он.
На нем была маска Одинокого Рейнджера, только без дырок для глаз. Я передал ему, что сказала мама Питера.
– «Никсы» вчера не проиграли! – кричал я. – Этого не может быть! Не могли они проиграть! Правда?
Он стащил свою маску, откинулся обратно на подушку и потянулся к пачке «Мальборо», которая всегда лежала у него на тумбочке.
– На самом деле все еще хуже, – сказал он со вздохом. – Они даже не размочили счет.
Летом дядя Чарли и парни из «Диккенса» оккупировали дедов гараж – устраивали там турниры в покер с большими ставками, которые длились по нескольку дней. Игрок мог просидеть за столом шесть часов кряду, сходить в «Диккенс» перекусить, заглянуть домой, заняться с женой любовью, поспать, принять душ, вернуться и обнаружить, что игра продолжается. Мне нравилось лежать по ночам в кровати с открытыми окнами и слушать их голоса, шелест карт, щелчки фишек и треск кустов, когда кто-нибудь отходил отлить. Голоса успокаивали лучше любой колыбельной. По крайней мере на несколько дней я забывал о своем страхе остаться в доме последним, кто не спит.
Но если я наблюдал за увлечением дяди Чарли игрой с растущим интересом, то взрослые в доме предпочитали просто игнорировать этот факт. Особенно бабушка. Однажды телефон позвонил, и я не успел ответить, поэтому трубку взяла она. Это был не Песочный Человек, и бабушка отказалась будить дядю Чарли. Звонивший настаивал. Бабушка не уступала. «Оставите сообщение?» – спросила она и полезла в карман халата за бумажкой и огрызком карандаша.
– Ну давайте. Да. Угу. Бостон по десять? Питтсбург по пять? Канзас-Сити – по сколько, вы сказали?
Конечно, она могла и не понимать, что это все означает. Но, подозреваю, ей просто не хотелось знать.
По мнению бабушки, дядя Чарли не мог совершить ничего плохого. Он был ее единственным сыном, и связь между ними казалась мне до боли знакомой. Вот только бабушка, в отличие от мамы, не настаивала на сыновнем уважении. Как бы дядя Чарли ни разговаривал с ней – а в похмелье он мог быть весьма груб, – она кудахтала над ним, обхаживала и называла «мой бедный мальчик», потому что судьба так жестоко с ним обошлась. Спасибо Господу за Стива, часто повторяла она. Стив дал дяде Чарли работу в своем уютном темном баре, когда тому делали десятки болезненных и совершенно бесполезных уколов прямо в скальп. Дяде Чарли нужно было место, чтобы спрятаться, и Стив пришел к нему на помощь. Стив спас дяде Чарли жизнь, говорила бабушка, и я понимал, что она делает то же самое, позволяя ему прятаться в своей мальчишеской спальне, где обои – в мультяшных бейсболистах – поклеили, когда хозяин был примерно в моем возрасте.
По ночам, когда дядя Чарли уходил в «Диккенс», я прокрадывался в его комнату и копался в его вещах. Перебирал ставочные купоны, нюхал футболки, наводил порядок в комоде, набитом купюрами. Пятидести- и стодолларовые бумажки так и лезли из него – и это в доме, где у бабушки порой недоставало денег на молоко. Порой мне хотелось взять немного и отдать маме, но я знал, что она их не примет и разозлится на меня. Я складывал купюры аккуратными стопками, всегда подмечая, что Улисс Грант выглядит как один из парней, которого я видел на матче «Диккенса» по софтболу. Потом я устраивался на кровати дяди Чарли, откидывался на пуховые подушки и представлял, что я – это он. Да-да, это я смотрю матчи «Метс» и делаю, как он выражается, «жирные ставки». Интересно, рискнул бы дядя Чарли когда-нибудь сделать «жирную ставку» против «Метс»? В моих глазах это было святотатством – похуже нарушения закона.
Как-то вечером, когда матч отложили из-за дождя, я переключил канал, надеясь наткнуться на Эбботта и Костелло, но мне попалась «Касабланка». «Я поражен – поражен, – что тут играют». Я сел. Человек в смокинге – это же дядя Чарли! То же вытянутое, словно собачья морда, лицо, та же ухмылка, те же нахмуренные брови. Хамфри Богарт не только выглядел как дядя Чарли – за исключением волос, – но и говорил, как он, не открывая рта, чтобы не выпала сигарета. Когда Богарт сказал: «Тебя ищут, парень», – у меня по спине побежали мурашки – было полное ощущение, что дядя Чарли в комнате рядом со мной. Богарт даже ходил, как дядя Чарли – или фламинго с больными коленями. И вишенка на торте: Богарт все свое время проводил в баре. Он тоже стал жертвой жестокой судьбы, а потом залег на дно, вместе с другими подобными себе, играющими в прятки с миром. Я и до того романтизировал «Диккенс», но после «Касабланки» мой случай стал безнадежным. В восемь лет я начал мечтать попасть в «Диккенс» – как другие мальчишки мечтают попасть в «Диснейленд».
Глава 7. Нокомис
Всякий раз, когда бабушка находила меня в комнате дяди Чарли, то старалась оттуда выкурить. Заходя в дверь со стопкой выстиранных футболок из «Диккенса» и видя меня на его кровати, она поджимала губы. Потом обводила взглядом комнату – горки купюр, ставочные купоны, кепки, игральные кости и окурки от сигарет, – и ее прозрачно-голубые глаза темнели.
– У меня есть кофейный торт, – говорила она, – пойдем, съешь кусочек.
Слова звучали отрывисто, и двигалась она поспешно, словно комната была заразной и мы оба находились в зоне риска. Я об этом особо не задумывался, потому что бабушка вечно чего-то боялась. Каждый день она выделяла на страх особое время. И не на какой-то безымянный: она точно знала, какие трагедии могут ее поджидать. Она боялась пневмонии, грабителей, цунами, метеоритов, пьяных водителей, наркоманов, серийных убийц, торнадо, врачей, нечистых на руку продавцов и русских. Всю глубину ее страхов мы осознали, когда она однажды принесла домой лотерейный билет и уселась перед телевизором смотреть тираж. После того как первые три номера совпали, она принялась горячо молиться о том, чтобы остальные оказались неверными. Бабушка боялась выиграть, потому что тогда у нее остановится сердце.
Я жалел бабушку и относился к ней снисходительно, но все-таки, когда мы с ней оставались вдвоем, начинал бояться вместе с ней. Я и без того был нервный – притом знал это, отчего нервничал еще сильней, – и боялся, что если стану часто с ней оставаться и ее страхи добавятся к моим тревогам, то от ужаса меня просто парализует. А еще бабушка всегда учила меня всяким девичьим штукам, вроде глажки и шитья, и хоть мне нравилось учиться чему-то новому, я беспокоился, как это на меня повлияет.
Тем не менее, как бы я ни опасался бабушкиного влияния, я тянулся к ней, потому что она была самым добрым человеком в семье. Поэтому, когда она звала меня в кухню есть торт, я сразу ретировался со своих позиций у дяди Чарли на кровати и бежал за ней.
Прежде чем я успевал откусить первый кусок, она уже заводила очередную историю. Дядя Чарли был великолепным рассказчиком, и моя мама тоже, но бабушка превосходила их всех. Это мастерство она освоила еще девочкой, ходя по кинотеатрам манхэттенской Адской Кухни[10]. Раз за разом она смотрела одни и те же вестерны и мелодрамы, которые там крутили, а вечером возвращалась домой, где ее дожидались соседские ребятишки из бедных семей, у которых не было денег на билет. В окружении толпы – которую я представлял себе гибридом Бауэри Бойз[11] с Маленькими негодяями[12], – бабушка повторяла диалоги и разыгрывала эпизоды, а дети охали, ахали и аплодировали, отчего маленькая Маргарет Фриц ощущала себя суперзвездой.
Бабушка хорошо знала свою аудиторию. В каждом рассказе она делала упор на мораль, которая была бы близка ее слушателям. Мне она рассказывала о своих братьях, трех дюжих ирландцах, прямиком из «Сказок братьев Гримм». «Да, с этими парнями шутки были плохи», – начинала она, заменяя этим традиционное «в тридевятом царстве…». Классическая история про братьев Фриц повествовала о ночи, когда они вернулись домой и застали отца избивающим мать. Они были еще мальчишками, моего возраста, но схватили папашу за горло и сказали ему: «Тронь маму еще раз, и мы тебя убьем». Мораль: настоящие мужчины защищают своих матерей.
С историй о братьях бабушка переходила к историям о втором наборе моих кузенов, Бернсах, которые жили дальше к востоку на Лонг-Айленде. (Я никогда не мог запомнить, кем именно они мне приходились – вроде это были внуки бабушкиной сестры.) У Бернсов было десять детей – одна дочь и девять сыновей, – которых бабушка ставила на столь же высокий пьедестал, как своих братьев. Мальчики Бернс отличались тем же сочетанием отваги с добротой и были «идеальными джентльменами», так что я отчаянно им завидовал. Конечно, думал я, легко быть идеальным, когда у тебя есть отец. Дядя Пат Бернс был темноволосым, смуглым ирландским красавчиком и каждый вечер после работы играл с сыновьями в футбол.
В восемь лет я был еще до крайности наивен, но все равно понимал, какими мотивами бабушка руководствовалась, рассказывая мне эти истории. Отца моего она терпеть не могла, но знала, насколько важен был для меня его голос и как много я потерял, когда этот голос исчез, поэтому старалась открыть для меня другие мужские голоса. Я был ей признателен, но все равно в глубине души сознавал, что есть и другой голос, который она во время наших чаепитий пытается заместить. Бабушка должна была восполнить для меня отсутствие мамы, которая работала с утра до ночи, полная решимости как можно скорей вытащить нас из дедова дома.
Теперь, когда мы с бабушкой проводили больше времени вместе и стали ближе друг другу, мы начали волноваться, что у нее иссякнет репертуар. Довольно быстро это действительно случилось. Арсенал ее историй исчерпался, и бабушке пришлось обратиться к литературе: теперь она читала мне отрывки из Лонгфелло, своего любимого поэта, которые помнила еще со школы. Лонгфелло нравился мне даже больше братьев Фриц. Я переставал дышать, когда бабушка читала «Песнь о Гайавате», и смотрел на нее, как зачарованный, пока она рассказывала, как отец индейского мальчика пропал сразу после его рождения, а мать умерла, и Гайавату растила его бабушка, Нокомис. Несмотря на предупреждения Нокомис, несмотря на ее тревогу, Гайавата отправился на поиски отца. У мальчика не было выбора. Его преследовал звук отцовского голоса в шуме ветра.
Я наслаждался бабушкиными воспоминаниями о ее легендарных братьях и поэмами о мужчинах-героях, но переживал и даже стыдился того, что мои любимые истории были про женщину – ее мать, Мэгги О’Киф. Старшая из тринадцати детей, Мэгги растила братьев и сестер, пока мать болела или в очередной раз ходила беременной. В родном графстве Корк она прославилась своим самопожертвованием: например, Мэгги носила одну из младших сестер в школу на закорках, потому что та была слишком ленива, чтобы ходить самой. Мэгги поклялась, что ее сестра непременно научится читать и писать – то есть добьется того, чего самой Мэгги всегда хотелось.
Никто не знает, что заставило Мэгги покинуть Ирландию, бросить своих родителей, сестер и братьев и в 1800-х бежать в Нью-Йорк. Мы бы очень хотели это понять, потому что Мэгги стала первой в череде беглянок, предводительниц клана, решавшихся на внезапный и загадочный Исход. Судя по всему, причина ее бегства была слишком страшной или болезненной, потому что Мэгги, хоть и славилась мастерством рассказчицы, никогда ни словом о ней не упомянула.
За свои тайные муки и многие добродетели Мэгги надеялась обрести крупицу счастья, когда высаживалась на Эллис-Айленд. Но вместо этого ее жизнь лишь осложнилась еще больше. Устроившись прислугой в богатое поместье на Лонг-Айленде, она как-то выглянула из окна верхнего этажа и увидела под деревом садовника, читающего книгу. Он был «невыразимо прекрасен», говорила она годы спустя, и явно образован. Мэгги влюбилась без памяти. Поделилась переживаниями с подругой, тоже служанкой, и вместе они придумали план. Подруга, умевшая писать, будет записывать мысли Мэгги и превращать в любовные письма, которые Мэгги станет подписывать и класть в книгу садовника, пока тот окучивает розы. Естественно, садовник был покорен письмами Мэгги, восхищен ее пылкой прозой, и после непродолжительных ухаживаний они с Мэгги поженились. Когда он узнал, что Мэгги неграмотная, то почувствовал себя обманутым, откуда родилось неискоренимое разочарование, которым он оправдывал свое пьянство и побои – пока трое их сыновей не взяли его за горло.
Однажды, когда бабушка поздно вечером рассказывала мне свои истории, в кухню вошел дед.
– Дай мне пирога, – сказал он ей.
– Но я же рассказываю, – возразила она.
– Дай мне кусок чертова пирога и не заставляй просить дважды, ты, проклятая глупая женщина!
Если с детьми дед был просто холоден, а внуков держал на расстоянии, то с бабушкой он обращался откровенно жестоко. Он унижал ее, дразнил, мучил удовольствия ради, и квинтэссенцией такого отношения являлось имя, которым он ее называл: Глупая Женщина, как у индейцев в «Песне о Гайавате» Большая Медведица или Смеющаяся Вода. Я не понимал, почему бабушка позволяет деду так себя с ней вести, потому что не знал всей глубины ее зависимости от него, эмоциональной и финансовой. Зато дед знал – и пользовался этим, держа ее в тех же ежовых рукавицах, что и самого себя. Из сорока долларов, которые он каждую неделю выдавал ей на продукты и домашние расходы, не оставалось ни цента на новое платье или туфли. Бабушка так и ходила в одном драном халате. Это была ее послушническая ряса, ее власяница.
После того как дед вышел из кухни – получив от бабушки требуемый кусок пирога, – там повисло угрожающее молчание. Я смотрел на бабушку, которая сверлила глазами тарелку. Она сняла свои толстые очки и потрогала левый глаз: веко ее мелко дрожало от нервного тика. На фотографии, сделанной, когда бабушке было девятнадцать лет, ее голубые глаза – ясные и спокойное, а круглое лицо обрамляют пряди светлых волос. Да, красавицей ее не назвать, но черты лица гармоничные в своей живости. Теперь, когда живость исчезла – из-за тревог, из-за издевательств, – лицо лишилось гармонии и словно распалось на части. Вслед за дрожащим веком обвис нос, губы сморщились, а щеки запали. Каждый день унижений и стыда читался на этом лице. Даже когда бабушка молчала, оно рассказывало свою историю.
Хоть я и не понимал, почему бабушка не может ответить, почему не последует примеру матери и не уйдет, после того дедова появления мне стало ясно, зачем она рассказывает мне о хороших мужчинах. Не только ради меня. Бабушка тоже была своей слушательницей – и напоминала себе, уговаривала себя, что хорошие мужчины существуют и что они могут когда-нибудь прийти и спасти нас. Сейчас, когда она молча разглядывала крошки на тарелке, я почувствовал, что должен что-то сказать, иначе тишина поглотит нас обоих. Поэтому я спросил:
– Почему в нашей семье столько плохих мужчин?
Не поднимая глаз, бабушка ответила:
– Не только в нашей. Плохие мужчины есть везде. Вот почему я хочу, чтобы ты вырос хорошим.
Она медленно подняла голову.
– Вот почему я хочу, чтобы ты, Джей Ар, перестал постоянно сердиться. Никаких больше истерик. Никаких спасительных одеял. Никаких просьб купить телевизор и игрушки, на которые у твоей мамы нет денег. Ты должен заботиться о ней! Ты меня понял?
– Да.
– Твоя мама так много работает, она так устает, и нет никого, кто бы ее поддержал – кроме тебя. Никто больше не может этого сделать. Она рассчитывает на тебя. Я на тебя рассчитываю.
Каждый раз, когда она говорила «на тебя», это звучало словно удар барабана. Во рту у меня пересохло, потому что я и так старался изо всех сил, но бабушка озвучила мой самый худший страх, то, что пугало меня больше всего – я не оправдывал ожиданий. Подводил мою маму. Я пообещал бабушке стараться еще сильнее, а потом извинился и скорей бросился назад в спальню дяди Чарли.
Глава 8. Макгроу
– Что ты делаешь? – спросил меня Макгроу, мой кузен.
Он стоял посреди заднего двора, замахиваясь битой на воображаемый мяч и имитируя свист, с которым тот отлетал в небо. Я сидел на крыльце, держа радиоприемник на коленях. Мне скоро исполнялось девять, а Макгроу было семь.
– Ничего, – ответил я.
Прошло несколько минут.
– Нет, серьезно, – повторил он, – что ты делаешь?
Я приглушил звук.
– Пытаюсь поймать отца на другой радиостанции.
Изобразив еще один победный удар, Макгроу поправил на голове пластиковый шлем с эмблемой «Метс», который никогда не снимал, и сказал:
– Вот бы была такая машинка, чтобы видеть своего отца, когда только захочешь! Здорово, правда?
Отец Макгроу, мой дядя Гарри, показывался у нас крайне редко, но его отсутствие ощущалось сильней, чем моего отца, потому что дядя Гарри жил совсем близко, в соседнем городке. И появления его были страшнее, потому что он бил тетю Рут и своих детей. Один раз он вылил бутылку вина тете Рут на голову прямо у Макгроу на глазах. В другой раз схватил ее за волосы и проволок по коридору перед всеми детьми. Он даже меня ударил – по лицу, отчего в груди у меня странно похолодело.
Макгроу был моим лучшим другом и ближайшим союзником в дедовом доме после мамы. Я часто называл его своим братом и не считал это ложью. Это было правдивее, чем сама правда – как может Макгроу не быть мне братом, если мы живем одной жизнью, в одной системе координат? Отсутствующий отец. Измученная мать. Дядя, подобный привидению. Озлобленные дед с бабкой. Редкое имя, которое вызывает недоумение и путаницу. Вообще, имя Макгроу, как и мое, было окружено некой таинственностью. Деду тетя Рут сказала, что назвала сына в честь Джона Макгроу, легендарного бейсбольного менеджера, но я подслушал, как она говорила моей маме, что постаралась выбрать самое грубое имя, какое только могла отыскать, чтобы Макгроу, окруженный одними сестрами, не вырос хлюпиком.
Я разделял опасения тети Рут. Я тоже боялся, что мы с Макгроу вырастем хлюпиками. Хотя Макгроу, куда более жизнерадостный, чем я, не волновался о подобных вещах, я постепенно внушил ему этот страх. Я втягивал Макгроу в свой невроз, вдалбливал ему в голову, что мы растем без мужского влияния – без ремонта машин, без охоты, походов с палатками и рыбалки, а главное, без бокса. Вроде как ради его собственного блага, я подбил Макгроу натолкать в сумку для гольфа дяди Чарли тряпье с кухни и мятые газеты, чтобы на этой импровизированной груше отрабатывать комбинации ударов. Против воли я затащил Макгроу на пруд за железной дорогой, где мы стали бросать лески с крючками, на которые насадили «Чудо-хлеб», в мутную воду. Нам даже удалось кого-то поймать – пятнистую рыбешку, похожую на Барни Файфа, которую мы благополучно притащили домой, выпустили в ванну и там забыли. Когда бабушка обнаружила ее, то сурово нас отчитала, лишь укрепив меня во мнении, что мы прозябаем под феминистским гнетом.
Несмотря на общий контекст жизни, мы с Макгроу были очень разными, и наши различия росли из отношений с матерями. Макгроу называл свою просто «Рут» и сторонился ее, в то время как я жался к своей и никогда бы не посмел назвать ее «Дороти», только «мама». Мама позволяла мне стричься под Кейта Партриджа, а мать Макгроу раз в две недели брила его машинкой, как в армии, под ноль. Я был нервный, Макгроу – спокойный. Я бурчал, Макгроу смеялся, и его искренний, полнозвучный смех выдавал неподдельную радость жизни. В еде я был привередой, а Макгроу заглатывал все, до чего мог дотянуться, и запивал галлонами молока. «Макгроу, – кричала бабушка, – у меня нет коровы в хлеву!» На что он отвечал очередным залпом хохота. Я был темноволосый и тощий, Макгроу – пухлым блондином, который становился все больше и больше. Он рос, как персонаж сказки, ломая стулья, гамаки, кровати, баскетбольное кольцо за гаражом… Поскольку его отец, дядя Гарри, был настоящим гигантом, мне казалось логичным, что и Макгроу растет, словно волшебный боб.
Макгроу не говорил о своем отце, и не говорил, почему о нем не говорит. Но я подозревал, что всякий раз, когда поезд пролетает по эстакаде через бухту Манхассет и перестук его колес эхом раскатывается по всему острову, Макгроу сразу вспоминает отца – кондуктора на лонг-айлендской железной дороге. Хоть Макгроу в этом не признавался, я считал, что звук поезда действует на него так же, как на меня – треск радиоприемника. Где-то в этом белом шуме – твой старик.
Если Макгроу и случалось повидаться с отцом, то это был не визит, а облава. Тетя Рут отправляла Макгроу в какой-нибудь бар, чтобы он потребовал с отца денег и передал ему на подпись бумаги. Я сразу видел, когда Макгроу возвращается с очередной облавы в баре. Его пухлые щеки наливались краской, а глаза стекленели. Он выглядел расстроенным и одновременно счастливым, потому что только что видел своего отца. Первым делом Макгроу бросался на задний двор, махать битой, чтобы выжечь адреналин и с ним – гнев. Он замахивался изо всех сил и лупил по мячу, целясь в мишень, которую мы мелом нарисовали на стене гаража. После одной облавы он заехал по стене так, что дед подумал, гараж вот-вот развалится.
Был один признак, по которому я мог с уверенностью судить, когда Макгроу расстроен. Как дед, он заикался. Заикание у Макгроу проявлялось слабее, но каждый раз, когда он начинал спотыкаться, у меня сжималось сердце, и я с новой силой осознавал, что кузен – еще один человек в нашем доме, нуждающийся в моей защите. На всех фото тех лет я держу руку у Макгроу на плече, цепляясь за его рубашку, как будто он – мой подопечный и я несу ответственность за него.
Однажды Макгроу уехал из дома повидаться с отцом, но то была не обычная облава в баре. Они провели время вместе: ели чизбургеры и болтали. Макгроу даже получил разрешение порулить паровозом. Когда он вернулся, то приволок с собой бумажный пакет. Внутри лежала кондукторская каска, большая и тяжелая, словно ваза для фруктов. «Это папина», – объяснил Макгроу, снимая свой шлем «Метс» и надевая каску. Козырек закрывал ему глаза, а обод сидел ниже ушей.
Еще в мешке оказались сотни железнодорожных билетов.
– Только посмотри! – радовался Макгроу. – Мы можем взять их и куда-нибудь съездить. Куда угодно! На стадион «Шиа»!
– Они прокомпостированные, – сказал я, чтобы поумерить его пыл; мне было завидно, что Макгроу видел своего отца.
– Они не годятся, дурачок!
– Но папа мне их подарил!
Он отобрал у меня мешок.
В кондукторской каске и ремне с кошельком для мелочи, который тоже подарил ему отец, Макгроу назначил себя кондуктором нашей гостиной. Он ходил взад-вперед, имитируя нелегкое продвижение кондуктора по проходу движущегося поезда, что больше напоминало дядю Чарли, который возвращается из «Диккенса» домой.
– Билеты! – кричал он. – Обязательны всем! Следующая остановка – «Пенн-стэйшн».
Нам всем приходилось лезть в карманы за монетами, без исключения, разве что бабушка оплатила пару проездов на двухсотлетнем диване печеньем и холодным молоком.
Но тетя Рут сорвала стоп-кран локомотиву Макгроу. Она сказала, что подала в суд на его отца за неуплату алиментов, и Макгроу придется выступать на слушаниях. Макгроу вызовут на свидетельское место, где он, поклявшись на Библии, заявит, что дядя Гарри бросил жену и шестерых детей умирать с голоду. Макгроу застонал, зажал уши руками и бросился к задним дверям. Я побежал за ним и нашел его за гаражом, сидящим в грязи. Он едва мог говорить.
– Мне придется стоять и рассказывать плохие вещи про моего отца! Он никогда больше не захочет меня видеть!
– Нет, – сказал я ему. – Тебе никогда не придется говорить плохие вещи про твоего отца, если ты не хочешь.
Я скорее утащу его жить под Шелтер-Рок, но не дам этому случиться!
До суда дело так и не дошло. Дядя Гарри дал тете Рут немного денег, и кризис миновал. Но долгое время после этого Макгроу не навещал отца, потихоньку спрятал его кондукторскую каску и снова стал носить свой шлем «Метс», а мы опять сидели на двухсотлетнем диване совершенно бесплатно.
На дополнительной кровати в углу дедовой спальни, которую Макгроу делил со мной, мы лежали по ночам без сна и разговаривали о чем угодно, кроме темы, которая по-настоящему связывала нас, хоть она иногда и прорывалась. Деду нравилось засыпать с включенным радио, поэтому каждые несколько минут я замирал и прислушивался к очередному мужскому голосу. Точно так же, когда поезд проходил вдалеке, Макгроу поднимал голову с подушки. Когда Макгроу засыпал, я слушал и радио, и поезда, наблюдая за тем, как полосы лунного света, цвета канареечного крыла, ложатся на его пухлое лицо. Я благодарил Господа за Макгроу и с ужасом думал, как жил бы без него.
И тут он уехал. Тетя Рут перевезла детей в дом в нескольких милях от Плэндом-роуд. Она тоже мечтала сбежать от деда, хотя это никак не было связано с бытовыми трудностями или перенаселенностью. После яростной ссоры с дедом и бабушкой она, охваченная гневом, сбежала, поклявшись не видеться с родителями самой и не пускать к ним детей. Она запретила им нас навещать.
– Тетя Рут что, похитила моих сестер и брата? – спросил я деда.
– Можно и так сказать.
– Но она привезет их назад?
– Нет. Это эм-эм-эмбарго.
– Что такое эмбарго?
В 1973 году это слово звучало со всех сторон: в результате эмбарго на Ближнем Востоке, когда арабы отказались продавать нам горючее, на заправке «Мобил» возле «Диккенса» продавали не больше десяти галлонов в одни руки. Но какое отношение эмбарго имело к тете Рут?
– Ну, мы у нее в ч-ч-черном списке, – сказал дед.
Более того, тетя Рут запретила мне бывать у них. Мне запрещалось видеться с Макгроу и двоюродными сестрами.
– Ты у нее в черном списке тоже, – сказал дед.
– Но что я сделал?
– Вина по ассоциации.
Эмбарго Макгроу 1973-го я запомнил как время, когда полностью выпал из жизни. Я проживал день за днем безучастный и мрачный. Стоял октябрь – клены по всему Манхассету пылали красным и оранжевым, и с холмов город выглядел, будто охваченный пожаром. Бабушка все время говорила мне пойти на улицу поиграть, насладиться прохладой и осенними красками, но я валялся на кровати дяди Чарли и смотрел телевизор. Однажды вечером, когда показывали «Я мечтаю о Джинни», в дверь постучали, и в коридоре раздался голос Шерил.
– Есть кто дома?
Я выскочил из спальни дяди Чарли.
– Что случилось? – воскликнула бабушка, сжимая Шерил в объятиях.
– Ты прорвалась через линию фронта? – спросила мама, целуя ее.
Шерил отмахнулась:
– Ерунда!
Шерил никого не боялась. Четырнадцатилетняя, она была самой хорошенькой из дочек тети Рут и самой непослушной.
– Как Макгроу? – спросил я.
– Скучает по тебе. Велел спросить, кем ты собираешься нарядиться на Хеллоуин.
Я опустил глаза.
– Я не смогу повести его собирать конфеты, – ответила мама. – Придется идти на работу.
– Я его поведу, – сказала Шерил.
– А как же твоя мать? – спросила бабушка.
– Пройдемся с ним по нашему кварталу, – сказала Шерил, – чтобы он наполнил свой мешок, и прибежим домой, пока Рут не заметила, что меня нет.
Она обернулась ко мне.
– Зайду за тобой в пять.
В четыре я сидел на крыльце, наряженный Фрито-Бандито: в пончо, сомбреро и с черными усами, которые я сам нарисовал «Волшебным фломастером» под носом. Шерил явилась точно вовремя.
– Готов? – спросила она.
– А если нас поймают? – сказал я.
– Будь мужчиной.
Шерил старалась меня успокоить, подшучивая над теми, к кому мы заходили требовать конфет. Когда дверь закрывалась, она бормотала себе под нос: «Ну и штаны вы себе отхватили, мистер!» Когда на крыльце, к которому мы приближались, загорался свет, Шерил громко восклицала: «Не надо заваривать кофе – мы ненадолго!» Я хохотал, отлично проводил время, но периодически все-таки озирался по сторонам, опасаясь, что нас застигнут с поличным.
– Черт, – сердилась Шерил, – теперь уже я волнуюсь! Расслабься.
– Извини.
Держась за руки, мы шли с ней по Честер-драйв, когда «универсал» тети Рут затормозил возле тротуара. Пронзив Шерил взглядом – и игнорируя меня, – тетя Рут прошипела:
– Сейчас же. Садись. В машину.
Шерил обняла меня на прощание и сказала не беспокоиться. Я побрел домой, но остановился на полпути. Что Гайавата сделал бы на моем месте? Надо убедиться, что с Шерил все в порядке. Она нуждается в моей защите. Я свернул обратно на Плэндом-роуд и задними дворами добрался до забора тети Рут. Вскарабкавшись на мусорный бак, я сумел заглянуть в окно – там метались тени, а тетя Рут что-то кричала. Я услышал, как Шерил отвечает ей, потом снова раздался крик и звон разбитого стекла. Мне захотелось броситься в дом и спасти Шерил, но от страха я не мог сдвинуться с места. Я представил себе, что Макгроу пришел сестре на помощь, и теперь у него неприятности тоже. Все по моей вине!
Я медленно тащился по улице, стирая по пути усы и заглядывая в окна домов. Счастливые семьи. Огонь в каминах. Дети, наряженные пиратами и ведьмами, разбирают и подсчитывают собранные конфеты. Я мог сделать «жирную ставку» на то, что ни один из этих детей понятия не имеет об облавах и эмбарго.
Глава 9. «Диккенс»
Маме удалось найти работу получше, секретаршей в госпитале «Норс Шор», и ее зарплаты хватило, чтобы снять для нас однокомнатную квартиру в Грейт-Нек, в нескольких милях от деда. Я буду по-прежнему ходить в школу Шелтер-Рок, объяснила она, а оттуда на школьном автобусе возвращаться к деду, но после работы она будет за мной заезжать и отвозить в наш новый дом. Теперь мама не спотыкалась на этом слове, а наоборот, подчеркивала его.
Эта квартира в Грейт-Нек нравилась маме гораздо больше, чем наши предыдущие убежища. Деревянные полы, гостиная с высоким потолком, улица в три ряда – каждая деталь радовала мамино сердце. Она обставила квартиру как могла – ненужной мебелью из недавно переоборудованного зала ожидания в госпитале, то есть мусором, который там собирались выкинуть. Мы сидели на твердых пластиковых стульях с такими же напряженными лицами, как те, кто занимал их раньше: мы тоже были готовы к плохим новостям, разве что в нашем случае это была неожиданная поломка машины или рост арендной платы. Я боялся, что когда произойдет нечто в этом роде и мама поймет, что нам надо отказаться от квартиры в Грейт-Нек и вернуться к деду, разочарование будет совсем другое. Оно ее убьет.
Я стал хроническим тревожным невротиком, в отличие от мамы, которая по-прежнему гнала от себя страхи пением и позитивными аффирмациями («Все будет хорошо, детка!»). Порой я даже начинал верить, что она ничего не боится, но тут с кухни раздавался крик, я бросался туда и обнаруживал ее стоящей на стуле и тычущей пальцем в паука. Раздавив его и неся по коридору до мусоропровода, я напоминал себе, что моя мама – вовсе не такая храбрая, что я – мужчина в доме, и от этого моя тревога возрастала вдвое.
Примерно раз в год мама бросала свой притворный оптимизм, закрывала лицо руками и рыдала. Я обнимал ее и пытался успокоить, повторяя те же самые позитивные аффирмации. Я в них не верил, но маме они вроде помогали. «Ты совершенно прав, Джей Ар, – всхлипывая, говорила она. – Завтра будет другой день». Однако вскоре после нашего переезда в Грейт-Нек у нее выдался особенно тяжелый приступ ежегодного плача, и я перешел к Плану Б. Стал повторять монолог одного комика из «Шоу Мерва Гриффина». Я записал его на обороте черновика и таскал в одном из учебников, просто на всякий случай.
– Ну что, друзья, – начал я, читая с листа. – Рад вас видеть, очень рад. Нет-нет, я не лгу. Да, сэр, ненавижу лжецов. Мой отец был лжецом. Сказал, что занимается туристическим бизнесом – потому что объехал автостопом всю страну.
Мама медленно отняла ладони от лица и уставилась на меня.
– Вот так, – продолжал я. – Отец говорил, что у нас в гостиной стоит мебель Людовика XIV. Потом оказалось, я не так понял – она должна была вернуться к этому самому Людовику, если до четырнадцатого мы не заплатим по кредиту.
Мама притянула меня к себе и сказала – ей стыдно так меня пугать, но порой она просто ничего не может с собой поделать. «Я так устала, – повторяла она. – Устала беспокоиться, и работать, и быть такой… такой… одинокой».
Одинокой. Я не обиделся на маму. Как бы мы ни были с ней близки, в отсутствие мужчины в семье мы оба порой чувствовали себя одиноко. Иногда это ощущение становилось настолько острым, что мне хотелось, чтобы для одиночества было другое, более звучное и длинное слово. Я пытался поделиться с бабушкой своими подозрениями о том, что жизнь отрезает от меня по кусочку: сначала Голос, потом Макгроу, – но она неверно меня поняла. Бабушка сказала, грех жаловаться на скуку, когда столько людей в мире пошли бы на убийство, лишь бы это стало их главной проблемой. Я объяснил, что мне не скучно, а одиноко. Она ответила, что я должен быть сильным мужчиной, как она меня просила. «Пойди, сядь на стул, погляди в небо, – сказала она, – и поблагодари Господа за то, что у тебя ничего не болит».
Я поднялся наверх, на чердак, в углу которого обнаружил магнитофон и пишущую машинку годов этак 1940-х.
Борясь с их помощью с одиночеством, я под музыку Фрэнка Синатры напечатал первый номер «Семейной газеты». Он датировался 1974 годом; центральную полосу занимала биография моей мамы и короткий анализ действий администрации Никсона. Дальше шла редакторская статья, посвященная международному траффику «мериуаны», и сумбурный обзор наших внутрисемейных отношений. Этот сигнальный экземпляр я передал деду. «Семейная газета? – спросил он. – Ха! Да у нас никакой се-се-семьи».
Решив, что издавать газету дальше не имеет смысла, я уселся на велосипед и заехал вверх по холму на Парк-авеню, где стояли самые старые и, на мой взгляд, самые лучшие дома в Манхассете. Катаясь взад-вперед перед величественными старинными жилищами, я заглядывал в окна и пытался разгадать главный секрет – как проникнуть внутрь. До меня долетал аромат дымка, поднимающегося из труб, пьянящий и сладкий. Богачи, решил я, наверняка ходят в какой-то особый магазин, где продаются дрова, пахнущие лучше духов. И там же, очевидно, они покупают свои волшебные лампы. Да, у богачей лучший фарфор, и ковры, и, естественно, зубы, но еще у них есть лампы, источающие мучительно уютное сияние. В отличие от ламп в дедовом доме, полыхавших с безжалостностью тюремного прожектора. Даже мошкара избегала этих ламп.
Вернувшись к деду, я снова пожаловался бабушке на то, что мне одиноко. «Пойди, сядь на стул, посмотри на небо…»
В общем, я решил спуститься в подвал.
Как бар, дедов подвал был темный, укромный, и вход детям туда строго воспрещался. В подвале гудел котел, переливалась выгребная яма, а пауки плели паутину размером с сети для тунца. Спустившись вниз по шаткой лесенке, я готов был в ужасе сбежать при первом же звуке, эхом отдающемся от цементного пола, но через пару минут обнаружил, что подвал – идеальное укрытие, единственная часть дедова дома, где можно остаться в тишине и уединении. Никто не найдет меня здесь, а котел даже лучше Голоса отвлекает от склок между взрослыми наверху.
Протиснувшись в самый дальний угол, я наткнулся на главное достоинство подвала, его скрытое сокровище. Затолканные в коробки и сваленные на столах, торчащие из старых чемоданов и рюкзаков, поджидали меня сотни романов и биографий, учебников и альбомов по искусству, мемуаров и практических руководств, заброшенных предыдущими поколениями разных ветвей семьи. Помню, я судорожно вздохнул.
Я влюбился в эти книги с первого взгляда – а предрасположенностью к такой любви меня наградила мама. С девяти моих месяцев и до момента, когда я пошел в школу, она учила меня читать с помощью забавных карточек, которые заказала по почте. Я до сих пор помню эти карточки, яркостью напоминавшие журнальные заголовки, с розовыми буквами на кремовом фоне, а за ними – мамино лицо тех же нежных оттенков, ее бело-розовую кожу и каштановые волосы. Мне нравился вид этих слов, их форма, едва заметная связь между красотой шрифта и красотой маминых черт, но покорила мое сердце их функциональность. Как ничто другое, слова организовывали мой мир, привносили порядок в хаос, делили его на черное и белое. Слова помогли мне организовать даже родителей. Мама была печатным словом – осязаемым, настоящим, реальным, а отец устным – невидимым, эфемерным, мгновенно превращающимся в воспоминание. Было нечто успокаивающее в этой строгой симметрии.
В тот момент в подвале мне показалось, что я грудью встречаю приливную волну слов. Я открыл самую большую и тяжелую книгу, какую смог найти, историю похищения Линдберга. С учетом маминых предупреждений относительно моего отца, я чувствовал некоторое родство с ребенком Линдбергов. Я рассмотрел фотографии его маленького тельца. Познакомился со словом «выкуп», решив, что это нечто вроде детского пособия.
Многие из подвальных книг были сложноваты для меня, но я не беспокоился, готовый довольствоваться тем, чтобы просто разглядывать их, пока не наступит время прочитать. В картонной коробке меня поджидало новое открытие: полное собрание сочинений Диккенса в роскошных кожаных переплетах, и из-за бара я оценил его выше всех остальных изданий, заинтересовавшись тем, что там написано. Я принялся разглядывать иллюстрации, особенно с Дэвидом Копперфильдом в баре, где он примерно моего возраста. Подпись гласила: «Моя первая покупка в пабе».
– О чем это? – спросил я деда, показывая ему «Большие надежды».
Мы с бабушкой как раз завтракали.
– О мальчике, у которого были большие н-н-надежды, – ответил он.
– Что такое надежды?
– Это пр-пр-проклятие.
В недоумении я проглотил ложку овсянки.
– Например, – продолжал дед, – когда я ж-ж-женился на твоей бабке, у меня были большие н-н-надежды.
– Прекрасная манера объяснять вещи внуку, – заметила бабушка.
Дед горько хохотнул.
– Никогда не женись ради секса, – сказал он мне.
Я проглотил еще ложку овсянки, уже жалея, что спросил.
Две книги из подвала стали моими постоянными спутниками. Первая – «Книга джунглей» Редьярда Киплинга, где я познакомился с Маугли, который стал мне новым кузеном вместо Макгроу. Я по многу часов проводил с Маугли и его приемными родителями – Балу, добродушным медведем, и Багирой, мудрой пантерой, – которые хотели, чтобы Маугли стал адвокатом. По крайней мере, так мне казалось. Они постоянно напоминали ему, что надо учить Закон джунглей. Вторая книга была стареньким потрепанным томиком 1930-х годов под названием «Микробиографии». Ее лютиково-желтые страницы покрывали коротенькие заметки про разных знаменитых людей с черно-белыми портретами пером. Рембрандт – художник, игравший с тенями! Томас Карлейль – человек, обожествлявший труд! Лорд Байрон – плейбой Европы! Я наслаждался этой жизнеутверждающей формулой: каждая жизнь начинается с трудностей и неизбежно ведет к славе. Часами я заглядывал в глаза Цезарю и Макиавелли, Ганнибалу и Наполеону, Лонгфелло и Вольтеру и наизусть заучил страничку, посвященную Диккенсу, святому покровителю всех брошенных мальчишек. Его портрет в книге представлял собой тот же силуэт, что Стив приколотил над дверью бара.
Однажды я так погрузился в «Микробиографии», что не заметил, как бабушка подошла ко мне и встала за спиной, протягивая доллар.
– Я наблюдала за тобой, – сказала она. – У дяди Чарли кончились сигареты. Сбегай-ка в бар и принеси ему пачку «Мальборо-Ред».
Пойти в «Диккенс»? Зайти внутрь? Я схватил деньги, сунул книгу под мышку и выскочил на улицу.
Добежав до бара я, однако, притормозил. Я стоял, держась одной рукой за ручку двери, и сердце у меня колотилось, как сумасшедшее, сам не знаю почему. Меня давно тянуло в бар, но эта тяга была такой мощной, такой непреодолимой, что казалась мне опасной, как океан. Бабушка всегда читала мне статьи в «Дейли ньюс» о пловцах, которых отлив утаскивал в море. Наверное, именно так это ощущается. Я сделал глубокий вдох, открыл дверь и нырнул внутрь. Дверь захлопнулась у меня за спиной, и я оказался в темноте. Тамбур. Передо мной была вторая дверь. Я потянул за ручку, и ржавые пружины заскрипели. Сделав еще шаг, я ступил в длинную узкую пещеру.
Когда глаза мои привыкли к полутьме, я заметил, что в действительности воздух там красивого бледно-желтого цвета, хотя никаких ламп и других источников освещения нигде не видно. Воздух был цвета пива, и пах так же, и на вкус был хмельным, пенным и тягучим. Сквозь его аромат прорезался другой, тлена и разложения, но не противный, а, скорей, как в старом лесу, где гниющие листья и плесень напоминают о бесконечном круговороте жизни. В нем ощущались слабые нотки духов и одеколона, тоника для волос и обувной ваксы, лимона и стейков, сигар и газет, а еще морской воды из Манхассет-Бэй. Глаза у меня увлажнились, как в цирке, где в воздухе стоял такой же звериный дух.
О цирке напоминали и белые лица мужчин с рыжими волосами и красными носами. Там был часовщик, всегда угощавший меня шоколадными сигаретами. Жевал сигару владелец канцелярской лавки, который вечно так пялился на мою маму, что мне хотелось свернуть ему челюсть. За столиками сидели и другие мужчины, которых я не знал, похоже, недавно сошедшие с городского поезда, и несколько знакомых, все в оранжевых «диккенсовских» софтбольных майках. Многие из них расположились на высоких стульях у барной стойки – кирпичной, со столешницей из золотистого дуба, другие тонули в темных альковах. Мужчины стояли в углах, прятались в тени, топтались возле телефонной будки, заходили в заднюю комнату – целая стая редких особей, за которыми я так мечтал понаблюдать.
В «Диккенсе» были и женщины, потрясающие и необыкновенные. У той, что сидела ближе всего ко мне, в глаза бросались ярко-желтые волосы и пронзительно-розовые губы. Я поглядел, как она проводит накрашенным ногтем по шее какого-то парня, прислонившись к его бицепсу обхватом с колонну. Я поежился: впервые в жизни мне выдалось воочию наблюдать за физическим контактом между женщиной и мужчиной. Словно почувствовав мою дрожь, женщина обернулась.
– Ого, – сказала она.
– Что такое? – спросил парень рядом с ней.
– Мальчишка.
– Где?
– Вон там. Возле двери.
– Эй, чей это паренек?
– Не смотри на меня.
Из тени на свет выступил Стив.
– Помочь тебе, сынок?
Я узнал его по игре в софтбол. Он был самым крупным из всей компании, с тугими кудряшками волос, лицом, багровым, как красное дерево, и голубыми глазами-щелками. Он улыбнулся мне, обнажив большие острые зубы, и в баре словно сразу посветлело. Теперь я знал, откуда происходил тот таинственный свет.
– Эй, Стив, – позвал его мужчина, сидевший за стойкой. – Налей-ка парнишке за мой счет, ха-ха!
– Ладно, – откликнулся Стив, – парень, тебя угощает Бобо.
Девушка-Розовые-Губы сказала:
– Да заткнитесь вы, идиоты, вы что, не видите, он перепугался?
– Что тебе нужно, сынок?
– Пачку «Мальборо-Ред».
– Черт!
– Парнишка курит настоящее дерьмо.
– Сколько тебе лет?
– Девять. Исполняется десять через…
– От сигарет перестанешь расти.
– Они для моего дяди.
– А кто твой дядя?
– Дядя Чарли.
Взрыв смеха.
– Вот это да! – хохотал мужчина за стойкой. – Дядя Чарли! Ну ничего себе!
Снова смех со всех сторон. Я подумал, что если весь мир засмеялся бы одновременно, это примерно так бы и звучало.
– Ну ясно, – заметил Стив, – это племянник Чэса!
– Сынишка Рут?
– Не, другой сестры, – ответил Стив. – Твоя мама Дороти, верно?
Я кивнул.
– И как твое имя, сынок?
У него был восхитительный голос, раскатистый и теплый.
– Джей Ар, – сказал я.
– Джей Ар?
Стив поморщился.
– Что это означает?
– Ничего. Просто мое имя.
– Как так?
Изогнув бровь, Стив оглянулся на бармена.
– Каждое имя должно что-то значить.
Глаза мои распахнулись еще шире. Я никогда об этом не думал.
– Надо придумать тебе прозвище, раз ты теперь ходишь в «Диккенс», – сказал Стив.
– В следующий раз, прежде чем приходить, найди подходящее прозвище, либо мы сделаем это за тебя.
– Что читаешь? – поинтересовалась Девушка-Розовые-Губы.
Я протянул ей свою книгу.
– Миииикробиографии, – прочла она.
– Это про знаменитых мужчин.
– А я-то думал, ты у нас специалист по мужчинам, – сказал девушке Стив. Она фыркнула.
Бармен наклонился за стойку и достал оттуда пачку «Мальборо». Протянул их мне, и я шагнул вперед. Все смотрели, как я положил на прилавок доллар, взял сигареты и, пятясь, двинулся к выходу.
– Заходи еще, парень, – сказал Бобо.
Снова смех, за которым никто не расслышал моего ответа:
– Я приду.
Глава 10. Пинчраннер
Тетя Рут сняла эмбарго примерно в то же время, что и арабы. Мне снова разрешалось видеться с Макгроу, Шерил и другими кузенами. После школы я бежал по Плэндом-роуд за Макгроу, и мы с ним отправлялись на стадион «Мемориал» играть в салки или на пруд рыбачить, в полном восторге от своего воссоединения. Но несколько недель спустя нас постигла катастрофа похуже эмбарго. Одновременно эмбарго, облава и киднеппинг. Тетя Рут с детьми переезжала в Аризону. Она сообщила об этом между делом, попивая кофе с бабушкой в кухне. «На западе» детям будет лучше, сказала она. Там горы. Голубое небо. Воздух как вино, а зимы – как весны.
Я никогда не понимал, какими причинами взрослые руководствовались в своих действиях, но даже мне было ясно, что тетя Рут решила переехать в Аризону из-за дяди Гарри. Мои подозрения подтвердились пару дней спустя, когда бабушка сказала, что тетя Рут и дядя Гарри решили попробовать начать с чистого листа, и тетя Рут надеется, смена обстановки поможет дяде Гарри встать на правильный путь и быть хорошим отцом моим кузенам.
Это казалось мне неудачной шуткой. Только-только мы с Макгроу снова соединились, как его уже затолкали на заднее сиденье «Форда-универсал» тети Рут вместе с чемоданами и повезли в такие далекие края, что я не мог и вообразить. Тетя Рут вывела «универсал» на Плэндом-роуд, и последнее, что я видел, это как Макгроу в шлеме «Метс» машет мне через заднее окно.
В ответ на потерю Макгроу я еще сильней ушел в три своих хобби – бейсбол, подвал и бар, – и они превратились для меня в подобие трехглавого дракона. Побросав часок мяч о стену гаража, представляя себя Томом Сивером, я спускался в подвал и читал про Маугли или великих людей. (Данте – он прославил Ад!) Потом, с «Книгой джунглей» и «Микробиографиями» в корзине, повесив бейсбольную ловушку на руль, я ехал на велосипеде в «Диккенс» и выписывал восьмерки перед входом, наблюдая за всеми, кто входил и выходил, особенно мужчинами. Богатые и бедные, спортивные и развалины, самые разные мужчины заглядывали в «Диккенс», и каждый ступал туда тяжелой походкой, словно прижатый невидимым грузом к земле. Они брели, как я из школы, клонясь под тяжестью набитого учебниками рюкзака. А выходя, разве что не парили в воздухе.
От бара я уезжал на поле в конце улицы, где мальчишки по вечерам устраивали бейсбольные матчи. Стоило нам немного задержаться, и у нас неизбежно появлялись визитеры. С приходом сумерек наступал ненавистный момент, когда посетителям «Диккенса» приходилось, взглянув на часы, допивать свои коктейли и торопиться домой. Выходя из бара, они, в приступе ностальгии по детству, решали присоединиться к нашей игре. Коммивояжеры и адвокаты отбрасывали в сторону портфели и умоляли нас позволить разок отбить мяч. Я как раз подавал, когда появился один такой парень, с улыбкой отворачивающий манжеты на рубашке. Он подошел ко мне, словно менеджер, предлагающий повышение оклада. Остановился в паре шагов и спросил:
– И кто ты такой?
– Том Сивер.
– А почему у тебя на футболке написано «PI»?
Я поглядел вниз, на свою белую майку, на которой «Волшебным фломастером» написал «41».
– Это сорок один, – ответил я. – Номер Тома Сивера.
– Не, там «PI». Что это вообще означает? Ты математикой увлекаешься, что ли?
– Это четыре, а это один. Видите? Том Великолепный.
– Приятно п’знакомиться, Том Великолепный. Я д’ чертиков пьян.
Он объяснил, что ему нужно «проветриться», прежде чем идти домой к своей «м’ленькой миссус». Поэтому он будет пинчраннером. Мы, мальчишки, быстро переглянулись.
– Вот дурачки, – воскликнул он, – вы что, никогда не слышали про пинчраннера? Он стоит возле домашней базы и бежит к следующей каждый раз, когда бэттер отбивает!
– А если не отбивает? – спросил я.
– Ха! – усмехнулся он. – Хитро! Ты мне нравишься! Давай, бросай свой чертов мяч, Том!
Я подождал, пока пинчраннер займет исходную позицию. Потом подал мяч, и бэттер отправил его на вторую базу. Пичраннер побежал туда: ноги его заплетались, а галстук тащился по земле, словно лента, привязанная к антенне машины. Он отставал на целую милю. Но продолжал бежать. Кинулся к следующей базе, снова не успел. Но все равно продолжал бежать, стремясь вернуться к старту. Набычив голову, он наконец рухнул на домашнюю базу плашмя, и мы все столпились вокруг него, лежащего неподвижно, словно лилипуты вокруг Гулливера. Мы обсуждали, жив он или мертв, но тут парень перекатился на спину и расхохотался, как сумасшедший.
– Порядок! – воскликнул он.
Мы смеялись вместе с ним, и я – громче всех. Я был серьезным мальчиком – моя мама была серьезной, наша ситуация была серьезной, – но тот мужчина у моих ног был противоположностью серьезности, и я помнил, что пришел он из «Диккенса». Мне не терпелось присоединиться к нему. Я не мог дождаться, когда стану им.
Но вместо этого я стал еще серьезней. Все вокруг стало серьезней.
Я думал, что справлюсь с шестым классом играючи, как со всеми предыдущими, но по какой-то причине уроков стало вдвое больше, и они оказались куда сложнее. К тому же мои одноклассники взрослели быстрей меня и лучше разбирались в окружающем мире. Мой приятель Питер сказал мне, что когда подаешь заявление в колледж, надо приложить к нему список книг, которые ты прочитал. У него в списке уже пятьдесят, хвастался он. Я не помню, сколько книг прочел, в панике ответил я ему. В таком случае, сказал Питер, тебя, вероятно, в колледж не возьмут.
– А в юридическую школу? – спросил я.
Он медленно покачал головой.
Миссис Уильямс, которая преподавала естественные науки, предложила нам подписать контракт, где мы обещали стараться по мере сил. Но то, что она рассматривала как стимул к учебе, мне показалось смертным приговором. Я изучал контракт так и этак, жалея о том, что еще не стал юристом и не могу отыскать в нем лазейку. По утрам, с контрактом в рюкзаке, я садился в школьный автобус с таким чувством, будто он везет меня в концентрационный лагерь. По дороге в школу мы проезжали дом престарелых. Я прижимался лицом к стеклу и завидовал старикам, сидящим в креслах-качалках, которые могли весь день читать и смотреть телевизор. Когда я рассказал об этом маме, она ответила очень спокойно:
– Полезай в «Т-Берд».
Колеся по Манхассету, мама уговаривала меня не тревожиться так.
– Просто старайся по мере сил, – повторяла она.
– Именно так и сказано в контракте миссис Уильямс, – жаловался я. – Но откуда я знаю, какая мера у моих сил?
– Такая, чтобы ты чувствовал себя спокойно и не срывался.
Она не понимала. В моей черно-белой картине мира стараться по мере сил было недостаточно. Я должен быть идеален. Чтобы позаботиться о маме и отправить ее в колледж, я не должен допускать ни единой ошибки. Ошибки определили нашу судьбу – бабушка вышла замуж за деда, дед отказался отправить маму учиться, мама вышла за отца, – и мы до сих пор расплачивались за них. Чтобы исправить эти ошибки, мне нельзя было допускать новые. Я должен получать высшие оценки, поступить в лучший колледж, потом в лучшую юридическую школу, а потом засудить своего неидеального отца. Но теперь, когда учиться стало тяжелее, я не представлял, как смогу быть идеальным, а если я буду неидеальным, то мама и бабушка разочаруются во мне, и я стану не лучше отца, а мама так и будет петь и плакать, и тыкать в свой калькулятор – вот какие мысли кружились у меня в голове, пока я наблюдал, как остальные дети играют на площадке в салки.
Как-то вечером мама усадила меня за обеденный стол, призвав на подмогу еще и бабушку.
– Миссис Уильямс звонила сегодня мне на работу, – начала она. – По ее словам, на переменах ты сидишь возле игровой площадки, уставившись в одну точку. Когда она подошла спросить, что ты делаешь, ты ответил, что волнуешься.
Бабушка поцокала языком.
– Слушай меня, – сказала мама. – Когда я чувствую, что начинаю волноваться, то просто говорю себе Я не стану волноваться о том, чего не произойдет, и это всегда успокаивает меня, потому что вещей, о которых мы волнуемся, не происходит практически никогда. Почему бы тебе не попробовать тоже?
Как миссис Уильямс с ее контрактом, мама думала, что ее аффирмация будет мотивировать меня. Вместо этого она меня гипнотизировала. Я превратил ее в заклинание, в мантру, и повторял про себя на площадке, пока не впадал в подобие транса. Я использовал свою мантру как оберег от несчастий и как орудие против тревожных мыслей о грядущих катастрофах. Меня оставят в шестом классе на второй год. Я не стану волноваться о том, чего не произойдет. Я провалю экзамены и не смогу позаботиться о маме. Я не стану волноваться о том, чего не произойдет. Я вырасту таким же, как мой отец. Я не стану волноваться…
Это помогало. Когда я уже привык произносить свою мантру по тысяче раз, миссис Уильямс объявила, что у нас будет перерыв в занятиях. Все в классе обрадовались – я восторгался громче всех.
– Вместо уроков, – сказала она, – мы устроим ежегодный «Завтрак шестиклассников с отцами»!
Я тут же замолчал.
– Сегодня, – продолжала миссис Уильямс, раздавая всем белый картон и клей, – мы сделаем приглашения, которые вы после школы отдадите своим папам. А в субботу утром мы приготовим для них завтрак, расскажем о наших успехах и все познакомимся поближе.
Когда уроки закончились, миссис Уильямс подозвала меня к себе.
– Что случилось? – спросила она.
– Ничего.
– Но я же видела твое лицо!
– У меня нет папы.
– О! Он что… то есть… он умер?
– Нет. Хотя, может быть. Я не знаю. У меня его просто нет.
Она поглядела в окно, а потом повернулась обратно ко мне.
– А дядя?
Я нахмурился.
– Брат?
Я подумал про Макгроу.
Теперь была моя очередь глядеть в окно.
– А можно мне просто не прийти на завтрак?
Миссис Уильямс позвонила моей маме, что повлекло за собой новые переговоры на высшем уровне за обеденным столом.
– Как они могут быть такими бездушными? – возмущалась бабушка. – Что, в школе не знают, во что теперь превратился мир?
Мама подлила молоко себе в кофе и размешала ложечкой. Я пристроился рядом с ней.
– Мне надо было рассказать в школе про отца Джей Ара, – сказала она. – Но мне не хотелось, чтобы с ним обращались… ну, не знаю…
– У меня есть к вам одно предложение, – вступила бабушка. – Только не надо сразу кидаться на меня. Как насчет… деда?
– Только не это! – воскликнул я. – А мы не можем просто наложить на завтрак эмбарго?
Тут дед самолично вошел в гостиную: в запятнанных брюках, байковой рубашке с присохшими хлопьями овсянки и черных ботинках с дырами на пальцах, сквозь которые виднелись носки – тоже дырявые. Как обычно, ширинка у него была расстегнута.
– Где тот пирог, которым ты так похвалялась? – обратился он к бабушке.
– Мы хотели тебя кое о чем спросить, – сказала она в ответ.
– Говори, Глупая Женщина. Говори.
Мама перехватила инициативу.
– Ты не мог бы пойти с Джей Аром к нему в школу на завтрак для отцов? – спросила она. – В эту субботу.
– Только придется надеть чистые штаны, – вставила бабушка. – И причесаться. В таком виде идти нельзя.
– Заткните свои чертовы пасти!
Дед зажмурил глаза и почесал за ухом.
– Ладно, – сказал он. – А теперь давай свой треклятый пирог. Глупая Женщина.
Бабушка с дедом ушли на кухню. Мама повернулась ко мне с пустым лицом. Я знал – она представляет, что будет, если дед назовет миссис Уильямс Глупой Женщиной.
В субботу утром мы с мамой вышли из своей квартиры в Грейт-Нек еще на рассвете. На мне был вельветовый пиджак и такие же брюки. Мы добрались до дедова дома, и мама с бабушкой принялись суетиться над моим галстуком – коричневым, шириной с дорожку для стола. Ни одна из них не умела завязывать виндзорский узел.
– Может, обойдешься без галстука? – спросила бабушка.
– Нет! – воскликнул я.
И вдруг на лестнице послышались шаги. Мы втроем обернулись и замерли, наблюдая, как дед спускается вниз. Его волосы были гладко зачесаны со лба, лицо выбрито до голубизны, а брови и волоски, торчащие из ноздрей, выщипаны и подстрижены. Он нарядился в жемчужно-серый костюм с черным галстуком и белоснежным платком из ирландского кружева. Дед выглядел даже роскошней, чем когда отправлялся на свои секретные воскресные рандеву.
– В чем, черт возьми, д-д-дело? – поинтересовался он.
– Ни в чем, – ответили мама с бабушкой хором.
– Мы не можем завязать мне галстук, – пожаловался я.
Дед сел на двухсотлетний диван и махнул мне рукой, веля подойти. Я подошел и встал у него между колен.
– Глупые женщины, – прошептал я.
Дед подмигнул. Потом взял в руки мой галстук.
– Что за дерьмо! – воскликнул он, поднялся наверх и выбрал галстук из своего гардероба, который обернул вокруг моей шеи и ловко, уверенно завязал. Пока дед производил манипуляции под моим адамовым яблоком, я вдыхал аромат фиалкового одеколона от его щек, и мне хотелось его обнять. Но мы уже спешили к дверям, и мама с бабушкой махали нам, словно мы отправляемся в долгое морское путешествие.
Пока мы катили на «Пинто» по Плэндом-роуд, я смотрел на деда. Он не произнес ни слова. Когда мы подъехали к Шелтер-Рок, дед по-прежнему молчал, и я начал сознавать, что совершил грандиозную ошибку. Либо деду неохота общаться с незнакомыми людьми, либо он зол, что пришлось посвятить мне эту субботу. В любом случае, он недоволен, а когда дед недоволен, то может выкинуть такое, что люди в Манхассете будут вспоминать еще лет пятьдесят. Мне захотелось выскочить из машины, сбежать и залечь под Шелтер-Рок.
Тем не менее, стоило нам подрулить к школе, как дед на глазах переменился. Нет, он не был в лучшем своем настроении – просто стал другим человеком. Из «Пинто» он вылез элегантно, словно из лимузина на вручении премии «Оскар», и прошел в школу походкой королевской особы. Я старался держаться поближе к нему, и как только на нас накатила первая волна учителей и других отцов, дед легонько положил руку мне на плечо и превратился в настоящего Кларка Гейбла[13]. Заикание исчезло, манеры стали мягче. Он был обаятелен, забавен, шутлив – полностью в здравом уме! Я познакомил его с миссис Уильямс, и буквально через пару минут она практически влюбилась в него.
– Мы ждем от Джей Ара блестящих результатов, – разливалась она.
– Да, способностями он весь в мать, – отвечал дед, стоя с прямой спиной и сцепив руки, словно ему собирались повесить на грудь медаль. – Но мне бы хотелось, чтобы он сосредоточился на бейсболе. Знаете, у этого парня не рука, а винтовка! Уверен, когда-нибудь он будет стоять на третьей базе у «Метс». Это была моя позиция. Горячий угол.
– Ему повезло, что у него такой дед!
Ученики подали отцам яичницу и апельсиновый сок, потом все расселись за длинными столами, составленными по центру класса. Дед держался безупречно. Не ронял крошки на рубашку, не позволил себе ни одного из неприличных звуков, означавших обычно, что он наелся и процесс переваривания запущен. Попивая кофе, он просвещал других отцов по разным вопросам – от истории США до этимологии и рынка ценных бумаг, – после чего последовал сенсационный рассказ о том, как он своими глазами наблюдал за Тай Коббом на знаменитом матче, когда тот выбил пять из пяти. Отцы сидели с широко распахнутыми глазами, словно мальчишки, которые за костром в палаточном лагере делятся историями про привидений, пока дед расписывал, как Кобб пролетел до второй базы, «крича как банши», и едва не пропорол голени противникам заостренными шипами на своем панцире.
Когда я принес деду шляпу и помог надеть пальто, все очень жалели, что мы уже уходим. В «Пинто» я откинулся на спинку сиденья и сказал:
– Дед, ты был восхитителен!
– Это свободная страна.
– Огромное тебе спасибо!
– Никому не говори – это у тебя внутри.
Дома дед сразу поднялся наверх, пока мама с бабушкой за обеденным столом устроили мне допрос с пристрастием. Они хотели знать все до мельчайших деталей, но мне не хотелось разрушать волшебство. Да и все равно они бы мне не поверили. Я сказал, что завтрак прошел нормально, и с этим поднялся из-за стола.
Дед не появлялся внизу до самого вечера, когда должны были играть «Джетс». Он уселся перед телевизором в запятнанных штанах и рубашке со следами овсянки. Я пристроился с ним рядом. Каждый раз, когда на поле происходило что-нибудь интересное, я поглядывал на него, но дед и глазом не вел. Я сказал что-то про Джо Нэймета[14]. Дед хмыкнул. Я пошел к бабушке поговорить про этого Джекила-Хайда, но она готовила ужин. Мама легла вздремнуть. Я ее разбудил, но она сказала, что слишком устала, и попросила дать ей еще немного поспать.
У мамы были веские причины для усталости. Она целыми днями гнула спину, чтобы заработать на нашу квартиру в Грейт-Нек. Но в начале 1975-го нашли и другую. У мамы оказалась опухоль в щитовидной железе.
Несколько недель до операции в дедовом доме царила тишина. Все жили в постоянном страхе. Я один сохранял спокойствие благодаря своей мантре. Я повторял ее постоянно. Стоило мне услышать, что бабушка и дядя Чарли шепчутся о маме, о рисках, которые таит операция, и о том, что опухоль может оказаться злокачественной, как сразу закрывал глаза и делал глубокий вдох. Я не стану волноваться о том, чего не произойдет.
В день операции я сидел под сосной у деда на заднем дворе и повторял мантру шишкам, которые, как объяснила мне Шерил, на самом деле «детки сосны». Мне было интересно, кто им наша сосна – мать или отец. Я пододвинул шишки поближе к стволу, чтобы они воссоединились со своим отцом или матерью. И тут появилась бабушка. Чудо, сказала она. Мама очнулась после операции, все в полном порядке. Но она не сказала – да и не могла сказать, потому что не знала, – что это моя заслуга. Я спас маму с помощью мантры.
С повязкой на шее, мама неделю спустя выписалась из больницы, и в наш первый вечер в Грейт-Нек сразу легла в кровать. Я съел миску лапши и стал смотреть, как она спит, потихоньку повторяя мантру и окутывая маму ею, словно покрывалом.
Бабушка с дедом поздравляли маму с тем, как быстро она поправляется. Опять как новенькая, говорили они. Но я видел кое-что другое. Мама все чаще сидела с пустым лицом. Дотрагивалась до повязки и смотрела на меня невидящими глазами. И хотя повязку вскоре сняли, пустое лицо никуда не исчезло. Сидя напротив нее за домашней работой, я поднимал голову и замечал, что ее взгляд направлен на меня, но мне приходилось по три раза звать ее, чтобы она откликнулась. Я знал, о чем мама думает. Пока она болела и не ходила на работу, у нас накопились счета. Мы вот-вот потеряем квартиру в Грейт-Нек. Нам придется вернуться к деду. Целыми днями мама просиживала над калькулятором, даже говорила с ним. А по ночам накрывалась с головой одеялом и плакала.
Когда неизбежный момент настал, она преподнесла мне сюрприз.
– Мы семья, я и ты, – сказала мама, усадив меня за кухонным столом. – И у нас в семье демократия. Поэтому я хочу кое-что вынести на голосование. Ты скучаешь по своим кузенам?
– Да.
– Я так и знала. И много думала об этом. Об этом и о других вещах. Поэтому такое предложение. Что ты скажешь насчет переезда в Аризону?
В голове у меня замелькали картины. Катание с Макгроу на лошадях. Походы с Макгроу в горы. Карнавальные шествия с Шерил на Хеллоуин.
– Когда мы едем? – спросил я.
– А тебе не надо время подумать?
– Нет. Когда мы можем ехать?
– Когда захотим, – улыбнулась моя мама, хрупкая и отважная. – Это свободная страна.
Глава 11. Чужаки в раю
За полтора года пустыня превратила моих кузин в драгоценные металлы. Волосы у них стали золотые, кожа – медная, а лица – цвета полированной бронзы. Когда они подбежали к нам в аэропорту Скай-Харбор, мы с мамой рефлекторно сделали шаг назад. Закутанные в темные пальто и шерстяные шарфы, мы выглядели, словно переселенцы из другого века.
– Какие вы белые! – воскликнула Шерил, поднеся свою руку к моей. – Смотри, я – шоколадно-ванильная! Шоколадно-ванильная!
Встречать нас приехали только три старших сестры. Был поздний вечер. Пока мы ехали к тете Рут, где должны были остановиться на время, пока не найдем собственное жилье, Шерил раз за разом повторяла, что нам понравится в Аризоне.
– Мы живем в раю, – говорила она. – В буквальном смысле! Посмотрите на дорожные знаки: «Добро пожаловать в Парадайз-Вэлли». Это модный пригород Скоттсдейла. Такой Манхассет в Аризоне.
Я вглядывался в темноту, казавшуюся вдвое черней, чем ночи в Нью-Йорке. Все, что я видел – это смутные контуры каких-то гор, на тон темней, чем ночное небо. Я читал, что в Аризоне есть горы, но ожидал увидеть нечто другое, как в «Хейди» или «Звуках музыки»: зеленые склоны, заросшие деревьями, и залитые солнцем луга, где женщины в передниках и детишки, похожие на херувимов, срывают нарциссы. А эти оказались голыми острыми треугольниками, вздымавшимися в небо посреди плоской пустыни, словно египетские пирамиды. Я уставился на самую большую, про которую Шерил сказала, что она называется «Верблюжий горб».
– Почему? – спросил я.
– Потому что она похожа на верблюжий горб, – ответила она, словно я совсем дурачок.
Я повернулся поглядеть на гору еще раз. Я не видел никакого верблюда. По мне, гора больше походила на пичраннера из «Диккенса», распростертого на спине, с горбом живота по центру.
Мама очень быстро нашла работу, секретаршей в местном госпитале. Найти квартиру оказалось труднее. Поскольку в Аризоне жило много стариков, в большинстве квартирных комплексов, особенно недорогих, присутствие детей не допускалось. В конце концов маме пришлось солгать хозяину, сказав, что она разведена и будет жить одна. А когда мы переехали, она уведомила его, что бывший муж, у которого была опека над ребенком, переехал в другой штат, и ей придется позаботиться обо мне, пока он не устроится. Хозяину это не понравилось, но он не стал утруждаться и выселять нас.
На деньги, оставшиеся от продажи мебели из зала ожидания и нашего «Т-Берда», мы с мамой взяли напрокат две кровати, комод, кухонный стол и два табурета. Для гостиной купили в супермаркете два складных пляжных шезлонга. После приобретения «Фольксвагена Жук» 1968 года выпуска у нас осталось 750 долларов, которые мама прятала в холодильнике.
Вскоре после нашего приезда тетя Рут с детьми повезли нас в Роухайд: ненастоящий город среди пустыни с ненастоящей золотой шахтой, ненастоящей тюрьмой и даже ненастоящими жителями. У входных ворот, в окружении настоящих фургонов американских пионеров, сидела вокруг костра группа громадных механических манекенов в ковбойских костюмах. Их трескучие голоса доносились из динамиков, спрятанных в кактусах. Они боялись нападения апачей. Боялись змей. И погоды. И того неизвестного, что ждало их за Рио-Гранде. «Если не переправимся через Рио-Гранде до августа, – говорил главный манекен, – мы пропали». Остальные сурово кивали головами. Мы с Макгроу кивнули тоже. Вдалеке от дома, в окружении пустыни разница между фургоном переселенцев и «универсалом» тети Рут казалась несущественной.
Мы прошлись по ненастоящему городу – по его единственной улице, начинавшейся с салуна. Дым от костра, за которым сидели манекены, тянулся за нами всю дорогу. Я-то думал, что только в Манхассете дым может пахнуть так аппетитно, но аризонский был еще ароматнее, еще волшебней, с нотками, которых я не мог распознать, но Шерил сказала, что это гикори, полынь и мескит. Звезды в пустыне тоже были красивее. Ближе. Каждая светила, словно фонарик, прямо в лицо. Я поднял голову, глубоко вдохнул чистый пустынный воздух и решил, что Шерил права. Это – рай. Горы, и кактусы, и земляные кукушки, все, что поначалу казалось таким странным, теперь внушало мне надежду. Нам с мамой нужны были перемены, а это такая перемена, какой еще поискать. Я уже чувствовал разницу. Ум у меня очистился, на сердце стало легче. Обычная тревога заметно ослабла. Но, главное, я видел изменения в состоянии мамы: она уже несколько недель не поворачивалась ко мне с пустым лицом, и у нее стало вдвое больше энергии.
Вскоре после нашей поездки в Роухайд мама позвонила тете Рут спросить, не хочет ли Макгроу прийти поиграть со мной.
– Не отвечают – опять, – сказала она, вешая трубку. – Их же восемь человек в доме, как такое может быть?
Мы поехали к тете Рут и стали стучаться в двери. Прижимались носами к окнам. Никого. Когда мы вернулись к себе, мама позвонила в Манхассет – беспрецедентная расточительность! Пожалуй, это был первый междугородный звонок за всю историю нашей семьи. Коротко переговорив с бабушкой, мама дала отбой. Лицо ее было бледным.
– Они уехали, – сказала она.
– Что?
– Тетя Рут с детьми возвращается в Манхассет.
– Навсегда?
– Похоже на то.
– И когда они уехали?
– Я не знаю.
– Но почему?
Пустое лицо.
Мы так и не узнали причины. Но, скорее всего, тетя Рут с дядей Гарри разругались, он вернулся обратно в Нью-Йорк, и она помчалась за ним. Но точно этого выяснить не удалось, потому что тетя Рут была не из тех, кто объясняется.
Без кузенов Аризона в одночасье превратилась для меня из рая в чистилище. Наступила невыносимая, пугающая жара, а до лета оставалось еще несколько месяцев. В «Фольксвагене» не было кондиционера, и когда мы с мамой ездили в магазин купить чего-нибудь прохладительного, на нас накатывали волны жара и до самого горизонта глаз не замечал никакого движения, кроме фонтанчиков пыли да редких клубков перекати-поля. На фотографии того времени, где я жду школьный автобус, я похож на первого человека на Марсе.
Чтобы немного отвлечься, мы с мамой по вечерам выбирались прокатиться. В Аризоне не было роскошных особняков, чтобы любоваться на них, и даже Шелтер-Рока. Просто ровная пустыня, без конца и края.
– Давай вернемся в Манхассет, – предложил я.
– Мы не можем, – сказала мама. – Мы все продали. Я ушла с работы. Теперь мы живем здесь.
Она огляделась и потрясла головой.
– Это наш… дом.
В субботу, помогая маме разбирать последние коробки с нашими пожитками, прибывшие от бабушки, я обнаружил двухфутовое приспособление синего цвета, похожее на поршень с двумя рукоятками на концах. Это был «Волшебный увеличитель груди», если верить надписи на упаковке. Я решил дать приспособлению шанс.
– Что такое ты делаешь? – спросила мама, увидев как я, раздевшись до пояса, сжимаю тренажер, стоя перед зеркалом.
– Увеличиваю грудь.
– Это для женщин, – сказала она. – Это не то увеличение, о котором ты подумал. Дай сюда.
Мама забрала у меня устройство и нахмурилась. По ее лицу я понял, что иногда представляю для мамы такую же загадку, как она для меня.
– Тебе скучно, да? – спросила мама.
Я отвел глаза.
– Давай съездим в ненастоящий город, – предложила она.
На входе в Роухайд мы поздоровались с механическими ковбоями. «Если не переправимся через Рио-Гранде до августа…» Зашли в салун, и мама купила два лимонада и пакет попкорна. В баре пахло пивом и сигарами, отчего мне сразу вспомнился «Диккенс». Интересно, были у них в последнее время перестрелки пирожными? Мы присели на скамейку под навесом салуна и стали передавать друг другу попкорн. Перед нами разразилась вооруженная стычка – прямо посреди улицы. Четверо парней сказали шерифу, что теперь это их город. Они грозили пистолетами. Шериф тоже. Выстрел. Шериф упал.
– Превосходство в числе, – заметила мама, – и в силе.
Когда мертвый шериф поднялся и стал отряхивать с себя пыль, мама повернулась ко мне. Есть идея, сказала она. Отправить меня в Манхассет на лето.
– Это единственный вариант, – объяснила мама. – Я не могу допустить, чтобы ты все лето просидел в одиночку в квартире. Пару часов после школы еще ладно, но ты не можешь сидеть один, день за днем, целых три месяца. А пока ты будешь в Манхассете, я возьму еще работу и постараюсь отложить денег на мебель.
– Но как же ты справишься без меня? – спросил я.
Она засмеялась, но тут поняла, что я не шучу.
– Все будет хорошо, – сказала мама. – Время пролетит незаметно, ты же будешь развлекаться, а я буду знать, что тебе хорошо и что ты с теми, кого любишь.
– Но откуда мы возьмем деньги на билет? – спросил я.
– Я заплачу кредиткой, потом разберусь.
Мы никогда не расставались больше чем на три дня, а теперь мама отсылала меня на целых три месяца? Я попытался воспротивиться, но вопрос, похоже, был закрыт. Наша демократия на двоих сменилась благонамеренной тиранией. Ну да ладно. Все равно я не смог бы убедительно притворяться, что перспектива провести лето с Макгроу и сестрами не радует меня. Я еще не стал столь изощренным лжецом.
В ночь перед моим отъездом, пока я спал, мама написала мне письмо, которое велела прочесть в самолете. Она писала, что я должен помогать бабушке и не ссориться с кузенами, что она станет скучать по мне, но в Манхассете мне будет лучше. «Я не могу позволить летний лагерь для тебя, – говорилось в письме, – поэтому считай Манхассет своим летним лагерем».
Никто из нас тогда не знал, что она отправляет меня в лагерь «Диккенс».
Глава 12. Кольт, Бобо и Джоуи Ди
Прошло около двух недель с моего возвращения в Манхассет, когда это случилось. Я кидал резиновый мячик о стену гаража, представляя себя Томом Сивером, участвующим в турнире «Семерки», когда сквозь шум восторженной толпы – ветер, шелестящий в ветвях деревьев, – расслышал свое имя. Я поднял голову.
– Тебя не дозовешься, – сказал дядя Чарли. – Боже мой!
– Прости, – ответил я.
– Гильгамеш.
– Извини, что?
Он вздохнул и заговорил преувеличенно медленно, напирая на каждый слог еще сильней, чем обычно.
– Гильго. Бич. Хочешь поехать на Гильго-Бич?
– Кто?
– Ты.
– С кем?
– С твоим дядей. Да что с тобой такое?
– Ничего.
– Сколько тебе надо, чтобы собраться?
– Пять минут.
– Ответ неверный.
– Две?
Он кивнул.
В доме было пусто. Бабушка ушла за покупками, дед отправился прогуляться, а кузены, хоть и жили неподалеку, не показывались у нас из-за очередной ссоры между бабушкой и тетей Рут. Но можно ли мне ехать на пляж, никому не сказав? Мама много раз предупреждала, отправляя меня из Аризоны: никуда не ходи без разрешения. Вопрос похищения по-прежнему волновал ее, а бабушка частенько игнорировала мамины наставления. Вот только я не знал, что это мама с бабушкой попросили дядю Чарли чем-нибудь занять меня, потому что я слишком много сижу один и скучаю по маме. Они обратились к нему за помощью, предполагая, что он сам мне все объяснит. И не учли, что дядя Чарли, как тетя Рут, не склонен объясняться.
Я натянул плавки под шорты и сложил в пакет полотенце и банан, а потом уселся на крыльце, чтобы подумать. Но времени на раздумья не оставалось: дядя Чарли уже шел по газону в своей версии пляжного костюма – шляпа для гольфа под Бинга Кросби[15], очки «Фостер Грант», джинсы. Он скользнул за руль своего массивного старого черного «Кадиллака», который недавно купил у одного из приятелей Стива. Дядя Чарли обожал эту машину. Я посмотрел, как он поворачивает зеркало – нежно, словно отводя прядку волос с лица любимой. Потом он поправил шляпу, прикурил «Мальборо» и завел мотор. Отпустил ручной тормоз, отчего «Кадиллак» вздрогнул. Время вышло. Я задержал дыхание и бросился бегом. Когда я распахнул пассажирскую дверь и нырнул внутрь, дядя Чарли подскочил от удивления и воскликнул:
– О! – А потом, опомнившись, добавил: – Ладно.
Мы с ним переглянулись.
– Лучше пересядь назад.
– Зачем? – спросил я.
– У нас будут пассажиры.
Я уселся на подлокотник в центре заднего сиденья, словно принц, которого тащит за собой рикша, и мы покатили по Плэндом-роуд, мимо «Диккенса» и стадиона «Мемориал». На южной границе города мы притормозили у дома, все окна которого были закрыты ставнями. Дядя Чарли погудел. Из боковой двери вышел человек лет на десять моложе него, с блестящими темными волосами и печальными черными глазами. Крепкий, широкоплечий, с мощной грудью, он походил на молодого Дина Мартина. Мне показалось, это один из тех игроков в софтбол, которых мы видели пару лет назад, но сейчас он вел себя по-другому. Не смеялся и не дурачился. У него явно болела голова, и он прикрывал глаза, держа над ними ладонь козырьком, словно узник, выпущенный из каземата. Подойдя к машине со стороны водительской двери, он спросил хрипло:
– Ну, Чэс, что скажешь?
Голос его был слаб, как у меня в то утро, когда мне вырезали гланды, но больше всего меня поразило сходство с голосом медведя Йоги[16].
– Доброе утро, – откликнулся дядя Чарли.
Парень кивнул, как будто больше ни на что не был способен. Он забрался в машину и уселся на пассажирское место.
– Матерь Божья, – воскликнул он, откидываясь на спинку, – что за дрянь я пил вчера?
– Свою обычную, – ответил дядя Чарли.
Он поглядел в зеркало заднего вида и снова сильно удивился, заметив меня.
– О, – спохватился дядя Чарли, – Кольт, познакомься с моим племянником. Он сегодня едет с нами.
Кольт обернулся и поглядел на меня через спинку сиденья.
Очень скоро «Кадиллак» был набит под завязку полтонной мужчин. Я думал, мы едем на пляж, но с таким количеством мышц впору было грабить банки. Дядя Чарли формально представлял меня каждому из них. Приятно познакомиться, парень, сказал Джоуи Ди, гигант с клоком ярко-рыжих волос на макушке круглой, похожей на губку, веснушчатой головы, к которой под причудливыми углами лепились остальные детали, вроде глаз и ушей. Создавалось ощущение, что его смастерили из запчастей от разных кукол – этакого Франкенштейна с улицы Сезам с головой Гровера, лицом Оскара и торсом Большой Птицы. Как Кольт, он был лет на десять младше дяди Чарли и обращался к нему с почтением, как к старшему брату. Несмотря на гигантские размеры и размах плеч, Джоуи Ди обладал маниакальной энергией, присущей коротышкам. Он постоянно ерзал, размахивал руками и выпаливал фразы целиком, словно чихая: «Наокеанесегодняволны!» Целился он этими чихами куда-то себе в нагрудный карман, к которому обращался так часто, что я начал думать, будто у него там сидит ручная мышь.
Следующим я познакомился с Бобо, возраст которого не поддавался определению, поэтому я решил, что ему, примерно как моему дяде, немного за тридцать. Бобо был самым красивым из этой компании, с серферской выгоревшей золотистой шевелюрой и крепкими бицепсами, распиравшими рукава рубашки, но у меня сложилось впечатление, что он выглядел бы еще лучше, выспись хоть раз по-настоящему. От него исходил запах вчерашнего виски, который мне даже нравился, хоть Бобо и попытался замаскировать его, вылив на себя полфлакона лосьона после бритья. Если Кольт и Джоуи Ди слушались моего дядю Чарли, то Бобо слушался только своего компаньона, Уилбура, черного пса с презрительным взглядом большущих глаз.
Я слушал их разговоры, крутя головой из стороны в сторону, словно наблюдал сразу за четырьмя партиями в теннис. Потихоньку я начал соображать, что они все работают в «Диккенсе» – барменами, поварами, официантами, – и что Стив – их босс. Они обожали Стива. Говорили о нем не как подчиненные, а как апостолы. Я не всегда понимал, что именно они имеют в виду, потому что они использовали разные прозвища: Стив, например, был Шефом, Рио и Фейнблаттом. У каждого из парней имелась кличка, придуманная Стивом, а у дяди Чарли даже две – Чэс и Гусь. Через десять минут я уже запутался в них, и у меня начало складываться ощущение, что в машине вместо четверых едет человек двадцать. Путаница усиливалась от того, что в рассказах упоминались посетители, заходившие в «Диккенс» прошлой ночью, вроде Жженого, Кувалды или Стрелка, Жмыха, Танка и Твоюжмать.
– Кто такой Твоюжмать? – спросил я. Я знал, что не стоит вмешиваться в разговор, но вопрос сам вылетел у меня изо рта.
Парни переглянулись.
– Твоюжмать – наш помощник, – ответил дядя Чарли. – Подметает полы. Выполняет разные поручения.
– Почему вы так его зовете?
– А он больше ничего не говорит, – объяснил Кольт. – Точнее, это единственное, что в его словах еще можно разобрать. Как сыграли «Янки» сегодня? А-а, твоюжмать. Как тебе живется в этом мире? А-а, твоюжмать.
Я не слышал, что дальше рассказывал Кольт, потому что был поражен его сходством с медведем Йоги. Каждое его слово звучало у меня в ушах песенкой: «Эй, Бу-Бу, пойдем за корзинкой!»
Джоуи Ди напомнил всем, как Твоюжмать жил когда-то за «Диккенсом» в своей машине. Стив положил этому конец, сказал Джоуи Ди, когда Твоюжмать начал стирать свои вещи в «диккенсовой» посудомойке. Собственно, Стива беспокоило даже не это, вмешался Кольт, а тот факт, что Твоюжмать развешивал их сушиться на деревьях позади бара. Парни зацокали языками, а Бобо рассказал еще одну историю, связанную со Стивом. Все напоминало им какие-то истории, связанные с ним. Как Стив угнал полицейскую машину и катался по Манхассету с сиреной и мигалкой, пугая своих приятелей чуть ли не до инфаркта. Как он сел в самолет с целым ящиком шампанского и вусмерть напоил всех пассажиров. Как пригласил завсегдатаев «Диккенса» прокатиться до Монтока на своей лодке под названием «Запой», но спьяну заблудился в тумане, и их нашли потом «на полпути до Нова-Чертовой-Шотландии».
Дядя Чарли рассказал, как познакомился со Стивом, когда они еще учились в школе Манхассет-Хай. Стива только что выгнали из Чеширской академии в Коннектикуте, где все мальчики носили синие блейзеры и постоянно улыбались. Чешир много потерял, зато Манхассет выиграл, заметил дядя Чарли. Мне захотелось спросить, уж не в Чеширской ли академии Стив научился так улыбаться. На мой взгляд, он выглядел в точности как чеширский кот из «Алисы в Стране чудес».
Парни принялись горячо обсуждать преобразования, которые Стив грозил устроить в «Диккенсе», дорогостоящие и многосложные. Помимо ремонта помещения и пересмотра меню, Стив собирался избавиться от рок-групп, которые выступали там по выходным. Более того, он поговаривал о том, чтобы сменить название на «Публиканов». Парни этого не одобряли. Ни в коем случае. Они были против любых перемен, особенно что касается бара.
– Что это вообще значит, «публикан»?
– Птица со вторым подбородком.
– Это пеликан, придурок.
– Публикан – это бармен.
– Тогда почему сразу не назвать бар «Бармен»?
– Ну и кто пойдет в бар «Бармен»?
– Я, а что такого?
– Публиканами в Англии называли в старину владельцев бара, – сказал дядя Чарли. – А в Древнем Риме это были сборщики податей.
– Теперь ясно. В жизни неизменны только три вещи: смерть, налоги и бармены.
– Эй, Бобо, – сказал дядя Чарли, – а как ты добрался из «Диккенса», ну или «Публиканов», до дома вчера?
– С помощью поисковой команды, – ответил Бобо.
Дядя Чарли улыбнулся, а Бобо обхватил шею своего пса руками.
– Уилбур, мальчик, ты снова привел нас вчера домой? Да?
Он зарылся лицом в собачью шерсть, и пес отвернулся, словно смущенный таким публичным проявлением привязанности.
Джоуи Ди вмешался и объяснил мне – хоть со стороны и казалось, что он обращается к ручной мыши в своем нагрудном кармане, – что Уилбур – человек, запертый в теле собаки. Человекзапертыйвтелесобаки! Я поглядел на Уилбура и подумал, что так, наверно, и есть, а пес ответил мне взглядом, означавшим, по-видимому, Ну и что такого? Доказательство сверхсобачьего интеллекта Уилбура заключалось, по словам Джоуи Ди, в том, что пес наотрез отказывался залезать с Бобо в машину, когда тот был пьян.
– А еще он катается на поезде, – встрял Бобо. – Покажите мне другую собаку, которая каждое утро является на станцию и садится на один и тот же чертов рейс.
– Серьезно? – спросил я.
– Естественно! Этот парень путается с кем-то, уж поверь мне. Каждое утро садится на поезд в восемь шестнадцать. Кондуктор как-то приходил в «Диккенс» и все рассказал. Наверняка Уилбур завел себе подружку в Грейт-Нек.
Бобо продолжал гладить Уилбура по голове, а я разглядывал их обоих. Я знал, что пялиться нехорошо, но не мог остановиться. Бобо не только был симпатичный, но еще и походил на медведя. Его имя напоминало Балу из «Книги джунглей», да и выглядел он так же – растрепанный и с большим мокрым носом. Как будто нам не хватало одного медведя в машине, Кольта, он же Йоги. С двумя «Кадиллак» превратился в подобие цирковой повозки. Мало того, как будто связь между Бобо и «Книгой джунглей» и без того не бросалась в глаза, Уилбур был черный и гладкий, как миниатюрная пантера. Бобо походил на Балу, но Уилбур был Багирой. Голова у меня закружилась.
Как только мы вырулили на шоссе, дядя Чарли газанул, разогнав «Кадиллак» до девяноста миль в час, и все повытаскивали свои «Зиппо». Прикурив сигары и сигареты, парни начали травить байки. Я внимательно слушал: оказывается, они давно вели партизанскую войну с местными полицейскими, которых дядя Чарли называл жандармами. Как минимум одного из них уже официально «закрыли». Я узнал, что при хорошем раскладе бармен в «Диккенсе» может заработать тысячу долларов за вечер, а сам бар приносит столько денег, что Стив скоро станет самым богатым в Манхассете. Узнал, что бар финансирует пять мужских команд по софтболу и одну женскую, «Курочки», участницы которой не только мастера игры, а еще и «чертовски горячие штучки». Узнал, что половина барменов крутит романы с официантками, что одну женщину в баре называют «Шер для бедных», а другую, с пушком на лице, «Сонни для бедных»; что стоять за баром называется еще «держать оборону»; что Стив нанимает барменами только мужчин, на случай драк и попыток ограбления, и что по этой же причине бармены всегда работают по двое; что у барменов, работающих в связке, возникает особое взаимопонимание, как у питчера с кэтчером; что во время драки бармен, перелезая через стойку, должен держаться ногами вперед, чтобы не получить раньше времени по башке; что самое опасное в «Диккенсе» – не драки или грабежи, а похмелье, нечто вроде простуды от алкоголя; и что для напитков существует огромное количество названий, даже больше, чем для секса, включая шоты, попы, снорты, шутеры и стиффи.
Я зажмурил глаза и откинулся на спинку сиденья, впитывая голоса и табачный дым, витавший вокруг меня. Все видели Махоуни в пятницу вечером? Вопрос в том, видел ли Махоуни хоть кого-то? Он же слепой! Но крепок, ничего не скажешь. Представляю, какое похмелье у него было наутро. Наверняка пришлось подлечиться. Слышал, его старухе это до смерти надоело. А ты откуда знаешь? Так от нее самой, ха-ха. Вот сучка! Ты меня называешь сучкой? Если прочту еще хоть слово про чертово двухсотлетие США, сблюю на месте. Посмотрите только – вот вам настоящий патриот. Его подружка считает, что он патриот, потому что он у нас стрелок… не, скорострел, ха-ха! Да патриот я, просто не могу больше слышать про Бена Франклина, и Банкер-Хилл, и Пола Ревира. Один – по суше, два – по морю. Кстати о море, Чэс, мне срочно надо сделать туда «номер первый» – может твое корыто ехать побыстрее?
Постепенно все голоса слились в один, и мне стало казаться, что я слышу Голос. Но этот был даже лучше, потому что, когда я открыл глаза, его источник находился рядом со мной.
Бобо, выпавший из беседы, чтобы пролистать спортивные страницы в газете, поднял голову и обратился к дяде Чарли.
– Гусь, – сказал он, – что делать с «Метс» сегодня вечером? Кузман принимает, а с ним никогда нельзя знать наверняка. Я не могу себе позволить еще проигрыш. Ты как считаешь?
Дядя Чарли вытащил из гнезда прикуриватель и осторожно прикоснулся им к своей «Мальборо». Когда он заговорил, дым струйкой побежал у него изо рта.
– Правило Чэса, – ответил он, – ставишь на Куза – и ты полный лузер.
Бобо благодарно кивнул.
Гилго не был самым красивым пляжем на Лонг-Айленде, или самым уединенным, но я быстро сообразил, почему эти парни ездили именно сюда – и даже не на ближайший топлес-пляж поблизости. Только на Гилго имелся бар с лицензией на алкоголь. Крепкие напитки прямо на песочке. На самом деле Гилго-бар представлял собой обыкновенный соломенный навес с исцарапанными полами и длинной полкой пыльных бутылок, но мужчины входили туда, словно в отель «Уолдорф». Они питали почтение ко всем барам и в каждом соблюдали привычный этикет. Первым делом они угостили всех присутствующих – трех старых моряков и даму с задубелым лицом и волчьей пастью. Потом купили выпить себе. Глотнув кто холодного пива, кто «Кровавой Мэри», они сразу начали вести себя по-другому. Конечности их задвигались свободнее, а смех стал громче. Навес ходил ходуном от их хохота, и у меня на глазах похмелье слетало с нашей компании, как утренний туман с поверхности океана. Я тоже смеялся, хоть и не знал, над чем. Они и сами не знали. Вся жизнь – сплошная шутка.
– Пора! – заявил Бобо, рыгнув, словно вулкан. – Горло промочили, теперь пора мочить штаны. В воду!
Я шагал по песку следом за парнями, отстав на пару шагов, и наблюдал, как они занимают привычный для них порядок. Дядя Чарли, самый низкорослый, шагал впереди – фламинго, командующий двумя медведями, куклой из Маппет-шоу и запыхавшейся пантерой. Они казались мне то стаей экзотических зверей, то гангстерской бандой. В пляжных шезлонгах, которые они тащили под мышкой, мне мерещились футляры для контрабаса. Когда на их головы падал солнечный свет – зайчики, отражавшиеся от океана, – они превращались в полк солдат, идущих в бой под артиллерийским огнем. В то утро я понял, что последую за ними куда угодно. Хоть на войну, хоть к черту на рога.
Но только не в воду. Я остановился у бирюзовой кромки прибоя, пока они продолжали стремительно продвигаться вперед. Парни даже не замедлили шаг, пока бросали на песок шезлонги и срывали с себя одежду. Ступив в воду, они так и шли, держа перед собой бокалы и стаканы, разве что подняли руки выше, как Статуя Свободы, погружаясь сначала по пояс, потом по грудь, а потом по шею. Бобо зашел дальше всех. Он добрался до песчаной косы далеко от берега; Уилбур судорожно греб следом за ним.
Плавал я не очень и постоянно вспоминал страшные бабушкины истории про отливы, уносившие с собой целые семьи, но парни не позволили мне стоять на песке. Они приказали залезать с ними в воду, а когда я зашел, толкнули на волну. Вспомнив рассказ мамы, как дед затащил ее на глубину и бросил, я весь окаменел. Джоуи Ди велел мне «отмереть». Расслабься, пацан, просто расслабься. Расслабьсяпацанпросторасслабься. На земле Джоуи Ди выглядел так, словно находится на грани нервного срыва, но в море расслаблялся просто прекрасно. В мгновение ока сбрасывал напряжение с мышц и колыхался, словно медуза – 120-килограммовая ирландская медуза. Пока он лежал на воде, я наблюдал за его лицом – безмятежным настолько, что раньше я никогда такого не видел. Потом это лицо стало еще безмятежнее, и я понял, что он, похоже, помочился.
Если Джоуи Ди замечал многообещающую волну, то поднимался к ней навстречу, чтобы та подхватила его и вынесла на берег. Он сказал, это называется «бодисерфинг». После долгих уговоров и убеждений я позволил ему меня поучить. Я заставил себя лечь на воду, расслабиться, наверное, впервые в жизни и покачаться на спине. Хоть в уши у меня затекла вода, я слышал, как Джоуи Ди повторяет:
– Молодец, пацан, молодец!
А потом он толкнул меня в приближающуюся волну. Она подняла меня вверх, подержала мгновение, и бросила, перевернув вниз головой. Я пролетел по воздуху как бумеранг – потрясающее чувство утраты контроля, которое всегда будет ассоциироваться у меня с Джоуи Ди и остальными парнями. Приземлившись на песке, я кое-как поднялся на ноги, весь покрытый водорослями и царапинами, под их свист и аплодисменты. Джоуи Ди хлопал громче всех.
Мы уселись на шезлонги, высунув, как Уилбур, языки. Ни у кого из парней не было полотенца, и я почувствовал себя девчонкой, завернувшись в свое. Они просто попадали в шезлонги, предоставив солнцу сушить их громадные тела. Мокрыми руками они прикурили сигары и сигареты и зачмокали от наслаждения, когда дым достиг их легких. Я тоже курил – пустую крабовую клешню, представляя, что это «Уайт Оул».
Освежившись купанием, парни составили шезлонги в круг, развернули газеты и начали оживленное совещание по основным вопросам дня, и их реплики завертелись вокруг меня каруселью. Что насчет Патти Херст? Похожа на белку. Возможно, но я бы от такой не отказался. Даже будь у нее в руках автомат? Особенно будь у нее в руках автомат, ха-ха. Да ты больной. Кстати, так что насчет «Метс»? Думаю, поставлю по десять. Должен же Куз хоть раз выиграть! Чертов мазила. Ставишь на Куза – и ты полный лузер. Запиши в свою книжку – на «Метс» по пять. И как это Формену удалось остановить Фрейзера, кто мне может сказать? Лучший боец после Бенни Басса! Мой старик говорит, он своими глазами видел, как тот проиграл Малышу Шоколадке. Вот чертовня – в Бейруте кровавая баня. Рейган говорит, это ответ. Иисусе, что ж за вопрос-то был? У Формена, конечно, знатный хук справа. Поезд может остановить. Вы читали: правнук Нэйтана Хейла женился в этот уик-энд. Дай мне свободу или убей. Вот что жених запоет месяц спустя. Ого, слушайте: два трупа обнаружено в багажнике машины в аэропорту Кеннеди – копы подозревают мафиозные разборки. Надо раньше вставать, если хочешь надурить лучших в Нью-Йорке. Рецензия на этот новый роман, про Ирландию, Леона Уриса. Едоки картофеля против едоков лотосов. Что бы это ни означало. Возможно, неплохое пляжное чтиво, тем более я мало что знаю про землю своих предков. Твои предки из Квинсленда, идиот. Эй, в Рослине сегодня «Челюсти», давайте пойдем! Я не стану их больше смотреть, прошлым летом, после первого фильма, месяц в воду не мог зайти. Уж тебе-то чего волноваться об акулах, у тебя вместо крови сплошной спирт. А яйца – как оливки в коктейле. Один укус, и акулу вывернет наизнанку. Откуда ты столько знаешь про мои яйца, позволь-ка спросить. Я тебе скажу, кого вывернет наизнанку – тебя, если залезешь на Патти Херст.
– Кто такая Патти Херст? – спросил я дядю Чарли.
– Телка, которую похитили, – ответил он. – А она возьми и влюбись в одного из бандитов.
Я посмотрел на него. Потом на всех парней. Чувства Патти Херст были мне ясны.
Парни построили в центре кружка солнечные часы и велели мне разбудить их, когда тень доберется до палки, которую они воткнули в песок. Я внимательно следил за перемещением тени. Слушал их храп, смотрел на чаек, ловивших у берега рыбу, и думал о том, как выдернуть палку. Если я выдерну палку из песка, время остановится и этот день не закончится никогда. Когда тень добралась до палки, я по одному стал будить парней – со всей возможной деликатностью.
По пути домой никто не разговаривал. Парни разомлели от солнца и от пива. Но все равно продолжали общаться с помощью хитроумного кода жестов и гримас. Они вели целые беседы одними нахмуренными лбами и пожиманием плеч. Джоуи Ди пожимал плечами даже лучше, чем расслаблялся.
Первую остановку по прибытии в Манхассет мы сделали у «Диккенса». Парни столпились у задней двери, поглядывая на меня и пожимая плечами, пока дядя Чарли не кивнул, и тогда меня впустили внутрь. Мы вошли в ресторанный зал. Слева я увидел ряд альковов, которые называли еще лаунджами. Дальше находился бар, где у стойки сидело несколько мужчин. Их лица были еще краснее наших, хоть и не от загара, а носы походили на овощной прилавок – вот слива, вот помидор, вот яблоко, а вот грязная морковка. Дядя Чарли представил меня каждому из них; последний, самый мелкий и жилистый, оказался пресловутым Твоюжмать, который отошел от стойки и двинулся ко мне. Голова у него была маленькая, плотно обтянутая коричневой кожей, и как будто светилась изнутри от переизбытка детской радости и выпитой водки. Лицо напоминало коричневый бумажный пакет с горящей в нем свечой.
– А это видно, мымзик с вужной физей, – воскликнул он, пожимая мне руку и улыбаясь. Улыбка была обаятельной, несмотря на сухие губы и зубы, словно жеваный картон.
– Чэс, – продолжал он, – я ему не дам заварзить мой чудо-фудо тузень, помяни мое слово, твоюжмать, ха-ха-ха!
Я уставился на дядю Чарли, моля о помощи, но он рассмеялся и кивнул Твоюжмать: мол, верно, очень верно. Твоюжмать повернулся ко мне и спросил:
– А какую самую лапую штуку вы с твоим твоюжмать дядей делали с нуни-муни-дуди-флипом?
Сердце у меня забилось сильнее.
– Я не совсем уверен, – ответил я.
Твоюжмать расхохотался и похлопал меня по голове.
– Отрысись, старый крупой пагнуда, – сказал он.
Дядя Чарли налил себе выпить, сделал мне «Рой Роджерс» и велел развлекаться, пока они с парнями сделают пару звонков. Я вскарабкался на барный табурет и стал медленно крутиться, во всех подробностях разглядывая зал. В деревянных рельсах на потолке висели сотни коктейльных бокалов, которые ловили и преломляли свет, словно гигантская люстра. На сорокафутовом стеллаже за барной стойкой переливались всеми цветами радуги бутылки; они тоже отражали свет и сами отражались в бокалах, отчего казалось, будто я попал внутрь калейдоскопа. Я провел по стойке ладонью: цельный дуб. Толщиной не меньше трех дюймов. Кто-то из мужчин сказал, что дерево недавно заново покрыли лаком, и это было видно. Оранжево-золотистая поверхность лоснилась, как львиная шкура. Я осторожно погладил ее. Я любовался рисунком дощатого пола, отполированного тысячами ног. Изучал свое отражение в старомодных серебристых кассовых аппаратах, которые выглядели так, будто раньше стояли в лавке где-то в прериях. С тем же самозабвением и увлеченностью, с которыми представлял себя Томом Сивером, я вообразил, что стал Самым Популярным в «Диккенсе» Парнем. В баре яблоку негде упасть, поздний вечер, я рассказываю историю, и все меня слушают. Ну-ка тихо, все, пацан рассказывает! Все внимание сосредоточено на мне и на моих словах. Хорошо бы и правда знать какую-нибудь историю, чтобы всем захотелось слушать. Интересно, как бабушка справилась бы в «Диккенсе»?
За баром я увидел раздвижные панели из закаленного стекла. Бобо подошел ко мне и сказал, что не стоит рассматривать их слишком пристально.
– Почему это? – спросил я.
– А ты ничего не заметил? – ответил он, забрасывая в рот коктейльную вишню.
Я наклонился вперед, наморщив лоб. Нет, я ничего не заметил.
– Эти панели придумала Бешеная Джейн, – сказал Бобо. – Подружка Стива. Ничего не бросается в глаза в их рисунке?
Я присмотрелся к панели справа. Серьезно? Это что, …?
– Пенис? – сказал он. – Точно. А на другой, соответственно…
Я не знал, как это выглядит, но, основываясь на логике, предположил:
– Женская…?
– Угу.
Смущенный, я спросил, что находится в задней комнате.
– Там проходят всякие праздники, – ответил он. – Мальчишники, встречи выпускников, рождественские вечеринки, отмечание побед в Детской лиге. И рыбьи бои.
– Рыбьи? – переспросил я.
– Рыбьи бои, – подтвердил Кольт, возникая у меня с другого бока.
Бармены, объяснил он, часто сажают двух рыбок-петушков в один аквариум и делают ставки, кто победит.
– Но рыбки, – печально закончил он, – быстро устают, и приходится объявлять ничью.
Дядя Чарли вышел из подвала и включил проигрыватель.
– Ах, – вздохнул Бобо, – «Летний ветер».
– Великая песня, – сказал дядя Чарли, прибавляя громкость.
– Мне нравится Синатра, – сказал я дяде Чарли.
– Всем нравится Синатра, – ответил он. – Это же Голос.
Он не обратил внимания на потрясенное выражение у меня на лице.
Вскоре настало время нам с дядей Чарли возвращаться домой. Я едва сдерживал слезы, зная, что дядя Чарли только примет душ и вернется назад в бар, а мне придется сидеть в напряжении и жевать несъедобную еду за ужином с бабушкой и дедом. Отлив тащил меня к дедову дому из бара и от этих парней.
– Здорово, что ты поехал сегодня с нами на пляж, – сказал на прощание Джоуи Ди. – Присоединяйся еще, пацан.
Присоединяйсяещепацан.
– Обязательно, – сказал я, пока дядя Чарли вел меня к задним дверям. – Обязательно.
В то лето я ездил на пляж каждый раз, когда позволяли погода и похмелье. Открывая глаза поутру, я первым делом смотрел на небо, а потом узнавал у бабушки, во сколько дядя Чарли вернулся вчера из «Диккенса». Голубой небосвод и раннее возвращение означали, что к полудню мы с Джоуи Ди уже будем качаться на волнах. Тучи и приход под утро – что мне предстоит сидеть на двухсотлетнем диване, читая «Микробиографии».
Чем больше времени я проводил с дядей Чарли, тем больше походил на него. Я говорил, как он, ходил, как он, копировал его манеры. Задумавшись, подносил руку к виску. Подпирал голову ладонью за едой. Я пытался сблизиться с ним, втягивал в разговоры. Мне казалось, это должно быть легко. Раз мы вместе проводим время на пляже, значит, мы друзья, так? Но дядя Чарли был настоящим сыном своего отца.
Однажды вечером я застал его сидящим в одиночестве за обеденным столом: он читал газету и поедал стейк на кости.
– Жалко, что дождь будет, – сказал я.
Он подскочил и прижал обе ладони к сердцу.
– Иисусе! Откуда ты взялся?
– Из Аризоны. Ха!
Молчание.
Он потряс головой и вернулся к своей газете.
– Жалко, что дождь будет, – повторил я.
– Мне нормально, – ответил он, не поднимая головы от газеты. – Подходит к настроению.
Я нервно потер друг о друга ладони.
– Бобо сегодня придет в «Диккенс»? – спросил я.
– Ответ неверный. – Он так и смотрел в газету. – Бобо на больничном.
– А чем Бобо занимается в баре?
– Готовит.
– А Уилбур придет?
– Уилбур катается на поезде.
– Мне нравится Уилбур.
Нет ответа.
– Там и Кольт будет?
– Ответ неверный. Кольт идет на игру «Янки».
Молчание.
– Кольт забавный, – заметил я.
– Да, – торжественно изрек дядя Чарли. – Кольт забавный.
– Дядя Чарли, а можно мне посмотреть следующие гонки на выживание на Плэндом-роуд?
– На Плэндом-роуд каждый вечер гонки на выживание, – сказал он. – Весь город в состоянии алкогольного опьянения. Ты же не против, что я говорю «в состоянии опьянения», да?
Я задумался. Надо было решить, как лучше ответить. Спустя примерно минуту я сказал:
– Нет.
Он отвернулся от газеты и воззрился на меня.
– Что?
– Я не против, что ты говоришь «в состоянии опьянения».
– О!
Он снова уткнулся в газету.
– Дядя Чарли? – позвал я. – А почему Стив назвал бар «Диккенс»?
– Потому что Диккенс был великим писателем. Стиву нравятся писатели.
– А почему он великий?
– Он писал о людях.
– Разве не все писатели пишут о людях?
– Диккенс писал об эксцентричных людях.
– Что такое «эксцентричный»?
– Уникальный. Единственный в своем роде.
– Разве не все люди уникальные?
– Боже, нет, конечно! В этом-то вся чертова проблема.
Он опять развернулся ко мне. Посмотрел прямо в глаза.
– Сколько тебе лет?
– Одиннадцать.
– Для одиннадцатилетнего ты задаешь многовато вопросов.
– Учительница говорит, я как Джо Фрайдей. Ха!
– Хм…
– Дядя Чарли?
– Что?
– Кто такой Джо Фрайдей?
– Полицейский.
Долгая пауза.
– Одиннадцать, – повторил дядя Чарли. – Ах, что за возраст!
Он полил кетчупом остатки своего стейка.
– Оставайся одиннадцатилетним. Что бы ты ни делал, оставайся таким, как сейчас. Не взрослей. Сечешь?
– Секу.
Даже если бы дядя Чарли сказал мне побежать и достать ему что-то с Луны, я так бы и сделал, не задавая вопросов, но как, скажите на милость, мне оставаться одиннадцатилетним? Я снова нервно потер руки.
– «Метс» сегодня победят? – спросил он, заглянув в свой список ставок.
– Кузман же принимает, – ответил я.
– И что?
– Ставишь на Куза – и ты полный лузер.
Он перестал жевать стейк и уставился на меня.
– А ты все ловишь на лету, да?
Дядя Чарли проглотил мясо, сложил газету пополам и поднялся из-за стола, не сводя с меня глаз. Потом двинулся по коридору к своей спальне. Я едва успел допить пиво из его бокала, как в столовую вошла бабушка.
– Как насчет куска свежего пирога? – спросила она.
– Ответ неверный. Печенье. Сечешь?
У нее отвалилась челюсть.
Даже когда у дяди Чарли было слишком сильное похмелье, чтобы ехать на Гилго, бабушка никогда в этом не признавалась. Она говорила, что он переел в баре чипсов и у него расстройство желудка. Но однажды утром даже она не стала ничего сочинять, потому что дяде Чарли было совсем худо и запах виски из его спальни перебивал все остальные ароматы в доме. Опечаленный, я пошел на задний двор качаться в гамаке.
– Как делишки, пацан?
Я сел. Бобо стоял на подъездной дорожке, с Уилбуром на пассажирском сиденье. Они приехали меня «спасать», объявил он.
– Нельзя же, чтобы дядя Гусь испортил все веселье? – сказал Бобо. – К черту Гуся! Сегодня будем только я, ты и Уилбур. Трое амиго.
Я не мог взять в толк, с какой стати Бобо так расщедрился – разве что он не знал дороги до Гилго и нуждался в моей помощи, чтобы добраться туда. А может, ему и правда нравилось проводить время со мной. Или Уилбуру? Бабушка удивилась еще сильней меня. Она вышла на улицу и так уставилась на Бобо, словно прикидывала, не вызвать ли полицию. Только по той причине, что Бобо был приятелем дяди Чарли, и потому что Уилбур так умоляюще на нее смотрел, она сказала «да».
Когда мы вырулили на Плэндом-роуд, мне стало казаться, что Бобо какой-то сонный. Я не понимал, что он просто мертвецки пьян. В три глотка он разделался с банкой «Хайнекена» и велел мне лезть назад, достать ему еще одну из пенопластового переносного холодильника. Там же, сзади, притаился Уилбур. Только заметив его, я вспомнил, что говорил Джоуи Ди – Уилбур чует, когда Бобо перебрал.
Примерно в двух милях от Гилго, когда я в очередной раз полез назад за «Хайнекеном», машину закрутило, протащило через все три полосы и выбросило на обочину. Нас с Уилбуром прижало к задней двери. Пиво разлилось повсюду. Кубики льда рассыпались по салону, словно шарики из маракаса. Я услышал визг покрышек, звон стекла и вой Уилбура. Когда машина остановилась, я открыл глаза. Мы с Уилбуром были все поцарапанные и мокрые от пива, но счастливые, потому что оба понимали, что могли погибнуть. Нас спасла большая мягкая дюна, поглотившая инерцию удара.
В ту ночь мне приснился сон. (Или кошмар, я никак не мог решить.) Я был на пляже. Наступали сумерки, время ехать домой. Но Бобо был не в том состоянии, чтобы сесть за руль. Уилбур нас повезет, сказал он мне. Пока Бобо дрых на заднем сиденье, я, вооруженный, сидел с Уилбуром впереди и наблюдал, как он ведет машину. Время от времени он крутил рукоятку радиоприемника, а потом поворачивался ко мне, скаля зубы в демонической усмешке, словно всем своим видом спрашивал: И что такого?
Тетя Рут прослышала о моих вылазках на Гилго и решила, что Макгроу должен поехать тоже. Как-то утром она высадила его перед дедовым домом – никогда еще я не видел Макгроу в таком предвкушении. Время шло, а дядя Чарли все не показывался, и он потерял терпение.
– Похоже, никуда мы не поедем, – сказал Макгроу, взял свою биту и отправился на задний двор. Я последовал за ним.
Но тут мы услышали, как хлопает дверь, а дядя Чарли, откашлявшись, требует принести ему кока-колы и аспирина. Бабушка поспешила по коридору к нему в спальню и спросила, поедет ли он на пляж.
– Нет, – отрезал дядя Чарли. – Возможно. Не знаю. А что?
Она понизила голос. До нас с Макгроу доносились лишь обрывки приглушенных фраз. «Рут просила… взять Макгроу… хорошо для мальчиков…»
Потом вступил дядя Чарли. «Бармены, а не няньки… «Кадиллак» не резиновый… отвечать за двух мелких…»
После недолгих переговоров, которые нам послушать не удалось, дядя Чарли вышел на задний двор и обнаружил нас с Макгроу на ступеньках, уже в плавках под шортами и с пакетами из супермаркета, содержавшими наш вариант походных запасов – один спортивный журнал, один банан и одно полотенце. Дядя Чарли, в одних трусах, встал посреди двора.
– Значит, вы, чудики, хотите поехать на Гилго?
– Ага, – с напускным равнодушием подтвердил я.
Макгроу кивнул.
Дядя Чарли поднял глаза на верхушки деревьев, как часто делал, когда раздражался. Иногда мне казалось, он мечтает переселиться туда, построить себе дом на самой высокой из дедовых сосен – крепость, еще более надежную и недосягаемую, чем его спальня.
– Две минуты, – сказал он.
Мы с Макгроу сидели на заднем сиденье, пока дядя Чарли объезжал город. Первым мы остановились у Бобо. Когда Бобо с Уилбуром забрались вперед, то сперва смерили взглядом Макгроу, а потом – дядю Чарли.
– Гусь, – заметил Бобо, – наша маленькая семейка разрастается.
– Угу, – буркнул дядя Чарли, откашливаясь. – Это мой второй племянник. Макгроу, поздоровайся с Бобо и Уибуром.
– А сколько всего у тебя племянников, Гусь? – поинтересовался Бобо.
Нет ответа.
– Гусь, – сказал Бобо, – похоже, в скором времени ты будешь заезжать за мной на школьном автобусе.
Всю дорогу до дома Джоуи Ди Бобо продолжал подшучивать над дядей Чарли.
– Гусь, – говорил он, – наверное, правильно будет называть тебя Матушка-Гусыня. Жила-была бабушка в старом башмаке, у ней было племянников, что воды в реке…
– Матушка-Гусыня, – хихикнул Макгроу. Я толкнул его локтем. Нельзя смеяться над дядей Чарли.
– Кто это? – спросил Джоуи Ди, забираясь на заднее сиденье и указывая пальцем на Макгроу.
– Мой племянник, – ответил дядя Чарли.
– Пацан Рути?
– Угу.
Похоже, только Кольт рад был видеть нас.
– Чего? – удивился он, втискиваясь назад, отчего Макгроу оказался практически у меня на коленях.
– Еще пацан? Ну, чем больше, тем веселей, так ведь?
Макгроу открыл рот, потом закрыл. Мне все было ясно. Медведь Йоги.
Дядя Чарли ехал еще быстрей обычного, видимо, потому, что машина была переполнена, и он чувствовал, как всем хочется скорей вылезти наружу. На Гилго он купил нам с Макгроу гамбургеров. Мне он никогда гамбургеры не покупал, ни разу за все наши поездки на Гилго, но Макгроу вечно выглядел голодным. Поглотив свой гамбургер за три укуса, Макгроу спросил, не найдется ли в баре холодного молока. Я покачал головой. Бобо рыгнул, и я сказал Макгроу, что это сигнал. В воду.
Мы с ним прошли за парнями по песку, как они, бросили свои шезлонги и одежду на песок, не замедляя шага, и вступили в прибой. Но Макгроу так и не остановился. Проплыл мимо меня, мимо парней, даже мимо песчаной отмели Бобо. Это заметил только Джоуи Ди. Голова Макгроу становилась все меньше и меньше, удаляясь от берега, и Джоуи Ди воскликнул:
– Эй, Макгроу, греби назад!
Макгроу проигнорировал его слова.
– Можешь в это поверить? – поинтересовался Джоуи Ди, когда я пристроился рядышком с ним. Вроде как он обращался ко мне, но я не стал отвечать, потому что знал – он разговаривает со своей карманной мышкой. Интересно, где он сейчас ее прячет – рубашки-то на нем нет.
– Пацан решил, что он Джонни Вайсмюллер. До берега целая миля. Давай, греби, следующая остановка Мадрид. Вот сведет ногу, и станешь рыб кормить.
Джоуи Ди развернулся и посмотрел на дядю Чарли – тот сидел на пляже, развалившись в шезлонге, и преспокойно читал газету.
– Отлично, – сказал он своей мыши. – Гусю наплевать.
Гусюнаплевать.
– Я, значит, должен присматривать за его чертовым племянником, пока он почитывает газетки. Великолепно! Никакого чертова отдыха сегодня!
Я страшно сердился на Макгроу за то, что он раздражает Джоуи Ди. Если кто-нибудь из парней выразит недовольство нашими поездками на Гилго – по-настоящему, а не в шутку, как Бобо, – нас больше никогда не возьмут. У парней были свои правила поведения, и когда Макгроу их не соблюдал, мне хотелось его ударить. В то же время я ему завидовал. Он плыл в Мадрид, в то время как я, прислушиваясь к бабушкиным наставлениям, держался берега. Дело было даже не в том, что Макгроу не боялся – нет, он, кажется, даже хотел, чтобы отлив унес его с собой, прямо-таки мечтал об этом. В нем присутствовала некая сумасшедшинка, что делало его больше похожим на мужчину.
Когда Макгроу вылез из воды, я пронзил его многозначительным взглядом, но он предпочел этого не замечать. Он уселся со мной рядом в центре кружка и начал строить песочный замок. Я сказал ему, что нам нельзя злить парней, но Джоуи Ди тут же посоветовал заниматься, чем мы хотим, и «плевать на всех». Потом он обернулся к остальным и добавил: «Что угодно, лишь бы чертов Флиппер не лез снова в воду».
Рядом с замком Макгроу мы построили песочные часы, чтобы следить за временем, когда парни уснут. Их храп – сравнимый по громкости с ревом двигателей самолета, – и вид Джоуи Ди, который и во сне умудрялся разговаривать со своей карманной мышью, вызывал у нас смех, и приходилось зажимать рты руками, чтобы никого не разбудить.
В Манхассет мы вернулись позже обычного. Времени зайти в бар не оставалось. Всем пора было домой. По пути к дедову дому Макгроу сидел с поникшей головой. Я злорадствовал про себя: Ха! Так тебе и надо! Ты заплыл за песчаную косу, зато я побывал в баре. Потом я вспомнил, сколько баров Макгроу повидал, когда устраивал облавы на своего отца, и понял, что он отнюдь не расстроен тем, что не увидит еще один. Ему просто грустно было прощаться с парнями.
Тем вечером мы с Макгроу сидели на двухсотлетнем диване, играли в карты, смотрели «Странную парочку», и он не переставая говорил про Гилго. Ему хотелось ездить на пляж каждый день. Да хоть жить на Гилго. Он сказал, Бобо похож на Джека Клагмена[17]. Я посоветовал ему поумерить пыл. Существуют кое-какие переменные, объяснил я. Погода и похмелье. Никогда не знаешь заранее, что сулит следующее утро. В случае Макгроу имелась и третья переменная – тетя Рут. В какие-то дни она могла его не отпустить: то ему надо отрабатывать бейсбольные удары, то он наказан. А иногда она вообще не давала никакого объяснения.
Когда Макгроу не ездил на Гилго, я сидел в центре кружка и скучал по нему: я предпочел бы, чтобы он вообще сюда не приезжал, потому что без него пляжные вылазки теряли большую часть очарования. С Макгроу все было интереснее. Я делил с ним свой опыт наблюдения за парнями и смеялся над забавными вещами, которые они говорят. Слепень ужалил Бобо за ногу, потом полетел дальше, петляя, словно пьяный, и замертво упал на песок – как же мне хотелось, чтобы Макгроу тоже это увидел!
Хотя парни обращались со мной неизменно снисходительно, в основном они игнорировали меня, и в отсутствие Макгроу я мог часами не слышать собственный голос. Когда они заговаривали со мной напрямую, это было довольно неловко. Наш обычный разговор выглядел так: Джоуи Ди таращился на меня. Я таращился на него. Он таращился еще выразительней. Я продолжал таращиться в ответ. Наконец, он произносил: «С кем «Уайт Сокс» играют сегодня?» – «С «Рейнджерами», – отвечал я. Он кивал. Я кивал. Конец беседы.
Скучая по Макгроу, я сильнее ощущал тоску по маме, не отпускавшую меня практически все время. Однажды я сидел, глядя на океан, и размышлял, что она сейчас делает. Поскольку мы не могли позволить себе междугородные звонки, то обменивались аудиопосланиями, которые записывали на кассеты. Я проигрывал ее пленки снова и снова, ища в мамином голосе признаки усталости и расстройства. На последней кассете ее голос казался счастливым. Даже слишком. Она говорила, что взяла напрокат диван, с очень красивыми коричнево-золотистыми узорами – никаких портретов отцов-основателей! «Раньше у нас с тобой никогда не было дивана!» – восклицала она с гордостью. Но я волновался. Можем ли мы позволить себе диван? Что, если у нее не получится соблюдать график платежей? И она опять начнет тыкать в калькулятор и плакать? А меня не будет рядом, чтобы отвлечь ее какой-нибудь шуткой… Я не стану волноваться о том, чего не произойдет. Но на Гилго моя мантра не работала. Тревожные мысли накатывали одна за другой. Зачем я здесь? Мне надо быть в Аризоне, заботиться о маме. Она, наверное, едет сейчас по пустыне совсем одна и поет. С каждой волной, ударявшей о берег, очередная грустная мысль возникала у меня в голове.
Чтобы немного отвлечься, я обернулся к парням. Дядя Чарли казался расстроенным.