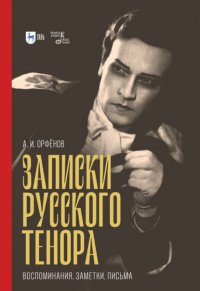
Читать онлайн Записки русского тенора. Воспоминания, заметки, письма бесплатно
- Все книги автора: А. И. Орфёнов
Memoirs of a Russian tenor. Recollections, notes, letters / A. I. Orfyonov; A. E. Khripin (compiling, foreword, comments); A. V. Chuvashov (editing). – 2nd edition, revised. – Saint Petersburg: Lan: The Planet of Music, 2021. – 684 pages: ill. – Text: direct.
The book, based on the archive of the famous singer, teacher and opera theater figure Anatoly Ivanovich Orfyonov (1908–1987), is an amazing document of the time. A student of Stanislavsky and Sobinov, heir to the vocal school of Everardi, a witness to the great era of the Bolshoi Theater of the 1930-50s, later, in the sixties, Orfyonov acted as a true co-creator of the “golden page” in the history of the Bolshoi, fostering the young generation of the company, which made the glory of Russian art of the 2nd half of the 20th century.
The book is not only “about time and about myself” – it is about contemporaries, about friends and foes, about eternal values, about love for opera, about the Bolshoi Theater “secrets of the Madrid court” of the Stalin, Khrushchev and Brezhnev times, about twists and gifts of fate, about how important family is in the life of an artist.
It is intended for a wide range of readers interested in opera and vocal art, including professional and beginning singers, as well as students of singing and anyone interested in musical theater.
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2021
© А. И. Орфёнов, наследники, 2021
© А. Э. Хрипин (составление, предисловие, комментарии), наследники, 2021
© А. В. Чувашов (редакция), 2021
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», художественное оформление, 2021
Вместо предисловия
Анатолий Иванович[1]
Борис Покровский
«Где Анатолий Иванович?», «Спросите у Анатолия Ивановича», «Это сделал Анатолий Иванович», «Куда смотрит Анатолий Иванович!», «Я прямо скажу Анатолию Ивановичу!», «Что сказал Анатолий Иванович?»…
Это жизнь театра.
Артист едет на гастроли – артиста приглашают на гастроли; артиста назначают на роль – артиста снимают с роли; «ставят» в афишу – «снимают» с афиши… У артиста «не звучит» («звучит»), артист слишком толст (слишком худ); «Почему поёт этот, а не другой, почему поёт другой, а не этот?»; Дать репетиции, составить списки, решить вопрос, согласовать решение, изменить решение…
«Анатолий Иванович нам должен…», «Мы Анатолию Ивановичу не должны…» Все неудачи к нему! Громко, требовательно, настойчиво! Удачам… он тихо и незаметно радуется «про себя», притаившись в глубине ложи дирекции.
Вот он бежит по коридору с развевающимися бумажками-планами. Вот уговаривает артиста, вот журит его, терпеливо выслушивает проповедь, «спокойно» принимает каскад обид и недовольств. Вот говорит по телефону с Ленинградом, Киевом, Тбилиси: надо «спасать» спектакль там («я пошлю артиста вам»), надо «спасать» спектакль тут («пришлите нам»)…
Вот он усталый, чуть сутулясь, сидит на случайно оказавшемся «на ходу» стуле. Закрученные одна за другую длинные ноги, торчат коленки… День рабочий, вернее, его первая половина уже закончена. Пора уже сесть за руль машины и попробовать съездить пообедать, но!..
Звонят из поликлиники: «Анатолий Иванович, сегодня не может петь артист…»
Я давно знаком с Анатолием Ивановичем Орфёновым, много с ним работал, но почему-то (кто знает почему?), когда я его вижу или слышу о нём, то представляю себе элегантного юношу, который, изящно опираясь о стену скромного дома придворного шута, стоит на лестнице с цветком в руках и нежно-нежно воркует о любви с девицей Джильдой, головка которой высовывается из окна. Это была постановка Станиславского и Мейерхольда. Я многое из неё забыл, но изящного юношу с цветком в руке помню очень хорошо.
Я не скажу, что эта актёрская работа артиста Орфёнова была венцом его творческих достижений. Нет, его Вашек в «Проданной невесте» был куда более интересен. Здесь был тот объём характера, который выдаёт истинную творческую мудрость автора сценического образа – актёра. Вашек Орфёнова – это тонко и умно сделанный образ элементарного дурака. Сами физиологические недостатки персонажа (заикание, глупость), столь неприятные в жизни, облекались на сцене в одежды человеческой любви, юмора и обаяния. Этого заикающегося, незлобивого и доверчивого дурака нельзя было не любить, не жалеть, всем хотелось, чтобы ему было хорошо. Чтобы сделать такой образ, мало быть мастером, надо быть человеком. Чтобы вызвать на сцене к себе любовь и сострадание, надо знать цену этим чувствам, надо бережно хранить их в себе. И он сохранил, сохранил для театра.
Что надо ему, артисту с именем (и званием), педагогу с опытом (и тоже со званием), наконец, человеку (с хорошей пенсией)? Ему надо радости, близкой переживаемой индивидуально в тёмном углу ложи дирекции. И эта радость складывается, как мозаика, из тысячи мелких, едва заметных постороннему глазу фактов: только что принятый стажёр впервые вышел на сцену Большого театра; известный и любимый артист вновь обретает временно утерянную вокальную форму; как пришёлся этой молодой артистке костюм прекрасной дамы; как тонко удалась решающая интонация роли у знаменитости, с которой так труден был вчерашний телефонный разговор… Во имя золотой песчинки не жаль огромного и терпеливого труда – промывки тонн ила, наносов…
Этому человеку для жизни необходим пыльный воздух театра; ему не нужен озон Кисловодска, ему вреден мягкий диван со вчерашним номером журнала – он присел на минутку на стуле, оказавшемся «на ходу».
Вокруг него шумит актёрская братия, возмущается и радуется, шутит и требует, хлопочет, язвит и целуется. Он посидит немного и пойдёт дальше. Пойдёт помогать молодому певцу преодолевать вокальные трудности партии, говорить с недовольным дирижёром, собирать мнения «главных» (а их много, и все разные), а тут ещё вечерний спектакль, который в любой момент может превратиться в легкокрылую птицу (у этих вечерних спектаклей всегда намерение «лететь»)! Надо спешить позвонить, согласовать, изменить, переговорить, убедить…
Какое имя у этой деятельности? Любовь!
Не знаю, всему ли научился Анатолий Иванович Орфёнов у своих первых учителей по искусству – К. С. Станиславского и Л. В. Собинова. Но вот любить театр он научился на пять с плюсом, и на всю жизнь.
Он был один такой
Маквала Касрашвили
На моём пути встречалось много хороших людей, но такого, как Анатолий Иванович Орфёнов, больше не было. Так вышло, что именно он определил мою судьбу.
Я ещё училась на пятом курсе Тбилисской консерватории в классе Веры Давыдовой. И на очередной студенческий концерт – помню, что это был январь – Вера Александровна пригласила делегацию из Большого театра, которая ездила по стране в поисках новых голосов. Возглавляли эту делегацию заместитель директора Большого театра Михаил Анастасьев и заведующий оперной труппой Анатолий Орфёнов (волею судеб и, видимо, в наследство от него и мне сейчас досталась эта должность в нашем театре; только сейчас, к сожалению, мы уже не ищем таланты, а ждём их здесь в Москве). И вот я пела в том концерте. После того как он закончился, меня позвали, и Анатолий Иванович предложил приехать в Москву – участвовать в конкурсе в Большой театр. Я мечтала петь в Тбилисской опере, и практически меня уже туда брали вместе с Зурабом Соткилавой, так как мы считались фаворитами консерватории, но о Большом театре я и мечтать не смела. Однако через месяц после этого я в сопровождении Давыдовой вошла в Большой театр. Спела конкурс и была зачислена в стажёрскую группу.
Такого руководителя оперной труппы, как Анатолий Иванович, в Большом театре на моём веку больше не было. Он был единственным в своём роде. Во-первых, он изнутри знал театр, который был для него родным домом и в котором он пел многие теноровые партии вместе с Козловским и Лемешевым. Во-вторых, это он привёл в театр весь его золотой запас последней четверти XX века – от Образцовой, Синявской, Атлантова, Мазурока, Нестеренко и Пьявко до многочисленных народных и заслуженных артистов, которые держали на себе ведущий репертуар. А как он о нас заботился! Как отец родной – с любовью, заботой, участием. И очень осторожно. Не навредить – было его первой заповедью. В нашем хрупком вокальном мире это особенно важно. Советы он давал не так, как это обычно делают старшие по отношению к младшим и подчинённым, а на равных, с огромным уважением. Жёсткие, а порой и обидные вещи он умел говорить очень мягко, доброжелательно, тактично – он всегда был очень позитивен по отношению к артистам, которых так легко ранить неосторожным словом. Этим он отличался от всех предыдущих и последующих руководителей оперы в Большом театре, которые зачастую ставили себя в позицию хозяина и общались с труппой свысока. Орфёнов же был в высшей степени интеллигентным и культурным человеком.
В деле он был принципиален и никогда не брал в театр профессионально не готовых людей. А тем, в кого верил – доверял и давал возможность преодолевать трудности. Так я спела Тоску в 27 лет – это считалось безумно рано, и, кроме того, тогда я ещё была лирическим сопрано. Но и Покровский, и Орфёнов одобряли моё стремление скорее спеть этот спектакль, причём Борис Александрович всем говорил, что Тоска на самом деле была даже моложе Касрашвили, а Анатолий Иванович всё время был рядом, оберегал и внимательно следил, чтобы не случилось срыва, ведь я ещё действительно не была по большому счёту полностью готова к штурму «Тоски». Но время показало, что риск оправдался. Ведь именно через преодоление трудностей постигаются тайны театрального мастерства. Перед первым выступлением в той или иной роли Анатолий Иванович всегда заходил за кулисы ободрить артистов, пожелать им удачи, а потом слушал всю оперу из ложи – в который уж, наверное, раз, но ему было интересно вводить в спектакли новых людей. Он знал настоящую цену такому понятию, как продолжение оперных традиций. Его мнения все ждали с особым трепетом, понимали, что он знает в своём деле всё – до мельчайших деталей.
Мне, молодой девчонке из Кутаиси, сразу попавшей в такую махину, как коллектив Большого театра, Анатолий Иванович очень помог в первое время побороть страх своим человеческим теплом. Он всё время приходил ко мне в класс на уроки с концертмейстером, следил за моим развитием, давал самые необходимые советы: что петь сейчас, что оставить на потом. Все молодые певцы чувствовали себя его детьми. А мы с моей подругой Тамарой Синявской, которая пришла в театр чуть раньше меня, были даже вхожи в его дом, дружили с дочерьми и сыном Анатолия Ивановича. Он чувствовал, что мне одиноко в чужом городе – без родных, без знакомых, без своего жилья. И часто звал в гости, подкармливал. Дом Орфёновых был потрясающим, семья удивительно любящей, там было настоящее чувство домашнего очага, какого-то теплого уюта. И фотографии моих первых оперных героинь сделал сын Анатолия Ивановича Вадим – они до сих пор сохранились.
Анатолий Иванович Орфёнов всегда был на стороне певца и сглаживал углы, возникавшие у каждого из нас в отношениях с высшим руководством. Это был наш защитник, наш добрый гений. Он верил в нас и этим приподнимал над землёй. При нём опера в Большом театре расцветала.
26 июня 2003 года
(специально для 1-го издания книги)
Собиратель
Владислав Пьявко
Анатолий Иванович Орфёнов – это совершенно удивительная фигура. Он пел в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, потом пришёл в Большой театр и имел настоящий успех в партиях лирического тенора. А ведь в этом амплуа у него были выдающиеся «соперники» – в 40-50-е годы в нашем театре блистали Лемешев и Козловский. Но я глубоко убеждён, что, уже завершив певческую карьеру, Анатолий Иванович сделал для театра и для всего нашего искусства совершенно уникальные вещи и его заслуги несоизмеримы ни с чем. Мы привыкли говорить, что шестидесятые, семидесятые годы, да и начало восьмидесятых были золотым временем для оперы Большого театра, когда на нашей сцене блистала великолепная плеяда ярких солистов, причём не только в партиях первого, но и второго положения. Это действительно так, но мало кто задумывается, почему же такое происходило, откуда, собственно говоря, взялись все эти солисты, и, кстати, почему такое больше в современной истории театра не повторялось. Так вот – огромная роль здесь принадлежала именно Анатолию Ивановичу. С 1963 года он работал в качестве заведующего оперной труппой Большого театра.
Официальное скучноватое название этой управленческой должности ни в коей мере не отражает масштабов деятельности Анатолия Ивановича Орфёнова. Можно догадываться, сколько сил и энергии требовала организация повседневной работы оперной труппы, но Анатолий Иванович никогда только ею не ограничивал свою деятельность. Не реже двух-трёх раз в месяц он ездил в разные города, республики, что называется, на периферию, и слушал певцов. Ездили слушать и выдающиеся мастера театра – например, много сил и времени уделял этой работе Павел Герасимович Лисициан. Слушали везде. Найдя что-нибудь интересное, приглашали людей в Москву – или на прослушивание уже в театре, или, что не было редкостью, даже на спектакль, чтобы по его результатам судить о возможности того или иного певца быть солистом Большого. А в 1965 году, году моего поступления в театр, был вообще организован конкурс в стажёрскую группу, в котором участвовали все желающие со всей огромной страны. Тогда в Москву съехалось триста человек, из которых отобрали шесть.
Вот именно широта охвата, тщательность отбора, чуткое ухо тех, кто отбирал кандидатов с учётом прежде всего того, что нужно на данный момент театру, а не следуя чьим-то личным пристрастиям и ощущениям, и создали ту оперу Большого, о которой сейчас ностальгически вспоминают и те, кто работал тогда в театре, и публика. Это прежде всего заслуга Анатолия Ивановича Орфёнова.
Но он ведь не только отбирал голоса, певческие индивидуальности. Он был хорошим советчиком и другом всех без исключения молодых артистов, он их обожал. Пестовал, мягко подталкивал к исполнению той или иной партии, либо, наоборот, останавливал, удерживал от каких-то стремлений, которые могли быть не на пользу начинающему певцу. Я только через много лет понял, почему Анатолий Иванович просто оттолкнул меня от некоторых партий, исполнить которые я порывался. Это было либо на том этапе не нужно мне, либо не нужно театру, и я своим рвением мог подставить себя под удар. Анатолий Иванович был просто удивительный человек – он знал абсолютно все подводные камни и течения жизни Большого театра, но никогда не занимался интригами и никогда не употреблял во зло свою немалую в театре власть – власть заведующего оперой.
Он очень тепло относился ко всем молодым певцам, буквально как к своим детям. Следил за каждым, как он развивается, что делает. Мы каждодневно ощущали эту отеческую заботу и, конечно же, стремились с Анатолием Ивановичем советоваться практически по всем вопросам, да и не только чисто профессиональным. Я очень сдружился с ним во время своей стажировки в Италии, как ни странно, посредством писем. Я писал ему буквально обо всём – о занятиях, о проблемах, о том, что я видел, что узнал нового. И с нетерпением ждал его писем – не только для того, чтобы получить ответы на свои вопросы и узнать театральные новости, но и для того, чтобы ощутить удивительное родственное тепло – это особенно важно, когда находишься в чужой стране. Завязавшаяся в те месяцы дружба продолжалась до последних дней жизни Анатолия Ивановича. Я счастлив этой дружбой и благодарен за неё своей судьбе.
Анатолий Иванович написал замечательную книгу обо всех нас – тех, кто пришёл в театр в 60-е годы. Она называется «Юность, надежды, свершения» и повествует о самых первых наших шагах, о том, как начинали свои карьеры Владимир Атлантов, Елена Образцова, Тамара Синявская, Маквала Касрашвили, Юрий Мазурок, Денис Королёв, Евгений Райков, Евгений Нестеренко… Анатолий Иванович собирался написать продолжение этой книги – о том, каковы были результаты этих самых первых свершений, о том, какое место занял каждый из нас в современном оперном мире. К великому сожалению, он не успел этого сделать.
О том, что Анатолий Иванович – сын священника, я узнал только тогда, когда мы с ним близко сдружились, ведь о таких вещах в то время лучше было не говорить. Но я сразу обратил внимание, что он практически постоянно перебирает чётки, и как-то спросил:
– Анатолий Иванович, а почему вы всё время чётки перебираете? Наверное, нервничаете?
– Нет, Владенька, я размышляю…
«Есть в мире сердце, где живу я»
Андрей Хрипин
Как начать эту повесть о русском певце Анатолии Орфёнове?..
Впрочем, мы уже начали её – фразой из пушкинского романса Даргомыжского «Что в имени тебе моём», который любил петь наш герой. В этом – и вопрос, и ответ.
Меньше всего хотелось бы следовать моде, дабы произвести на свет нечто сверхоригинальное. К оригинальничанью не располагают сам биографический жанр и фигура главного героя – представителя творческой интеллигенции уже не существующего государства под названием Советский Союз, скромного труженика оперы, сына сельского священника, человека глубоко верующего и жившего с честью. Одного из многих.
Многим ли сегодня известно имя Анатолия Орфёнова?
Многие ли слышали его голос, хотя бы в записи?
С каждым годом всё меньше и тех, кто помнит артиста в спектаклях, концертах да и просто в жизни. Сам я принадлежу к поколению, которое по естественным причинам не могло застать певца на сцене, но с его записями на пластинках соприкоснулся ещё в детстве. И вот я один на один с его обширным архивом и задачей собрать из оставшихся записок, дневников, писем и других уцелевших фрагментов некое связное целое в жанре мемуаров. Я думаю о разных людях, молодых и не очень, о своих ровесниках, которые могли бы в будущем взять эту книгу в руки, и понимаю, что угодить всем сразу и каждому в отдельности невозможно. Даже в узком сообществе ценителей оперы и меломанов (а именно этому кругу в первую очередь адресована книга) у всех нас такие разные вкусы и пристрастия! Кому-то будет интересно, кому-то – не очень. Но уверенность в том, что ни малейшее зёрнышко не должно затеряться в жерновах истории, придаёт силы.
Рядовой второго эшелона
Говорят, что книги пишутся с помощью книг. Был бы рад ими воспользоваться, но книг об Орфёнове, увы, нет – есть, правда, книги, написанные им самим в 1960-е годы, но все они о других певцах (монография о Собинове, сборник портретов молодых солистов Большого театра тех лет). Да и способны ли книги, в том числе эта, донести живое дыхание живого человека, разделившего свою судьбу с судьбой страны и народа? Достойна ли столь пристального внимания фигура отнюдь не медийная, как говорят сегодня, – не гений, а вполне рядовой служитель искусства, пусть и одарённый свыше покровительством фортуны? Пускай данная книга попробует по-своему ответить на эти вопросы. Пока же для меня очевидно, что творцы, обретшие в веках титул великих – скорее исключение из правил. Биография гения даёт представление о высших проявлениях и звёздных часах эпохи, но по ней трудно судить в целом, чем и как живёт в своей массе обширный класс мастеровых и ремесленников искусства. Судьба одного из многих может быть не менее показательна, чем иные образцовые судьбы, ибо правилом, субстратом жизни является общий срез, средний уровень. Да, гении и Прометеи зажигают огонь и двигают человечество вперёд, но поддерживают этот священный дар отнюдь не боги, а рядовые своей профессии – возможно, и равные первым, но в силу самых разных (порой необъяснимых) обстоятельств остающиеся в тени. Предоставим же Гамлетам от искусства решать что важнее: прометеевское наитие гениев или надёжный фундамент, обеспечиваемый героями будней, этой зачастую незаметной, но победоносной силой человечества. Именно таким рядовым оперы и был наш герой – Анатолий Орфёнов, находя счастье в кропотливом повседневном служении своему делу, не ожидая почестей и славы. Нельзя не услышать в этом служении и призвук будничного трагизма – насколько же надо быть сильным и одновременно покорным своей судьбе человеком, чтобы верно понимать и, главное, внутренне принимать своё место, пусть и во «втором эшелоне», пусть и в тени «великих». Быть собой и не желать чужой доли.
Здесь пора расшифровать, что «второй эшелон» Большого театра в 30-50-е годы XX века – в период наивысшей творческой активности Орфёнова как певца – представлял собой весьма мощную, хотя и неоднородную по своему составу прослойку мастеров оперы, которая шла следом за народными артистами СССР и лауреатами Сталинской премии, буквально дыша им в затылок. Герои Социалистического Труда обычно пели премьеру либо статусные спектакли в присутствии Генерального секретаря, после чего проводили вечера на правительственных концертах и кремлёвских приёмах. «Великих» в главных партиях сменяли они, «невеликие» – солдаты «второго эшелона», вторые и третьи составы. Кто же это, кроме Анатолия Орфёнова? Список сколь бесконечный, столь и феноменально пёстрый.
Что вам скажут, например, имена таких певиц второй четверти XX века, как Лариса Алексеева, Лариса Алемасова, Галина Белоусова-Шевченко, Елизавета Боровская, Анна Мохова, Маргарита Нечаева (Гранатова), Валентина Разукович, Александра Тимошаева или Мария Шапошникова (жена известного маршала Советского Союза)? А ведь помимо небольших партий вроде Ольги в «Русалке», Прилепы в «Пиковой даме» или Фраскиты в «Кармен», они в своё время обеспечивали повседневную афишу «Севильского цирюльника», «Травиаты», «Риголетто», «Снегурочки», «Царской невесты» и других опер с лирико-колоратурным сопрано в центре (в том числе и в самые трудные военные годы). Пусть в пятом-шестом составе, зато в Большом театре.
На линии лирического сопрано выделялись Мария Баратова, Стефания Зорич, Елена Межераупхрипина, Татьяна Талахадзе («грузинка» по мужу), а также ставшая впоследствии авторитетным педагогом Елена Шумилова (в разное время у неё учились, в частности, Любовь Казарновская и Марина Мещерякова). Крепкий драматический репертуар (вплоть до таких «кровавых» и силовых партий, как Турандот, Саломея, Фата Моргана или Брунгильда) вели Александра Матова, Софья Панова и совсем уж мало знакомые для нашего слуха Нина Бенисович, Маргарита Бутенина, Александра Бышевская, Лариса Махова (на старых пластинках мы слышим её в основном «на подпевках» у «великих» – как Мерседес в «Кармен»), Ольга Леонтьева, Людмила Рудницкая, Елена Сливинская и Анна Соловьёва (в биографии последней есть любопытная строчка: в 1925-26-м совершенствовалась в Италии под руководством дирижёра Этторе Паницца и пела Аиду, Леонору в «Трубадуре» и Тоску в театрах Неаполя, Палермо и Милана – впрочем, подобными поворотами изобилует практически любая из перелистываемых нами судеб)…
В меццо-сопрановой группе «вторым» или даже «третьим эшелоном» проходили такие певицы, как Любовь Ставровская (жена баритона Леонида Савранского), Александра Щербакова, Александра Турчина, Елена Грибова (её настоящее мордовское имя – Илан или, согласно некоторым источникам, Иглан), и, помимо главных партий, за ними числилась масса второстепенных, возрастных, характерных. Или вот, например, Анна Зелинская, до прихода в Большой театр певшая в составе оперной труппы в Харбине – практически абсолютная terra incognita, хотя не так давно всплывшие её харбинские граммофонные записи свидетельствуют об отменном качестве голоса и высоком уровне исполнения; впрочем, и в Большом (вплоть до 1949 года) она пела не что-нибудь, но Марфу, Любашу, Кармен и даже Амнерис. А кто помнит сегодня Басю Амборскую, Ольгу Инсарову, Елену Корнееву, Марию Кузнецову, Марию Левину, Валентину Шевченко или Маргариту Шервинскую – харатерных певиц-компримарио, закрывавших собой амбразуру ролей «кушать подано» и вторых партий (всех этих безымянных оперных мамок, нянек, прислужниц и просто «баб»), но по большим праздникам певших и что-то вроде Ольги, Полины, Княгини в «Русалке», Маддалены или Сузуки? Всё это тоже надо было кому-то озвучивать, не уронив марки Большого театра. Одним словом, несмотря на устоявшееся цеховое определение «моржи» – не было и нет маленьких ролей… В качестве своеобразной компенсации за бесславие очень многие имели с «барского стола» какие-то награды и почётные звания, хотя бы союзных или автономных республик. Впрочем, некоторым и званий не полагалось – «по понятиям», как говорят сейчас…
На позициях «второго эшелона» находилось и такое чудо природы, как певицы контральто – голос, которого почти не осталось в природе (в том числе и по причине неуклонного повышения оркестрового строя). После бурной молодости и трёх сезонов в нью-йоркской «Метрополитен Опера», где она, среди прочего, пела Азучену в ансамбле с великими Розой Понсель и Джакомо Лаури-Вольпи, лучшей московской Графиней в «Пиковой даме» и видным консерваторским профессором с возрастом стала величественная Фаина Петрова (среди её учениц замечательные меццо и контральто разных поколений: Анна Матюшина, Лидия Галушкина, Нина Исакова, Глафира Королёва, Галина Борисова и другие). В амплуа «характерной старухи» нашли себя перешедшая из Ленинградского театра имени Кирова «именитая» Евгения Вербицкая с её узнаваемым острым тембром и «безымянная» Евгения Иванова. Незаменимыми «мальчиками» в русских операх были сочная, тёплая Елизавета Антонова, эффектная Бронислава Златогорова, более скромная Варвара Гагарина и находившаяся в их тени Ирина Соколова.
Забыты сегодня имена драматических и лирико-драматических теноров 30-50-х годов – Бориса Евлахова, Якова Енакиева, Романа Марковского, Сергея Стрельцова, Фёдора Федотова. Репертуар Владимира Дидковского – Садко, Сергей в «Леди Макбет Мценского уезда», Хозе, Манрико, Пинкертон, Каварадосси, Калаф! Но кто он, что он?! Забыт легион характерных теноров, всех этих мало-мальских Подьячих, Шуйских, Мисаилов и Бомелиев, без которых, однако, нет оперы и не полон колорит вокальной эпохи – для справедливости назовём хотя бы некоторых: Фёдор Годовкин, Дмитрий Марченков, Иван Назаренко (автор знаменитой хрестоматии «Искусство пения»), Александр Перегудов, Александр Хоссон, Вениамин Шевцов, Тихон Черняков (начинавший в 30-е годы в первых партиях вплоть до Германа и Пинкертона). И подчеркнём, что характерный тенор – это совершенно уникальное амплуа, требующее не только особого вокального, но и актёрского дара, уходящая натура и ноу-хау, сравнимое, пожалуй, с канувшими секретами муранских стеклодувов, одна из потерянных традиций русской оперы…
Среди баритонов в «невеликих» числились Илья Богданов, Иван Бурлак, Павел Воловов, Давид Гамрекели, Пётр Медведев, Анатолий Минеев, Владимир Прокошев, Пётр Селиванов; среди басов – отличный профундист Сергей Красовский, колоритные каждый по-своему Борис Бугайский, Евгений Иванов, Василий Лубенцов, Николай Щегольков и другие – сплошь народные и заслуженные. В тени своих братьев Григория и Александра находился бас Алексей Пирогов-Окский.
Особую, привилегированную касту «второго эшелона» составляли певцы, которые «де факто» занимали премьерское положение наряду с представителями «высшей лиги». Но до «великих» в корпоративных понятиях того времени не дотягивали, до званий народных артистов СССР (либо даже РСФСР) не дослужились. Это прежде всего одна из эталонных лирических певиц своего поколения – Глафира Жуковская (супруга Александра Пирогова, замечательная Татьяна, Иоланта, Мими, Трильби). И лирическое сопрано следующего поколения Леокадия Масленникова. И миниатюрная Мария Звездина с её хрустально звонкой колоратурой (Лакме, Снегурочка). И нераскрывшаяся до конца, скромная, с чудесным серебристым тембром Вера Фирсова. И сильная группа драматических сопрано, одна лучше другой – Нина Покровская, Евгения Смоленская, Наталья Соколова, Надежда Чубенко, под занавес карьеры добравшаяся в порядке производственной необходимости и до меццовых партий (Марина Мнишек в театре и Мать из «Катерины» Аркаса в записи этой украинской оперы с Козловским).
Как видим, нет правил без исключений – возможно даже, что ради них они и существуют. Так, парадоксальным образом ко «второму эшелону» примыкали некоторые народные артисты из «первого» – тут прежде всего вспоминаются явно не добравшие «почестей и славы» Алексей Кривченя, бас раблезианского колорита, и Елизавета Шумская, едва ли не самая задушевная и сердечная из всех сопрано её амплуа. Конечно же, в этом списке видный бас-баритон 20-40-х годов Владимир Политковский, чей гигантский репертуар простирался от лирических Онегина и Жермона до традиционно басовых партий Мефистофеля, Руслана и Бориса Годунова. И наконец, чарующее медовое меццо-сопрано Вероника Борисенко. К счастью, для будущих поколений в звуке запечатлено достаточное количество оперных партий всех этих певцов, чтобы иметь представление о голосе, тембре, вокальной технике и творческом почерке того или иного артиста.
Те, кто слышал кого-либо из этих певцов хотя бы в записи, понимают, что в большинстве случаев речь идёт о чём-то уникальном. И это только верхушка айсберга! Стоит копнуть глубже – такие же россыпи. Что мы знаем, например, о баритоне Георгии Воробьёве, который с 1936-го по 1952-й пел в Большом исключительно ведущий репертуар – причём как лирический, так и драматический (Демон, Онегин, Елецкий, Грязной, Мазепа, ди Луна, Жермон, Риголетто)? А Георгий Коротков из тех же лет и практически с тем же списком партий (за исключением лирических), но включая Скарпиа? То-то и оно… О многих оперных артистах той поры трудно составить определённое впечатление – кроме скупых и сухих энциклопедических данных, зачастую нет ни записей, ни каких бы то ни было свидетельств и подробностей. Вместилище забвения воистину безгранично. Почему эти судьбы сложились так, а не иначе? Все эти «тайны мадридского двора» достойны отдельного расследования. Впрочем, это уже тема для другой книги, а нам пора вернуться ближе к нашему герою.
Среди теноров Большого театра, обеспечивавших ведущий лирический репертуар, позицию «вечных вторых» вместе с Орфёновым разделяли всегда очень искренний, эмоционально заразительный, но склонный к полноте Григорий Большаков (певший как драматические, так и лирические партии – в буквальном смысле: сегодня Альмавиву, Альфреда и Герцога, а завтра Германа, Хозе и Канио), а также похожий по типу голоса на Большакова, но с другим набором партий, привлекательный внешне и потому с толпой поклонниц Борис Бобков и сугубо лирические тенора: Виталий Кильчевский, Соломон Хромченко, Павел Чекин, Давид Бадридзе, Иван Долгий, Алексей Серов и другие. По аналогии с кинематографическим «малокартиньем» тех лет, премьеры в Большом выпускались нечасто, репертуарный круг был крайне ограничен. Попасть в премьерный состав шансов почти не было. Считаные разы ставили Орфёнова и в «парадные» спектакли для Сталина. Зато уж петь «по экстренной замене» в будни – это всегда пожалуйста. Дневник артиста пестрит пометками: «вместо Козловского», «вместо Лемешева, сообщили в 4 ч. дня» (именно Лемешева Орфёнов чаще всего и страховал).
Главная задача «второго эшелона» – обеспечение текущей жизни театра, репетиций, рядовых вечерних спектаклей и утренников – большей частью, конечно, в Филиале (здание бывшего Солодовниковского театра на Большой Дмитровке, где на рубеже XIX–XX вв. размещались сначала «Частная русская опера» Саввы Мамонтова, затем «Опера С. И. Зимина», а теперь работает «Московская оперетта»). И конечно, вечная тревога – ведь чуть что, надо срываться с места и в свой выходной бежать спасать спектакль, если, не дай бог, заболели/отказались Лемешев или Козловский (который часто отказывался петь, если ожидаемый визит вождя в театр вдруг откладывался). Эти два тенора-соперника пользовались поистине всеобъемлющей любовью публики, граничащей с идолопоклонством. Достаточно вспомнить ожесточённые театральные баталии армий «козловитянок» и «лемешисток», чтобы представить себе, как нелегко было выходить петь «по замене», как трудно было не затеряться и тем более занять своё место в театре любому новому тенору похожего амплуа. А то, что артистическая природа Орфёнова была очень близка задушевному, «есенинскому» складу искусства Лемешева, не требовало особых доказательств как само собой разумеющееся, равно как и то, что он с честью выдерживал испытание неизбежного сравнения с тенорами-кумирами. Извечный Дамоклов меч «второго эшелона»…
Всё же свою Сталинскую премию – за Вашека в «Проданной невесте» Бедржиха Сметаны – он получил. Это был легендарный спектакль Бориса Покровского и Кирилла Кондрашина в русском переводе Сергея Михалкова. Постановка делалась в 1948 году к 30-летию Чехословацкой республики, но никто не ожидал, что она станет одной из самых посещаемых народных комедий и так долго продержится в репертуаре. Трогательно-гротескный образ деревенского заики-дурачка Вашека многие очевидцы считали вершиной в творческой биографии артиста. «В Вашеке был тот объём характера, который выдаёт истинную творческую мудрость автора сценического образа – актёра. Вашек Орфёнова – это тонко и умно сделанный образ элементарного дурака. Сами физиологические недостатки персонажа (заикание, глупость) облекались на сцене в одежды человеческой любви, юмора и обаяния» (Б. А. Покровский).
Возможно, современное оперное поколение более информировано, мобильно и продвинуто в плане музыкальной точности, стиля и штриха, не говоря уже о принципиально ином подходе к смысловой интерпретации. Но вот, скажем, столь тщательной «выделки», проработки материала, которой отличались оперные артисты прошлого, сегодня, в эпоху эффективности и быстрых решений, пожалуй, больше и не встретишь. А в годы творческой активности Орфёнова и его поколения слишком ещё свежа была память об эпохе Шаляпина и Собинова, в воздухе витали совсем другие представления и идеалы. Отражалась на характере звука «старой школы» и практика поголовного церковного пения в детстве и юности, которую имели за плечами практически все оперные певцы того времени, – традиция, искусственно прерванная после прихода большевиков.
За 13 лет службы в Большом Орфёнову довелось работать с четырьмя главными дирижёрами – титанами музыки – Самуилом Самосудом, Арием Пазовским, Николаем Головановым и Александром Мелик-Пашаевым (о причинах и трагических последствиях столь частой смены музыкальных руководителей речь впереди). Не менее сильное впечатление производит и простое перечисление тогдашних «неглавных» дирижёров: Василий Небольсин, Борис Хайкин, Кирилл Кондрашин (в мемуарах последнего масса колоритных деталей из жизни Большого театра той поры). Был здесь и свой дирижёрский «второй эшелон»: Владимир Пирадов, Семён Сахаров, Александр Чугунов, Михаил Жуков – все мастера своего дела.
Сталинский режим жёстко контролировал «музыкальную политику» в стране по принципу, что хорошей музыкой может являться только та, которая нравится вождю. Большой был превращён в придворный театр диктатора, где Сталину отводилась роль не только главного зрителя, но по сути и главного репертуарного цензора («Балетная фальшь», «Сумбур вместо музыки», «Великая дружба» и т. д.). Он мог появляться внезапно и без предупреждения либо столь же внезапно отменять запланированные посещения (говорят даже, что из Кремля в личную ложу генсека в левом бенуаре вёл секретный подземный ход). Театр жил в постоянном напряжении, буквально «под собою не чуя страны». Некоторые певцы «ласковой» рукой «отца народов» были вознесены в разряд небожителей и элиты, в каком-то смысле пополнив ряды кремлёвского обслуживающего персонала. Таких «могикан», как Нежданова, Катульская, Барсова, Держинская, Обухова, и таких ярких представителей более молодого поколения, как Максакова, Давыдова, Шпиллер, Ирина Масленникова, Нэлепп, Норцов, Батурин, Рейзен, Пирогов, Михайлов, Лисициан, благодаря правительственным мероприятиям и радиоточкам знали в каждом доме почти как имена нарицательные. Но сколько творческих судеб не смогли реализоваться полностью или, что самое страшное, и вовсе были перечёркнуты репрессиями и ГУЛАГом в момент наивысшего расцвета (ярчайший пример в Москве – богатырский баритон Дмитрий Головин и меццо-сопрано Лидия Баклина, в Ленинграде – драматический тенор Николай Печковский). Даже просто не понравившиеся Сталину певцы могли незаметно исчезнуть из театра или вообще из поля зрения – так, притчей во языцех стал случай с уже немолодой колоратурой Елизаветой Боровской, которая вышла выручать театр в партии Снегурочки вместо объявленной Ирины Масленниковой и не вдохновила вождя, что в клубке других причин привело к снятию Самосуда.
Государство, в котором все у всех на подозрении, не щадило никого – ни первых, ни последних. За парадным фасадом достижений народного хозяйства и социалистической культуры открывалась бездна режима репрессий и парализующего страха. И певцы падали в эту бездну точно так же, как тысячи других советских людей того времени. Нашего героя чаша сия миновала.
От Станиславского – до Большого
Анатолий Иванович Орфёнов родился 17 (30) октября 1908 года в семье священника в селе Сушки Рязанской губернии недалеко от города Касимова, старинной вотчины татарских князей. В семье было семь детей. Пели все. Но Анатолий единственный, несмотря на все трудности, стал профессиональным певцом. «Жили мы при керосиновых лампах, – вспоминал певец, – никаких развлечений у нас не было, только раз в году, на святках, давались любительские спектакли. У нас был граммофон, который мы заводили по праздникам, и я слушал пластинки Собинова. Собинов был для меня самым любимым артистом, у него я хотел учиться, ему хотел подражать». Мог ли юноша предположить, что всего лишь через несколько лет ему выпадет счастье увидеть Собинова и работать с ним над своими первыми оперными партиями.
Отец семейства умер в 1922-м. При новом режиме дети служителя культа не могли рассчитывать на высшее образование.
В 1928 году Орфёнов приезжает в Москву, и каким-то промыслом Божьим ему удаётся поступить сразу в два техникума – педагогический и вечерний музыкальный (ныне Институт имени Ипполитова-Иванова). Вокалом он занимался в классе талантливого педагога Александра Акимовича Погорельского, последователя итальянской школы бельканто, одного из последних учеников Камилло Эверарди, и этого запаса профессиональных знаний Анатолию Орфёнову хватило на всю оставшуюся жизнь. Становление молодого певца проходило в период интенсивного обновления оперной сцены, когда большое распространение получило студийное движение, противопоставлявшее себя официозному академическому направлению государственных театров. Впрочем, в недрах тех же Большого и Мариинского тоже шла подспудная переплавка старых традиций. Новаторские свершения первого поколения советских теноров во главе с Козловским и Лемешевым коренным образом изменили содержание амплуа «лирический тенор», в то время как Ханаев и Озеров в Москве и Печковский в Петрограде по-новому заставили воспринимать словосочетание «драматический тенор». Орфёнову, вступавшему в творческую жизнь, с первых же шагов удалось не затеряться среди таких глыб.
В 1933 году он попадает в хор Оперного театра-студии под руководством К. С. Станиславского (студия располагалась в доме Станиславского в Леонтьевском переулке, а позднее переехала на Большую Дмитровку). Семья была очень религиозная, бабушка возражала против всякой светской жизни, и Анатолий долго скрывал от мамы, что работает в театре. Когда же сообщил об этом, она удивилась: «А почему в хоре?» Великий реформатор сцены Станиславский и великий тенор земли русской Собинов, который уже не пел и был в Студии вокальным консультантом, заметили высокого и красивого молодого человека из хора, обратили внимание не только на голос, но и на трудолюбие и скромность его обладателя. Так Орфёнов стал Ленским в знаменитом спектакле Станиславского – в апреле 1935-го мэтр сам вводил его в свою постановку в числе других новых исполнителей. С образом Ленского и дальше будут связаны самые звёздные моменты артистической судьбы – дебют в Филиале Большого театра, а затем и на основной сцене Большого. Леонид Витальевич писал Константину Сергеевичу: «Я распорядился, чтобы Орфёнов, у которого прелестный голос, срочно готовил Ленского, кроме Эрнеста из „Дон Пасквале“». И позже: «Сдал мне здесь Орфёнов Ленского, и очень хорошо». Станиславский уделял дебютанту много времени и внимания, о чём свидетельствуют стенограммы репетиций и воспоминания самого артиста: «Константин Сергеевич часами разговаривал со мной. О чём? О моих первых шагах на сцене, о моём самочувствии в той или иной роли, о задачах и физических действиях, которые он непременно вносил в партитуру роли, об освобождении мышц, об этике актёра в жизни и на сцене. Это была большая воспитательная работа, и я всем сердцем благодарен за неё своему учителю».
Работа с крупнейшими мастерами русского искусства окончательно сформировала художественный мир артиста. Орфёнов стремительно занял ведущее положение в труппе Оперного театра имени К. С. Станиславского. Зрителей покоряли естественность, искренность и простота его поведения на сцене. Он никогда не был «сладостным звучкодуем», звук никогда не служил для певца самоцелью. Орфёнов всегда шёл от музыки и обручённого с нею слова, именно в этом союзе искал он драматургические узлы своих ролей. Долгие годы Станиславский вынашивал замысел постановки вердиевского «Риголетто», и в 1937-38 гг. им было проведено восемь репетиций. Однако в силу целого ряда причин (в том числе, вероятно, и тех, о которых в гротескно-иносказательной форме пишет Булгаков в «Театральном романе») работа над постановкой приостановилась, и спектакль был выпущен уже после смерти Станиславского под руководством Мейерхольда, главного режиссёра театра в ту пору.
У Станиславского, неустанно боровшегося с оперной рутиной, Орфёнов исполнял также партии Лыкова в «Царской невесте», Юродивого в «Борисе Годунове», Альмавивы в «Севильском цирюльнике» и народного таджикского певца Бахши в опере «Дарвазское ущелье» Льва Степанова. И никогда бы не ушёл, если бы не смерть Константина Сергеевича. Без Станиславского началось слияние его театра с театром Немировича-Данченко, и разразившаяся война только ускорила этот процесс – директивное соединение несоединимого многие участники событий восприняли как злую иронию судьбы. В это «смутное время» Орфёнов, уже заслуженный артист РСФСР, принял участие в некоторых эпохальных постановках Немировича: в частности, спел Париса в «Прекрасной Елене» (спектакль, к счастью, записан на радио в 1948 году). Всё же по духу он был истый «станиславец», поэтому его постепенный «исход» в Большой театр, начавшийся с разовых выступлений в 1942 году, был предопределён. И хотя Сергей Яковлевич Лемешев в своей книге «Путь к искусству» высказывает точку зрения, что крупные, значительные певцы (такие, как Печковский и он сам) уходили из Театра Станиславского из-за ощущения тесноты и в надежде совершенствовать вокальное мастерство на более широких просторах, в случае Орфёнова, судя по всему, это не совсем так – начиная с того, что Анатолию Ивановичу вовсе не было тесно у Станиславского, и заканчивая тем, что уходил он уже не от Станиславского (того не было в живых), а из совсем другого по духу театра.
Творческая неудовлетворённость в начале 40-х вынуждает певца утолять голод «на стороне», и в сезоне 1940/41 Орфёнов увлечённо сотрудничает с Государственным ансамблем оперы СССР под руководством И. С. Козловского. Самый «европейский» тенор советской эпохи был тогда одержим идеями оперного спектакля в концертном исполнении (сегодня это направление весьма успешно воплощается на Западе и у нас в виде так называемых semi-staged — «полуспектаклей» без декораций и костюмов, но с намёком на мизансцены) и как режиссёр осуществил постановки «Вертера», «Орфея» Глюка, «Паяцев», «Моцарта и Сальери», «Катерины» Аркаса и «Наталки-Полтавки» Лысенко. «Мы мечтали найти новую форму оперного спектакля, основу которого составляло бы звучание, а не зрелищность», – вспоминал много позже Иван Семёнович. В премьерных показах главные партии пел сам Козловский, далее подключались другие. Так Анатолий Орфёнов спел Вертера, Моцарта и Беппо в «Паяцах» (знаменитую серенаду Арлекина ему часто приходилось бисировать по 2–3 раза). Спектакли шли в Большом зале консерватории, Концертном зале имени Чайковского, Доме учёных, Центральном Доме работников искусств и в Студенческом городке. Увы, существование ансамбля оказалось недолгим.
Военный 1942-й. Бомбёжки. Тревоги. Основной состав Большого театра эвакуирован в Куйбышев (ныне – Самара). Историческое здание на площади Свердлова, закрытое на ремонт ещё накануне войны, только что разминировано, но возобновлять спектали там пока нельзя до полной ликвидации всех повреждений и разрушений. (Немцы предполагали провести в Большом театре торжественное заседание по случаю взятия Москвы, и в связи с этими разведданными Берия приказал заминировать ГАБТ ночью 16 октября 1941 года. Таким образом, несколько месяцев до первых чисел февраля 1942-го в чреве театра лежало три тонны динамита, от которого шли бикфордовы шнуры.) Оставшаяся часть труппы и оркестра, подкрепляемая солистами Радио и других театров страны, возобновляет работу в уютном Филиале на Пушкинской улице. Из-за налётов вражеской авиации иногда приходится обрывать спектакль или концерт на полуслове. В эту тревожную пору Орфёнова стали приглашать «на разовые», а чуть позже он вольётся в основной состав труппы. Скромный, требовательный к себе, он со времён Станиславского умел и любил воспринимать всё лучшее от коллег по сцене. А воспринимать было от кого – в рабочем состоянии находился тогда весь золотой арсенал русской оперы.
Орфёнов считался специалистом по западноевропейскому репертуару, который большей частью шёл в Филиале. Изящен и обаятелен, несмотря на порочность нрава, был его Герцог в «Риголетто». Находчивостью и остроумием блистал галантный граф Альмавива в «Севильском цирюльнике» (в этой сложной для любого тенора опере Орфёнов установил своеобразный личный рекорд – спел её 107 раз). На контрастах была построена роль Альфреда в «Травиате»: застенчивый влюблённый преображался в ослеплённого гневом ревнивца, а к финалу герой приходил зрелым, глубоко раскаивающимся человеком. Из австро-немецкого наследия он пел моцартовского Дона Оттавио в «Дон Жуане» и бетховенского Жакино в «Фи дел ио» – спектакле, где впервые блеснула молодая Галина Вишневская. Французский репертуар был представлен «Фаустом» и комической оперой Обера «Фра-Дьяволо» (титульная партия в этом спектакле стала последней новой ролью Лемешева – так же, как и для Орфёнова лирическая роль влюблённого карабинера Лоренцо).
Галерею русских образов Орфёнова по праву открывает Ленский. Голос певца, обладавший нежным, прозрачным тембром, мягкостью и эластичностью звука, идеально соответствовал образу юного поэта. Его Ленского отличал особый комплекс хрупкости, незащищённости от житейских бурь. Другой вехой стал образ Юродивого в «Борисе Годунове». В этом эпохальном спектакле Баратова-гол ованова-Федоровского Анатолий Иванович впервые в жизни в 1947 году пел перед Сталиным. С этой постановкой связано и одно из «невероятных» событий артистической жизни Орфёнова. Когда 20 июня 1946 года певец исполнял в Филиале Герцога в «Риголетто», в антракте ему сообщили, что сразу же после спектакля он должен будет незамедлительно прибыть на основную сцену (5 минут ходьбы), чтобы по экстренной замене петь Юродивого. И действительно пел, и получил особую благодарность с поощрением. Именно «Борисом» 9 октября 1968 года коллектив Большого театра отмечал 60-летие артиста и 35-летие его творческой деятельности. Это был действительно поступок – петь в тот вечер самому, а не взирать на происходящее из ложи. Геннадий Рождественский, дирижировавший спектаклем, записал в «книге дежурств»: «Да здравствует профессионализм!» А исполнитель роли Бориса Александр Ведерников отметил: «Орфёнов обладает драгоценнейшим для художника свойством – чувством меры. Его Юродивый – символ народной совести, такой, каким задумал его композитор».
70 раз выходил Орфёнов в образе Синод ал а в «Демоне», опере, ныне ставшей раритетом, а в то время одной из самых репертуарных. Завоеваниями артиста были и такие партии, как Индийский гость в «Садко» или царь Берендей в «Снегурочке». И наоборот, не оставили яркого следа, по мнению самого певца, Баян в «Руслане и Людмиле», Владимир Игоревич в «Князе Игоре» и Грицко в «Сорочинской ярмарке». Роль парубка в комической опере Мусоргского артист считал изначально «травмированной», так как во время первого выступления в этой опере у него случилось кровоизлияние в связку, и со второго акта спектакль продолжил другой певец. А единственным русским персонажем, который певца откровенно раздражал, почему-то был Иван Лыков в «Царской невесте» – в своём дневнике он так и пишет: «Не люблю Лыкова». Судя по всему, не вызывало особого энтузиазма артиста и участие в советских операх, впрочем, он в них в Большом почти и не пел (хотя за пределами ГАБТа, например, в Ансамбле советской оперы при ВТО, достаточно много) – за исключением военной оперы-однодневки Кабалевского «Под Москвой» (молодой москвич Василий), детской оперы Красева «Морозко» (Дед) и оперы Мурадели «Великая дружба».
Вместе с народом и страной наш герой прошёл через все водовороты её истории. К 30-летию Октябрьской революции по театрам СССР прокатился плановый премьерный каскад новой оперы Вано Мурадели «Великая дружба». 7 ноября 1947 года состоялась пышно обставленная парадная премьера в Большом театре, в которой Орфёнову наряду с Лемешевым поручили мелодичную партию старого пастуха-певца Джемала. И надо же – премьерный спектакль дают Орфёнову! А на третий – 5 января 1948 года (когда пел Лемешев) – в Большой приходят Сталин и правительство почти в полном составе. Что было дальше, все знают – печально известное постановление ЦК ВКП(б). То, что безобидная с виду «песенная» опера о Гражданской войне на Северном Кавказе послужила сигналом к началу новых гонений на «формалистов» (Шостакович, Прокофьев, Мясковский, Вайнберг и другие) и поводом для разгрома и жёсткого переподчинения центру «распустившихся» региональных композиторских организаций, воспринимается сегодня как очередная провокация истории. И всё-таки, что же недоучли в психологии «отца народов» авторы спектакля, на каких подводных рифах споткнулись? Если суммировать разные, в том числе и кажущиеся конспирологическими версии, картина вырисовывается следующая. Ящиком Пандоры оказался запутанный клубок межэтнических конфликтов, на фоне которых развивались военнополитическая и любовная линии «Великой дружбы». Как известно, тема Северного Кавказа всегда оставалась для Сталина болезненным фантомом. Прежде всего его уязвили детали оперы, связанные с пропорцией и расстановкой в сюжете представителей разных горских народностей – например, среди отрицательных персонажей он не обнаружил чеченцев и ингушей, которых только что подверг депортации, не услышал он, очевидно, и каких-то знакомых с детства, знаковых фольклорных мотивов и т. п. Последней каплей мог стать пафосный образ Комиссара, в котором недвусмысленно выведен Серго Орджоникидзе, один из «тайных» врагов вождя, его главный соперник за любовь народа.
Не меньше, чем эта трагическая страница нашей истории, удивляет и диалектика судьбы Орфёнова. Он всегда был большим общественником, депутатом Областного совета народных депутатов и в то же время всю жизнь свято хранил веру в Бога, открыто ходил в церковь и отказывался вступать в коммунистическую партию. Удивительно, что его не сажали. Впрочем, он ведь не был борцом или противником режима – внешне всё выглядело более чем благонадёжно. И в этой книге во многих мыслях и высказываниях нашего героя ощущаются, скорее, лояльность и законопос-лушие, нежели бунтарство или оппозиционность. Но таково было время. И, пожалуй, большей мудростью было уцелеть, чтобы бороться со злом – пусть тихо и незаметно, каждый день сохраняя и приумножая толику прекрасного на земле.
После смерти Сталина в Большом устроили хорошую чистку – запустили механизм искусственной смены поколений. И Анатолий Орфёнов был одним из первых, кому дали понять, что пора на пенсию, хотя в 1955-м артисту было всего 46. Он моментально подал заявление по собственному желанию. Таково было его жизненное кредо: перестал быть желанным – сразу же уходи.
Принц из радиокомитета
Среди ностальгических образов жизни каждому из нас по-особому дороги впечатления детства, когда почти всё – впервые. Увы, дети всегда становятся взрослыми, многое меняется – вокруг и внутри нас. Нашу жизнь заполняют новые ценности, заслоняя собой старые и меняя отношение к прежним кумирам и увлечениям. Но как бы то ни было, послевкусие детских впечатлений продолжает тревожить наше воображение, и этой власти «все возрасты покорны», как сказал поэт. Каждому близки и дороги такие понятия, как «футбол нашего детства», «кино нашего детства» (об этом снял свои замечательные фильмы документалист Алексей Габрилович). Точно так же у каждого человека есть музыка, идущая из детства.
В коллекции певцов моего детства Анатолий Орфёнов занимает особое место, связанное с воспоминаниями о родительском доме.
Тогда ещё была эпоха фирмы «Мелодия» и виниловых пластинок с их ласковым шуршанием и более «живым» звучанием. И так уж случилось, что одной из первых опер, подаренных мне, мальчику, вдруг увлёкшемуся оперой, оказалась россиниевская «Золушка» в исполнении солистов и оркестра Всесоюзного радио. Изучив содержимое коробки, на которой значился год записи – 1950-й, я (ещё не читавший Стендаля и других «россиниведов») узнал, что всем известную замарашку из сказки Шарля Перро в опере Россини зовут Анжелиной, а принца – Рамиро, что действие происходит не в абстрактной сказочной стране, а в маленьком итальянском герцогстве Салерно, что роль хрустального башмачка из соображений католической морали выполняет браслет, а вместо вампирши Мачехи действует отчим – чванливый барон дон Маньифико.
Главных героев пели волшебница звука Зара Долуханова с её феноменальным колоратурным меццо и Анатолий Орфёнов. Чем же он врезался в память? Наверное, прежде всего нежностью, чувствительностью пения, изяществом фразы и чувством юмора – настоящий сказочный принц, но при этом принц из комической оперы! Удивительно, как в те «глухие» годы дирижёру Онисиму Брону, даже несмотря на некоторую брутальность игры радиооркестра, удалось тем не менее впечатляюще передать многие составляющие россиниевского стиля, в том числе знаменитые «шампанские» свойства этой искрящейся музыки. Ещё удивительней, какую интуицию проявляет в этой записи состав певцов, воспитанных в традициях совершенно иной вокальной культуры. И сегодня, в эпоху аутентизма и музыкального археологизма, когда вопросы стиля и штриха в исполнении стоят особенно остро, фонограмма советской «Золушки» воспринимается отнюдь не только как забавная раритетная экзотика, а как вполне достойный вклад в мировую россиниану первой половины XX века.
Окном в мир большой музыки, особенно в провинции, были не только пластинки, но и радио. Вплоть до конца 80-х по радио можно было услышать практически всё из классики – от всегдашнего мейнстрима до абсолютно неизвестных произведений. Порой передавали такие редкости, которые даже и по нынешним временам, когда «в интернете найдётся всё», выглядят более чем изысканно – например, оперы «Громовой» Верстовского и «Рогнеда» Серова, «Эсмеральда» Даргомыжского и «Анджело» Цезаря Кюи, «Так сказал король» Делиба и «Джамиле» Жоржа Бизе, «Филемон и Бавкида» Гуно, «Бранденбуржцы в Чехии» и «Либуше» Бедржиха Сметаны или многочисленные оперетты вроде «Багатели» Оффенбаха, «Прекрасной Галатеи» Зуппе, «Сюркуфа» Планкетта, «Вице-адмирала» и «Гаспарона» Миллёкера и другие названия в том же духе, многие из которых я впервые слушал в детстве именно по радио, приникнув к потрескивающему приёмнику и боясь потерять сбивчивую «среднюю волну». Регулярно транслировали «живые» спектакли из московского Большого театра и Ленинградского имени Кирова и изредка – с гастролей других театров страны. Это было настоящее просветительство как повседневная норма. А что теперь? Да, безусловно, есть телеканал «Культура» и радио «Орфей», но я бы не рискнул сравнивать вещи из разных измерений. На сегодняшний день Гостелерадиофонд, в 2014 году поглощённый ВГТРК, располагает богатейшей коллекцией записей, но всё это лежит мёртвым грузом, размагничивается, осыпается, не звучит в эфире. Из сферы искусства и просвещения вопрос сместился в область бизнеса. Доступ к фонограммам прошлых лет теперь измеряется в денежных единицах, и это стало неразрешимой проблемой не только для простых слушателей-меломанов, но и для многих маститых музыкантов – аренда записей стоит баснословно дорого. Продолжающий вещать классику «Орфей» в погоне за рейтингом и другими новейшими трендами всё более эволюционирует в формат фрагментарности и развлекательности, и услышать какое-либо музыкальное произведение целиком – особенно продолжительное – удаётся всё реже. Тоже тема для отдельного разговора.
Плодотворное сотрудничество с Радио началось у Орфёнова ещё в 30-е годы. Его голос оказался на удивление «радиогеничным» – без труда находил общий язык с микрофоном и прекрасно ложился на плёнку, давая возможность тонко и подробно разрабатывать детали нюансировки.
В тот не самый светлый для страны период, когда главной задачей эфира была пропаганда и агитация, музыкальное вещание отнюдь не ограничивалось маршами энтузиастов и песнями о Сталине (нередко певцам приходилось вставать ни свет, ни заря, чтобы в 6:10 после гимна и новостей пропеть в микрофон что-нибудь патриотическое), но сплошным потоком передавало классику. Она звучала много часов в сутки как в записи, так и в прямой трансляции из студий и концертных залов. 50-е вошли в историю Радио как кульминация расцвета оперы – именно в те годы был записан золотой оперный запас радиофонда. Помимо широко известных партитур, второе рождение получили многие забытые и редко исполняемые произведения – вдобавок к уже помянутым это «Пан воевода» Римского-Корсакова, «Воевода» Чайковского и «Кавказский пленник» Кюи, «Рафаэль» и «Сон на Волге» («Воевода») Аренского, «Король-пастух» Моцарта и «Орфей» Гайдна, «Эврианта» Вебера и «Оружейник» Лорцинга, «Дон Прокопио» Бизе и «Синяя Борода» Оффенбаха, «Русалка» Дворжака и «Две вдовы» Сметаны, в которых пел и наш герой. После десятилетий негласного запрета силами Радио исполнялись «Китеж» Римского-Корсакова и некоторые оперы Вагнера («Тангейзер, «Лоэнгрин» и «Нюрнбергские майстерзингеры»).
По своей значительности вокальная группа Радио вполне конкурировала с Большим театром. Имена Зары Долухановой, Людмилы Легостаевой, Натальи Рождественской, Деборы Пантофель-Нечецкой, Надежды Казанцевой, Георгия Виноградова, Владимира Бунчикова, Владимира Захарова и Георгия Абрамова были у всех на устах. Творческая и человеческая атмосфера на Радио тех лет была исключительной. Высочайший уровень профессионализма, хороший вкус, репертуарная компетентность, работоспособность и интеллигентность сотрудников, чувство цеховой общности и взаимовыручки продолжают восхищать и много лет спустя, когда всего этого уже нет. Работа на Радио, где Орфёнов был не только солистом, но и с 1954 года художественным руководителем группы вокалистов и концертмейстеров, оказалась на редкость счастливой. Помимо многочисленных фондовых записей, в которых Анатолий Иванович продемонстрировал лучшие свойства своего мастерства, он продолжал практику публичного исполнения опер силами Радио в концертах в Колонном зале Дома Союзов и на других площадках. Им записана целая антология русских классических романсов и песен советских композиторов.
Время, на которое выпали годы творчества Анатолия Орфёнова, по-своему уникально. Все зарубежные оперы – и на сцене, и по радио – шли только на русском языке. И в этом таилась своя особая прелесть, не говоря уже о просветительской значимости факта. Опера – самый универсальный жанр, объединяющий в себе элементы всех искусств, но всё-таки основополагающую роль в ней играет союз музыки и слова. Не одно поколение русских людей выросло в любви к опере именно потому, что потайные глубины музыки как бы подсвечивались изнутри и понимались глубже благодаря пению на родном языке. Но всё течёт, всё изменяется, и эпоха глобализации расставила все акценты по-своему.
Когда-то великий старец Верди говорил об «опере для публики». Когда-то «тенора-душки» владели умами не меньше, чем сегодняшние медийные идолы, зачастую имеющие для раскрутки всё, кроме голоса и таланта. Сегодня ряды поклонников оперы заметно поредели. Причин много. Одна из главных – в том, что сильно изменились критерии прекрасного и безобразного. Стремительно меняется само восприятие художественного. Ощущение времени ускоряется. Цифровая эпоха перенаправляет виды и жанры досуга в сторону видео, интернета, соцсетей, гаджетов и прочих виртуальных развлечений. В свою очередь, в погоне за зрителем современный оперный театр визуализируется, пытается удивлять новыми смыслами и формами, всё менее заботясь о вокально-музыкальной стороне исполнения. В приоритете – «картинка», «экшен». В рамках авторского режиссёрского театра певец и дирижёр отходят на второй план, всё чаще становясь «обслуживающим персоналом» концепции, «товаром», которым более или менее выгодно торгуют многочисленные продюсерские агентства, причём товаром скоропортящимся – нынешний певческий век сократился в среднем до 7-10 лет, и всем надо успеть заработать быстро. Глобализация оперной жизни в масштабах планеты диктует свои жёсткие правила, в том числе исполнение опер на языке оригинала. Певец раз и навсегда выучивает несколько партий и без труда вписывается в любой спектакль в любой географической точке – по этому долгоиграющему принципу многоразового использования и крутится в режиме «нон-стоп» мировой оперный конвейер. Но согласитесь, что и сегодня кто-то может грустить по старым добрым временам искренности,
шуршащих пластинок и русскоязычного Верди, временам, когда в моде были такие певцы, как Анатолий Орфёнов.
«…И опыт, сын ошибок трудных»
Широко был известен Анатолий Орфёнов и как камерный исполнитель. В этом жанре его всегда отличали высокая культура и изысканный вкус. Особенно удавалась ему русская вокальная лирика. Записи разных лет отражают присущую певцу акварельность манеры и вместе с тем умение передать скрытый драматизм подтекста. Богата палитра выразительных средств артиста – от почти бесплотного mezza voce и прозрачной кантилены до мощного выплеска кульминаций. Бережно и точно передаёт он стилистическое своеобразие каждого композитора. Элегическая утончённость романсов Глинки соседствует с задушевной простотой романсов Гурилёва (знаменитый «Колокольчик» может служить эталоном исполнения романса доглинкинской поры). У Даргомыжского Орфёнов особенно любил романсы «Что в имени тебе моём» и «Я умер от счастья», которые интерпретировал как тонкие психологические зарисовки. В романсах Римского-Корсакова эмоциональное начало певец оттенял интеллектуальной глубиной. Экспрессивно и драматически насыщенно звучат рахманиновские монологи. Большой интерес представляют записанные в ансамбле с пианистом Давидом Гаклиным романсы Танеева, Метнера и Черепнина, музыка которых и сегодня редко звучит в концертах.
В 1950 году началась преподавательская деятельность Орфёнова в Музыкально-педагогическом институте (ГМПИ) имени Гнесиных. Он был очень внимательным, понимающим педагогом. Никогда не давил, ничего не навязывал, не заставлял подражать, всякий раз исходя из индивидуальности ученика. Пусть никто из его воспитанников не стал большим певцом и не сделал мировой карьеры, но зато сколько голосов доцент Орфёнов смог исправить и вернуть к полноценной жизни – часто ему давали самых безнадёжных или тех, кого не взяли в свои классы более амбициозные коллеги. В основном Орфёнов занимался мужскими голосами. Среди его наиболее известных выпускников – народный артист Республики Коми, бас Эдуард Шмеркович и драматический тенор Юрий Сперанский, работавший в Пермском и других театрах страны, а впоследствии долгое время возглавлявший кафедру оперной подготовки Гнесинской академии (сегодня Оперный театр-студия РАМ имени Гнесиных носит его имя). Женских голосов в классе Орфёнова было немного, в их числе старшая дочь Людмила. Авторитет Орфёнова-педагога со временем стал международным. Многолетняя зарубежная педагогическая деятельность (без малого десять лет) началась в Китае и продолжилась в Каирской и Братиславской консерваториях.
В 1963 году состоялось его возвращение в Большой театр – в течение 6 лет Анатолий Иванович заведовал оперной труппой. Это было переломное время, годы потерь и обретений, когда впервые приезжал «Ла Скала», а Большой гастролировал в Милане, когда почти одновременно умерли Баратов и Мелик-Пашаев, а на посту главного дирижёра «промелькнули», сменяя друг друга, Светланов и Рождественский, когда, наконец, стажёрами в театр пришли будущие звёзды – Образцова, Касрашвили, Синявская, Атлантов, Пьявко, Мазурок, Нестеренко. По воспоминаниям многих артистов, такого завтруппой больше не было. Орфёнов всегда умел занять позицию «золотой середины», он был защитником певцов, своеобразным буфером между труппой и высшим руководством, никогда не боялся брать на себя ответственность и не бегал в кусты от трудностей. Увлечённо следил за творческим развитием коллег и молодёжи, по-отечески поддерживал словом и советом. Говоря сегодняшним языком, выполнял в Большом театре функции артистического директора и был прирождённым оперным менеджером – именно на его плечах лежало проведение конкурсных прослушиваний в труппу (как, впрочем, и сокращение солистов по выслуге лет). Многие певцы СССР того времени прошли через руки и… уши Орфёнова. Он в деталях знал конъюнктуру вокального рынка по всей стране, много ездил, слушал национальные кадры, сидел в жюри конкурсов и как радовался, когда удавалось обнаружить новый вокальный самородок. В 1980-м, когда Анатолий Иванович вернулся из Чехословакии, его в третий раз позвали в Большой – и снова завтруппой, только прибавилось хлопот по стажёрской группе. Работать в последние годы было особенно трудно – изнутри театр бурлил конфликтами. Впрочем, как и всегда. Нервное напряжение колоссальное, здоровье ухудшалось. Но инстинкт любви к опере и певцам, к Большому театру до поры до времени пересиливал болезни.
Всякий талантливый человек талантлив, как правило, по-своему и многогранно. Не был исключением и наш герой. Он обладал не только замечательным лирическим тенором и педагогическим талантом, но и удивительным для певца литературным даром. Перо и бумага, особенно во вторую половину жизни, значили для него ничуть не меньше, чем ноты и искусство пения. Орфёнов написал книгу о Собинове – своём кумире и крёстном отце в профессии (Москва, издательство «Музыка», 1965). А как он пишет о своих коллегах и, казалось бы, конкурентах – Лемешеве и Козловском! Такая нежность, теплота и дружелюбие тенора по отношению к другим тенорам – черта, крайне редко встречающаяся в оперной среде. Анатолий Иванович кропотливо собирал материалы по истории Большого театра и, помимо многих сотен персональных биографических карточек, в его архиве остались любопытнейшие неопубликованные рукописи на эту тему.
Иногда кажется, что вокалисту самой судьбой предначертан ореол творческой самовлюблённости и эгоцентризма. Но, видимо, в отличие от большинства коллег Орфёнов был хронически обделён этими классическими свойствами популярных артистов. Он не был замкнут только на собственном творчестве, хотя с точки зрения профессионального режима и гигиены был большим педантом. Его педагогическая жилка, интерес ко всему мало-мальски примечательному в профессии, умение радоваться чужим успехам заставляли певца браться за перо, чтобы выразить своё восхищение, удивление, а иногда – и сомнение, раздражение, праведное негодование. Рецензировать спектакли, портретировать коллег-певцов было для него вторым призванием. К концу 60-х в Большой влилось новое молодое поколение, составившее впоследствии содержание последней золотой страницы в истории театра. Это революционное обновление стандартов и стиля работы оперной труппы, в котором сам Орфёнов, будучи одним из руководителей театра, принимал непосредственное участие, вдохновило Анатолия Ивановича на создание книги «Юность, надежды, свершения», где в сжатой форме он создал целую галерею портретов тех, кому образно передавал эстафету служения опере (Москва, издательство «Молодая гвардия», 1973).
Умер Анатолий Иванович Орфёнов 6 марта 1987 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище.
Жизнь после смерти
Нам остался его голос. Остались дневники и наброски, статьи и книги. Остались тёплые воспоминания современников, поклонниц и коллег, друзей и учеников, свидетельствующие о том, что Анатолий Орфёнов был человеком с Богом в душе. Осталось продолжение в виде артистической династии Орфёновых. Трое детей и один из внуков пошли по стопам отца и деда, посвятив себя искусству. Старший сын Вадим работал звукорежиссёром в Кремлёвском дворце. Старшая дочь Людмила окончила Гнесинский институт в классе отца и долгие годы пела в хоре Большого театра. Младшая дочь, так же как и папа, заслуженная артистка России, пианистка Любовь Орфёнова, известная своим служением опере в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко и «Геликон-опере», имеет репутацию большого знатока вокальных тонкостей, друга и помощника певцов и является сегодня одним из самых опытных оперных концертмейстеров, что оценили не только в отечестве – имя Орфёновой в качестве коуча можно встретить в афишах ведущих европейских театров. Солидную оперную карьеру сделал внук Анатолия Орфёнова (сын Людмилы Орфёновой и солиста Московской филармонии, тенора и вокального педагога Дмитрия Батуркина) – баритон Андрей Батуркин. Правда, в данном случае певческие гены взяли своё не сразу – прежде чем по семейной традиции окончить Гнесинку у известного баса Большого театра, профессора Артура Эйзена, Андрею понадобилось отучиться в МАДИ (Московский автомобильно-дорожный институт). Андрей Батуркин успел поработать в трёх оперных театрах Москвы, на сегодняшний день является солистом МАМ-Та им. Станиславского и Немировича-Данченко, много поёт за рубежом, в 2009-м получил звание заслуженного артиста России. Подросли и вступают во взрослую жизнь правнуки Орфёнова. Всё это, наверное, и есть жизнь после смерти.
На протяжении всей своей жизни Анатолий Орфёнов вёл дневники. Впечатления, эмоции и воспоминания доверял бумаге и не забыл, кажется, ничего и никого. Свои записки, если они вдруг соберутся в книгу, планировал назвать «Певцам о певцах». И самое странное в предлагаемой читателю повести, что составлять её приходится не самому Анатолию Орфёнову. До того чтобы собрать из уже написанного собственные мемуары, руки никак не доходили. В результате нам остались лишь разрозненные фрагменты 60-80-х годов – написанные талантливо, с воображением и юмором, прекрасным слогом, на классическом русском языке. В рукописях и письмах Орфёнова всегда поражает врождённая грамотность – ни одного сбоя в правописании, и всё остальное на своих местах! Если он и видел себя пишущим эпос собственного производства, то только умозрительно. Заниматься персоной «себя любимого» капитально и всерьёз, видимо, не позволяли ни вера, ни профессиональная этика, ни внутренние человеческие убеждения. И самое главное – работы всегда было невпроворот, просто некогда. «Ни о каких мемуарах пока не может быть и речи – для этого надо в скит месяца на три, – отвечает Анатолий Иванович в одном из писем на настоятельные увещевания своего собеседника, – материал кое-какой есть уже, но главное – в голове». И в пору, когда едва ли не каждый заметный советский артист на излёте бархатного сезона считал своим долгом садиться за мемуары, Орфёнова гораздо больше, чем собственная, интересовали другие судьбы. Прежде всего, конечно, судьба его большой и дружной семьи. Он был потрясающий муж, отец и дед. Одним словом, глава рода, хозяин, воспитатель. Именно семья сохранила архив Анатолия Орфёнова. Воистину «есть в мире сердце, где живу я». И сегодня мы имеем счастливую возможность заглянуть в мир этого человека и артиста.
Записки русского тенора
Как прежде говорили: «Господи, благослови!» Давно я пишу свои заметки, дневники, воспоминания, но систематически, серьёзно взяться за эту работу всё не хватало времени. Но – видно, пора! Память отлично хранит всё прошлое, оставляя для склеротических ошибок настоящее и недавно прошедшее. Как поётся в песне: «Это было недавно – это было давно». Что такое мемуары, воспоминания? Это то, что мы хотим передать из давно прошедшего в приукрашенном виде. Таких мемуаров я писать не хочу.
Буду писать то, что со мной было, заглядывая не только в тайники своей души, мои дневники, где записаны впечатления о каждом из спетых мной спектаклей, в афиши и программки, но и в мои ноты, оперные клавиры и отдельные экземпляры арий, романсов и песен, многие из которых украшены надписями, сделанными композиторами или друзьями по искусству. Очень хочу писать не для читателя, не для редактора (которого очень боюсь), но для близких мне людей, которые поймут меня и не осудят, потому что я буду писать правду, а её не любят и почти не печатают. Если же в конце концов часть этого труда и увидит свет, то прошу вас, дорогие мои, оставьте хоть веточку, хотя бы один сучочек от того дерева, которое Вы хотите отредактировать. Мой друг – композитор и главный редактор издательства «Советский композитор» Игорь Павлович Ильин говорил: «Что такое телеграфный столб? – Это хорошо отредактированная сосна!» Каждый «редактор» по веточке, по сучочку «редактировал», отрубал то, что по его мнению было лишним, и в конце концов – гладкая, без индивидуальных особенностей, без мысли и того, что отличало эту красавицу-сосну от других деревьев, – вот она лежит, как бревно!
Теперь, когда мысленно подводятся итоги пережитого, с чувством глубокой благодарности я вспоминаю свои молодые годы. И полуголодное существование, и небогатую одежду, и крохотную комнатушку, где я был счастлив и полон надежд. Взлёты и падения, критику и похвалы – всё теперь воспринимаешь как явление нормальное. Без этого пережитого не пришли бы мудрая созерцательность, щедрая любовь к окружающим, желание отдать людям всё, чего достиг сам. Однажды у меня на квартире в тесной компании за бокалом вина было сказано: «Орфёнов среди театральных деятелей является музыкальной совестью. Перед ним стыдно плохо петь или скверно играть свою роль». Я понимаю, что в известном смысле это была привычная застольная лесть гостей по отношению к хозяину, но смысл высказывания был ясен. Юрий Гуляев однажды, когда я слушал его в спектаклях Киевского оперного театра, сказал товарищам: «Там сидит такое музыкальное ухо, перед которым стыдно соврать». И это было для меня высшей похвалой. Значит, мои молодые друзья смотрят на меня не как на придирчивого старика, а как на старшего коллегу по профессии, который ощутит, а затем скажет, где были ошибки, неправда, фальшь. А я – нужно это или не нужно – всегда говорил эту правду. Говорил доброжелательно, без злобы, критикуя, чтобы не убить, а помочь. Вспоминаю слова режиссёра Евгения Соковнина, который говорил: «Нужно прожить жизнь так, чтобы в старости, когда поглядишь на себя в зеркало, не захотелось туда плюнуть». Так я старался жить, так меня научили жить в искусстве Станиславский, Собинов, Мейерхольд.
Как много написано различных мемуаров, в том числе и жизнеописаний певцов. Думаю, что если бы я начал писать воспоминания о моей жизни и певческой карьере, то в лучшем случае библиотеки пополнились бы ещё одной автобиографией певца, которого никто, кроме, быть может, его самого, не назвал бы ни выдающимся, ни замечательным, ни тем более знаменитым. Если прибавить к этому, что сам певец не обладает даром писателя, то такая книга многим может показаться просто скучной.
Это – одно рассуждение. Другое же возникает, когда я думаю, что молодёжь уже сейчас не знает многих певцов прошлого, плохо помнит деятелей искусства и театра первой половины XX века. Я посчитал своим долгом начать записывать всё, что я пока ещё помню, и пока видят мои глаза. Начав же свою работу, я понял, что она может превратиться в довольно интересный рассказ певца, который хочет поговорить с певцами о всех выдающихся певцах, которых он слышал за свою долгую и интересную жизнь и которые в те времена были славой русского искусства. Если говорить просто о певцах, перечисляя их роли, то получится краткий энциклопедический справочник. Это неинтересно. Тогда я разделил свою работу, решив начать с оперных певцов Большого театра и Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Получился довольно большой материал, объединённый автобиографическими данными, которые взяты из жизни. Причём я лелею мечту, что не ограничусь только первой половиной века и распространю свои воспоминания на певцов более позднего времени, чтобы сюда вошли все певцы от Собинова и Неждановой до Вишневской и Милашкиной. Попутно я кратко расскажу о тех дирижёрах и режиссёрах, о руководителях театров и концертных организаций, которые жили и творили в то время.
Замахнулся я очень сильно. Рука непрерывно пишет вот уже два года, а конца нет мыслям, воспоминаниям, вопросам, ибо жизнь всё время ставит всё новые и новые вопросы по отношению к прошлому. Возможно, что этим строкам и не суждено увидеть свет при моей жизни, но меня это не пугает. Однажды Юрий Шапорин, который около 30 лет писал свою оперу «Декабристы», на мой вопрос, почему так долго, сказал мне: «Посмертная слава больше, чем прижизненная». Не думаю, чтобы эти строки принесли мне славу, но хочу быть искренним и честным при описании певцов. Обычно в любой рецензии, особенно при характеристике певцов, указывают на их достоинства и достижения, сглаживают недостатки. И получается, что какого бы певца мы ни характеризовали, он обязательно имеет только положительные качества. Особенно это касается певцов со званиями, лауреатов. Сколько я «горел» на своих критических статьях! Я мог бы перечислить имена тех, кого я в своих рецензиях, кстати, заказанных мне самими газетами либо журналами, осмеливался критиковать за неудачное выступление. Осторожный (либо пристрастный) редактор предпочитает вовсе не печатать мою рецензию, чем поместить хотя бы строчку о тех, кого такой отзыв может обидеть. Не думаю, чтобы этот «заговор молчания», который частенько устраивается у нас вокруг выступлений певцов, принёс им пользу.
Пётр Ильич Чайковский в своих критических статьях не стеснялся правды и высказывал её порой предельно резко. Вот что, например, он пишет о постановке «Руслана и Людмилы» Глинки: «г. Радонежский был плох до нельзя. Этот богатырь – Руслан, в самых патетических местах, пухленькой ручкой хлопающий себя по брюшку весьма солидных размеров; это за душу тянущее завыванье, – производили впечатление действительно богатырской тоски. <…> г. Финокки, совершенно утратил голос; этот маленький для певца недостаток, да еще прекурьезный итальянский акцент в устах киевского князя, производили прекомический эффект <…>. Г-жа Турчанинова (Горислава) выказала свежий, красивый сопрано, весьма не твердую, склонную к повышению интонацию и безжизненно плоскую игру. Баян – Владиславлев просто неприличен. Нельзя, г. Владиславлев, обладая свойством издавать такие безобразно-козлиные звуки, браться за идеально поэтическую партию Баяна». (Чайковский, «Музыкально-критические статьи» 1868–1876 гг.)
Конечно, такие резкие оценки в наше время, быть может, и убили бы исполнителя. Но я думаю, что Чайковский не был в каждом отдельном случае пристрастным критиком. Вернее всего, он был просто доведён до крайности, раз уж так отрицательно высказался о спектакле. Если бы в наших газетах помещались принципиальные критические статьи, дающие критические замечания и разбор исполнения, сколько пользы это принесло бы певцам. Увы, такие рецензии у нас помещаются редко.
И вот я как летописец начал писать. «Не мудрствуя лукаво», стараюсь честно, без злопыхательства, по возможности подробно описать всё, «чему свидетелем я в жизни был». Труд я начал, а что получится – не мне судить.
8 марта 1962 года.
Борис Покровский
Маквала Касрашвили
В. Пьявко и А. Орфёнов в Риге у Латвийского театра оперы и балета
Любовь Орфёнова и Андрей Хрипин в квартире А. И. Орфёнова на Тверской (ул. Горького), 25/9. 2002 год
Моё музыкальное детство
Мне часто снятся сны. Каждую ночь. И чем больше я живу, тем чаще снится детство. И хотя оно было трудное, без радости, игрушек и забав, но как детство, так и далёкая юность, кажутся сегодня милыми, светлыми, хорошими.
Обычно, вспоминая о детстве какого-нибудь музыканта, говорят, что с детства у него обнаружились музыкальные способности. Возможно, что и про меня можно было так сказать. В семье, где я родился, была большая любовь к пению и музыке. По словам мамы, у меня очень рано выявился музыкальный слух. Запел я в три года. Взрослые упомянули в разговоре какую-то популярную песню и вдруг услышали, как я во весь голос завопил мотив этого жестокого романса. Из соседней комнаты выглянул дедушка-священник (иерей) с вопросом в глазах, но мама сделала знак «тс-с-с», чтобы не спугнуть этот порыв.
Я появился на свет божий 17 (30) октября 1908 года в селе Сушки Спасского уезда Рязанской губернии, куда моего отца Ивана Николаевича 1873 года рождения перевели служить из села Крутицы священником женского сушкинского монастыря. Мать, Александра Ивановна, урождённая Манухина (её отец – незаконный сын и управляющий имением рязанского князя Горчакова), была умная, красивая женщина с твёрдым характером. Всю свою жизнь она посвятила дому и детям. В доме всегда был порядок – чисто, удобно, спокойно. Строгие правила! У отца был красивый тенор, и служил он не как другие священники. Когда он произносил «Господи, помилуй!», в его голосе слышались слёзы. И становилось ясно, что Господь слышит его. А уж в слово «помилуй» было вложено столько просьбы и столько покаяния за содеянные грехи! Он сам плакал, и вся церковь при этом плакала. Церковное начальство знало, как служит Орфёнов, поэтому много лет спустя, когда в Казанском женском монастыре соседнего города Касимова освободилось место священника, отца из Сушек перевели туда. «Крутицы – крутили, Сушки – сушили, а Касимов – скосит!» – так не раз повторял папа, словно предвидя свою судьбу – в Касимове ему было суждено умереть в 1922 году от скоротечной чахотки.
А пока двухлетним мальчиком я вместе с семьёй переезжаю в маленький городок Касимов Рязанской же губернии, где и проживу до одиннадцати лет. В момент переезда нас с братьями и сёстрами у родителей было уже пять человек детей – Надя, Юля, Александр, Евгения и я. Шестой – младший брат Лёня родился в Касимове в 1913 году (всего в семье было рождено семь детей, но один умер в младенчестве). Александр погибнет в 1942 году на фронте при освобождении города Белёва Тульской области. Леонид учился на физика, но станет военным, дослужится до полковника. Самая старшая из нас, Надежда, была учительницей и всю жизнь посвятила школе и детям, но «заслуженного учителя» ей так и не дали как беспартийной. Сестра Женя одно время кормила всю семью, когда никого из нас – детей священника – не брали на работу в Москве. Одной ей удалось устроиться на химическую фабрику развешивать синьку. Там она этой синькой и отравилась. И когда она умирала, как врачи говорили, от рака, мы знали, что не от рака, а от синьки.
Рязанский край – очень музыкальный. Он дал искусству композиторов Леонида Малашкина, Василия Агапкина, Александра Александрова (автор музыки Гимна СССР и песни «Священная война», основатель Краснознамённого ансамбля песни и пляски), Александра Аверкина, Анатолия Новикова, оперных теноров Никандра Ханаева, Николая Озерова, Сергея Ценина, трёх братьев – басов Пироговых. Село Истомино Касимовского уезда было родовым гнездом известной артистической и музыкальной семьи Олениных, из которой вышли, в частности, писатель и драматург Пётр Оленин-Волгарь, его брат – композитор, собиратель фольклора, автор оперы-песни «Кудеяр» Александр Оленин и их родная сестра, выдающаяся камерная певица Мария Оленина-д’Альгейм, а также их двоюродный брат – баритон и режиссёр, один из лучших Борисов Годуновых русской дореволюционной сцены Пётр Оленин (женой которого одно время была младшая сестра Станиславского – Мария Сергеевна). Да и я что-то сделал в этой жизни. Особенно славилось рязанское хоровое пение. До революции в Рязани не было ни консерваторий, ни музыкальных училищ, и многие известные в будущем музыканты начинали свои «университеты» в хорах – как любительских, так и церковных. Пение в хоре было лучшей школой для начинающих постигать музыкальную грамоту ребятишек, там воспитывали слух и шлифовали чистоту интонации.
Недавно я побывал в Касимове – городе, где похоронен мой отец, посмотрел на дом, в котором прошли детские годы, постоял на паперти храма, в котором я впервые выступал как начинающий певчий, и мысли невольно унеслись в ту дальнюю даль, когда я был молод. Уже давно нет монастыря, где служил мой отец – церковь и башню с монастырскими стенами в 30-е годы сровняли с землёй, монашек сослали в лагеря, а на этом месте построили ларёк «Гастроном», в котором, как говорят, всегда продавали протухшие продукты. Но здешние старожилы всё ещё помнят отца Ивана, моего отца… Далёкая, милая юность!
В те годы Касимов был захолустным уездным городком в шестидесяти верстах от железной дороги. Он стоит на левом высоком берегу Оки-реки. Когда плывёшь на пароходе из Рязани, то, подъезжая к Касимову, сначала видишь трубу канатной фабрики, а потом, когда Ока резко поворачивает вправо, вдруг сразу становится виден весь город. Тишь да гладь нарушают гудки пароходов да колокольный трезвон. На набережной белокаменные дома с колоннами и лепными украшениями. Это дома местной знати: купцов, дворян, врачей. За пристанью, под углом к реке, широкая дорога к Вознесенскому собору. Голубой его купол усеян звёздочками. А сзади пристани – белые стены женского монастыря. В городе – то гора, то овраг, и на всех горах церкви, всего двенадцать церквей, у каждой свой колокол, а у него – свой звук. И мы различали: это звонят в Соборе, это у Казанской, а это у Благовещения. А у нашей Николы-церкви, которая была против отцовского дома, колокол треснул, и его голос был такой хриплый и разбитый. В конце концов его сняли и увезли на барже куда-то, где отлили новый – звонкий, красивый звук которого долго раздавался в ушах. За Собором видна мечеть, а вон там ещё другая. Тогда было три тысячи жителей, половина из них – татары, даже названия свои были («Татарская гора» и т. п.). Но город мирный и добрый, люди разной веры жили дружно.
- Атен батен чиманчу,
- Чин чирикин атамбу,
- Чим бахила арантас,
- На горе вечерний час.
Эта детская касимовская считалочка – смесь русских и тюркских слов (касимовцы так же, как и москвичи, «акают»).
Правый берег Оки – низкий. Заливные луга тянутся до самого Ужиного болота, а там и лес начинается… Рядом с пристанью – понтонный мост, раньше его называли плашкотным. Как только перейдёшь его, слева небольшая группа деревьев – сирень, акация, та самая «белая акация», чьи гроздья душистые… Среди деревьев небольшой ресторанчик «Кинь грусть». Если кто из заречных деревень ехал в Касимов, он обязательно заезжал в «Кинь грусть», отдыхал там с дороги, выпивал кружку пива или чего покрепче и переодевался: в город надо въехать, чтобы горожане посмотрели на тебя с уважением. Из местных в «Кинь грусть» ходили гулять замужние пары и пожилые люди. Молодёжь гуляла, как правило, на самой большой улице города. Эта улица до революции называлась Соборной, после чего её переименовали сначала в Большую, а потом – в Советскую.
В каждой церкви был хор, всё время звонили колокола. Церковь была в быту. Одни ходили туда регулярно, другие не очень. Церковь была местом встречи молодёжи. Девицы надевали свои лучшие наряды и в сумерках, возвращаясь по парочкам, шли на набережную Оки. Словом, церковь, праздник, звоны – это был русский быт начала XX века. Духовой оркестр я услышал впервые, когда по улицам Касимова шли новобранцы – провожали на войну солдат в августе 1914 года, и впереди шёл оркестр. Никаких зрелищ. Не было в те годы ни кино, ни театра в таком захолустье. Но иногда любители организовывали самодеятельные спектакли. Мне запомнилась оперетта «Иванов Павел», где на популярные мотивы был сочинён сюжет о переросшем гимназисте, которому во сне пришлось сдавать экзамены по всем предметам, хотя он и не знал ничего – и, конечно, «провалился». После революции другой самодеятельный коллектив позвал нас, певчих, для участия в постановке первого акта оперы Римского-Корсакова «Майская ночь». Мы пели хор «А мы просо сеяли» – наступая на стоящую против нас группу хора, а они в свою очередь пели, наступая на нас: «А мы просо вытопчем»…
Длинные, ранние и тёмные осенние и зимние вечера. В некоторых комнатах большого дома горит керосиновая лампа. Постоянно горит и зелёная лампадка перед образом в огромном, как мне тогда казалось, зале. Я любил войти в сумраке в этот зал – послушать тишину, полюбоваться тусклым светом лампадки. Когда (довольно редко) приходили гости, нас прогоняли в «детскую». Но там нам заводили граммофон. Мама выписывала из Москвы пластинки – главным образом певцов. Это были и классические певцы императорских театров – Собинов, Дамаев, Лабинский, Нежданова, и певцы более «лёгкого» жанра – Плевицкая, Вяльцева. Особенно у нас любили Варю Панину с её цыганскими романсами и неестественно низким голосом.
В монастыре пел женский хор, и мы туда не любили ходить, а ходили в Никольскую церковь, где был смешанный хор и где мне суждено было начать свою певческую «карьеру». Ещё до поступления в хор я любил петь дома. Мама была очень музыкальна, играла на гармонике. А я с детства умел «вторить», то есть петь дуэтом с мамой и сестрой Женей. Помню, что пели мы «Под вечер осенью ненастной» или «Ты правишь в открытое море». Наше любительское домашнее музицирование завершилось тем, что на Троицу в 1916 году мы с Женей поступили в наш церковный хор у того же храма Николы. Было мне семь с половиной лет. Регент Николай Капитонович Богданов был строг. До сих пор с благодарностью вспоминаю, как он тянул меня за уши, приговаривая «выше», «выше». Хор был маленький. Альтов было двое: Минька Зайцев и я. Минька был уже подростком лет четырнадцати и голос его ломался. Это был звонкий альт несколько горлового оттенка. Но меня привлекал именно звон серебристого металла в его голосе, и я невольно начал ему подражать, копируя его тембр так, что нас стали путать. Пели по цифирным нотам (1 – до, 2 – ре, 3 – ми, 4 – фа, 5 – соль, 6 – ля, 7 – си), что соответствовало нотам первой октавы. Если нужно было переходить во вторую октаву – над нотой (цифрой) ставилась точка, а если в малую, то точка ставилась под цифрой. Почему бытовали цифирные ноты? Может быть, никто не выпускал нотную бумагу, а может быть, и не владели нотной грамотой – не знаю, но у нас в Касимове в то время пользовались только цифирными нотами.
Первые выстрелы революционных дней даже в нашей глуши сопровождались актами насилия с той и другой стороны. Убивали из-за угла коммунистов, на белый террор отвечали красным террором – расстреливали буржуев, купцов, фабрикантов, наиболее «правых» из духовенства. Власть переходила из рук в руки от белых к красным. Однажды в город ворвались конные всадники в кожаных куртках с наганами за поясом, взяли заложников и повели на расстрел. Среди несчастных был молодой священник отец Матвей. Когда их расстреливали, он пел псалмы. А когда в городе была убита комиссар Фёдорова, всех нас, церковных певчих, собрали вместе, и мы быстро разучили «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Какой же это был громадный и стройный хор в 200 человек, который шёл по улицам, исполняя траурные революционные песни на похоронах Фёдоровой!
Духовное пение стало для меня первой школой пения, а в недалёком будущем и единственным средством существования. Умирает отец, уходит в армию старший брат. Голод, разруха, эпоха «военного коммунизма». И вот – до 1928 года, то есть до 20 лет, я профессиональный церковный певчий в различных городах и сёлах, где можно получить кусок хлеба для семьи и для себя.
Куда только не бросала судьба нашу семью в поисках куска хлеба. Когда начался голод, было решено разделить семью на две части. Отец и старшие дети Надежда и Александр остались в Касимове, а мать со мной, сестрой Женей и младшим Лёней отправилась в город Вольск Саратовской губернии, где жила замужем моя сестра Юлия. Голод Поволжья 1921 года. Холера, полное отсутствие еды. 21 августа. Мне от роду двенадцать лет и почти десять месяцев. В этот день я был назначен временно исполняющим обязанности псаломщика Михаило-Архангельской церкви села Сапожок Сердобского уезда Саратовской губернии. А живём мы в Вольске. Я уже более четырёх лет пою в церковных хорах, солирую, причём в Вольске пел «Верую» Гречанинова в присутствии автора, высказавшегося весьма одобрительно в мой адрес. Мне аплодировали моряки Волжской флотилии за русскую «Дубинушку». И вот я пою, кормя семью – мать, сестру и младшего брата. Что такое жизнь в селе, где ты самый младший певчий в церкви? Это жизнь нищего, который ходит по дворам, собирая всё, что дадут. Собирал по несколько картошин, собирал во время стрижки овец клочья шерсти, набрав на валенки всей семье, собирал кизяки – сушёный навоз для топки. Через полгода, в июне 1922 года, в Касимове умер отец. К нам приехал старший брат Александр, привёз кое-что из отцовских вещей, и мы купили корову.
Из Вольска мы перебрались в Сердобск – в те годы также Саратовской, а теперь Пензенской области. Сначала снимали дом в самом городе, а потом недорого купили домик в Заречной слободе. Сердобск был в те годы типичным уездным городком, где не было никакой промышленности, кроме шпалопропиточного завода. Центром жизни был базар, где начали открывать лавочки мелкие торговцы и кустари. Начинался НЭП. А я жил в слободе и пел в церкви за небольшие тридцать рублей в месяц. Ни театра, ни кино, ни развлечений… Брат и сестра работали в аптеке фармацевтами. Если была возможность, учился понемногу, брал уроки по математике и физике, готовился к поступлению в фармацевтический техникум – брат уже стал заведующим аптекой, и я мечтал быть похожим на него и иметь «твёрдую специальность», как говорила мама. «Пение – вещь ненадёжная, сегодня ты поёшь, а завтра голос пропал». Кроме того, строгое пуританское воспитание в нашей семье не разрешало мечтать о театре. Петь в церкви, в хоре или на концерте – можно, но театр – это разврат и ужас. Даже когда мы поехали в Москву в августе 1928 года, то все дали обет не ходить в театр в течение трёх лет! И действительно, мой первый «выход» в театр состоялся именно где-то в конце 1930 года. Хорошо ещё, что начало появляться радио. Я ещё в Сердобске по детекторному приёмнику слушал «Онегина» с Собиновым и Норцовым, а в Москве постоянно ездил к брату моей матери – Сергею Ивановичу Манухину в его крохотную комнатушку на Цветном бульваре, где не пропускал трансляций оперных спектаклей из Большого театра. Помню «Садко», «Бориса Годунова», «Князя Игоря», «Пиковую даму».
В Сердобске я стал участвовать в самодеятельности. Помню наши концерты, в основном хоровые, которые организовывал начальник железнодорожной станции «Сердобск» Иван Анисимович Николаев. Помню своё первое выступление в концерте в качестве солиста. Хор наш поехал на станцию Колышлей, недалеко от Сердобска. А когда во втором отделении стали выступать певцы – кто как умел, с романсами и песнями, попытался и я – спел на память два таких известных и запетых романса, как «Отцвели уж давно хризантемы в саду» и «Ямщик, не гони лошадей». Успех был хорошим, и я впервые, пожалуй, подумал о профессиональном занятии пением.
Учиться – какое огромное желание! Но это не так просто. Когда стали открываться музыкальные студии и школы, меня прослушали в одной из них и сказали – учиться играть на скрипке. Но где было в те годы достать скрипку, и кто будет учить где-то в захолустье, куда меня занесла судьба.
Но идут года! Высокий звонкий альт металлического звучания, поставивший меня в первые ряды солистов хора (в Вольске я даже был «исполатчиком» архиерейского хора), звучал всё время. Я уже стал читать ноты, как газету. Когда мне исполнилось шестнадцать, регент сказал: «Что ты, дылда, стоишь всё в альтах, переходи в тенора». Да как же в тенора, ведь у меня альт? Как петь тенором? «Да так же, как и альтом, только чуть ниже». Вот, собственно, и всё, что было со мной в годы мутации. По-видимому, у меня была или очень поздняя мутация голоса, или же тесситура церковного пения захватывала только средний регистр, что не принесло вреда. Пение в церкви дало мне очень много. Кто знает, что было бы со мной, если бы я замолчал в период мутации. Возможно, у меня был бы совсем другой голос. Но я не имел права молчать – я кормил семью. Пел и читал в церкви, вызывал сильный звук, грудную резонацию. Голос из альта перешёл в звонкий металличный тенор. В дни каких-то праздников я перепел и вынужден был на два месяца перестать петь. После этого мой тембр стал более лиричным и мягким.
Голос изменился, а окружающим казалось, что я его сорвал. На семейном совете было решено немедленно уезжать из Сердобска. Куда? Конечно, в Москву, куда уже перебрались сестра Юля со своим мужем Костей и их двумя маленькими детьми. И 25-метровую московскую комнату в три окна перегородили занавеской на две части. Восемь человек стали жить в тесноте, да не в обиде. Спали на полу вповалку, но были по-своему счастливы.
Детство кончилось. Начиналась взрослая жизнь.
Мои университеты
В Москву! Первые разочарования
В Москве меня ждало разочарование – на экзаменах в фармацевтический техникум я провалился по физике. Аптеки всего мира много потеряли – я не стал провизором и вынужден был для продолжения образования поступить на спецкурсы. Однако всё по порядку.
1 августа 1928 года. Мы – в Москве! Шум трамваев, грохот телег, нагруженных разными товарами, которые везут ломовые извозчики. Одуряющие запахи от всяких продовольственных лавчонок, булочных, где были и пекарни. Лился запах ванили, колбас или набор ароматов из зеленных лавок. Остатки НЭПа. Жили мы сначала у сестры Юлии в Марьиной роще, на улице, которая называлась «Шестой проезд за линией», в деревянном доме. Марьина роща была тогда тихой окраиной, населённой мастеровыми и кустарями, почти не было никаких магазинов. Местным героем был пьяница, который за бутылку водки глотал гвозди, запивая их водкой. Но однажды, проглотив слишком большой гвоздь, он всё-таки отдал Богу душу. Пожары, драки, смерть лошадей прямо на улицах, на глазах у всех, шпана, собачники и один мотоциклист – вот что делало жизнь неспокойной. В центр ездить далеко, но делать было нечего.
В те годы шло создание собственной пролетарской интеллигенции, и вплоть до принятия Сталинской конституции 1936 года преимущественное право поступления в учебные заведения давалось главным образом детям рабочих и бедных крестьян. Во вторую очередь шли дети служащих и только в третью – «прочие»: богатые крестьяне, кустари и прочий «нетрудовой элемент». Даже дети служащих были ограничены при приёме во все учебные заведения. Что же оставалось «поповичу»? Дети духовенства не допускались к занятиям в школах и высших учебных заведениях – если хотели учиться, занимались дома. Мой отец, касимовский священник, умер в 1922 году. Но несмотря на его смерть и на то, что я был тогда подростком, всю жизнь я должен был так или иначе ощущать на себе «неполноценность» своего происхождения. Сестру мою, которая в анкете не написала, что она дочь священника, исключили из института «за сокрытие социального происхождения». И мне постоянно напоминали, что кроме того, что я сам собой представляю, у меня есть ещё «классовое лицо». Вплоть до того, что во многих пасквилях, доносах, анонимках (а я всегда был в жизни на виду, вёл большую общественную и административную работу) – на кого только «друзья» не пишут туда, куда нужно! – меня всегда попрекали моим происхождением.
В Москву я приехал нигде не учившимся парнем. Мечта моя была скромная. Я думал поступать вовсе не в музыкальный вуз. Как и мой старший брат Александр, я хотел стать фармацевтом, работником аптечного прилавка. Подготовка у меня была слабая, и на экзаменах в Фармацевтический техникум, что на Никитском бульваре, 13 (сейчас это фармацевтический факультет Медицинского института), я провалился – не решил задачку по физике, получил двойку и не прошёл по конкурсу. С карьерой фармацевта было покончено. Огорчён я был очень. Но – у каждого свой путь. Мама всегда твердила, что голос – вещь ненадёжная, можно остаться без куска хлеба. Именно этот страх потерять голос преследовал меня потом всю жизнь. Однако петь я хотел и всей душой стремился учиться пению.
Вместе с братом Лёней мы стали учиться в заочной средней школе. До сих пор в памяти адрес: Москва, Центр, Сретенка, 8, Бюро заочного обучения. Также мы с трудом устроились на работу в милицейскую библиотеку, и нам даже выдали милицейскую форму. Школа в те годы переживала реформы. После седьмого класса не было восьмого, девятого и десятого. Вместо этого организовывались спецкурсы, то есть учили ребят узкой специализации. Моё упорство делало своё дело. Чему я только не учился в те годы! Поступил на счётно-финансовое отделение Спецкурсов на Большой Якиманке и два года изучал бухгалтерию. Был на прядильноткацких курсах, разбирая банкаброшные и мюль-машины, попал на чулочную фабрику имени Ногина в качестве практиканта трикотажного техникума. Успокоился я на библиотечном отделении Педагогического техникума на Большой Ордынке, каковой и окончил в 1933 году. Здесь прошли мои юные годы, здесь я встретил мою подругу жизни Нину Сергеевну Семёнову, которая в 1936 году стала моей женой и матерью моих детей.
А что же музыка? – спросите Вы. Мои московские родственники – брат матери, Сергей Иванович Манухин, бывший газетный репортёр и друг многих оперных деятелей, в то время уже пенсионер, и брат отца Николай Николаевич Орфёнов – были знакомы с солистом Большого театра Василием Васильевичем Осиповым, исполнителем ведущих басовых партий и известным в те годы преподавателем пения, и просили его прослушать меня. Сергей Иванович повёл меня на квартиру к заслуженному артисту. Осипов одобрил моё желание учиться пению и посоветовал идти в канцелярию Техникума имени И. Ф. Стравинского, что на Петровке, где работал сам. Техникум (вернее, Музыкально-вокальные курсы в плане техникума) находился в подвальчике четырёхэтажного дома в Петровском переулке (улица Москвина). Это было хозрасчётное вечернее музыкальное училище без государственной дотации, куда принимали не по анкетным данным, а по экзамену, где надо было только доказать, что у тебя есть талант – голос, умение играть на музыкальных инструментах или что-то ещё. Однако приём уже закончился, было 28 сентября. Но когда я сказал в канцелярии, что меня прислал Осипов, меня согласились послушать, для чего направили к педагогу Александру Акимовичу Погорельскому. Видимо, я ему понравился, и он рекомендовал меня принять. Меня определили в класс Погорельского, и так с октября 1928-го по июль 1934 года я учился в этом очень своеобразном учебном заведении. Других вокальных педагогов у меня не было. Один из последних учеников знаменитого Эверарди, Погорельский имел крайне неуживчивый характер, резко критиковал других педагогов, за что его не любили коллеги по профессии, и он в результате не занял того положения, которое должен был занять. Тем не менее он преподавал до глубокой старости, работая в Оперно-драматической студии Станиславского вместе с Неждановой, Головановым, Гуковой, а после закрытия студии – в училище имени Глазунова и в ГИТИСе.
И вот по вечерам я бегаю в Техникум Стравинского. Платить нужно было 6 рублей в месяц. Официально я находился на иждивении сестры Евгении, которая работала фасовщицей – развешивала порошки на консервно-развесочной фабрике Центросоюза. Но нас было четверо – мать, сестра, младший брат и я, и, чтобы как-то существовать, нужно было подрабатывать. Для того чтобы достать в те годы 6 рублей, нужно было бегать в хор, где за раннюю обедню платили 1 рубль 50 копеек, за позднюю – 2 рубля, а за вечернюю службу – 2-50. Но кроме платы за учение, надо было как-то жить. Для того чтобы не уйти в армию на действительную службу, надо было иметь отсрочку, а музыкальные курсы отсрочки не давали. Вот я и мотался по Москве.
Второе замужество матери
В 1929 году моя мать вторично вышла замуж за прекрасного человека, специалиста по истории музыки, лектора-искусствоведа Сергея Николаевича Дмитриева. Как же это произошло?
У моего голоса стали появляться поклонники. Среди них был Сергей Николаевич. И вот однажды он спрашивает: «Толюшка, а как и с кем вы живёте?» Я рассказал ему про всю свою жизнь: как пел с шести лет, стоя посередине церкви, «Да исправится молитва моя», и как солировал в церковных хорах, и как сорвал голос, и как переехали из-за меня в Москву, и как сейчас живём восьмером в одной комнате на Малой Полянке. Сергей Николаевич попросился к нам в гости и потом стал приходить очень часто. Все заметили, что между ним и матерью завязались особые отношения. Скоро Сергей Николаевич сделал предложение, и это разделило семью на две части: дети и мужчины были «за», женщины – «против». «Как ты можешь забыть нашего папочку!» – рыдали дочери. Но мать была мудрая и разом успокоила страсти, сказав, что это будет брак по расчёту: во-первых, у нас появится своя комната, во-вторых, все смогут писать в анкетах, что наш отец не священник, а служащий, да и потом возраст уже не тот, чтобы спать в одной кровати. Последняя фраза была решающей.
Венчалась мама с Сергеем Николаевичем в церкви у нашего дяди Коли – идти туда никому не разрешили, все ждали их дома. Потом выяснилось, что в те дни, когда семейный совет решал мамину судьбу, они с Сергеем Николаевичем тайком от всех обменяли его жильё на комнату в нашем доме на Полянке. Сергей Николаевич усыновил моего младшего брата Лёню, и из Леонида Ивановича Орфёнова он превратился в Леонида Сергеевича Дмитриева. Меня усыновить не удалось, так как мне уже было больше восемнадцати лет. Мы его звали папой, а маленькие дети – дедушкой.
Это был человек исключительного благородства и добрейшей души, он по-настоящему стал нашим вторым отцом. Закончил свой жизненный и творческий путь в должности научного сотрудника Музея Большого театра. Он многое сделал для моего музыкального развития, не говоря уже о том, что мне часто представлялась возможность бывать в Большом театре и его Филиале, где я увидел и услышал почти всех знаменитых певцов того времени.
Техникум Стравинского. Погорельский. Церковное пение в советской Москве
«Плохая» вывеска
Музыкальный техникум был вечерним, и поступить туда было чрезвычайно плохо, поскольку он был платный. Предприимчивый хозяйственник и музыкант Абрам Давыдович Гельфгат – директор курсов, в прошлом ректор Харьковского института музыкальной культуры – создавал впечатление, что курсы страшно нужны. Дирекция была заинтересована в том, чтобы студентов было как можно больше. Поэтому рядом со мной на уроках сольфеджио сидели и скучающие дамы, мужья которых имели достаточно средств, чтобы оплачивать прихоти жён, и какой-то дьякон в рясе, повышающий квалификацию. Среди тех же студенток немало было и таких, которые совсем не понимали таких сугубо специфических, но крайне необходимых предметов, как сольфеджио, гармония, музыкальная грамота. Можно представить, насколько примитивны были музыкальные навыки студентов, если я считался среди них знатоком сольфеджио и давал уроки за плату тем, кто сильно отставал и мог платить за занятия. Кроме этих случайных уроков, я пел в церковных хорах, где рядом со мной певали настоящие и будущие солисты Большого театра, Радио и концертных организаций. Так, я пел в дуэте с Максимом Дормидонтовичем Михайловым и Еленой Андреевной Степановой.
Курсы Стравинского всё время претерпевали реформы. Вскоре выяснилось, что Игорь Стравинский не только эмигрант, но ещё и белоэмигрант, подвергающийся в нашей печати резкой критике. «Плохое» имя надо было срочно снимать с вывески. Теперь техникум постоянно «сливали» с другими хозрасчётными музыкальными училищами. То он назывался Техникумом имени Мусоргского, то Музыкальным политехникумом. В конце концов его объединили ещё раз – теперь это Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова.
Итак, примерно к 1930 году по решению районных организаций курсы были объединены с Музыкальным техникумом имени Мусоргского и перекочевали на новое место – Новослободская, 12. Здесь образовался и новый педагогический коллектив. Учебную часть возглавляла Ася Константиновна Троцкая. Преподавали очень интересные педагоги. Теоретики Алексей Васильевич Парусинов, Владимир Микошо, А. Микляев. Было отделение военных капельмейстеров, которым руководил Семён Александрович Чернецкий. Его имя всегда должно произноситься с уважением – он воспитал и сохранил в трудные годы огромное число музыкантов. Оперный класс вели известные в то время дирижёры: Михаил Михайлович Багриновский, Пётр Михайлович Славинский, Валентин Иванович Чернов, А. И. Шпигель. Режиссёром был Фёдор Фёдорович Эрнст – тенор и впоследствии постановщик опер в Большом театре. Оперные партии с нами проходил Александр Яковлевич Альтшуллер – бас-баритон, режиссёр, а в конце жизни суфлёр Большого театра. Камерный класс вела Мария Моисеевна Мирзоева. Среди студентов были Надежда Казанцева, Людмила Легостаева, Лидия Казанская, Иван Назаренко, а также И. И. Якушин, И. В. Кузнецов – я перечисляю только малую толику тех, кто «вышел в люди». Всё это были энтузиасты оперного искусства. Занятия проходили по вечерам – днём студенты работали, а всё своё свободное время отдавали музыке. Ежегодно были творческие отчёты учащихся, обычно в Центральном доме работников искусств, Малом или даже в Большом зале Московской консерватории.
А «под боком» у нас был Большой театр. В те годы (самое начало 30-х) это был центр подлинной вокальной культуры. А уж какие «кренделя» выделывали, особенно в итальянских операх, наши тенора – уму непостижимо! Если Козловский вводил в песенке Герцога каденцию с до-диезом третьей октавы, то Жадан обязательно брал ре-бемольв финале дуэта из второго акта и в «Голубке». Мы, студенты с галёрки, слушали, затаив дыхание, наслаждались и – к чему скрывать – подражали им. И когда в классе на уроке, не уча песенки Герцога специально, я начинаю петь её так, как Жадан или Козловский, то – представьте себе – получается, и довольно удачно!
Погорельский
Итак, вместо класса Осипова я попал в класс Погорельского, который на всю жизнь стал моим единственным преподавателем вокального искусства. Александр Акимович Погорельский был одним из самых последних учеников знаменитого Камилло Эверарди (также занимался он и у Росси). Считал себя «внуком Гарсиа», поскольку Эверарди в своё время учился у Мануэля Гарсиа. Погорельский увлекался итальянской вокальной школой и мало знал русский репертуар. Однако вёл он своих учеников хорошо. Я был знаком лишь с одним из них – басом Александром Беляниным из Театра имени Кирова. Среди более поздних учеников Погорельского: тенор Владимир Нечаев с Радио, баритон Сергей Ильинский из Театра Станиславского и Немировича-Данченко, сопрано Валентина Воробьёва из Свердловской оперы, бас И. Н. Смирнов из Ленинградской филармонии, многие из студийцев Оперно-драматической студии имени Станиславского и студенты Музыкального училища имени Ипполитова-Иванова, где Погорельский преподавал в последние годы своей педагогической деятельности.
В моём архиве хранятся бумаги, свидетельствующие о том, что Погорельский был не последним человеком в своём деле. Например, есть ходатайство о предоставлении ему персональной пенсии за подписью Станиславского и других руководителей Оперно-драматической студии. В этом ходатайстве даётся очень высокая характеристика вокальных установок этого талантливого педагога, сотрудничавшего в студии с такими музыкантами и мастерами вокального искусства, как Голованов, Нежданова, Максакова, Гукова и Шор-Плотникова.
В чем же состоял вокальный метод Погорельского? В его занятиях была определённая система, и, начав с простых принципов звукообразования (атака, опора звука и опора дыхания, хорошее слово, верная резонация), он мечтал дойти до трели. Филировку звука он считал одной из главных задач образования певца. Недостаток у него, как, впрочем, и у большинства педагогов, был один – он переоценивал силы ученика. В минус ему можно поставить и то, что он не уделял должного внимания вопросам дыхания. Очень любил и хорошо знал итальянскую музыку. Никакой другой школы, кроме итальянской, не признавал.
Друг к другу мы относились с большой взаимной любовью и уважением. Занимался он с полной отдачей. Для него не было расписания. В школе и дома, где бы он меня ни видел, он шёл со мной заниматься. Начав с «Северной звезды» Глинки и Piangete аиге Перголези, мы через два месяца уже пели Вертера! Хорошо, что, кроме вокального педагога, в школе были педагоги-музыканты, которые критиковали нас, и хотя в отпечатанной программе моего первого учебного концерта 17 апреля 1929 года стоит ария Вертера, спеть мне её не дали якобы за недостатком времени, и я пел только квартет из «Руслана и Людмилы», приготовленный по классу ансамбля педагогом Василием Андреевичем Островским.
Я всегда с гордостью повторяю, что у меня не было другого вокального педагога, кроме Александра Акимовича, хотя консультации оказывали многие – в Большом театре Михаил Аркадьевич Пумпянский (немного), Валерия Владимировна Барсова, Матвей Иванович Сахаров. Много добрых людей хотели мне помочь в моём вокальном становлении. Особое место среди них занимает Елена Клементьевна Катульская, которая дала очень много полезных советов и как вокальный педагог, и как моя партнёрша по многочисленным выступлениям в спектаклях и концертах. Я горжусь тем, что мне довелось в последние годы творческой деятельности этой выдающейся певицы быть её постоянным партнёром. Но всё это было уже позднее. А первые основы вокального искусства были заложены именно Погорельским.
Погорельский сопровождал меня во всей моей театральной деятельности. Даже и в конце своей жизни он продолжал оставаться большим другом моей семьи. И я очень вздыхал, когда хоронить его пришлось только мне одному – а ведь у него было много учеников, и довольно известных впоследствии. Но такова уж участь педагога. О вокальном педагоге обычно вспоминают, если певец поёт плохо: «Кто ж его так выучил?» А если студент поёт хорошо, все говорят: «Боже, как талантливо!», – и никто не спросит, кто его учитель.
Неудачная проба в Большой театр
В годы моей учёбы концертмейстером в классе Погорельского был Александр Аполлонович Полубояринов, хороший музыкант, ученик Бориса Леонидовича Жилинского. Однажды вместе с Полубояриновым я выступал во Дворце культуры Московского автозавода. (Сколько ж названий переменил этот завод! То он назывался АМО, в отличие от ДИНАМО, расположенного совсем рядом, потом – Автозавод имени Сталина, в последнее время – Завод имени Лихачёва.) Так вот, в клубе этого завода пел я в концерте. Пел довольно удачно. Надо сказать, что Погорельский старался учить петь и особенно трактовать произведения так, как это делалось в Италии в годы его пребывания там. Все годы учения и потом, вплоть до моей первой болезни в 1942 году, когда в результате экссудативного плеврита я получил спайки плевры с диафрагмой, отчего была нарушена правильная функция дыхания, я почти в каждом концерте пел песенку Герцога и всегда, как правило, удачно. И в этом концерте я пел свой коронный номер. Григорий Ярон, тоже выступавший в концерте, подходит ко мне и говорит, что мне необходимо идти в оперетту, что он всё предпримет для того, чтобы сделать меня первым певцом в Театре оперетты. А Московская оперетта обладала в те поры воистину прекрасными голосами. Только что перешёл в Большой театр лирический тенор Александр Алексеев, в отличной форме находились Михаил Качалов, Татьяна Бах, Митрофан Днепров, Николай Бравин, Клавдия Новикова, Евдокия Лебедева, не говоря уже об Ольге Власовой, Серафиме Аникееве, Иване Гедройце. Но мне тогда по маломыслию искусство оперетты казалось чем-то несерьёзным, второстепенным, я думал, что оперетта – это дешёвка. Хотелось стать только оперным певцом. В этом же памятном концерте участвовал как чтец доктор А. Д. Каган, прекрасно читавший Уриэля Акосту. Он сказал, что меня надо показать Катульской.
Своё слово он сдержал, и Елена Клементьевна приняла меня в своей маленькой квартире на улице Чехова (тогда Малая Дмитровка) во дворе за Театром имени Ленинского комсомола. Она сказала, что мне нужно записаться на пробу в Большой театр и обязательно сказать ей, когда именно я буду петь конкурс. Я записался, но когда меня вызвали на пробу 7 июня 1933 года, то из-за глупой гордости взял и не позвонил Катульской, решив, что если я гожусь для Большого театра, то меня всё равно возьмут и без неё, а если не гожусь, то уж по крайней мере буду знать, что не воспользовался протекцией известного человека.