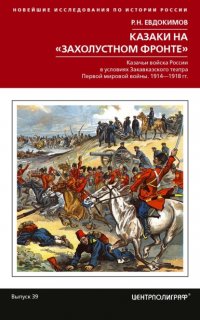Читать онлайн Московское царство. Процессы колонизации XV— XVII вв. бесплатно
- Все книги автора: Дмитрий Михайлович
Серия «Новейшие исследования по истории России» основана в 2016 г.
© Михайлович Д.М., Володихин Д.М., 2021
© «Центрполиграф», 2021
© Художественное оформление.
Географическое и сакральное в русской истории. Краткое вступление
В XIX веке В.О. Ключевский заметил, что история России – это история страны, которая «колонизируется». Продолжил и развил его идеи такой выдающийся ум, как М.К. Любавский. Однако впоследствии разработка темы, блистательно намеченной Ключевским и Любавским, затормозилась, в XX и XXI столетиях исследователи уделяли ей сравнительно мало внимания[1].
В судьбе России второй половины XV–XVII столетий[2] смешаны в равных пропорциях земля и небо, высокое и низкое, чертеж ученого дьяка, точно передающий линии рек, озер, лесов в недавно разведанных землях, и житие святого инока, первым поселившегося там.
Глядя на карту, нетрудно убедиться, что еще в середине XV века Московская Русь была небольшой, бедной, редко заселенной страной, к началу XVI века из нее выросла великая держава, а на рубеже XVI и XVII столетий она превратилась в государство-гигант. Именно географическая среда коренной «европейской» Руси способствовала тому, что в XVI–XVII веках чрезвычайно быстро были колонизированы Русский Север, Урал и Сибирь.
Этому главным образом и посвящена книга.
Но невидимыми или почти невидимыми для исторической науки оказались не только законы, связывающие природу и общество. Помимо них в зоне игнорирования оказались характеры основных человеческих типов, выросших на национальной почве в исключительно тяжелых, «спартанских» условиях и при первом же заметном облегчении этих условий шагнувших к горизонту с легкостью викингов, когда-то, в эпоху раннего Средневековья, играючи прошедших половину Европы с мечом в руках.
Строй Московского царства поставлен на камне веры, пронизан православием во всех направлениях, от поверхности до дна всех потоков общественного развития. Он без глубокой, до самопожертвования, религиозности не стоит, начинает медленно заваливаться. То, что он наполнен был в течение долгого времени самоощущением Нового Израиля, Третьего Рима, Удела Пречистой, давало ему мобилизующую цель и смысл существования.
Нищий русский «спартанец» дошел до Тихого океана не только потому, что его «выталкивала» природная среда, не обеспечивавшая благополучия, но и потому, что он нес Христову веру народам, ее не знавшим или ее отрицавшим. Во всех его действиях то едва различимо, то ясно и ярко, даже огненно прочитывалась цель: христианизация мира или рехристианизация той его части, которая отошла от Христа.
Россия в XV–XVII столетиях развивалась от народа, который был огромным военным лагерем, русской Спартой, состоящей из благочестивых воинов-христиан, священников и пахарей, к народу, который в силу осознанного стремления к просвещению, не потеряв воинской силы, обрел глубокое христианское самосознание. А потом не выдержал изощренности той изысканно-сложной цивилизации, которую создал, шагнул к прагматизму и. сорвался – превратился в набор простых гранитных глыб, именуемый Российской империей.
Военный и притом православно-благочестивый характер русской монархии того времени объясняет смысл маршрутов, которыми двигалась в своем развитии наша страна на всем протяжении указанного периода. От воинов русской Спарты к воинственным книжникам Третьего Рима, которые не смогли устоять перед соблазном непрекращающейся милитаризации своего государства, сдались мечте о громаде хорошо организованной силы, утратив дух, а без него сила лишилась фундамента.
Глава 1
Россия не Европа и не Азия, а отдельный мир
Россия никогда не была Европой. Россия никогда не была Азией. Россия никогда не являлась итогом смешивания элементов европейского и азиатского государственного строя и жизненного уклада, хотя некоторые из этих элементов она воспринимала как родные. Тем не менее не они были и являются основой России.
Россия была создана Иваном III во второй половине XV столетия на основе россыпи русских княжеств и вечевых республик, православных по вероисповеданию, получивших умеренно самодержавное правление, населенных преимущественно русскими; соответственно, абсолютно преобладали русская культурная традиция и русский язык (вернее, двоение древнерусского и церковнославянского, какими они были при последних Рюриковичах). Что же касается самоидентификации, выработанной интеллектуальной элитой в течение века с лишним (с конца XV до конца XVI столетия), то она жестко связывает Россию прежде всего с Московской и Владимирской Русью; следующий уровень самоидентификации как наследования ведущих цивилизационных признаков – Константинопольская империя (Византия); в какой-то мере Русь домонгольская, Древнекиевская; а также «Ветхий Израиль», которому Россия, наследуя по благодати, одновременно противостоит как Новый или Второй Израиль, и, наконец, в меньшей степени Римская империя, с чьими государями московских Рюриковичей связывает генеалогическая легенда.
Итак, в первую очередь: православие, самодержавие, русское население, русская культура, неразрывная связь с Владимиром и Константинополем.
Еще раз: не Европа, не Азия, а особый мир, ось Евразии, заданная в середине I тысячелетия от Рождества Христова христианской империей ромеев со столицей в Константинополе. В XIII–XV веках эта ось, эта особая цивилизация претерпевает кризис, в ходе которого старый носитель базовых цивилизационных черт проходит через разрушение как политический организм, сохраняет древнюю религиозно-культурную окраску и передает функции православного царства России Ивана III, а также его ближайших преемников.
В XV – первой четверти XVI века кипящая лава заново формирующейся русской государственности, совершенно не похожей по целому ряду признаков на древнюю, домонгольскую Русь, обретает ядро государственной территории; до конца XVI столетия она «застывает» в тех формах, которые отчасти были переданы ей «Вторым Римом», а отчасти возникли на национальной почве. Затем, на протяжении Великой Смуты 1604–1618 годов, Россия проходит через кризис, испытывается на прочность, изживает некоторые архаичные черты, сохранявшиеся с удельных времен, окончательно осознает свой путь и свое предназначение. Со времен царя Федора Ивановича до ранних лет правления Петра I Московское царство, выполняя свою главную, от рождения положенную работу, осваивает и, что гораздо важнее, крестит Сибирь от Иртыша и Тобола до Камчатки.
Крещение Сибири – величайший цивилизационный успех России, ничего более значительного до сих пор ей совершить не удалось. Москва, а вслед за нею Санкт-Петербург как миссионеры оказываются на порядок успешнее Константинополя.
В XVIII–XIX веках Россия проходит через массированную европеизацию. Этот процесс представляет собой своего рода обмен.
России как государству он приносит дополнительную мощь политического строя, рост научно-технических знаний, промышленности. Первую индустриализацию Россия проходит в конце XIX – начале XX века, задолго до сталинских пятилеток. Более «проходимыми» становятся каналы контакта с Западной Европой. Значительная часть русского образованного общества начинает воспринимать свою страну именно как часть Европы, только задержавшуюся в развитии, а потому «второсортную», «догоняющую» – по сравнению с ведущими западноевропейскими державами. С другой стороны, новинки по части организации войска, военного дела, военного производства позволяют стране решить ряд стратегических проблем на западных рубежах и значительно отодвинуть границы.
А вот России как цивилизации европеизационная трансформация наносит урон. То, чем жила допетровская Россия, то, чем она была крепка, ослабляется, размывается. Образованное общество и управляющая элита в очень значительной степени покидают вероисповедное поле православия, а то и вообще какой-либо религиозности. Церковь, подавленная государством, утрачивает административную, экономическую жизнеспособность, подрезается ее общественный авторитет. Русский народ в огромной массе своей живет совсем не той культурой, не теми обычаями и устоями, которые характерны для европеизированной верхушки общества – дворянства, высшего чиновничества, генералитета, двора, интеллигенции. Этот социально-культурный раскол все увеличивается. Понимание того, зачем нужно самодержавие и почему оно представляет собой благо для России, утрачивается. Общество чем дальше, тем больше склонно хихикать над апологетикой единодержавной монархической власти у Карамзина, все менее понимает, в чем смысл и оправдание колоссальных прерогатив государя. Русская старина и, подавно, русская древность воспринимаются в качестве ценности лишь очень небольшой частью интеллектуалитета. Зато революционные модели развития получают с течением времени растущее число адептов: Европа прошла через шквал революций, и, раз Россия – часть Европы, пусть и не лучшего качества, значит, логично ждать или, вернее, готовить революцию и на русской почве.
Революция 1917 года подводит черту под расколом между механически европеизированным государством и органическими основами русской цивилизации. То, что осталось от второго, тотально уничтожается.
Любопытно, что советская власть, мнящая себя величайшим европеизатором, построила свою национальную политику так, что на деле явилась величайшим ориента-лизатором России. В СССР азиатская культура превозносится, поддерживается, проживает свой второй золотой век. «Национальными кадрами» укрепляются аппарат управления, система просвещения, науки, искусства.
После разрушения эфемерной советской державы в начале 1990-х годов Россия развивается как цивилизация, идущая одновременно по двум путям. Один маршрут – либеральный, то есть продолжение вестернизации. Другой – традиционный, возвращающий России значение особого мира, то есть самостоятельной цивилизации. А время от времени страна останавливается и присматривается: не стоит вернуться в советику? Долгое движение одновременно в две стороны (как бы не в три) на перспективу грозит катастрофическим разрывом общества и руинированием страны. Благотворным было бы возвращение к основам, то есть в большей степени не к Российской империи, а к модернизированному Московскому царству.
Но здесь мы уже очень далеко уходим от истории самого Московского царства.
А изначальные различия России и Европы огромны и многообразны.
Магистральное, определяющее отличие России от Европы[3] состоит в том, что наша страна на я очень раннем этапе выработки государственного строя впитала православие. В ее религиозной и культурной жизни католицизм и протестантизм занимают ничтожное место. А конфессия атеизма, погромыхав в советское время, то есть всего лишь несколько десятилетий, уходит сегодня на третий план общественной жизни.
Для эпохи Владимира Святого исторические источники фиксируют попытки миссионерства со стороны западно-христианской церкви на Руси. Однако совершенно очевидно, что «малое» (Фотиево) крещение Руси в IX столетии, а также «большое» (Владимирово) крещение в 80-х годах X века, конечно же, плод миссионерской деятельности Константинопольской империи и в какой-то степени связанной с нею части мира южных славян.
После великого церковного раскола XI столетия католицизм на Руси воспринимался негативно. Степень отрицания постепенно росла. Сильнейшим стимулом к ее наращиванию стали попытки правителей польско-литовского государства «перекрестить» православное население Литовской Руси. Живой витриной католицизма для Московского государства стал поляк, а поляк являлся одновременно одним из главных противников на поле брани. Разумеется, эта вражда опускала железный занавес на западных рубежах Московского царства.
Дополнительными факторами раздражения для Московской Руси стали, во-первых, взятие Константинополя в 1204 году рыцарями-латинянами, учиненный там ими чудовищный разгром, поругание святынь; и, во-вторых, упорное навязывание унии. Крайне отрицательное восприятие самой идеи унии привело в середине XV века, при великом князе Московском Василии II, к тяжелому конфликту со сторонником унии митрополитом Исидором, его бегству из Москвы, а затем к решительному утверждению автокефалии Русской церкви.
Константинополь в глазах русских пал задолго до взятия его турками. Второй Рим осквернился, поскольку на него нашла гибельная порча унии. Ему более нельзя было в духовном смысле подчиняться.
В итоге Россия могла, конечно, принимать на службу специалистов-католиков (инженеров, врачей, литейщиков, печатников, архитекторов, военных), но твердо держала запрет на строительство католических храмов, любые формы католической пропаганды и занятие высоких государственных должностей католиками. Так, королевич Владислав Жигимонтович, призванный на русский престол в 1610 году, в результате не получил царство, поскольку не поменял веру.
Некоторые послабления для католицизма вошли в русскую жизнь очень поздно – в последней четверти XVII столетия. А храмы католикам позволил строить лишь Петр I – в 1690-х годах.
Протестантизм всех деноминаций рассматривался в России как «Люторова злая ересь». Собственные еретики, уклонявшиеся в протестантизм (например, феодосианин Фома), и протестантские проповедники, рвавшиеся наладить «миссию» на русской территории, подлежали казни.
Как ни парадоксально, протестантов в Москве считали, видимо, менее опасными, чем католиков. Им позволялось возводить кирхи в Немецкой слободе, притом не только лютеранам, но и кальвинистам. Очевидно, Москва учитывала отсутствие у протестантов боевой организованности католицизма – единого центра, как папский престол в Риме, ударного отряда, аналогичного иезуитам. Да и столь же агрессивного, упорного противника на международной арене, как католическая Польша, в мире протестантизма не усматривали (даже с учетом затяжного противоборства со Швецией).
Петр I совершил поворот к обвальной, катастрофической европеизации, ориентируясь на союз с протестантскими державами Европы. Но в России XVIII и XIX веков постепенно росло влияние и протестантизма, и католицизма. Правда, с влиянием православия они не могли всерьез соперничать никогда, оставаясь на периферии общественной жизни.
Кардинальное религиозное различие России с Европой продиктовало различия этические и эстетические. «Этика капитализма» в условиях преобладания православия невозможна. В отличие от стран западнохристианской ориентации языком высокой культуры на Руси стала не латынь, а церковнославянский, который был понятен любому грамотному человеку. Это позволяло русской цивилизации быстро освоить колоссальный культурный багаж «Империи теплых морей», прошедший через горнила перевода в южнославянских странах. Архитектура почти не знала готики, развивалась по-своему. Живопись почти не знала светских сюжетов и рационализма, развивалась в высшей степени по-своему.
Со времен раннего Средневековья одной из фундаментальных основ для Европы как цивилизации является римское право. Некоторые европейские университеты из числа древнейших специализировались на обучении римскому праву и его практическому применению. Для образования и культуры Европы на протяжении многих веков римское право было и остается краеугольным камнем.
На Руси и в допетровской России было не так. Римское право Русь восприняла еще в домонгольскую эпоху непосредственно от Константинопольской империи – в виде законодательных кодексов, которыми руководствовалась церковь, творя суд в рамках своей юрисдикции. Это прежде всего «Кормчая книга» («Номоканон»), «Мерило праведное» и «Градский закон» («Прохирон»), порой входивший в состав других кодексов как составная часть. Вне церковного суда они бытовали как знание отвлеченное, теоретическое; в ином случае – как нравственное наставление для судьи; но никак не в роли свода правил для юридической практики.
Что же касается светской власти, то сначала она судила по Русской правде, где римского права нет. Затем – по разного рода судным и уставным грамотам, где римского права нет. Позднее (с 1497 года, то есть со времен Ивана III) – по судебникам, где опять-таки римского права нет. Все эти памятники юридической мысли выросли на национальной почве. В «Соборном уложении» царя Алексея Михайловича (1649 год) можно усмотреть незначительные включения римского права – там, где прослеживаются заимствования из церковных правовых сборников или из иностранных источников, например из «Литовского статута» 1588 года. Но их ничтожно мало. И совсем нет их в «уставах», «указах» и «приговорах» – памятниках собственно русской законодательной мысли XVI–XVII веков.
Резюмируя: для Московского царства римское право имело смысл лишь в узких областях общественной жизни.
В Российской империи его значение нарастает. Но все же основа законодательства продолжает развиваться либо на национальной почве, либо за счет заимствований из административно-правовых кодексов Европы, возникших из «свежей» практики, а не седых древностей римского права.
В Московском царстве город и его население имели значительно меньше прав и играли значительно более скромную роль, чем в Европе.
До рождения России во второй половине XV столетия средневековая Русь знала две формы государственного строя. Во-первых, аристократические вечевые республики (Новгород Великий, Псков, Полоцк), где правил нобилитет (боярство), а воля князя оказывалась очень серьезно ограничена условиями «заказа» со стороны этого нобилитета и местной политической традицией. Во-вторых, княжества – монархии с разным удельным весом власти местного боярства и княжеской власти. В первом случае город со своей волей, интересами, культурой, экономической мощью оказывался сравним с крупными городскими центрами Западной Европы. Новгород и Полоцк, например, специалисты упорно и не без основания сравнивали с Венецией. Во втором случае все зависело от того, сколь далеко простиралась власть князя. И чем дальше она простиралась, тем меньше вольностей, прав, льгот и привилегий имел город, находящийся внутри княжения.
Московское государство поставило точку в этом «двоении»: вечевые республики исчезли, а власть государя – даже «эскортируемая» влиятельным аристократическим советом – безусловно встала на порядок выше власти любого из знатных людей, любой придворной партии.
Для XVI–XVII веков русский город во всех своих ипостасях и функциях – как торгово-ремесленный центр, как оборонительный узел, как военно-административный оплот, даже как средоточие власти частного лица, получившего в вотчину, держание или на иных условиях землю самого города и его округи – представляет собой несколько корпораций, служащих великому государю. Торгово-ремесленный люд несет на себе тягло налогов и повинностей, дворянство обязано воевать, духовенство молится за государя, а монастырь при необходимости играет роль «государева богомолья». Русский город полностью, без остатка встроен в механизм всеобщей службы. Он безусловно пребывает во власти государя, и эта власть не имеет границ, помимо Бога и бунта. Городское самоуправление возможно на уровне церковных приходов, слобод, сотен, привилегированных купеческих объединений и «служилых городов» русского дворянства (то есть организаций, занимавшихся сбором войска и упорядочением службы поместного ополчения), но никак не выше.
Переговоры между самодержцем и каким-либо городом невозможно представить. Ни по правовым, ни по экономическим, ни по политическим вопросам. Ни по каким – в принципе. Разве что город находится в состоянии мятежа (как, например, Псков во время восстания 1650 года). Но минет мятеж, то есть экстраординарное состояние общества, и абсолютная власть великого государя непременно вернется.
Для Франции, Испании, Италии, Германии, где права города могли быть огромны, вплоть до полной государственной независимости, подобное положение вещей, мягко говоря, нехарактерно. Там бюргер чувствовал себя частью большой «коммунальной силы». А вот для самодержавной Византии, где город также «служил», если не впадал в мятежное состояние, – ничего необычного.
Россия вплоть до XVIII века не мыслила себя частью Европы. Напротив, наследование от Второго Рима уже в XVI столетии стало одним из базовых концептов самоидентификации Рима Третьего.
Историческая традиция никогда не связывала Россию с Европой. Ни с Германией, ни с Англией, ни… далее все западноевропейские государства в любом порядке.
Разве что в «Сказании о князьях Владимирских» (великокняжеской родословной легенде начала XVI столетия) выдуман некий Прус, родственник Октавиана Августа, мифический предок Рюрика: «Пруса, родича своего, [Август] послал на берега Вислы-реки в город Мальборк, и Торунь, и Хвоини, и преславный Гданьск, и во многие другие города по реке, называемой Неманом и впадающей в море. И жил Прус очень много лет, до четвертого поколения; и с тех пор до нынешних времен зовется это место Прусской землей. И вот в то время некий воевода новгородский по имени Гостомысл перед кончиной своей созвал всех правителей Новгорода и сказал им: „Омужи новгородские, советую я вам, чтобы послали вы в Прусскую землю мудрых мужей и призвали бы к себе из тамошних родов правителя". Они пошли в Прусскую землю и нашли там некоего князя по имени Рюрик, который был из римского рода Августа-царя». Но ведь Первый Рим тогда мыслился на Руси не как Европа, а как имперские языческие корни православного Царства ромеев со столицей в Константинополе, и это уже совсем другое дело. Рим XIV–XVI веков в глазах русского книжника имел очень мало прав на то, чтобы считаться наследником Древнего Рима, он, как ни парадоксально, выглядел нагромождением злых и нечестивых случайностей на теле империи ромеев, несколько облагороженным деяниями апостолов и кровью раннехристианских мучеников. Константинополь же и Москва мыслились как наследники истинные, «чистые»[4] и законные, пусть и находящиеся в других местах.
Московские Рюриковичи, те же Иван III и его сын Василий III, по «Сказанию о князьях Владимирских», являются отдаленными потомками римских императоров, и власть их освящена древней традицией престолонаследия. Простота сущая? Да. Неправдоподобно? Да. Но ровно та же простота, ровно то же неправдоподобие, каким поклонились и многие династии Европы. Скандинавы свои рода королевские выводили аж от языческих богов. По сравнению с ними наш российский Прус – образец скромности и здравомыслия. Ну да, от императоров. Ну да, право имеем. Ну да, подтвердить нечем. Но у нас – сила. Желающие могут с нею поспорить… хотя бы на тему о Прусе. Пожалуйста. Мощь Москвы позволяла сочинить хоть дюжину Прусов – заводя с юной Россией связи, стоило остеречься от поносных слов в адрес подобных персонажей… В ответ «московит» мог привести совсем не тот аргумент, что отыскивается на пергаменных страницах летописей, а тот, что ходит под стягами полковыми.
По тем временам родство с Августом – идеологически сильная конструкция. Пусть и нагло, вызывающе сказочная. Более того, даже хорошо, что сказочная. Дерзость приличествует государственной силе. Но «родство» через Рюрика и Пруса с Октавианом Августом для московского интеллектуала той эпохи никак не связывало русских государей с современными им европейскими державами – они оказывались «ни при чем».
Когда глава Священной Римской империи Фридрих III через дипломатов предложил великому князю Ивану III королевскую корону, тот ответил отчасти с удивлением, отчасти же с негодованием: «Мы Божиею милостью государи на своей земле изначала, от первых своих прародителей, а поставление [на царство] имеем от Бога, как наши прародители, так и мы. Молим Бога, чтобы нам и детям нашим дал до века так быть, как мы теперь государи на своей земле, а поставления как прежде ни от кого не хотели, так и теперь не хотим». Прозвучало именно в духе: «А вы-то тут при чем?»
А вот царские коронационные инсигнии, которыми пользовались последние Рюриковичи на русском троне, выведены из царства христианского, праведного и не помраченного инославием. Они поданы в том же «Сказании о князьях Владимирских» как дар «благочестивого царя» Константина IX Мономаха своему потомку, великому князю Владимиру Мономаху. Здесь – историческое родство правильное, привычное, и оно-то как раз главное[5].
Для России наследие Античности в сфере литературы, философии и особенно исторической мысли имело гораздо меньшее, чем для Европы, значение.
Нельзя сказать, что допетровская Русь совершенно не знала античной литературы, философии, истории. Знала, конечно же. Прежде всего по южнославянским и собственно русским переводам: если средневековый русский интеллектуал не владел языком оригинала или не мог посетить константинопольский Магнавр, какую-нибудь крупную библиотеку империи, воспользоваться книжными сокровищами своего архиерейского дома (как вариант, крупного монастыря), он обращался к переводу. В этом случае русский книжник мог получить представление о творчестве Гомера, прочитать роман «Александрия», ознакомиться с сюжетом путешествия аргонавтов, обратиться к Эпиктету и Диогену Лаэртскому. Книжники Московского царства цитировали Аристотеля и Овидия.
Все это лежало в частных библиотеках страны…
Притом переводили как с греческого, так и с латыни, во времена Московского царства даже, наверное, больше с латыни.
И хотя святой Максим Грек учил: «Время бо уже есть обратити просто на познание благочестия, а не яко же кичят аристотельстии философи, но предлагая догматы честныя и простыя истинны, не в помышлениих ложных и образованиих геометрийских, в них же ходившей не ползовашеся, но от истины далече заблудиша», – на Руси и позднее в России авторов языческой эпохи воспринимали без враждебности. Да, были в древности такие мудрецы, да, порой они мудровали лукаво, да, богословие и благочестие христианское всегда были, есть и будут выше их трудов, но читать древних авторов можно, поскольку, за редким исключением, в списки «отреченных книг» они не попали.
Когда ученый иеромонах Тимофей закупал книги для большого училища, устроенного при царе Федоре Алексеевиче на Московском печатном дворе, среди прочего он приобрел тексты Эсхила, Эзопа, Аристофана, Гомера, Софокла, Лукиана, Гесиода, Аристотеля, Платона, Демосфена, Катона, Гиппократа, Галена, Пифагора, Павсания, Геродота, Аммиана Марцеллина, Дионисия Галикарнасского, Диодора Сицилийского…
Пожалуйста, просвещайтесь!
Однако все пестрое многообразие античного наследия прошло по периферии средневековой русской культуры. Оно никогда не попадало в ее фокус, интересовало лишь относительно небольшую часть интеллектуальной элиты и не оказывало сколько-нибудь серьезного влияния. ни на что.
Ни на политику, ни на состояние общества, ни на богословие…
В литературе русский человек предпочитал воинскую повесть, поучение или житие православного святого, «слово» древнего инока-мудреца. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» – вот что ему нравилось. Всякую философию он ставил ниже Священного Писания. Среди памятников исторической мысли предпочитал хронограф (история библейская, евангельская, христианских царств) да родную летопись, повествовавшую о деяниях предков. А хронограф и летопись возникли на основе византийских церковных хроник, авторы которых прямо противопоставляли свои труды историческим трактатам языческой традиции.
В России получили крайне слабое развитие «тайная наука» и разного рода тайные общества, с нею связанные. Средневековая Европа ими кишмя кишела, а уж Европа раннего Нового времени и прежде всего Италия оказались просто наводнены ими.
Что в Московском царстве? Да ничего яркого. Большей частью радикально настроенные еретики, враги церкви и монашества. Еретики-жидовствующие, конечно, принесли с собой запретные тайные знания. Вот уже и при дворе стареющего Ивана III умники, созревшие для звания «избранных», начинают интересоваться такими вещами. Его доверенное лицо, дьяк Федор Курицын, пользуясь тайнописью, составляет так называемое «Лаодикийское послание», где сказано, что чудотворение усиливается мудростью. Балуется умный книжник, ищет знание помимо церковной традиции, черпает его из темных источников.
Но еретиков в первой половине – середине XVI века русская церковь и московские государи разогнали и, как говаривали в ту пору, «гораздо понаказали» – вплоть до костров. Немногое от них осталось.
В книжных хранилищах начитанных аристократов, лукавых иереев и богатых купцов лежали запретные книги: «Рафли», «Волховник», «Шестокрыл», «Звездочетец», «Воронограй», «Громник», «Аристотелевы врата» да всякого рода апокрифы. Колдовством занимались на бытовом уровне. И точно так же, на бытовом уровне, быстро и крайне жестко гасили его власти: русские «колдовские процессы» XVI–XVII столетий исчисляются сотнями.
По большому счету, в сравнении с Европой, сплошь охваченной в XIV–XVIII веках неистовым темным пламенем тяги к колдовству, астрологии, демонологии и сатанинской мистике, все это выглядит очень скромно.
Лишь один «исторический эксперимент» XVI столетия вызывает неприятные подозрения, а именно Слободской орден, существовавший внутри опричнины Ивана IV. Видимо, возник он не сразу, скорее всего, где-то на рубеже 1560—1570-х годов. Особая одежда, которую носили опричники, особая символика – собачьи головы и метлы, особая псевдомонастырская иерархия и широкий кровавый след, тянущийся за Слободским орденом, заставляют ассоциировать его не с православной иноческой обителью на светский лад и не с европейскими духовно-рыцарскими орденами, а со сборищем тайным, с неким сообществом «посвященных». Речь идет далеко не обо всей опричнине – это явление сложное, многообразное, – а лишь о ее сердцевине. И присутствие на излете опричнины рядом с православным государем Елисея (Элизиуса) Бомелия, колдуна, чернокнижника, астролога, отравителя, настраивает на скверную мысль: мог ли этот яркий представитель европейской тайной науки дать государю Ивану Васильевичу эзотерическое посвящение? Оставим вопрос без ответа. Худо уже то, что такая дрянь стояла рядом с престолом на протяжении многих лет.
Псковская летопись доносит мнение русских современников об альянсе царя с магом: «Прислаша немцы к Иоанну немчина, лютого волхва, нарицаемого Елисея, и бысть ему любим в приближении. И положи на царя страхование, и выбеглец от неверных нахождения, и конечне был отвел царя от веры. На русских людей возложил царю свирепство, а к немцам на любовь преложи: понеже безбожнии узнали своими гаданьи, что было им до конца разоренным быти; того ради такова-го злаго еретика и прислаша к нему: понеже русские люди прелестьни и падки на волхвование». Какое «страхование» возложил Бомелий на Ивана Васильевича и сколь далеко «отвел от веры» – также вопросы без ответов. Известно лишь, что именно при Бомелии архиепископ Новгородский Леонид удостоился дикой расправы: «обшив» медвежьей шкурой, его затравили собаками…
Но Слободской орден после недолгого существования исчез, а царь сошел в могилу православным человеком. И если Бомелий (или же через него кто-то повыше) пытался укоренить в России саженец сатанинского дерева, то попытка не удалась.
Вся эта темень по-настоящему и всерьез дотянется из Европы до России лишь в XVIII веке.
Европеец назвал бы еще одно отличие, заговорив о «тирании» и «деспотизме» государственного строя России, о социуме, где все, снизу доверху, – царские холопы. Согласиться здесь можно с тем, что русские государи от Ивана III до Петра I, то есть на протяжении всей старомосковской эпохи, располагали в среднем большей властью над жизнью и собственностью подданных, нежели их европейские коллеги. Это так.
Но, наверное, иного и не могло быть в эпоху, когда страна на десятилетия погружалась в состояние военного лагеря. Россия, помимо полярных морей на севере, не имела в тот период естественных географических границ. Территорию ее не загораживали от неприятельских нашествий горные хребты, моря, пустыни. Приходилось полагаться на крепости и военную силу, находящуюся в постоянной боевой готовности. На востоке (до покорения Казани), на юге (до ликвидации Крымского ханства), на западе (всегда) находились сильные воинственные соседи.
В такой ситуации милитаризованное самодержавие – самый эффективный государственный строй. Разумеется, если у народа нет желания почувствовать на своей спине чужой сапог и увидеть, как собственный дом превращается в проходной двор.
Константинопольская империя на протяжении всего ее почти двенадцативекового существования вынуждена была решать ту же проблему «проходного двора». Вплоть до XII века императоры, их «стратилаты» и дипломаты с проблемой справлялись. Ласкари и ранние Палеологи, примерно до Андроника III включительно, также более или менее «держали удар». Но не будь их правление самодержавным, удавалось бы им столетиями накапливать и «ставить в строй» колоссальные ресурсы, необходимые для выживания? Сомнительно.
Итак, Россия до Петра I являла в сравнении с Европой столь кардинальные отличия, что должна считаться совершенно иным миром.
Разумеется, европеец мог научить русского полезным техническим навыкам и приемам, передать ему полезное знание по части военного дела и коммерции. Итальянец был в Москве желанным гостем при Иване Великом, Василии III, Иване Грозном. Он учил русских мастеров возведению столь масштабных и величественных храмов, как Успенский собор, премудростям современной фортификации, литейному мастерству, книгопечатанию, чеканке монеты. Немец и шотландец в XVII веке помогали создать армию, состоящую из «полков нового строя». Голландец оказывался незаменим при создании металлургических и стекольных заводов.